Избегайте занудства
Знаменитый биолог Джеймс Уотсон прославился тем, что в 1953 открыл (вместе с Фрэнсисом Криком) структуру ДНК, за что получил Нобелевскую премию. Позднее Уотсон стал первым директором Национального центра исследований человеческого генома (США) и возглавил знаменитый проект "Геном человека". В автобиографической книге "Избегайте занудства" Уотсон пишет о своем знаменитом открытии, о том, как функционирует американская наука, и о тех уроках, которые он смог извлечь из собственного жизненного опыта, а также из опыта наблюдений за другими людьми. Именно это последнее обстоятельство делает книгу Уотсона не просто увлекательной, но еще и очень полезной: "Избегайте занудства" — это одновременно и обстоятельные мемуары великого ученого, и своеобразное пособие по достижению успеха в науке. Рассказывая о своем жизненном пути, автор дает читателю дельные и практичные советы, как сделать успешную карьеру в науке и, возможно, однажды совершить выдающееся открытие самому.Уроки жизни, прожитой в науке
Джеймс Уотсон Перевод с английского Петра Петрова Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко
Фотография на первой стороне обложки Time & Life Pictures/Getty Images/Fotobank. М.: Астрель: CORPUS, 2010
Посвящается Полу Доути
Предисловие
Большинство написанного мной и неопубликованного — рукописи и письма, лекции и лабораторные записи, университетские и государственные документы, в подготовке которых я участвовал, — хранится в архивах Гарвардского университета и лаборатории в Колд-Спринг-Харбор. Со временем все это станет доступно, в основном через Интернет, для всех, кто проявит странное желание узнать подробности моего жизненного пути. Я предпочел не предоставлять другим людям возможность стать первыми комментаторами этих текстов, а присвоить эту привилегию себе и самому описать свою жизнь, по крайней мере время, прошедшее до достижения среднего возраста: университет, карьера ученого и преподавателя и первые годы работы директором лаборатории в Колд-Спринг-Харбор. Когда общий облик этой книги стал складываться в единое целое, я стал видеть в ней прежде всего набор жизненных уроков, если не образцовую историю становления ученого. Она представляет собой ряд советов, поданных в виде воспоминаний о том, что именно помогало мне ориентироваться в мире науки и образования, и о том, какие навыки я при этом получил. Мысль, что мои воспоминания могут чему-то научить, привела меня к тому, что я составил в конце каждой главы список "выученных уроков" — правил поведения, которые помогли успешно реализовать многие мечты моего детства. Эта книга — для тех, кто стремится вверх, но и для тех, кто уже наверху и хочет, чтобы годы лидерства не стали чередой упущенных возможностей. Я не учился в последних классах средней школы, поэтому так и не научился печатать на машинке. До сих пор все, что я пишу, появляется на свет в виде написанных левой рукой черновиков. Если бы не моя секретарша Морин Берейка, чья способность разбирать долгие ряды закорючек, на первый взгляд не поддающихся расшифровке, совершенствуется с каждым днем, эта книга никогда бы не появилась на свет. Работе над рядом ранних черновых вариантов рукописи способствовала талантливая выпускница Барнард-колледжа при Колумбийском университете химик Кирин Хаслингер, чье профессиональное владение английским позволило во многих случаях улучшить стиль. Выпускница Нью-Йоркского университета психолог Мариса Макари помогла подобрать иллюстрации. Впоследствии Агнешка Мильчарек, студентка-биолог из Стэнфорда, оказала неоценимую помощь, исправив многочисленные фактические и орфографические ошибки, замеченные друзьями, которым я посылал ранние черновые варианты текста. Наконец, я весьма признателен Джорджу Андреу из издательства Knopf за высокопрофессиональное редактирование, которое улучшило и ясность, и точность книги.Глава 1. Навыки, усвоенные в детстве
Я родился в 1928 году в Чикаго, в семье, верившей в книги, птиц и Демократическую партию. Я был первенцем, а через два года после меня на свет появилась моя сестра Бетти. Родился я в больнице Св. Луки, поблизости, если ехать на машине, от Гайд-парка, где мои родители поселились после свадьбы, в 1925 году. Вскоре после рождения Бетти родители перебрались на Южный берег, населенный средним классом, где бунгало и двухэтажные многоквартирные дома перемежались вакантными участками. Мы жили в квартире на авеню Меррилл, пока не переехали в 1933 году в небольшое четырехкомнатное бунгало, купленное моими родителями по адресу авеню Луэлла 7922, в двух кварталах от прежнего дома. Этот переезд позволил моей семидесятидвухлетней бабушке, которая к тому времени стала испытывать финансовые затруднения, поселиться вместе с нами, в дальней спальне, соседней с кухней. Мы с Бетти спали на койках в новых комнатках, устроенных наверху, под крышей. Хотя вначале меня отдали в ясли при Школе-лаборатории Чикагского университета, из-за Великой Депрессии частное образование вскоре стало моим родителям не по карману. Однако я ничуть не пострадал от того, что вынужден был перейти в государственную школу. Наш дом на авеню Луэлла был всего в пяти кварталах от славившейся качеством образования Классической школы Хораса Манна, где я и учился с пяти лет до тринадцати. Школа располагалась в довольно новом здании, построенном в начале двадцатых годов в стиле эпохи Тюдоров, с просторным актовым залом и спортивным залом, где мне редко удавалось сделать больше двух или трех отжиманий. На коленях у матери в 1929 году.
На коленях у матери в 1929 году.
Хотя родители моего отца оба принадлежали к Епископальной церкви[1], только мой дедушка по отцу, Томас Толман Уотсон (родившийся в 1876 году), биржевой маклер, был республиканцем. Бабушка, которую всегда расстраивало, что она замужем за биржевым дельцом, проявляла свое недовольство, неизменно голосуя за кандидата от демократов. Урожденная Нелли Дьюи Форд, она появилась на свет в Лейк-Женева (штат Висконсин). Предком ее матери был поселенец Томас Дьюи, прибывший в Бостон в 1633 году. Уотсоновская ветвь моей семьи восходит к родившемуся в 1794 году в Нью-Джерси Уильяму Уэлдону Уотсону, который стал священником первой баптистской церкви к западу от Аппалачей, построенной в Нэшвилле (штат Теннесси). Вернувшись со съезда баптистов, проходившего в Филадельфии, в крытой повозке (железных дорог еще не было), он привез с собой первый во всем Теннесси сатуратор. Борясь с местным дьяволом — продавцом виски, он поставил тележку с сатуратором на углу улицы неподалеку от церкви и в одиночку добился огромного успеха для своей содовой воды. Говорили, что он сделал на продаже содовой достаточно денег, чтобы построить новую церковь для своей растущей паствы, и эта церковь стоит в центре Нэшвилла и по сей день. Его старший сын, Уильям Уэлдон Уотсон II, перебрался на север, в Спрингфилд (штат Иллинойс), где, как утверждается, по его проекту построили дом для Авраама Линкольна, через улицу от его собственного дома. Впоследствии он вместе с женой и братом Беном сопровождал Линкольна, когда тот торжественно переезжал в Вашингтон для вступления в президентскую должность. Сын Бена, Уильям Уэлдон Уотсон III, родившийся в 1847 году, в 1871 году женился на Августе Крафтс Толман, дочери банкира-англиканца из Сент-Чарльза (штат Иллинойс). Позже он держал гостиницу, вначале к северу от Чикаго, а затем в Лейк-Женева, где выросли пять его сыновей, в том числе мой дедушка, Томас Толман Уотсон. Дедушка женился в 1895 году, после чего поначалу искал счастья на недавно открытом месторождении Месаби-Рейндж — обширном железорудном бассейне в окрестностях города Дулут на западном берегу озера Верхнего. Затем он присоединился к своему старшему брату Уильяму, впоследствии ставшему одним из старших управляющих рудников Месаби. Мой отец, Джеймс Дьюи Уотсон-старший, родился в 1897 году. В течение следующего десятилетия на свет появились три его брата: Уильям Уэлдон IV Томас Толман II и Стэнли Форд. Из северной Миннесоты родители моего отца переехали обратно в окрестности Чикаго, где благодаря деньгам жены мой дедушка смог купить большой дом в неоколониальном стиле в Ла-Гранж — богатом западном пригороде Чикаго. Мой отец учился в местных школах, а затем в течение года — в колледже Оберлин в штате Огайо. Однако первый его год в колледже завершился не успехами в учебе, а скарлатиной. На следующий год он устроился на работу в компанию Harris Trust в банковском центре Чикаго (так называемой Петле, окруженной кольцом эстакадных железнодорожных путей), куда ему приходилось ездить каждый день из пригорода. Денег, как обычно, не хватало.
 Моя мать, Маргарет Джин Митчелл Уотсон, позирует в шотландском килте с орнаментом клана Маккиннон.
Моя мать, Маргарет Джин Митчелл Уотсон, позирует в шотландском килте с орнаментом клана Маккиннон.
 Мой отец, Джеймс Дьюи Уотсон-старший, в 1925 году — в год, когда он женился на моей матери.
Мой отец, Джеймс Дьюи Уотсон-старший, в 1925 году — в год, когда он женился на моей матери.
Но моему отцу всегда не по душе было заниматься зарабатыванием денег, и после начала Первой мировой войны он с энтузиазмом вступил в Национальную гвардию Иллинойса (33-ю дивизию) и вскоре отправился во Францию более чем на год. Вернувшись домой, он стал работать в Университете Ла Саля — процветающей заочной школе бизнеса. Там в 1920 году он встретил свою будущую жену, Маргарет Джин Митчелл, родившуюся в 1899 году. После двух лет обучения в Чикагском университете она стала работать в отделе кадров Университета Ла Саля. Моя мать была единственным ребенком Лочлина Александера Митчелла, портного, родившегося в Шотландии, и Элизабет (Лиззи) Глисон, дочери двух ирландских иммигрантов (Майкла Глисона и Мэри Кёртин), эмигрировавших из графства Типперери во время картофельного голода в конце сороковых годов XIX века. Десять лет они занимались фермерством в Огайо, а затем переехали на земли к югу от города Мичиган-Сити в штате Индиана, где в 1860 году и родилась наша бабушка (моя и моей сестры Бетти). В молодые годы бабушка покинула ферму Глисонов, чтобы работать служанкой в доме Баркеров — самой богатой семьи в Мичиган-Сити, владевшей крупной фабрикой, производившей товарные вагоны. Вскоре бабушка получила повышение, сделавшись камеристкой госпожи Баркер, и сопровождала ее в поездках по курортам Среднего Запада. Впоследствии господин Баркер проявил по отношению к ней еще большую заботу и поселил ее в отдельной квартире в Чикаго, снабдив средствами, которые позволили ей жить, ни от кого не зависев. Лишь через десять с лишним лет, в тридцать пять, она вышла замуж за Лочлина Александера Митчелла, родившегося в 1855 году в Глазго в семье Роберта Митчелла и Флоры Маккиннон. В юности Лочлин Митчелл иммигрировал в Торонто, а оттуда в Чикаго, ко времени Всемирной выставки 1893 года добился процветания своего дела — он шил костюмы на заказ. К сожалению, когда моей матери было всего четырнадцать, он погиб в результате несчастного случая в канун Нового года на выходе из гостиницы Palmer House, сбитый повозкой, потерявшей управление. Единственными напоминавшими о нем вещами, сохранившимися у моей матери, были небольшой килт с орнаментом клана Маккиннон, присланный ей из Шотландии, и превосходный пастельный портрет дедушки, который экспонировался на Всемирной выставке и был, как утверждалось, написан в качестве оплаты за сшитый им костюм. Бабушка стала сдавать комнаты гостям, тем самым по сути содержа на Южном берегу в Чикаго ирландский пансион. Юность моей матери омрачили продолжительные приступы ревматической лихорадки, из-за которых у нее были больное сердце и одышка, начинавшаяся при ощутимых физических нагрузках. Эта болезнь в итоге привела к безвременной смерти от сердечного приступа в возрасте пятидесяти семи лет.
 Элизабет Митчелл в Мичиган-Сити в 1925 году, когда она еще не стала моей бабушкой.
Элизабет Митчелл в Мичиган-Сити в 1925 году, когда она еще не стала моей бабушкой.
Как и ее мать, она была последовательницей католицизма, но никогда не относилась к активным прихожанам. Я помню, что она ходила к мессе только на Рождество и на Пасху и всегда говорила, что ее сердцу по выходным нужен отдых. Нередко, особенно по воскресеньям, бабушка, у которой были редкие для чикагской ирландки кулинарные способности, помогала готовить еду для нашей семьи. Бабушка вскоре стала жить вместе с нами, что дало матери возможность устроиться на работу на неполный рабочий день в жилищное управление Чикагского университета. Ее доходы дополняли заработок моего отца, которого нам едва хватало и который был вдвое урезан — до 3 тысяч долларов в год, когда грянула Великая Депрессия. За нашим домом проходил переулок, отделявший дома на западной стороне Луэлла-авеню от домов на восточной стороне Пэкстон-авеню. Машин там почти не было, что делало этот переулок безопасным местом для того, чтобы пинать консервные банки или зажигать хлопушки, которые свободно продавались перед Днем независимости. Когда я вырос до пяти футов, над воротами нашего гаража повесили щит с баскетбольной корзиной, и после школы я мог тренировать бросок. Из скромного семейного бюджета был куплен стол для пинг-понга, что оживило наш зимний досуг. Мой нерелигиозный отец неохотно согласился на то, чтобы меня и мою сестру окрестили по католическому обряду, что позволило сохранить между отцом и бабушкой мир. Возможно, он пожалел об этом мировом соглашении, когда я и моя сестра стали по воскресеньям ходить с бабушкой в церковь. Поначалу я без возражений заучивал катехизис и ходил к священнику исповедоваться в простительных грехах. Но к десяти годам я уже знал о Гражданской войне в Испании, и отец сообщил мне, что Католическая церковь стоит на стороне презираемых им фашистов.
 Детсадовская группа начальной школы Хораса Манна, сделанная в октябре 1933 года. Я с гордым видом сижу в галстуке-бабочке на полу, второй слева.
Детсадовская группа начальной школы Хораса Манна, сделанная в октябре 1933 года. Я с гордым видом сижу в галстуке-бабочке на полу, второй слева.
Хотя один из священников и читал в Церкви Богоматери Мира проповеди в поддержку Нового курса президента Рузвельта, многие прихожане после каждой воскресной мессы покупали язвительный журнал отца Чарльза Кофлина, направленный против Рузвельта, Англии и евреев. В одиннадцать лет, вскоре после конфирмации, я совсем перестал ходить на мессу по воскресеньям, чтобы сопровождать отца в его воскресных утренних экскурсиях для наблюдения за птицами. Птицы увлекали меня с раннего детства, и когда мне было всего семь лет, дядя Том и тетя Этта подарили мне детскую книгу о птичьих перелетах — "Путешествия с птицами" Радьерда Бултона, куратора орнитологической коллекции в чикагском Музее естественной истории Филда. Наблюдением за птицами мой отец увлекся в средней школе в пригороде Ла-Гранж. Это увлечение ничуть не угасло и после Первой мировой, когда семья отца переехала в квартиру в Гайд-парке на Южном берегу, чтобы его брату Биллу было проще посещать занятия в Чикагском университете.
 Я рано научился у отца аккуратно вести записи наблюдений за птицами.
Я рано научился у отца аккуратно вести записи наблюдений за птицами.
По утрам весной и осенью отец обычно вставал до рассвета и отправлялся наблюдать за птицами в близлежащий Джексон-парк. Наши с ним первые птичьи экскурсии тоже были в Джексон-парке. Там я впервые научился опознавать наших обычных зимующих уток, включая обыкновенного и малого гоголя, морянку и большого крохаля. Весной я быстро выучился отличать друг от друга наиболее обычных славок, виреонов и мухоловок, которые по весне летели на север из своих тропических зимних квартир. К одиннадцати годам я накопил уже достаточно книжных знаний, чтобы заранее представить многие из тех видов, что нам предстояло встретить в 1939 году во время поездки на взятой напрокат машине на Всемирную выставку в Сан-Франциско. За эту поездку я узнал для себя больше пятидесяти новых видов. Моя мать, к тому времени возглавившая избирательный участок нашего Седьмого района, охотно работала на Демократическую партию. Наш полуподвал стал местом голосования, что приносило нам по десять долларов за каждые выборы, а еще десять мать получала за обеспечение избирательного участка персоналом. На национальном съезде демократов 1940 года, проходившем в Чикаго, мы поддерживали (впрочем, безуспешно) Пола Макнатта, симпатичного губернатора штата Индиана, стремившегося тогда стать при Рузвельте кандидатом в вице-президенты. По вечерам папа часто погружался в работу, взятую на дом. В заочном университете Ла Саль он отвечал за работу с должниками и занимался в основном тем, что писал студентам письма с требованием внести просроченную плату за обучение. Он никогда не верил в угрозы и вместо них объяснял студентам, как изучение юриспруденции или бухгалтерского учета поможет им получить высокооплачиваемую работу. Теперь я понимаю, как трудно было удержаться на этой должности ему, демократу, симпатизировавшему социалистам, стоявшему на стороне тех студентов, кто был не в состоянии платить за свое обучение. Однако никто не мог обвинить его в том, что он отлынивает от работы или подрывает основы свободного предпринимательства. Или, если уж на то пошло, в неодобрении по поводу плутократической игры в гольф, которой он увлекся в юности, но в которую впоследствии мог играть лишь на корпоративных пикниках, после того как Депрессия вынудила его продать наш семейный "хадсон". Наша семья всегда поддерживала Франклина Рузвельта и его Новый курс, обещавший спасти тех, кто не устоял на ногах, от безжалостной хватки нерегулируемого капитализма. Для нас естественно было стоять на стороне бастующих рабочих большого металлургического завода на Южном берегу, в двух милях к востоку от нашего дома вдоль озера Мичиган, в их жестокой борьбе с компанией U. S. Steel. Однако экономические вопросы стали меньше волновать нашу семью по мере того, как росла германская угроза. Мой отец был убежденным сторонником помощи англичанам и французам — союзникам, на чьей стороне он воевал в Первую мировую. Для него и без Гитлера естественно было бы видеть в немцах врагов. Помню, с какой горечью он воспринял взятие Мадрида войсками Франко. Местные радиостанции прославляли поражение республиканцев, на стороне которых были коммунисты, но отец тогда видел истинное зло в фашизме и нацизме. Ко времени Мюнхенского соглашения новости из Европы приковывали нас к приемнику не меньше, чем радиосериал "Одинокий ковбой" или репортажи с матчей бейсбольной команды Chicago Cabs. Особенно важным для нас был исход президентских выборов 1940 года, когда Рузвельт баллотировался на третий срок и ему противостоял Уэнделл Уилки. Почти столь же ужасными, как сами нацисты, отцу представлялись американские изоляционисты, которые хотели остаться в стороне от проблем Европы. Мой отец был в числе тех, кто видел в визите Чарльза Линдберга в Германию открытое проявление антисемитизма. Время от времени у моих родителей случались неприятные ссоры из-за необдуманных трат. Но срывы такого рода не касались меня и моей сестры, и каждый из нас регулярно получал по пять центов на двойной дневной сеанс по субботам в расположенном поблизости кинотеатре Avalon. На некоторые фильмы родители ходили вместе с нами, как, например, на снятую Джоном Фордом экранизацию эпического романа Стейнбека "Гроздья гнева". Я навсегда усвоил оттуда мысль, что порядочность самой высокой пробы сама по себе не гарантирует счастливого исхода. Продолжительная засуха, превратившая плодородные земли в клубящуюся пыль, не должна приводить к тому, что семья лишается всего, что имела. Как мог ответственный гражданин посмотреть этот фильм и не осознать, какую пользу несет в себе Новый курс, было для меня совершенно непонятно. Мне всегда нравилось ходить в начальную школу, и я дважды перескочил через полгода, в итоге окончив школу в возрасте всего тринадцати лет. Несколько обескураживающими оказались результаты моих тестов на IQ, тайком подсмотренные на учительских столах. Ни в одном из этих тестов мой результат не превысил 120. Намного более вдохновляющими оказались результаты моих тестов на понимание прочитанного, по которым я оказался одним из лучших в классе. Я окончил начальную школу в июне 1941 года, вскоре после того, как Германия напала на Россию. К тому времени Черчилль стал, вместе с Рузвельтом, еще одним моим кумиром, и по вечерам мы обычно слушали репортажи Эдварда Мэрроу из Лондона в новостях CBS. В то лето я впервые провел некоторое время отдельно от семьи, отправившись на две недели на поезде в скаутский лагерь Ovasippe в штате Мичиган на реке Уайт, вверх по течению от города Маскегон. Там я охотно добивался получения почетного значка, которым награждали за знание природы и благодаря которому я стал "Пожизненным скаутом"[2]. Намного меньше мне понравились походы с ночевкой, во время которых я неизменно отставал от остальных и догонял их, лишь когда они останавливались для привала.
 Я в возрасте десяти лет. Вскоре я перестал ходить но воскресеньям к мессе, чтобы наблюдать по утрам за птицами.
Я в возрасте десяти лет. Вскоре я перестал ходить но воскресеньям к мессе, чтобы наблюдать по утрам за птицами.
Несмотря на это, я вернулся домой, довольный тем, что мне удалось увидеть и опознать тридцать семь разных видов птиц. Однако мне сложно было не заметить, что как юный орнитолог я сильно уступал Джерарду Дэрроу, который был намного младше меня, но благодаря удивительной памяти уже стал в Чикаго знаменитостью, когда рассказ о талантах четырехлетнего орнитолога был опубликован в Chicago Daily News. Еще больше я невзлюбил его, когда он завоевал известность как первый из "детей-знатоков" ("Quiz Kids") в дневной воскресной радиопрограмме, впервые вышедшей в эфир в июне 1940 года. Группам по пять детей, каждый из которых получал в награду оборонную облигацию на 100 долларов, задавал вопросы ведущий — окончивший третий класс Джолли Джо Келли. До этого он вел программу "Национальный сельский праздник" (National Barn Dance), после того как добился славы на радио чтением юморесок на канале WLS. "Дети-знатоки" вскоре стали сенсацией национального масштаба: их еженедельная аудитория составляла от десяти до двадцати миллионов радиослушателей — почти половину от огромных аудиторий, собираемых Джеком Бенни, Бобом Хоупом и Редом Скелтоном. Почти каждое воскресенье более двух лет я слушал "Детей-знатоков", надеясь как-нибудь пробиться на эту программу и заработать оборонную облигацию. Эту надежду подпитывало то обстоятельство, что один из продюсеров программы, Эд Симмонс, жил в многоквартирном доме по соседству с нашим бунгало. Наконец, не то благодаря успешно пройденной пробе, не то благодаря влиянию Эда Симмонса, осенью 1942 года я стал четырнадцатилетним "знатоком". Во время первых двух передач с моим участием все шло хорошо: многие из вопросов касались областей, в которых я хорошо разбирался. Но во время третьей передачи, ставшей для меня настоящей получасовой пыткой, мне пришлось соревноваться с восьмилетней девочкой по имени Рут Даскин, отвечая на целый ряд вопросов, посвященных Библии и Шекспиру.
 Расселл Харт (в центре) и я но дороге в скаутский лагерь в 1941 году.
Расселл Харт (в центре) и я но дороге в скаутский лагерь в 1941 году.
Меня никогда не настраивали на то, чтобы знать шекспировские сюжеты, а кроме того, раннее католическое воспитание оградило меня от знания Ветхого Завета. В итоге было заранее предопределено, что мне не судьба оказаться в числе тех трех участников, кто должен был попасть на следующую программу. Когда мы возвращались домой, я с горечью осознавал, как не хватало мне энциклопедических знаний и сообразительности, чтобы надолго остаться среди "детей-знатоков". И все же я разбогател на целых три оборонных облигации. Впоследствии они пошли на то, чтобы приобрести семикратный бинокль Bausch and Lomb с линзами 50 мм на замену старинному биноклю, которым мой отец пользовался еще в юности, наблюдая за птицами. К тому времени я уже второй год ходил в недавно построенную Среднюю школу Южного берега. Учился я по-прежнему в основном на "отлично", хотя уровень знаний моих сверстников в этой школе был гораздо выше, чем в школе Хораса Манна.
 Я в числе «детей-знатоков» в 1942 году, второй слева, обреченный на провал своим плохим знанием Библии и Шекспира.
Я в числе «детей-знатоков» в 1942 году, второй слева, обреченный на провал своим плохим знанием Библии и Шекспира.
У нас была превосходная учительница латыни, мисс Кинни, которая отправила меня на государственный экзамен вместе с гораздо более выдающейся ученицей Мэрилин Вайнтрауб, в которую я был немного влюблен, о чем никто никогда так и не узнал. В то время меня очень беспокоил мой рост, составлявший, когда я пошел в среднюю школу, всего пять футов — меньше, чем был тогда рост моей сестры, у которой рано начался пубертатный период, в связи с чем она быстро доросла до пяти футов трех дюймов (и больше уже не росла). Я иногда подрабатывал, продавая прохладительные напитки. Другая традиционная для местных подростков подработка состояла в том, чтобы развозить на велосипеде газеты. Но такая работа помешала бы мне совершать вместе с отцом утренние орнитологические экскурсии, поэтому я никогда всерьез не рассматривал эту возможность. Мы почти каждое утро, особенно в мае, вставали, когда было еще темно, чтобы добраться до Джексон-парка вскоре после восхода солнца.
 Мы с отцом обнаружили редкого горбоносого турпана на озере Мичиган возле Джексон-парка.
Мы с отцом обнаружили редкого горбоносого турпана на озере Мичиган возле Джексон-парка.
В итоге в нашем распоряжении было почти два часа на поиски наиболее редких видов славок, в основном в районе Лесистого острова. Папа различал голоса птиц намного лучше, чем я: например, услышав грубую песню красно-черной танагры, он никогда не принимал ее за более мелодичное пение балтиморского цветного трупиала, который также прилетает в Чикаго, когда распускаются листья. Затем папа садился в идущий на север трамвай и уезжал на работу, а я ехал в школу в троллейбусе, шедшем в противоположном направлении. Именно в Джексон-парке в 1919 году папа встретил необычайно талантливого, но испытывавшего проблемы в общении шестнадцатилетнего студента Чикагского университета Натана Леопольда, который был столь же помешан на поиске редких птиц. В июне 1923 года богатый отец Натана выделил деньги на орнитологическую экспедицию, в которой приняли участие Натан и мой папа. Это была экспедиция в редколесья, образованные сосной Банкса, возле города Флинт в штате Мичиган, целью которой были поиски славки Киртланда — этой редчайшей из всех славок. Кроме Натана и моего отца, в экспедиции участвовали еще два чикагских орнитолога, Джордж Портер Льюис и Сидней Стайн, а также Ричард Лёб, друг детства Натана, чья семья приложила руку к созданию империи супермаркетов Sears, Roebuck and Co. Я лишь недавно пошел в среднюю школу, когда папа и мама рассказали мне о Натане и о том, как он и Ричард Лёб ради острых ощущений зверски убили своего младшего знакомого, Бобби Фрэнкса. Предложив подвезти Бобби домой после школы, они ударили его по голове и спрятали тело в водопропускной трубе неподалеку от рощи Эггерс, куда отец впоследствии нередко приводил меня наблюдать за птицами. Где-то за полгода до совершения Натаном этого жестокого и бессмысленного, хотя и почти идеального преступления, которое произошло 24 мая 1924 года, его отец связался с моим отцом, чтобы поделиться с ним своим беспокойством по поводу того, как помешался его сын на Лёбе. Натан к тому времени уже учился в Школе права Чикагского университета, и папа не был знаком с богатыми студентами, в обществе которых теперь проводили время Леопольд и Лёб. В июле они предстали в Чикаго перед судом, на котором присутствовало множество журналистов. Леопольда и Лёба защищал знаменитый адвокат Клэренс Дэрроу, просивший папу выступить на суде в качестве свидетеля, чтобы дать показания о характере обвиняемых. Но родители отговорили папу от этого, сказав ему, что это на всю жизнь испортит его репутацию в Чикаго. После того как Дэрроу спас своих клиентов от смертного приговора (их приговорили к пожизненному заключению без права условно-досрочного освобождения), Натан написал папе письмо с предложением переписываться. Но папа оставил это письмо без ответа: его по-прежнему приводило в ужас преступление, потрясшее Чикаго как никакое другое. Многие из Леопольдов и Лёбов сменили фамилии, а мой отец и Сидней Стайн совершенно перестали общаться. Через много лет я случайно встретил Стайна, занимаясь поисками майских славок и мухоловок на дюнах в окрестностях Вокегана близ Северного берега Чикаго. К тому времени Стайн стал весьма успешным инвестиционным банкиром, а впоследствии сделался членом попечительского совета Чикагского университета. Он был крайне смущен, когда я представился ему как сын Джима Уотсона. У нас дома постоянно говорили о Чикагском университете, особенно в связи с тем, что мой отец знал его президента, Роберта Хатчинса, чей отец, в свою очередь, был профессором богословия в Оберлине, когда мой отец учился в этом колледже. Хатчинс не так давно начал осуществление плана, позволявшего принимать в университет тех, кто окончил лишь два класса средней школы и чьи мозги еще не зачерствели от банальностей школьной жизни. Моя мать убедила меня сдать экзамен на стипендию, состоявшийся в одно зимнее утро 1943 года. Вскоре после этого меня вновь пригласили в университет для собеседования, в ходе которого я рассказывал о недавно прочитанных мною книгах, особенно об антифашистском произведении Карло Леви "Христос остановился в Эболи"[3]. После собеседования я ужасно нервничал — до тех пор пока глава приемной комиссии, который дружил с моей матерью, не успокоил меня, сказав, что у меня есть неплохие шансы получить стипендию, которая полностью покроет плату за мое обучение. Когда мне сообщили об этом официально, я был слишком счастлив, чтобы расстраиваться по поводу того, что мой успех мог быть связан с хорошим отношением к моей матери членов комиссии по стипендиям. Единственным, что могло иметь для меня значение, было сознание того, что я перехожу в мир, где у меня будет возможность преуспеть, работая головой, а не благодаря личной популярности или физическим данным. Усвоенные уроки 1. ИЗБЕГАЙТЕ ДРАК С ТЕМИ, КТО ВЫШЕ РОСТОМ, И С СОБАКАМИ В детстве я привык быть меньше и слабее других парней в моем классе. Моим единственным утешением было сочувствие родителей: они регулярно охотно водили меня в местный магазинчик, где отпаивали шоколадными молочными коктейлями. Я обожал эти коктейли, но тем не менее все время обучения в начальной школе меня третировали другие ученики. Поначалу я пытался отвечать им кулаками, но вскоре осознал, что терпеть, когда тебя дразнят трусом, лучше, чем быть битым. Проще было переходить на другую сторону улицы, чем сталкиваться с угрозой уличных хулиганов, у которых был нюх на мою боязнь. Я не был достойным противником и для собак, особенно тех, которых я сам провоцировал, перелезая через заборы в их владения. Встреча с редкой птицей отнюдь не стоит того, чтобы быть укушенным злой дворнягой. А после того, как меня покусала немецкая овчарка, я понял, что предпочитаю кошек, несмотря даже на то, что они убивают птиц. Жизнь достаточно длинна, чтобы шанс увидеть редкую птицу представился не однажды. 2. ПОСИЛЬНЕЕ ЗАКРУЧИВАЙТЕ МЯЧ Я долго мечтал принимать участия в играх в софтбол, проходивших на большом пустыре на другой стороне 79-й улицы. Поначалу я мог присоединиться к игравшим лишь затем, чтобы возвращать фаул-болы. Затем я научился закручивать мяч при нижней подаче, не позволяя даже лучшим бэттерам монотонно пробивать лайн-драйвы через дыры в аутфилде. После этого по утрам в субботу я уже в меньшей степени чувствовал себя аутсайдером. Подкручивание резаных подач в пинг-понге помогло мне стать хорошим игроком задолго до того, как мои руки стали достаточно длинными, чтобы доставать до шарика вблизи от сетки, играя на стоящем у нас в подвале столе. 3. НЕ ВЕДИТЕСЬ НА "СЛАБО", ЕСЛИ ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ Когда я видел, как одноклассники перебегают через дорогу перед несущейся машиной, я чувствовал ужас, а не зависть к их браваде. Преодолевая на велосипеде три мили, отделявшие наш дом от Музея науки и техники, я понимал, что мать, которая всегда за меня волновалась, предпочла бы, чтобы я ехал на трамвае. Но, соблюдая осторожность (везде, где возможно, выбирая небольшие переулки и никогда не отпуская руля, если рядом проезжает машина), я в общем-то никогда не подвергал свою жизнь серьезной опасности. Точно так же, когда я лазил по деревьям в окрестностях нашего дома или взбирался по водостокам на крыши одноэтажных гаражей, я, быть может, рисковал сломать ногу, но никак не погибнуть. Мне никогда не казалось, что острое ощущение стоит риска свалиться с высоты десяти футов. 4. СЛЕДУЙТЕ ЛИШЬ ТЕМ СОВЕТАМ, КОТОРЫЕ ПРОДИКТОВАНЫ ОПЫТОМ, А НЕ ОТКРОВЕНИЕМ Нельзя сказать, что я вырос, слушаясь старших лишь потому, что они были старше меня. Сталкиваясь в детстве с мнением моих родственников, что Новый курс разорит Америку или что Гитлер перестанет быть агрессором, когда завоюет Англию, я вполне избавился от иллюзии, будто взрослые менее склонны молоть чушь, чем дети. Мои родители в большинстве случаев старались рационально объяснять, почему мне стоит с чем-то соглашаться или что-то делать. Так, например, мать убедила меня следовать ее совету надевать в дождливую погоду галоши, чтобы не портить кожаные подошвы обуви. Вместе с тем я не принял ее не менее частого утверждения, что промокшие ноги приводят к простудам. Еще в детстве я перенял свойственное моему отцу презрение к любым объяснениям, выходящим за рамки законов разума и науки. Астрологию следовало считать ерундой до тех пор, пока кому-нибудь не удастся показать проверяемым образом, что расположение звезд и планет оказывает влияние на жизнь индивидуума. Столь же неправдоподобным было для папы представление о верховном существе, широко распространенная вера в которого никоим образом не основана ни на наблюдениях, ни на экспериментах. Отнюдь не случайно, что многие религиозные представления восходят к временам, когда наука была еще не в состоянии удовлетворительно объяснить многие природные явления, служившие источником вдохновения для сочинителей мифов и священных книг. 5. ЛИЦЕМЕРЯ, ЧТОБЫ СТАТЬ СВОИМ ЧЕЛОВЕКОМ В ОБЩЕСТВЕ, ВЫ ПОДТАЧИВАЕТЕ ВАШЕ САМОУВАЖЕНИЕ Моих родителей не связывало с большинством соседей ничто, кроме начальной школы Хораса Манна. Моя мать с ее отзывчивой и щедрой натурой вскоре сделалась главой родительского комитета. Но у папы не было ничего общего с другими отцами, кроме живейшего интереса к бейсболу. Однако любовь к бейсболу редко приводила его во дворы соседей, чьи частые нападки на Новый курс и регулярные антисемитские шутки были непереносимы для папы, излюбленным человеком которого на радио, помимо Франклина Рузвельта, был высокоинтеллектуальный еврей Клифтон Фадиман. Папа умел избегать ситуаций, в которых вежливое молчание в ответ на какие-либо возмутительные замечания могло быть истолковано как знак согласия. 6. НЕ ДОПУСКАЙТЕ НЕПОЧТИТЕЛЬНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К УЧИТЕЛЯМ Мои родители объяснили мне, что я никогда не должен проявлять даже малейшее неуважение по отношению к людям, от которых зависит разрешение перескочить через полгода или перейти в более продвинутый класс. Не было ничего плохого в том, чтобы в шестом классе знать больше, чем выучила за свою жизнь моя учительница, но выражать сомнение в излагаемых ею фактах значило бы лишь напрашиваться на неприятности. Пока вы не окончите среднюю школу, вам не много пользы принесет выражение сомнений в том, чему учителя хотят научить вас. Лучше покорно заучить их излюбленные факты и получить наилучшие оценки. Отложите свои бунтарские порывы до того времени, когда вышестоящие не будут держать вас за горло. 7. В СЛУЧАЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПАНИКИ ПОСТАРАЙТЕСЬ НЕМЕДЛЕННО ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ У меня время от времени случались срывы, когда я не мог повторить алгебраический прием, выученный днем раньше. В таких случаях я всегда без колебаний обращался к кому-нибудь из одноклассников за помощью. Лучше пусть одноклассник узнает о моих проблемах, чем я не смогу перейти к следующей задаче. Быть может, в утверждении "делай сам или ничему не научишься" и есть рациональное зерно, но если сделать не получается, то далеко не уедешь. Еще чаще случалось, что мне сложно было сформулировать свои мысли, и я регулярно затягивал с выполнением письменных заданий. Только благодаря тому, что моя мать в последний момент пришла мне на помощь, мне удалось в восьмом классе вовремя сдать хорошо написанную работу по истории Чикаго. Еще важнее было, что впоследствии мама настояла на том, чтобы отредактировать каждое слово моего вступительного сочинения для получения стипендии в Чикагском университете. Я без особого стыда принял внесенную ею значительную правку и ничуть не пожалел об этом. 8. НАЙДИТЕ СЕБЕ МОЛОДОГО КУМИРА И БЕРИТЕ С НЕГО ПРИМЕР В один из наших регулярных пятничных визитов в публичную библиотеку на 73-й улице отец посоветовал мне взять там знаменитую книгу Поля де Крюи "Охотники за микробами", впервые увидевшую свет в 1926 году. В этой книге я прочитал уалекательные истории о том, как ученые побеждали инфекционные заболевания, преследуя болезнетворных микробов с тем же упорством, с каким Шерлок Холмс преследовал профессора Мориарти. Через несколько месяцев я принес домой книгу "Эрроусмит" Синклера Лыоиса, которому Поль деКрюи помогал в качестве научного консультанта. В этой книге рассказано о так и не сбывшейся надежде главного героя спасти жертв холеры с помощью поражающего бактерии вируса. На меня произвела впечатление молодость главного героя: я осознал, что наука — это, быть может, что-то вроде бейсбола, то есть игра молодых, начинающих блистать, когда им едва перевалит за двадцать. Ставить себе высокие планки мне помог также мой не особенно дальний родственник Орсон Уэллс, бабушка которого тоже носила фамилию Уотсон. Мы никогда не встречались, но он, так же как я, вырос в штате Иллинойс. После того как он по сути остался сиротой, он рос у дяди моего отца — известного чикагского актера Дадли Крафтса Уотсона. Появляясь в гостях у своего племянника всегда в наилучшем виде, в неизменном пенсне, Дадли с наслаждением рассказывал нашей семье об успехах Орсона, которые начались, еще когда он играл в школьных спектаклях в Школе Тодда. Меня особенно вдохновляла дерзость Орсона, начиная с его известной радиомистификации с "Войной миров" и заканчивая эпохальным фильмом "Гражданин Кейн". Кумиру ученого не обязательно быть микробиологом — или даже бейсболистом.
Глава 2. Навыки, приобретенные студентом колледжа
Я начал учиться в Чикагском университете летом 1943 года. Начав обучение летом и продолжая заниматься летом в последующие годы, я имел неплохой шанс получить степень бакалавра прежде, чем мне исполнится восемнадцать лет и меня можно будет призвать в армию. Поначалу у меня не было возможности выбирать курсы: всем студентам первого года предлагался интеллектуальный бизнес-ланч из годовых обзорных курсов естественных, гуманитарных и общественных наук. Кроме того, требовалось сдать еще более скучный минимум по математике и английскому (чтение, письмо и критика). Требование сдать эти обзорные курсы было введено в пику системе вольного выбора предметов, которая стала преобладать в американских колледжах в начале XX века, особенно после того, как тогдашний президент Гарварда, Чарльз Элиот, широко внедрил у себя эту систему. В то время в Чикагском университете цель колледжа видели прежде всего в том, чтобы передать студентам те общие идеи и идеалы, на которых держится западная цивилизация. Для этой цели президент Роберт Хатчинс требовал от колледжа раскрывать перед студентами "привычную картину великого". Когда я поступил в университет, Хатчинсу было сорок четыре. Он стал президентом за четырнадцать лет до этого, в 1929 году, когда ему было тридцать. Ранее, когда ему было двадцать четыре, он служил секретарем в Йеле под началом Джеймса Роуленда Энджелла, который прежде преподавал в Чикагском университете, а затем стал президентом Иеля. Получив диплом юриста, Хатчинс занялся преподаванием юриспруденции, и его личный магнетизм и мощный интеллект быстро сделали его первым человеком на юридическом факультете Иеля, где он вскоре стал самым молодым деканом за всю историю факультета. Он занимал эту престижную должность лишь год, а затем был избран шестым президентом Чикагского университета. Стремление реформировать систему образования американских колледжей возникло в Чикагском университете еще до появления в нем Хатчинса: в преподавательском отчете всем студентам первых двух лет рекомендовалось выбрать общий набор вводных обзорных курсов. После этого им предлагалось выбирать курсы на свое усмотрение, по интересам. Когда Хатчинс в 1931 году запустил свою программу, он привил еще две более радикальные идеи. Первая состояла в том, чтобы заменить обычные учебники чтением великих книг западной цивилизации — от Платона до Дарвина, Маркса и Фрейда. Столь же революционным был замысел Хатчинса принимать студентов, лишь два года проучившихся в средней школе. Этот замысел вступил в действие в порядке эксперимента в 1937 году и коснулся преимущественно учеников Университетской средней школы, которые и занимались в основном в школьных аудиториях. Однако в 1942 году голосование поредевшего в связи с войной преподавательского состава незначительным большинством голосов утвердило смелый план Хатчинса, реформировавший всю систему бакалавриата. Так каждый день после получасовой поездки на трамвае, билет на который стоил для студентов три цента, я оказывался в этой еще сырой образовательной среде. Моим любимым курсом были "Общественные науки: политическое устройство США", которые в то время очень умело вел Роберт Кеохейн. В этом курсе не было удручающей глубокой метафизики, и я с удовольствием посещал главный читальный зал Библиотеки Харпера в поисках оригинальных исторических документов, таких как сборник "Федералист" или решение по делу Дреда Скотта. Но особенно сильное влияние на меня оказала книга Вернона Паррингтона "Основные течения американской мысли". Благодаря ей я впервые смог подняться над стандартными версиями американской истории, в которых в соответствии с принципами экономического и религиозного детерминизма акцент ставится на именах, датах, картах и таблицах. Я намного яснее, чем раньше, увидел разницу между идеологиями демократов и республиканцев и между их альтернативнымиподходами к борьбе с Великой Депрессией, конец которой, как казалось, могла положить лишь большая война. Введение великих книг в изучение обзорных курсов с самого начала было спорной идеей. Против этого решительно выступали преподаватели естественнонаучных дисциплин, считавшие изучение истории науки прежде научных фактов средневековым безумием. Курс введения в естествознание, который вел биолог Том Холл, представлял собой мешанину из этих двух подходов. Большую часть времени я не знал, что именно от меня требуется, и мое самолюбие оказалось сильно задето, когда я получил В[4] на экзамене по этому курсу в конце летнего семестра. К счастью, в диплом должна была пойти лишь оценка, полученная на комплексном экзамене в конце всего учебного года. Но и на нем я тоже получил В. Система оценки знаний в колледже Чикагского университета была единственной в своем роде. Хатчинс глубоко презирал традицию периодически устраиваемых по ходу курса экзаменов, на которых требовалось скромно воспроизводить прочитанное в учебнике или записанное на лекции. В Чикаго за экзамены отвечала специальная экзаменационная комиссия, а не преподаватели курсов по отдельности. Грубая лесть преподавателю или благоговейное конспектирование его лекций не приносили результата. Интеллектуальное напряжение требовалось от нас на занятиях, а не во время подготовки к экзаменам. К сожалению, некоторые из экзаменов в итоге больше походили на сокращенные тесты на IQ, чем на честные попытки оценить знания по программе курса. Так как в отличие от почти половины студентов я не жил в кампусе, то мое участие в общественной жизни хатчинсовского колледжа было минимальным. Ида-Нойес-холл, сначала служивший спортивным залом и общественным центром для женщин, стал местом встреч для моих однокашников, многие из которых, несмотря на юный возраст, развлекались нескончаемой игрой в бридж. Наши спортсмены тоже базировались в Нойес-холле, зал которого служил и для игр между своими, и для соревнований с командами из частных средних школ, таких как Чикагская латинская, традиционного соперника Университетской средней школы. Я регулярно ходил на все баскетбольные игры Университетской школы, проходившие в стенах университета, но с большим увлечением болел за команду колледжа, которая в 1943-1944 учебном году играла свой последний сезон в Большой Десятке[5]. Посещение принудительных обзорных курсов, введенных в Чикагском университете, оказалось в итоге серьезной проблемой для спортсменов уровня Большой Десятки, а скидок для студентов, взятых исключительно за спортивные способности, никто делать не собирался. В наш последний год мы постоянно терпели поражения, пока Чикагская Пятерка основательно не усилилась несколькими моряками, обучения которых требовало военное время. Я был сам не свой во время нашей последней в сезоне игры против неизменно сильнейшей команды из штата Огайо. Чикаго удавалось держать равный счет почти до самого конца, что позволило нашей кучке фанатов отправиться домой с чувством причастности к чуду. На западной стороне поля Алонсо Стэгга с самого начала были построены футбольные трибуны, под которыми затем сделали залы для гандбола и сквоша. Я естественным образом склонялся к гандболу, в котором простая сила недорого стоит. Через несколько залов к северу от того, где я обычно играл, находилась закрытая дверь с надписью "Посторонним вход воспрещен", из чего можно было сделать вывод, что за ней проводились какие-то исследования для военных нужд. Мне интересно было знать, не были ли эти исследования частью сверхсекретного физического проекта, недавно развернутого в Чикаго моим дядей-физиком Уильямом Уэлдоном Уотсоном, приехавшим вместе со своей семьей из Нью-Хейвена, где он работал в Йеле профессором. Хотя Билл был очень скрытен, у меня создалось впечатление, что они пытались обогнать немцев в разработке некоего супероружия. Большим плюсом системы оценок в колледже было то, что комплексный экзамен по всему курсу можно было сдавать в любой момент, как только почувствуешь себя готовым. Ни посещение занятий, ни написание семестровых работ не было обязательным. А плата за обучение оставалась прежней, даже если ты записывался на большее число курсов, чем обычно принято. Из-за войны все курсы естественных наук второго года обучения были умещены в одну весеннюю четверть 1944 года. И снова я умудрился получить В на заключительном экзамене. Следующую летнюю четверть я потратил на то, чтобы уместить в нее годичный обзорный курс биологических наук, который, к счастью, не был отягощен историческим подходом с великими книгами. С моим интересом к птицам карьера биолога была естественной, и я был очень разочарован, когда в августе снова получил В на комплексном экзамене. Мой интерес к естествознанию рос вовсе не потому, что мне не нравились курсы по гуманитарным и общественным наукам. Наоборот, оба эти курса надолго остались в памяти как образчики прекрасного преподавания. Из всех моих преподавателей ближе всех к хатчинсовскому идеалу стоял ирландский классицист Дэвид Грин, получивший образование в Тринити-колледже. Особенно впечатляющей была лекция Грина о Великом Инквизиторе из "Братьев Карамазовых" Достоевского и о том, как приверженность религиозным авторитетам влияет на выбор между свободой и безопасностью. Еще меня покорили лекции и семинары Кристиана Макауэра, который родился в Германии и бежал от нацистов. Его европейское образование позволяло непринужденно сравнивать "Протестантскую этику и дух капитализма" Макса Вебера с "Религией и становлением капитализма" Ричарда Генри Тоуни. Все это заставило меня в новом свете увидеть протестантское наследие моего отца. Моя группа, изучавшая углубленный курс орнитологии, на биостанции Мичиганского университета летом 1946 года. Я стою во втором ряду, второй слева.
Моя группа, изучавшая углубленный курс орнитологии, на биостанции Мичиганского университета летом 1946 года. Я стою во втором ряду, второй слева.
На вводном курсе ботаники, первом специализированном курсе, я был на несколько лет младше других студентов. Изучение основ анатомии и физиологии растений было немногим более чем упражнение на запоминание. А вот занятия в лаборатории стали для меня настоящим кошмаром, потому что на них требовалось зарисовывать увиденное под микроскопом. Моя неспособность рисовать, тем более рисовать аккуратно, убеждала меня в печальной неизбежности получения еще одной оценки В. Введение в зоологию, которую вел специалист по термитам Альфред Эмерсон, пошло у меня гораздо лучше: рисовать нужно было меньше, а кроме того, мы часто ходили на экскурсии в Музей Филда с его обширными коллекциями рептилий, птиц и млекопитающих. Все годы обучения в колледже я оставался страстным орнитологом, особенно во время весенних и осенних перелетов. Тогда я нередко в одиночку отправлялся на общественном транспорте, возможности которого иногда дополнял автостоп, в лучшие для наблюдения птиц места. Меня просто завораживали ржанкообразные, от самых мелких куликов до крупных кроншнепов. Я везде искал очень редких плавунчиков, большого и круглоносого, которых папа видел еще ребенком. Поэтому я был в полном восторге, когда однажды в начале мая на болотистом западном берегу озера Калюмет нашел трех круглоносых плавунчиков, крутившихся на мелководье. Весной 1945 года я выбрал для себя непростой курс физиологии, который талантливо вел Ральф Джерард. Его недавно вышедшая книга "Неутомимые клетки" служила нам одним из учебников. Занятия проходили в расположенном рядом с больницей Биллингса Абботт-холле, где базировались кафедры биохимии и физиологии. На лабораторных занятиях этого курса уже не нужно было рисовать. Вместо этого мы проводили настоящие эксперименты с лягушками, сознание которых было разрушено быстро введенным в мозг заостренным металлическим стержнем. Днем ассистенты преподавателя демонстрировали нам опыты на анестезированных собаках, доставленных из вивария, расположенного на верхнем этаже Абботт-холла, огорчая тех, кто считает эксперименты над животными делом морально безответственным. Но я, как и большинство моих знакомых, считаю опыты на животных необходимыми для развития науки и медицины. Весенний семестр был омрачен смертью Франклина Рузвельта 12 апреля — меньше чем за месяц до окончания войны в Европе. В связи с Днем победы в Европе Хатчинс решил выступить с большой речью и собрал всех студентов утром 8 мая в Капелле Рокфеллера. Как и многие мои друзья, я думал тогда о необходимости навсегда уничтожить немецкую военную машину, которая ввергла человечество в две катастрофические мировые войны. Однако Хатчинс в своей речи торжественно предостерег от беззаконного мщения, которое противоречило бы тем самым идеалам, ради которых мы вступили в эту войну. Произнесенная в такой день, эта речь была в высшей степени смелым поступком, который заставил меня устыдиться того, что до этого я был сторонником предложения Генри Моргентау превратить Германию в неиндустриализованную, сельскохозяйственную страну. В этом семестре я получил свои лучшие оценки — впервые две А, одну по физиологии и одну по моему первому углубленному специализированному курсу, физиографической экологии. Последний курс, который вел Чарльз Олмстед, был совсем не сложен и посвящен особенностям жизни растений и их зависимости от условий среды. Лето того года я провел на небольшом островке у самых берегов округа Дор, расположенного на длинном узком полуострове, отделяющем висконсинский Зеленый залив от северной части озера Мичиган. Японская армия отовсюду отступала, война обещала скоро закончиться, и мне уже незачем тратить на занятия лето, чтобы как можно скорее получить диплом. Вместо этого я выбрал должность советника летнего лагеря, которая давала мне возможность попасть в дикие северные леса, подальше от угнетающей духоты, обычной для чикагского лета. Я не был достаточно квалифицирован для этой должности, потому что не был ни сильным пловцом, ни опытным лодочником, но хозяин лагеря очень нуждался в персонале, так что я стал первым советником лагеря "по природе". Хотя там я был и не на своем месте, время я проводил неплохо, сбегая при всякой возможности в густые заросли елей и пихт, окружавшие территорию лагеря. Меньше чем за полчаса я мог обойти весь остров по периметру, не теряя надежды, что в это время мимо пролетит какая-нибудь редкая птица из ржанкообразных. Однажды судьба великодушно исполнила это желание, и на расстоянии меньше двадцати футов от моей наблюдательной точки пролетели три величественных гудзонских кроншнепа. В середине августа радио принесло нам весть о первых атомных бомбах, сброшенных на Японию, и о последовавшем сразу вслед за этим окончанием войны. Так подтвердились мои предположения о супероружии, которое привело моего дядю Билла в физическую лабораторию Райерсона Чикагского университета. Впоследствии я с увлечением читал в Chicago Tribune подробный рассказ о ключевой роли Чикагского университета — получении первой произведенной человеком поддерживаемой ядерной реакции, которая была осуществлена в ядерном реакторе, сконструированном физиками Энрико Ферми и Лео Силардом под теми самыми западными футбольными трибунами, где я играл в гандбол. Вернувшись в университет на осеннюю четверть 1945 года, я решил рискнуть потерей стипендии, выбрав более сложные курсы. Почти все, что я выбрал, принадлежало к точным дисциплинам: я одновременно взялся за математический анализ, химию и физику. Расстановка коэффициентов в химических уравнениях была не очень трудна, и по химии я получил две оценки А и одну В. Куда труднее мне давался математический анализ, по которому я вначале получил В за дифференциальный анализ, а затем, в следующей четверти, С за интегральный. После этого я больше не выбирал математических курсов, чтобы уделить больше внимания курсу физики. Хотя наш преподаватель, Марио Иона, казалось, получал садистское наслаждение, снижая нам оценки за всякую ошибку в тестах с многими вариантами ответа, все же к весне мне удалось войти в колею и поднять свою оценку до А. В течение всего года я проходил также курс "Наблюдение, интерпретация и интеграция" — последний курс, который был мне нужен для получения степени бакалавра, наиболее философски ориентированный. Мне вновь повезло с преподавателем — это был Джозеф Шваб. Его апатичная южная манера говорить не могла скрыть того презрения, с которым он выслушивал идиотские ответы юных гуманитариев на строгие сократические вопросы. Когда я начал понимать логику его вопросов, мне стало нравиться посещать эти занятия в Свифт-холле, и я нередко с нетерпением ждал их, особенно после того, как мы оставили позади средневековых мыслителей и перешли к Возрождению и к сформулированным Фрэнсисом Бэконом отличиям между индуктивными и дедуктивными умозаключениями. Еще больше меня увлекли блистательные в своей ясности труды гарвардского логика конца xix века Чарльза Сандерса Пирса. Однако в итоге мне пришлось вернуться с небес на землю, когда на заключительном комплексном экзамене по этому курсу я получил В. Из этого следовал ясный вывод, что мне стоит воздержаться от дальнейшего изучения философии. Отказавшись в последнюю четверть от курса математики, я смог найти время для посещения лекций по физиологической генетике, которые читал Сьюалл Райт — самый известный биолог университета. Помимо того что Райт был одним из самых выдающихся популяционных генетиков и одним из лидеров эволюционизма, он немало сделал и для того, чтобы приблизить биологию к пониманию механизма работы генов на биохимическом уровне. К тому времени я независимо от лекций Райта заинтересовался природой гена, прочитав небольшую книжку Эрвина Шрёдингера "Что такое жизнь?". Так как на важность биологических проблем обратил внимание создатель квантовой механики и лауреат Нобелевской премии по физике 1933 года, то рецензия на его книжку была опубликована в воскресном книжном разделе Chicago Sun-Times. Прочитав рецензию, я на следующее же утро взял книгу в биологической библиотеке. Шрёдингер с изяществом показал, что гены являются важнейшим признаком жизни, поскольку обеспечивают ее преемственность, передавая наследственную информацию следующим поколениям. Подобно тому как птицы привязали меня к биологическим наукам, прославление Шрёдингером гена привело меня к тому, что я посвятил свою жизнь изучению генетики. На вручении дипломов в июне 1946 года Роберт Хатчинс обратился к своим студентам с эмоциональным предостережением, говоря, что западную цивилизацию ждет гибель, если выпускники университетов не поведут мир к моральной, интеллектуальной и духовной революции, противоположной по отношению к характерной для послевоенного времени этике "хватай что можешь". Тон выступления нашего президента поразил меня в то утро: не как метафизик, но как сын проповедника, он горячо увещевал нас, что мы перестанем видеть в других своих соперников лишь тогда, когда научимся видеть в них детей Божьих. Он также предостерег нас против того, чтобы считать себя не более чем животными, говоря, что иначе мы будем обречены и вести себя как животные и нами будут править законы джунглей. Особенно неожиданным были его слова о том, что мы можем практиковать аристотелевскую этику лишь в том случае, если нас поддерживает и вдохновляет религиозная вера, что люди должны быть братьями, потому что Бог их отец, и что собаки и кошки симпатичнее, чем большинство людей. Потрясенные этой мощной риторикой, хотя и не готовые принять все ее громкие слова, мои родители и сестра, которая закончила свой первый год в колледже, пересекли Вудлон-авеню и явились на торжественный прием в Ида-Нойес-холл. На этом приеме Хатчинс узнал папу, когда мы заходили в зал, и немного поболтал с ним, вспоминая время их учебы в Оберлине. Папа потом рассказывал, что в те времена Боб был бунтарем и входил в компанию тех, кто тайком курил. В начале лета я поездом отправился в Пеллстон, расположенный сразу за проливом Макино. Неподалеку от Пеллстона на озере Дуглас располагалась биостанция Мичиганского университета. Там я записался на два курса, "Ботаническая систематика" и "Углубленная орнитология", заселился в большую палатку с такими же, как я, студентами, которые подрабатывали тем, что разносили еду в столовой, чтобы хоть чуть-чуть подзаработать. Я уже был выше шести футов и больше не выглядел недомерком.
 Восемнадцатнлетний «Джимбо» Уотсон — вольно!
Восемнадцатнлетний «Джимбо» Уотсон — вольно!
Впервые я стал дружить со сверстниками, которые не были откровенными чудаками, выбранными мною только за то, что никто другой не сел со мной за один столик. Меня вскоре стали называть на южный лад — Джимбо, что быстро переняли несколько молодых официанток. Их привлекал мой юный возраст, и они относились ко мне как к младшему брату. Когда я вернулся осенью в университет, у меня уже было меньше проблем с общением, и это вдохновило моего близкого друга и его девушку устроить для меня первое в моей студенческой жизни свидание. Первыми дамами колледжа во времена, когда я там учился, были две девушки, которых почти всегда видели вместе, — Розмари Раймонд и Айрин (Рино) Лайонс. Рози была сногсшибательней, ее нередко можно было увидеть за рулем родительского "студебеккера" — нового ультрасовременного дизайна Раймонда Лоуи. Но и Рино определенно была хороша, и мне не верилось, что она пойдет со мной на свидание. Однако она согласилась, и мы отправились с ней на субботнюю вечеринку в университетском общежитии, после которой пошли перекусить в "Тропическую хижину" на 57-й улице, где моя неловкость уменьшилась, пусть и ненамного. Это свидание было не только первым за мои студенческие годы, но и последним. После него мое стремление к счастью сводилось к совершенствованию навыков теннисиста на университетском корте в компании Говарда Хольцера, — единственного, кто мог соперничать со мной в зоологии. Хотя он был на пять лет меня старше, мне иногда удавалось победить его благодаря кросскортам справа. В то время я заполнял заявления для поступления в магистратуру[6], и больше всего мне хотелось поступить в Калифорнийский технологический (Калтех). И не только потому, что на биологическом отделении Калтеха был сильный уклон в генетику, но и потому, что там работал всемирно известный химик Лайнус Полинг, интересовавшийся также биологией на молекулярном уровне. Я подал заявление и на отделение биологии Гарварда — просто по той причине, что Гарвард — это Гарвард. Б Индианский университет я решил подать заявление в последний момент, по совету моего куратора из колледжа. От него я узнал, что там работают несколько выдающихся молодых генетиков, имена которых, впрочем, мне ничего не говорили. Но я знал, что недавно туда прибыл великий генетик Герман Мёллер. В том октябре он прославился, получив Нобелевскую премию 1946 года за сделанное в 1926 году открытие мутаций, вызываемых рентгеновскими лучами. В начале апреля я забеспокоился о судьбе своих заявлений. Облегчение пришло, когда я получил уведомление о поступлении от Фернандуса Пейна, декана магистратуры и аспирантуры Индианского университета. Мне предлагали не только стипендию в 900 долларов в год, но и освобождение от какой-либо платы за обучение. При этом меня предупреждали: если я предполагаю, что по-прежнему буду заниматься в первую очередь орнитологией, то мне следует выбрать какое-нибудь другое место. Так что я мог уже не тревожиться за свое будущее, когда получил уведомление об отказе из Калтеха, — это было обидно, но не удивительно. Они никак не могли знать, что я стал больше интересоваться генетикой, чем орнитологией. Кроме того, они ожидали от своих студентов хорошего владения математикой. Последним пришло уведомление из Гарварда, где меня были готовы принять, но не предлагали финансовой помощи ни для оплаты обучения, ни для покрытия расходов на проживание. Но я нисколько не был разочарован, ведь никто в Гарварде всерьез не интересовался изучением генов.
 Уведомление о моем поступлении в Индианский университет и о выделении мне стипендии.
Уведомление о моем поступлении в Индианский университет и о выделении мне стипендии.
На свою последнюю четверть я записался на более простой из двух курсов органической химии для биологов — тот, что предназначался для будущих медиков, а не ученых. Материал этого курса был не особенно сложным, а профессор, который вел его, был согласен засчитывать нам лишь три лучших результата из четырех экзаменов, которые требовалось сдать для получения итоговой оценки. Получив за первые три теста оценку А, я счел вполне уместным пропустить последние две с половиной недели лекций. В результате я закончил колледж Чикагского университета, так и не изучив циклические, в том числе ароматические, органические соединения. За два других весенних курса, "Эмбриологию позвоночных" и курс физиологии с уклоном в статистику, я тоже получил А, как, впрочем, и за все курсы последнего года. Я связывал свой успех на финишной прямой прежде всего с недостатком серьезных соперников. Сильные студенты склонялись к выбору более продвинутых физических и химических курсов. Совсем незадолго до церемонии 1947 года, где я должен был получить свой диплом бакалавра, я узнал, что меня избрали членом общества "Фи-бета-каппа". Я давно мечтал о подобной чести, но никогда не думал, что смогу получить достаточно отличных оценок по естественнонаучным предметам, чтобы они перевесили другие мои оценки — чуть выше средних. Мои родители, выделявшие на мое обучение значительную часть своих скудных доходов, были в полном восторге. Ни разу они даже не намекнули на то, что я уклоняюсь от ответственности, предпочитая книги и птиц зарабатыванию денег. В мое последнее лето в родительском доме я проводил все больше времени на озере Вулф, наблюдая за птицами. Я обнаружил там сотни тулесов и десятки бурокрылых ржанок, о долгих перелетах которых через океаны я с восторгом читал в детстве. На песчаных берегах по-прежнему гнездились певчие зуйки вперемежку с более многочисленными перепончатопалыми галстучниками, прилетевшими в августе. Я наблюдал за птичьими стайками, носившимися вдоль берега, и старался понять, какие эволюционные силы создали этих социальных животных, неизменно собиравшихся в стаи, вместо того чтобы жить поодиночке. В то время никто не знал, существуют ли какие-то общие принципы, управляющие социальным поведением птиц. В глубине души я с облегчением воспринял полученное из Индианы предупреждение, не позволявшее мне поставить свое будущее на карту, занявшись исследованиями, которые могли оказаться беспредметными. При этом было более или менее ясно, что именно следовало узнать о генах. Очевидно, что они существуют, но как именно они работают? Настоящим результатом моего обучения в колледже было то, что к его окончанию я уже поставил перед собой четкую интеллектуальную цель. Усвоенные уроки 1. КОЛЛЕДЖ НУЖЕН, ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ ДУМАТЬ Есть ли у вас стипендия или вам приходится полностью оплачивать обучение — в любом случае колледж требует неоправданно больших затрат времени и денег, если не использовать его для того, чтобы научиться думать. На гуманитарных занятиях у Джозефа Шваба намного более важным, чем знание того, какие именно слова приписывают Сократу, было умение разобраться, безупречна ли логика Сократа. Эти занятия нас провоцировали на драки, но мы пускали в ход не кулаки, а умы. Там правили бал строгие силлогизмы, где из двух посылок следовал неоспоримый вывод, а точное значение слов играло первостепенную роль. Неспособность выявить ошибочную посылку с легкостью приводила нас к ответам, противоречащим здравому смыслу. Еще в средней школе один мой друг в споре со мной предъявил, как ему казалось, неопровержимое доказательство существования Бога. По дороге домой я чувствовал себя очень глупо из-за неспособности дать сдачи в этой словесной войне, хотя и подозревал, что он использует какой-то запрещенный прием, которого я по своей тупости не мог заметить. Впоследствии, когда мы оба учились в Чикагском университете, он столкнулся с людьми, намного лучше владеющими семантикой и логикой. Вскоре Билл смущенно признался мне, что силлогизмы больше не вели его к Богу, и, освобожденный от мыслей о грехе, он увлекся совсем другим — девушками и еще раз девушками. 2. ЗНАТЬ "ПОЧЕМУ" (ИДЕЯ) ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ВЫУЧИВАТЬ "ЧТО" (ФАКТ) Знание фактов из "Всемирного альманаха", таких как сравнительная высота гор или имена британских королей, ничего не давало вам в колледже Хатчинса. Главной задачей нашего образования Хатгинс считал распространение и критический разбор идей, а не заучивание фактов, которое больше подходит техникумам. Для нас намного более важным было, почему возникла и пала Римская империя, а не в каком году родился Юлий Цезарь, почему были построены великие европейские соборы, а не каковы их сравнительные размеры. Точно так же незначительны были подробности Французской революции по сравнению с философскими идеями просветителей XVIII века, которые, сделав упор на разум, а не на богословские откровения, значительно ускорили развитие современной науки. Точно так же значение подробностей линнеевской систематики бледнело перед значением идеи биологической эволюции, согласно которой все формы живого происходят от общего предка. Вполне достаточно знать, в каких книгах можно найти те или иные подробности, которые могут вам понадобиться, и не перегружать свои нейроны фактами, которые никогда не придется извлечь из памяти. 3. ДЛЯ НОВЫХ ИДЕЙ ОБЫЧНО НУЖНЫ ФАКТЫ Хотя факты по своей природе и дают нам меньше, чем сделанные на их основе выводы, их значение все же нельзя отрицать. Дарвин отказался от библейской версии происхождения всего живого благодаря наблюдениям, сделанным им во время путешествия в качестве натуралиста на корабле "Бигль". За три года экспедиции, картировавшей малоизученные отрезки западного берега Южной Америки, Дарвин провел немало времени на берегу, занимаясь наблюдениями и сбором образцов фауны, флоры и ископаемых. Он заметил в числе прочего, что виды, встречаемые в горных районах с умеренным климатом, были ближе к видам соседних тропических районов, чем к видам из районов с умеренным климатом на других материках. Точно так же многие южноамериканские ископаемые казались ближе к похожим на них современным обитателям Южной Америки, чем, например, к ископаемым, которых находили в Европе. Ключевую роль в принятии самим Дарвином представления о происхождении видов путем естественного отбора сыграло посещение им Галапагосских островов, где на каждом острове обитает свой вид вьюрков. Благодаря изоляции от вьюрков с соседних островов, которые могут скрещиваться между собой, каждый из этих видов выработал собственный характер окраски и собственную форму клюва. Новая идея иногда рождается из по-новому составленных старых фактов, но характернее случаи, когда она возникает из чего-то нового, ранее неизвестного и необъяснимого в рамках старой теории. 4. СТАРАЙТЕСЬ ДУМАТЬ КАК ВАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ Если вы научитесь думать, это может облегчить вам жизнь. В мои первые годы в университете я слишком много зубрил, готовясь к экзаменам, стараясь знать больше, чем сказано в учебных программах и учебниках. Но намного лучше было бы сосредоточиться на тех вопросах, которые мои преподаватели наверняка собирались задать. Я смог бы их узнать, если бы уделял внимание тем основным темам, по которым они давали домашние задания. Понять образ мыслей преподавателей стало гораздо легче, когда я стал концентрироваться на том, что их особенно интересовало. Так на последнем курсе мне удалось с легкостью освоить основные идеи экологической зоогеографии. 5. ПРОДОЛЖАЙТЕ ИЗУЧАТЬ ТЕ КУРСЫ, ПО КОТОРЫМ У ВАС ОТЛИЧНЫЕ ОЦЕНКИ Пройдя все, что требуется, выбирайте те курсы, которые вызывают у вас естественный интерес, а не те, которые должны вам понравиться — по мнению кого-то другого. Затем занимайтесь этими курсами с полной отдачей. Если вы не получаете на занятиях по предмету, который вам нравится, отличных оценок, это значит, что вы, вероятно, еще не нашли свое интеллектуальное призвание. Поэтому, если вы выбираете курсы, которые, как выяснится, не особенно вас увлекают, не удивляйтесь, что ваши оценки будут не самыми блестящими. 6. СТАРАЙТЕСЬ ПОДРУЖИТЬСЯ С УМНЫМИ, А НЕ С ПОПУЛЯРНЫМИ ЛЮДЬМИ Хотя время большого студенческого спорта прошло, у нас были студенческие братства, которые после окончания войны устраивали ужины и обеспечивали жильем студентов, не лишенных желания тусоваться. Мне хватило посещения одного такого приема, чтобы всем стало ясно, что мне лучше по-прежнему ужинать в Хатчинсон-холле с несколькими чудаками из колледжа, которые тоже изучали естественные науки и не имели способности к бессмысленным учтивым разговорам. Там, по другую сторону узкого и длинного стола, мы нередко видели Энрико Ферми, беседующего со своими студентами и сотрудниками. Великий итальянский физик предпочитал обедать в Хатчинсон-холле, а не с другими профессорами физики в более напыщенном клубе "Четырехугольник". В мой последний год в колледже я стал общаться со студентами-зоологами из магистратуры. С ними мне было легко вести светские беседы. В их компании на меня не смотрели как на чудака, как это бывало среди студентов других специальностей, которые готовились перебраться в такие сферы, куда я никогда не стремился. 7. НАЙДИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ ВАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО БЛИЗКИ Через много лет после того, как я покинул Чикагский университет, на встрече его выпускников, работающих в Нью-Йорке, я поговорил с однокурсником, который запомнился мне прежде всего своей преданностью игре в бридж. Он, смеясь, рассказал мне, что я казался настолько несоциализированным, что никто из однокурсников и не думал, что из меня выйдет толк. К счастью, для моей судьбы имело значение мнение преподавателей, а не однокурсников. После интересных занятий я любил задерживаться и задавать вопросы, поэтому преподаватели вскоре уже хорошо меня знали. Благодаря моей увлеченности на последнем курсе специалист по поведению животных Клайд Алли пригласил меня присоединиться к еженедельным встречам студентов у него дома. Он не только поставил мне "отлично", но и написал превосходное рекомендательное письмо для моего поступления в магистратуру. Поддержки преподавателей, которая поможет вам при поступлении, нужно искать заранее. Такую поддержку мне оказал, например, специалист по генетике человека Херлуф Страндсков, который тоже хвалил мой живой интерес к биологии. Совсем не обязательно покорять всех преподавателей. Например, суровый эмбриолог Пауль Вайсс никогда не одобрял меня за то, что, не конспектируя как следует лекций, я все же неизменно получал отличные оценки на его экзаменах. Просить его о рекомендации я благоразумно не стал. 8. ВЫБЕРИТЕ УЗКУЮ ОБЛАСТЬ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ УЖЕ В КОЛЛЕДЖЕ Чикагский университет готовил легионы интеллектуалов, а его отделение зоологии по широте изучаемых проблем не знало себе равных во всех Соединенных Штатах. Поначалу меня интересовало в биологии почти все, но уже в конце третьего года в колледже я особенно заинтересовался генами. Если бы я не определился со своим основным интересом так рано, возможно, я поступил бы в магистратуру куда-нибудь в Корнелл или в Беркли, где были превосходные учебные программы по биологии в целом, но не по генетике. Вполне возможно, что в этом случае работа над диссертацией наскучила бы мне, но мне пришлось бы ждать года три или четыре, пока, защитив ее, я не занялся бы по-настоящему увлекательными интеллектуальными задачами. И к тому времени самую увлекательную из них, о структуре ДНК, уже решил бы кто-нибудь другой. (обратно)
Глава 3. Навыки, полученные в магистратуре и аспирантуре
В сентябре 1947 года, чтобы стать ученым, я отправился в Блумингтон, округ Монро, где находился Индианский университет. Он в то время пробуждался от своего великосветского прошлого, из-за которого по-прежнему больше напоминал университет одного из южных штатов, чем более прогрессивные университеты Большой Десятки, такие как Висконсинский и Мичиганский. Преобразованием Индианского университета в заведение, для которого образование и наука не менее важны, чем развлечения по выходным, организуемые студенческими братствами и женскими обществами, руководил президент Герман Уэллс. Он возглавил университет в 1937 году, когда ему было всего тридцать пять лет. Невысокий крепыш, этот молодой уроженец небольшого индианского городка был наделен колоссальной энергией и даром предвидения великого будущего для своего университета, который до этого в академическом отношении был карликом среди других университетов Большой Десятки. За тридцать лет застоя, начавшегося в 1910 году, президент Уильям Брайан не обеспечил постройки ни одного большого общежития. Поэтому Уэллс решительно взялся за преобразования, принимая новых сотрудников и используя федеральные средства, выделяемые на борьбу с Депрессией, чтобы развернуть строительство — в том числе великолепной аудитории на четыре тысячи мест. Поиск новых кадров для естественнонаучного факультета Уэллс поручил заведовавшему магистратурой и аспирантурой Фернандусу Пейну, чьи возможности до этого не использовались в полной мере. Настоящий уроженец Индианы, Пейн, как и почти все старшие сотрудники Индианского университета, поехал за степенью доктора философии[7] на восток и защитил диссертацию в Колумбийском университете, где в лаборатории Томаса Гента Моргана только что начались исследования дрозофилы — крошечной плодовой мушки. Пейну не повезло: он вернулся в Индиану совсем незадолго до того, как Морган и его студенты Альфред Стёртевант и Кальвин Бриджес начали свои эпохальные опыты по картированию локусов, в которых располагаются гены на хромосомах дрозофилы. Хотя Пейн так и не стал большим генетиком, он знал, кто в науке занимается делом. Он предложил работу большим талантам, пока еще не открытым и недооцененным ведущими научными учреждениями. Из женского колледжа Гаучер в Балтиморе в 1938 году он переманил на отделение ботаники известного цитолога Ральфа Клеланда. Через год после этого он привел в отделение зоологии выдающегося протозоолога Трейси Соннеборна из Университета Джонса Хопкинса. Затем, в 1943 году, отделение бактериологии пополнилось итальянским ученым Сальвадором Лурия, врачом, который стал изучать генетику вирусов. В 1946 году Пейн продемонстрировал еще более эффектное достижение, убедив уже тогда всемирно известного специалиста по генетике дрозофилы Германа Мёллера вступить в ряды сотрудников Индианского университета. Когда Пейн принимал на работу Соннеборна и Лурия, его нисколько не беспокоило их еврейское происхождение, из-за которого Соннеборн не смог получить постоянной ставки в Университете Джона Хопкинса, а Лурия не был приглашен преподавать в Колледж терапевтов и хирургов Колумбийского университета, где ему дали временную ставку, когда он во время войны прибыл в США как беженец. Мёллер, тогда работавший вместе со Сьюаллом Райтом, крупнейшим американским генетиком, был неудачником вдвойне. Он не только был евреем. Переехав в начале 1930-х из Техаса в Москву[8], он заработал репутацию крайне левого, каких не берут на работу в приличные места. Вернувшись в Америку в 1940 году, он смог получить временную должность в колледже Амхерста лишь благодаря вмешательству своего друга Гарольда Плау. Он обращался за помощью и ко многим другим друзьям, но ни один из ведущих университетов не предложил ему работы, несмотря даже на то, что к тому времени Мёллер стал убежденным противником советского правительства. Поэтому он с большим облегчением принял предложение стать профессором в Индианском университете. Вскоре Мёллер получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине, и у университета появилась еще одна причина гордиться ученым. В Блумингтон я добрался на поезде железнодорожной компании Мопоп. Железная дорога Мопоп имеет особое значение для истории штата Индиана, а ее первые пути проходили неподалеку от фермы Глисонов возле Ла-Порта, где выросла моя бабушка. Она видела, как по этим путям ехал траурный поезд Линкольна, медленно пересекавший Средний Запад в направлении Спрингфилда в штате Иллинойс, где президент был похоронен. Я устроился жить и столоваться в Роджерс-центре, простом послевоенном комплексе общежитий, расположенном в одной миле к востоку от центра кампуса. Его двухэтажные корпуса были построены слишком быстро для того, чтобы нести ту печать неувядающего изящества, которая так характерна для домов из индианского известняка. Моя стипендия в 900 долларов с лихвой покрывала плату за проживание и еду, так что у меня даже оставалось достаточно денег, чтобы иногда сходить в кино или в ресторан. В университете тогда училось около двадцати тысяч студентов. Все выпускники средних школ Индианы имели возможность пойти учиться или туда, или в соперничавший с Индианским Университет Пердью, специализировавшийся на инженерии и сельском хозяйстве и расположенный в ста милях к северу. Власти штата считали своей обязанностью обеспечить всех желающих хорошим образованием. Но каждый год около половины студентов первого курса бывали отчислены, не доучившись до второго. Причиной была низкая успеваемость, хотя значительное число студенток переходило в другие учебные заведения из-за того, что их не принимали ни в одно подходящее женское студенческое общество. Стареющие лаборатории зоологии и ботаники, основанные в восьмидесятых годах XIX века, совсем не соответствовали задаче продвижения генетики. Однако Ральфу Клеланду, перешедшему в 1938 году на отделение ботаники, пришлось обходиться тем, что есть. Трейси Соннеборну, пришедшему через год, повезло больше: ему выделили помещение в довольно новом химическом корпусе. Сальвадор Лурия, появившись в 1943 году, получил новую лабораторию отделения микробиологии, расположенную на чердаке построенного в начале века Кирквуд-холла, первоначально предназначенную для физических и химических работ, на других этажах к тому времени изучали иностранные языки и диетологию. Для Германа Мёллера в 1946 году была в спешке устроена лаборатория в полуподвале столь же устаревшего корпуса физиологии. Мне как студенту первого курса магистратуры выделили стол на верхнем этаже зоологического корпуса, где старый лифт работал на канатах. На первом этаже зоологического корпуса располагались помещения Альфреда Кинси, весьма почитаемого за работы по орехотворкам и до недавнего времени читавшего курс эволюции. Однако к 1947 году Кинси сосредоточился исключительно на проблематике человеческой сексуальности, что тогда было смелым шагом, особенно для университета, расположенного почти что на Юге. К счастью, в опубликованной незадолго перед тем книге Кинси, где обобщались результаты его исследований, было так много статистики, что она могла служить скорее слабительным, чем возбуждающим средством. Впоследствии в ответ на упреки критиков в игнорировании эмоциональных аспектов сексуальности созданный Кинси Институт человеческой сексуальности собрал предназначенную строго для служебного пользования библиотеку эротической литературы. Это привело к неприятностям, когда некоторые книги, закупленные во Франции, были конфискованы американской таможней и так и не были возвращены, чтобы служить целям науки, несмотря на все прошения Германа Уэллса. На следующий день после прибытия я выбрал для себя курсы на ближайший семестр. Естественно, я записался на углубленный курс Мёллера по генетике — "Мутации и гены". Кроме того, Фернандус Пейн советовал мне как можно скорее пройти курс Трейси Соннеборна по генетике микроорганизмов — на отделении зоологии он был самой яркой из молодых звезд. Но в том семестре он читал лишь вводный курс генетики, и я записался на курс вирусологии, который вел Сальвадор Лурия. До меня вскоре дошел ходивший среди преподавателей слух, что Лурия отвратительно обращается со своими студентами. Но я беспокоился по этому поводу лишь до нескольких первых его лекций, которые оказались просто завораживающими. Другой мой выбор встретил меньше понимания со стороны моих кураторов с отделения зоологии: я записался на "Углубленный математический анализ" — это обычно выбирали только физики и математики. Но я опасался, что, не пройдя этот курс, я никогда не наберусь решимости продвинуться дальше в изучении физики, и это помешает мне заниматься продвинутыми методами исследования гена. По иронии судьбы читать этот курс должен был Лоуренс Грейвс — находившийся в годичном отпуске сотрудник Чикагского университета, где я ни за что бы не осмелился выбрать один из его курсов. Но в менее сильном Индианском университете мне не предстояло соперничать с математическими гениями, а кроме того, оценки теперь не имели для меня большого значения. Требуемым учебником по курсу Мёллера была внятная и по сей день не потерявшая актуальности книга "Введение в современную генетику" (1939) английского биолога Конрада Хэла Уоддингтона. Герман Мёллер в 1941 году.
Герман Мёллер в 1941 году.
Однако самую суть этого курса составляла рассказываемая Мёллером на лекциях история его научной карьеры, начиная от студенческих лет, проведенных в "мушиной комнате" Колумбийского университета, в 1910 и 1915 годы. Мёллер был невысоким полноватым человеком и телосложением сам напоминал дрозофилу, а его лекции были потоками сознания, а не подготовленными выступлениями. В его эмоциональных речах толковые рассуждения о проблемах генетики перемежались, например, подробностями о том, как он был разочарован, когда его не сразу взяли в лабораторию Моргана, или о том, что коллеги не придавали его идеям должного значения. Еще менее увлекательны были его практикумы, на которых мы беспорядочно знакомились с рядом все более и более запутанных генетических скрещиваний. Чему это должно было нас научить, оставалось загадкой, и все указывало на один неизбежный вывод: время дрозофилы как модельного объекта прошло. И действительно, вскоре другой объект занял ее место в качестве основного средства изучения генов. Курс вирусологии, который читал Лурия, открыл для меня будущее, на пороге которого стояла тогда генетика. Ключевую роль суждено было сыграть микроорганизмам, чей короткий жизненный цикл позволяет проводить генетические скрещивания и анализировать их результаты за несколько дней, а не недель или месяцев.Лурия был особенно увлечен теми возможностями, которые обещали исследования кишечной палочки (Escherichia coli) и паразитирующих на ней вирусов — бактериофагов (или фагов, как их обычно называют для краткости). В 1943 году, вскоре после прибытия в Блумингтон, Лурия, которому был тогда тридцать один год, первым последовательно продемонстрировал, что Е. coli и ее фаги дают целый ряд легко идентифицируемых спонтанных мутаций. Лишь через три года после этого, в 1946 году, Джошуа Ледерберг, бывший тогда студентом-медиком и работавший в лаборатории Эдварда Тейтума в Иеле, показал возможность генетической рекомбинации между разными штаммами Е. coli. В тот же год Альфред Херши из Вашингтонского университета обнаружил генетическую рекомбинацию у фагов кишечной палочки Т2 и Т4 и вскоре подготовил первые генетические карты фаговых хромосом. До первой лекции Лурия я совершенно не представлял себе, что такое вирусы. Вскоре я уже знал, что это небольшие возбудители инфекций, способные размножаться только в живых клетках. Вне клетки вирус совершенно не активен. Но как только он попадает в клетку, начинается процесс размножения, ведущий к сборке сотен или тысяч новых вирусных частиц следующего поколения, идентичных исходной материнской частице. В отличие от бактерий вирусы нельзя наблюдать в обычный микроскоп. Их размеры и форма стали известны лишь после изобретения намного более мощных электронных микроскопов, впервые сконструированных в Германии перед войной. Первые исследованные с помощью электронного микроскопа фаги имели неожиданную форму, напоминающую головастиков с многогранными головами, к которым прикреплялся более тонкий, похожий на хвост придаток. За двадцать с лишним лет до этого Мёллер высказывал предположение, что вирусы в действительности представляют собой голые хромосомы, которые некогда приобрели специальные структуры, помогающие им передаваться от одной клетки к другой. Эта гипотеза как будто подтверждалась сделанным в середине тридцатых годов открытием, что ДНК, которая, как вскоре выяснилось, входит в состав всех хромосом, входит и в состав фаговых частиц. Еще большее значение имело сделанное в 1944 году Освальдом Эвери и его коллегами из Рокфеллеровского института в Нью-Йорке открытие, что ДНК способна передавать генетические маркеры от одних клеток к другим у возбудителей пневмонии. По-видимому, это означало, что генетические особенности фагов тоже частично, если не полностью, определяются их ДНК. Лекции Лурия особенно увлекали меня еще и тем, что на них он часто рассказывал о своем сотрудничестве в последние шесть лет с немецким физиком Максом Дельбрюком, идеи которого о природе гена, высказанные в середине тридцатых, легли в основу книги Шрёдингера "Что такое жизнь?". Теперь же Лурия и Дельбрюк пытались узнать, как единственная вирусная частица дает начало сотням идентичных потомков, чтобы через это приблизиться к пониманию того, как из гена получаются идентичные ему копии. Лурия и Дельбрюк считали, что если разобраться в размножении фагов, то нам станет понятен и фундаментальный механизм копирования генов. Главным требованием курса Лурия была семестровая работа, в качестве темы которой я выбрал действие ионизирующего излучения на вирусы. В 1938-1940 годах Лурия использовал рентгеновские лучи для оценки размеров фагов, которых в то время еще нельзя было наблюдать в микроскоп. Он работал тогда в Париже, куда бежал из Италии после того, как Муссолини, заискивая перед Гитлером, впервые начал серьезные преследования итальянских евреев. Поскольку единственного акта ионизации достаточно, чтобы убить фага, минимальный размер фага можно было рассчитать исходя из зависимости числа убиваемых вирусных частиц от дозы рентгена. Этот подход, основанный на так называемой теории попаданий, был уже использован ранее, в 1935 году, Максом Дельбрюком для оценки размера генов дрозофилы, так что мне было нетрудно найти достаточно материалов для своей семестровой работы, ведь никаких оригинальных мыслей от меня не ожидали. Больше беспокоило меня, что мне снизят оценку за плохой почерк, но в итоге я получил "отлично". Совсем не так легко давался мне матанализ, учебником по которому служил "Углубленный курс математического анализа" гарвардского математика Дэвида Уиддера. К счастью, Грейвс вскоре понял, насколько слабее в математике были его студенты из Индианы по сравнению с теми, кого он привык учить в Чикагском университете. Курс, который поначалу казался неподъемным, в итоге пошел легче и ближе к концу даже приносил удовлетворение. Кроме того, мне помогало присутствие на занятиях маленькой изящной блондинки, с которой я сверял ответы на домашние задания в буфете здания Студенческого союза. Оценки В было для меня более чем достаточно, чтобы продолжить этот курс и в весеннем семестре. Успешно пройденный серьезный математический курс был для меня большим шагом вперед, кроме того, он позволил мне удержаться среди растущего числа физиков, переключавшихся в те годы на биологию в стремлении раскрыть тайны гена. Совсем не удивительно, хотя и приятно, было то, что я получил А+ по экологии животных. Вел этот курс Ламонт Коул, специалист по математической экологии, недавно приглашенный Фернандусом Пейном, чтобы расширить круг экологических проблем, которыми занимались в Индианском университете, до этого сводившийся преимущественно к экологии рыб. Мне очень нравилось подробно изучать адаптацию животных к среде обитания, а также совершать еженедельные полевые экскурсии и знакомиться на них с высокоспециализированными приспособлениями некоторых видов к своим экологическим нишам. Во время экскурсии в одну из известняковых пещер, которыми изрезана гористая местность в окрестностях Блумингтона, вооружившись несколькими шахтерскими фонарями, мы протискивались через узкие щели в полости, иногда обширные, с подземными водоемами, в которых мы искали слепых пещерных рыб. В отсутствие света здесь отсутствовало и давление отбора, отсеивающего мутантов, лишенных не только пигментации чешуи, но и зрения. Именно исследованиями слепых пещерных рыб прославился известный зоолог из Индианы Дэвид Старр Джордан. Настоящий харизматический лидер, он возглавлял университет до 1891 года, когда его выбрали первым президентом Стэнфордского университета. Однако ко времени моего обучения в Индиане Джордана здесь в основном помнили в связи с его шуткой, что каждый раз, запоминая имя одного студента, он забывал название одной рыбы. Традиционный для Индианского университета уклон в изучение рыб был связан с обилием водоемов, на просторах Индианы. Их были тысячи — от крошечных фермерских прудов до огромных озер шириной во много миль, вдоль берегов которых стояли многочисленные домики для туристов. Когда я был ребенком, родственники моей матери по линии Глисонов иногда возили нас на рыбалку на озера в окрестностях Мичиган-Сити, где в удачные дни нам удавалось наловить, а потом зажарить больше солнечников и окуней, чем мы могли без особых усилий съесть. В другие дни клева не было, и мы возвращались домой в расстроенных чувствах. Департамент охраны природы штата Индиана стал помогать университету в поддержании биологической станции на озере Вайнона, где единицей измерения улова рыбы служил "удочко-час". Хотя в окрестностях были и озера, обычно дававшие по меньшей мере несколько рыб на одну удочку в час, там было и весьма удручающее озеро Оливер, где требовалось больше десяти часов, чтобы поймать хотя бы одну рыбу. К тому времени я регулярно, по три раза в день, пешком проходил две мили, отделявшие мое общежитие в Роджерс-центре от естественнонаучного комплекса. Общежития были переполнены, в Роджерс-центре всех селили по двое, и те из нас, кто был связан с лабораторной работой, старались приходить в общежитие только для сна. Во время своих пеших прогулок я любил проходить по Джордан-авеню, где находились самые милые женские студенческие общества и где можно было увидеть девушек намного красивее тех, которых я встречал в естественнонаучных корпусах. Время от времени, чтобы отдохнуть от домашней работы или подготовки к экзаменам, я отправлялся на экскурсии за птицами с Палмером Скааром, тоже студентом первого курса магистратуры, не хуже меня знавшим местные виды птиц. Но лучше всего был баскетбол. На самой первой игре сезона команда Индианского университета вполне предсказуемо разгромила команду соседнего Университета Де По. Большинство игр с командами других университетов Большой Десятки были, напротив, весьма драматичны, вплоть до напряженных завершающих минут последней четверти. Очень увлекательными, хотя и требующими куда больших интеллектуальных усилий были неформальные вечерние семинары по генетике простейших, которые по пятницам стал устраивать у себя дома Трейси Соннеборн, чтобы заинтересовать новую порцию студентов магистратуры исследованиями своей лаборатории. Чем больше я узнавал о бактериофагах, тем больше манила меня тайна их размножения, и еще до окончания первой половины осеннего семестра я уже знал, что не хочу делать диссертацию у Мёллера. Работа Мёллера, на глазах теряющая актуальность, не привлекла и никого другого из новых студентов, даже тех, кто выбрал Индианский университет из-за того, что там работал этот знаменитый ученый. Большинство из них покорила заразительная увлеченность Трейси Соннеборна крошечными одноклеточными инфузориями из рода Paramecium. Однако для меня, стремившегося исследовать фундаментальную природу гена, парамеции никак не могли конкурировать с фагами. Поэтому, преодолевая смущение, мне пришлось сказать Соннеборну, что я буду работать с Лурия, хотя я и боялся, что теперь он больше не пригласит меня на свои пятничные семинары по простейшим. Но он со всей учтивостью ничем не показал, что обижен моим решением, и сказал, что я могу по-прежнему приходить, если мне это интересно. Как только начался весенний семестр, я начал учиться заражать культуры Е. coli фагом Тг и подсчитывать число бактерий, внутри которых размножались фаги. Кроме того, мне очень повезло подружиться с тридцатитрехлетним Ренато Дульбекко, который, как и Лурия, получил степень доктора медицины в Турине и прошлой осенью приехал в Индиану, чтобы научиться работать с фагами. Его семья по-прежнему оставалась в Италии, и Ренато почти все время проводил в лаборатории, всегда готовый дать мне необходимый совет, когда результаты моих подсчетов оказывались не такими, как я ожидал. Моя учебная нагрузка в весеннем семестре была невелика, и я стал ассистировать на курсе орнитологии, где моя помощь, учитывая ихтиологический уклон отделения зоологии, была определенно нелишней. Среди сотрудников отделения не было настоящего орнитолога, поэтому курс по птицам вел Билл Рикер, лучший ихтиолог университета. Курс орнитологии давно имел репутацию легкого. Любой, кто ходил на полевые экскурсии, мог рассчитывать хотя бы на удовлетворительную оценку С, поэтому его, чтобы набрать требуемое число естественнонаучных курсов, выбирали студенты-физкультурники с нового отделения здравоохранения и физической культуры. Отделение это было образовано годом раньше, чтобы предотвратить повторение самой ужасной трагедии в истории университета: Роберт Херхенмайер, лучший футболист, когда-либо учившийся в Индиане, благодаря которому университетская команда осенью 1945 года в первый и последний раз выиграла чемпионат Большой Десятки по футболу, следующей весной был исключен за неуспеваемость. Однако для виду студенты нового отделения все же должны были пройти несколько курсов вместе с неспортсменами. В итоге мне доверили помогать двум мускулистым парням определять птиц, увиденных ранее на экскурсиях, проходивших по утрам в субботу, чтобы не дать новым студентам завалить комплексный экзамен в конце года. Я был вознагражден за труды тем, что увидел ряд птиц, которых почти невозможно было встретить в Чикаго, таких как кентуккский масковый певун, воробей Бахмана и хохлатая желна — самая эффектная из всех птиц, встречающихся на юге Индианы. Первая задача, которую в лаборатории поставил передо мной Лурия, состояла в том, чтобы установить, могут ли фаги, инактивированные рентгеном, по-прежнему проходить генетическую рекомбинацию и производить жизнеспособное рекомбинантное потомство, свободное от поврежденных генетических детерминант, имеющихся у материнских фагов. Двумя годами ранее Лурия открыл, что фаги, инактивированные ультрафиолетом, способны к такой рекомбинации, когда два фага или больше заражают одну и ту же клетку Е. coli. Лурия привез Дульбекко из Италии как раз для проведения дальнейшего анализа этой "множественной реактивации", и теперь он надеялся, что я расширю рамки его открытия, используя для генетического повреждения вирусов рентгеновские лучи. Уже с первого эксперимента у меня стали получаться положительные результаты, и Лурия регулярно просматривал мои лабораторные записи, чтобы убедиться, что я все делал правильно. Эксперименты пришлось ненадолго прервать, когда настала моя очередь выступить с лекцией перед преподавателями отделения зоологии. От всех студентов требовалось прочитать такую лекцию во время первого года магистратуры — ради тренировки, полезной для дальнейшей карьеры, которая с большой вероятностью будет связана с преподаванием. Поскольку я поступил на специальность "Зоология", я подготовил лекцию, в которой пересказывались выводы из книги английского орнитолога Дэвида Лэка "Дарвиновы вьюрки". Перед самой войной Лэк некоторое время жил на Галапагосских островах, продолжая исследования птиц, которые начал столетием раньше Чарльз Дарвин, благодаря им усомнившийся в неизменности видов. За неделю до своей лекции я впервые встретился с Максом Дельбрюком. Он возвращался из Принстона, где гостил у своего кумира — датского физика-теоретика Нильса Бора, и заехал на несколько дней к Лурия, чтобы узнать, как идут эксперименты по множественной реактивации. Макс оказался прямой противоположностью тому лысеющему, немного полноватому немецкому профессору средних лет, которого я ожидал увидеть. Придя впервые в квартиру Лурия, который жил в нескольких кварталах к югу от главного кампуса, я лицом к лицу столкнулся с человеком, который больше напоминал такого же студента, как я. Макс, которому был тогда сорок один год, приехал в Соединенные Штаты в 1936 году, когда ему было тридцать. Как настоящий представитель немецкой протестантской университетской элиты, он поначалу увлекался астрономией. Но к двадцати годам, как раз когда рождалась квантовая механика, его интерес переключился на теоретическую физику. Получив степень доктора философии в двадцать четыре года в Гёттингене, он проработал несколько лет под опекой Бора в Копенгагене — столице мировой теоретической физики. Вернувшись в 1932 году в Берлин, чтобы работать у великого химика Отто Гана в Институте химии Общества кайзера Вильгельма, Дельбрюк познакомился с русским генетиком Николаем Тимофеевым-Ресовским, который в то время вместе с физиком Карлом Циммером использовал рентгеновские лучи для вызывания мутации у дрозофил. Из плодотворного общения всех троих возникла их эпохальная статья "О природе генных мутаций и структуре гена", идеи которой и легли в основу книги Шрёдингера "Что такое жизнь?". Чтобы сделать в Германии академическую карьеру, Дельбрюк должен был демонстрировать нацистским бюрократам свою идеологическую лояльность. Не справляясь с этой задачей, в 1936 году он ухватился за предложение, поступившее от Фонда Рокфеллера, которое привело его на работу в Калифорнийский технологический. Томас Гент Морган и его коллеги Альфред Стёртевант и Кальвин Бриджес, к тому времени тоже уже знаменитые, работали там с 1929 года. Но, приехав в Пасадену, Дельбрюк нашел работу с дрозофилами скучной и вместо нее в подвале биологического корпуса занялся вместе с физхимиком Эмори Эллисом изучением фагов. Когда началась война, он, будучи иностранцем и уроженцем Германии, не мог участвовать в военных исследованиях. Вместо этого, по-прежнему получая финансовую поддержку Фонда Рокфеллера, он стал преподавать физику в Университете Вандербильта. Его сотрудничество с Лурия началось вскоре после того, как тот приехал из Италии в Нью-Йорк. Летом 1941 и 1942 годов они проводили исследования в Биологической лаборатории в Колд-Спринг-Харбор на Северном берегу Лонг-Айленда.
 Макс Дельбрюк с Сальвадором Лурией и его коллегой Фрэнком Экснером на симпозиуме в Колд-Спринг-Харбор в 1941 году.
Макс Дельбрюк с Сальвадором Лурией и его коллегой Фрэнком Экснером на симпозиуме в Колд-Спринг-Харбор в 1941 году.
После этого на зиму Лурия приезжал в Нэшвилл, где работал по гранту Фонда Гугенхайма, пока в начале 1943 года не получил ставку в Индианском университете. За ужином Дельбрюк и Лурия радостно рассказывали про свое сотрудничество, особенно про Колд-Спринг-Харбор. Лурия уже говорил мне, что собирается проводить там следующее лето, и пригласил Дульбекко и меня поехать вместе с ним. Дельбрюк тоже собирался вернуться в Колд-Спринг-Харбор, что он делал каждое лето начиная с 1941 года. Я с интересом узнал от Дельбрюка о его летнем курсе по фагам, начатом в 1945 году. Предыдущим летом ради этого курса в Колд-Спринг-Харбор приезжал Лео Силард, венгерский физик, чье имя будет навсегда связано с именем Энрико Ферми, вместе с которым Силард осуществил в 1942 году в Чикагском университете первую поддерживаемую ядерную реакцию. Следующий день после этого ужина Лурия и Дельбрюк провели за разговорами о фагах, после чего они играли в парный теннис вместе со мной и Дульбекко. При этом я остро почувствовал, что мне нужно усиленно тренироваться, если я хочу когда-нибудь играть с Дельбрюком один на один. В конце мая в Блумингтоне уже началось настоящее лето, и днем температура в лаборатории Лурии на чердаке, где плохо работали кондиционеры, нередко поднималась так высоко, что агар в чашках Петри подолгу не хотел застывать. Продолжать эксперименты в этом семестре не было большого смысла, даже когда температура ненадолго упала. Кроме того, мне нужно было готовиться к комплексному экзамену по математике. За "Углубленный анализ" я не переживал. Грейвс сообщил нам, что все студенты магистратуры получат по крайней мере В лишь потому, что продолжили курс — все студенты колледжа к тому времени уже выбыли. Но "Дифференциальные уравнения" профессора Кеннета Уильямса — это совсем другое дело. Все знали, что по-настоящему он давно уже увлечен другим — Гражданской войной и своими книгами о ней, которые принесли ему немалый успех. У меня с ним не было взаимопонимания, я находил его неприятным и занудным и с облегчением ушел от него с оценкой В-. В прекрасном настроении я заехал ненадолго домой, после чего отправился в Колд-Спринг-Харбор — свою первую поездку на Восточное побережье. Этот год превзошел мои самые лучшие ожидания, ведь я был теперь в гуще событий в увлекательных поисках природы гена. Я полностью осознал, как много мне дало обучение в Чикагском университете, где я научился быть прямолинейным и называть вещи своими именами. Не то чтобы я превосходил других студентов магистратуры по врожденным способностям, но мне легче, чем другим, давалось оспаривание разных идей и общепринятых истин, касалось ли дело политики или науки. Никогда не забывая усвоенную от Роберта Хатчинса истину, что в научном мире полно посредственности, я всегда заботился о том, чтобы выбирать такую работу, которая будет способствовать моей научной карьере и не будет обучением бессмыслице. Усвоенные уроки 1. ВЫБЕРИТЕ СЕБЕ МОЛОДОГО НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ Чем старше будет ученый, которого вы выберете в руководители вашей диссертации, тем больше шансов, что вы займетесь работой в области, лучшие времена которой прошли, возможно, еще до вашего рождения. Даже если зрелый ученый еще не выжил из ума, он нередко работает над тем, чтобы класть новые кирпичи в стены здания, в котором и без того уже достаточно комнат. Вне всякого сомнения, именно так обстояли дела с Германом Мёллером, когда он стал работать в Индианском университете. Хотя из его лекций студенты магистратуры могли узнать немало полезного, лучшая пора тех исследований, которыми он занимался, давно прошла, и поэтому у тех, кто у него работал, не было явных перспектив для успешной научной карьеры. Напротив, молодого профессора обычно нанимают не за громкое имя, а за то, что он представляет новое направление научной деятельности, которого раньше не было в том отделении, куда его взяли на работу, и которое, есть надежда, будет бурно развиваться еще хотя бы лет десять. Кроме того, молодые ученые обычно руководят меньшими исследовательскими группами, чем ученые преклонного возраста, вокруг которых склонны собираться как средства, так и закоснелые умы. Я, вне всякого сомнения, выиграл от того, что стал первым аспирантом Сальвадора Лурия и мне не приходилось делить его внимание с другими аспирантами. Лурия тогда лишь ожидал рождения своего первого сына, и заботы семейного человека не отнимали у него много времени, поэтому даже по выходным он нередко бывал у себя в лаборатории, и его работа продвигалась так быстро, насколько это вообще было возможно. 2. ОЖИДАЙТЕ, ЧТО У МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ БУДЕТ РЕПУТАЦИЯ ЗАНОСЧИВЫХ ЛЮДЕЙ Те, кто не принадлежал к близкому кругу Сальвадора Лурия, нередко ехидно отзывались о том духе собственного превосходства, который демонстрировала группа по бактериофагам, сформировавшаяся вокруг него и Дельбрюка. Склонность Лурия иногда бесцеремонно отвергать ту или иную научную проблему как ерунду, не стоящую семинара, неизбежно вызывала неприятие коллег, привыкших к местным хорошим манерам, в соответствии с которыми добрососедские отношения запрещали слишком строго судить друг друга. Но даже самый учтивый из интеллектуальных новаторов неизбежно представляет угрозу для тех, кто хочет мыслить по-старому. Новаторство мало чем поможет вашим подопечным, даже если вы считаете, что ваш путь сулит больше успеха, чем старые подходы, но не говорите этого вслух. А за пределами узкого круга последователей интеллектуальных первопроходцев неизбежно считают в лучшем случае людьми заносчивыми, а в худшем — психами. Работайте головой и делайте собственные выводы. 3. РАСШИРЯЙТЕ СВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КРУГОЗОР ЗА СЧЕТ КУРСОВ, КОТОРЫЕ ВАС ПОНАЧАЛУ ПУГАЮТ В колледже я боялся, что из-за моих ограниченных математических способностей я смогу стать максимум натуралистом. Когда я решил заняться генами, природа которых, несомненно, таилась в их молекулярных свойствах, то понял, что у меня не осталось иного выбора, кроме как бросить вызов своей слабости. Я знал, что математика лежит в основе всей физики и что описать силы, задействованные в трехмерных молекулярных структурах, можно только с помощью математических методов. Лишь выбрав курсы высшей математики, я мог добиться достаточно свободного владения ею и работать на переднем крае интересовавшей меня области, даже если бы я никогда не приблизился к переднему краю математики. Поэтому оценки В, полученные на экзаменах по двум действительно сложным математическим курсам, принесли мне больше уверенности, чем любые отличные оценки, которые я наверняка получил бы на биологическом курсе, каким бы продвинутым он ни был. Хотя мне никогда не пришлось использовать все изученные мной аналитические методы, но анализ распределения Пуассона, который требовался для большинства экспериментов с фагами, вскоре перестал вызывать у меня чувство неполноценности и стал приносить моральное удовлетворение. 4. НА УСТНЫХ ЭКЗАМЕНАХ ОКУПАЕТСЯ СКРОМНОСТЬ На втором курсе магистратуры мне предстоял традиционный устный экзамен для проверки базовых знаний в своей области. После него предстояло сосредоточиться на исследованиях по теме диссертации. Этот экзамен длился два часа — за это время многое не обсудишь, а так как я знал, кто из профессоров будет входить в состав экзаменационной комиссии из трех человек, то мог заранее определить круг вопросов, которые мне могли задать. Но даже в такой ситуации устный экзамен остается одним из немногих испытаний в магистратуре, где вас могут ухватить за слабое место: экзаменаторы, если захотят, могут задать едва ли не любой вопрос. Поэтому отвечать на устном экзамене лучше всего так, как вы бы отвечали автоинспектору, остановившему вас за превышение скорости. Если у вас есть склонность дерзить, вам стоит показать, что вы нервничаете, потому что малейшие признаки самоуверенности могут вдохновить экзаменатора на то, чтобы попытаться сбить с вас спесь, из-за чего вам придется пересдавать часть экзамена через несколько месяцев. 5. ИЗБЕГАЙТЕ УГЛУБЛЕННЫХ КУРСОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПУСТОЙ ТРАТОЙ ВРЕМЕНИ После того как была сформирована комиссия из трех человек, которой предстояло принимать у меня экзамен, я встретился с членами комиссии, чтобы обсудить, какие углубленные технические курсы мне нужно будет сдавать. Учитывая, что я теперь работал с фагами, размножающимися в бактериальных клетках, я никак не мог сказать недавно взятому на постоянную работу специалисту по физиологии растений Ирвину (Ганни) Гансалусу, что я мог обойтись без изучения ключевых ферментативных процессов бактериального обмена веществ. Специально для меня одного он устроил небольшой практический курс, по которому я получил А, как обычно и бывает в таких случаях. Но когда добрейший Ральф Клеланд, специалист по генетике растений, предложил мне продолжить изучать его скучный курс цитологии, по которому в тот осенний семестр планировалось проходить гистологические методы, я прямо заявил, что считаю этот курс для себя пустой тратой времени. Всегда изысканно вежливый, Клеланд был явно огорчен, но возражать не стал. Вернувшись со мной после этого в лабораторию, Лурия устроил мне разнос и потребовал, чтобы я никогда больше не выказывал преподавателям своего неуважения. Но Ганни встал на мою сторону, чем привел меня в восторг, сказав, что я продемонстрировал интеллектуальную прямоту вроде той, какая была, как утверждают, свойственна в молодости Роберту Оппенгеймеру. 6. НЕ ВЫБИРАЙТЕ САМИ ТЕМУ ВАШЕЙ ПЕРВОЙ ДИССЕРТАЦИИ Когда я только начал проводить первые эксперименты, я был слишком наивен для того, чтобы найти для себя подходящую исследовательскую задачу, и даже для того, чтобы сделать разумный выбор из того, что предлагают другие. Поэтому я начал с изучения проблемы, которая интересовала Лурия. Он сразу проявил заинтересованность в моих результатах и проследил за тем, чтобы были сделаны все контрольные эксперименты. Более того, Лурия благоразумно дал мне для начала задачу, выполнение которой не имело принципиального значения для его собственных исследований, поэтому на меня никогда не давила необходимость поспеть со своими экспериментами в срок, чтобы не расстроить его планы. Мои первые эксперименты, к счастью, дали положительные результаты, а Лурия любезно отказался ставить себя в соавторы тезисов, обобщающих достижения первых месяцев моей работы, которые я послал в Генетическое общество. Вскоре я уже сам планировал направление своей экспериментальной деятельности и за последующие два года несколько раз менял его. Две журнальные статьи, обобщавшие результаты, полученные мной в ходе работы над диссертацией, тоже вышли только под моим именем, несмотря на то что Лурия изрядно помог мне. Он заново переписал многие фразы из моего текста, прежде чем его прочитали другие члены комиссии, и в итоге мои статьи оказались намного лучше. Несмотря на столь важную для меня помощь, Лурия дал мне почувствовать свою ответственность за эти статьи со всеми их достоинствами и недостатками, почувствовать, что я не работаю ни на кого, кроме себя. 7. КРУГ ВАШИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАМНОГО ШИРЕ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ Когда работа над диссертацией начинает идти полным ходом, она может показаться чем-то вроде марафона, требующего полной отдачи. Но я получил во время обучения в Индианском университете немало полезного опыта и благодаря отличным курсам, которые я выбирал, работая над диссертацией. Когда мои эксперименты не приносили желаемых результатов, У меня всегда оставались другие стимулы. Мои любимые курсы требовали написания объемных семестровых работ и заставляли меня читать оригинальные статьи по вопросам, в которые я в противном случае едва ли стал бы влезать. Особенно большое влияние на мое интеллектуальное развитие оказала объемная работа, написанная по предложению Трейси Соннеборна, о спорных результатах экспериментов на зеленой водоросли хламидомонаде немецкого специалиста по биохимической генетике Франца Мёвуса. Пройденный недавно курс научного немецкого позволил мне прочитать его работы в оригинале, в том числе и опубликованные во время войны и не получившие широкой известности. Хотя результаты, полученные Мёвусом, подвергались сомнению, потому что статистика была близка к идеальной, Соннеборн был интуитивно склонен верить Мёвусу, изящно продемонстрировавшему, как гены управляют ферментативными реакциями. Я полагал, что нашел новый способ интерпретации данных Мёвуса, и, как и Соннеборн, хотел доверять его результатам. Позже Трейси включил часть анализов из моей семестровой работы в большой обзор, посвященный работам Мёвуса, но, к нашему общему ужасу, через несколько лет было установлено, что Мёвус подделал свои результаты. В таком исходе было мало приятного, но, по крайней мере, это дало мне ценный урок того, как опасно в науке выдавать желаемое за действительное. Такие уроки лучше получать из чужих работ, чем из своих собственных. (обратно)
Глава 4. Навыки, воспринятые в группе по фагам
Я приехал в Нью-Йорк в середине июня 1948 года ночным поездом из Чикаго по Пенсильванской железной дороге. Прибыв на Пенсильванский вокзал, этот шедевр неоклассического стиля работы Маккима, Мида и Уайта, я перенес свои вещи на расположенную неподалеку платформу Лонг-Айлендской дороги и за час доехал до Колд-Спринг-Харбор. Затем одно из такси, стоявших перед небольшим деревянным вокзалом, довезло меня до конца внутренней гавани, в глубине которой, на ее западном берегу, располагалась Лаборатория Колд-Спринг-Харбор. Я доехал на такси до Блэкфорд-холла, который летом служил для Лаборатории центром. Там ели, а на верхних этажах располагалось общежитие из семнадцати строгих одноместных комнат с бетонными стенами. В одной из них мне предстояло провести все лето. Внизу помимо столовой находился холл с камином, большой доской и тремя впечатляющими псевдосредневековыми стульями, стоявшими в Блэкфорд-холле с самого времени его постройки в 1906 году. Лаборатория была тогда разделена на две части — работавшее круглый год Отделение генетики, финансируемое вашингтонским Институтом Карнеги, и Биологическую лабораторию, функционировавшую преимущественно летом под патронажем местных богатых землевладельцев. Биологическая лаборатория устраивала летние курсы и проходившую в июне престижную конференцию — Симпозиум в Колд-Спринг-Харбор по количественной биологии, а также обеспечивала жильем и лабораторными столами летних гостей, таких как Лурия и Дельбрюк. В 1941 году родившийся в Югославии и получивший образование в Корнелле Милислав Демерец, новый директор Отделения генетики, взял в свои руки также управление Биологической лабораторией, сделав основным направлением ее работы не физиологию и естествознание, а генетику, которой он занимался сам. В первый же год своего директорства Демерец организовал Симпозиум в Колд-Спринг-Харбор 1941 года по генам и хромосомам. На эту эпохальную конференцию приехали Герман Мёллер вместе со Сьюаллом Райтом, а также Макс Дельбрюк и Сальвадор Лурия, которым Демерец предоставил место в Лаборатории Джонса для их совместной работы по фагам. После того как в том же году Америка вступила во Вторую мировую войну, Демерец передал большую часть помещений Биологической лаборатории для использования под военные нужды. Однако Лаборатория Джонса не отапливалась и поэтому осталась незанятой, и Лурия с Дельбрюком могли снова работать там, когда наступило лето. Во время войны гостей в Колд-Спринг-Харбор, кроме них, почти не было, за исключением орнитолога Эрнста Майра, родившегося в Германии и в то время работавшего в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. Исследования Майра в области эволюции хорошо дополняли генетические интересы Демереца. Директор Лаборатории естественным образом тяготел к ученым из Европы, и атмосфера в Колд-Спринг-Харбор быстро изменилась. Из бастиона янки, в истории которого были исследования в области евгеники и очевидный антисемитизм, Лаборатория стала международным научным учреждением, сила которого во многом зависела от иностранных гостей, причем то, что некоторые из них были евреями, нисколько не мешало их участию ни в научной, ни в общественной жизни Лаборатории. Лаборатория в Колд-Спринг-Харбор стала местом, где еще задолго до прихода к власти Демереца правили бал математические методы. В 1930 году на работу в Биологическую лабораторию взяли биофизика Хьюго Фрика, а в 1933 году прошел первый Симпозиум в Колд-Спринг-Харбор по количественной биологии, основная цель которого состояла в том, чтобы свести физиков и химиков с биологами и помочь им разобраться в молекулярных основах биологических явлений. Вполне естественно, что в Колд-Спринг-Харбор так радушно принимали физиков, таких как Дельбрюк, а потом и Силард. Осмотрев в первый же день жилье и лаборатории, предназначенные для летних гостей, я обнаружил упадок. Общая атмосфера напоминала захудалый летний лагерь. Некоторых гостей вообще селили в палатках, расположенных на поляне за Блэкфорд-холлом, который сам обзавелся центральным отоплением лишь много лет спустя. Хупер-хаус и Уильямс-хаус, тогда тоже используемые для размещения приезжающих на лето ученых и их семей, были построены в тридцатых годах XIX века в качестве многоквартирных домов для работников китобойной промышленности, которая процветала здесь еще до Гражданской войны. Таким же обветшалым был трехэтажный Пожарный дом, получивший свое название за то, что первоначально стоял в городе, где служил первым пожарным депо, пока в 1930 году не был куплен Биологической лабораторией в качестве дополнительного жилого летнего корпуса и перевезен через гавань на барже. Исследовательские корпуса Отделения генетики строились еще в первое десятилетие его существования и были хотя и основательны, но старомодны. В главном лабораторном корпусе, здании итальянского стиля, построенном в 1904 году, на втором этаже располагалась библиотека, а на верхнем и в полуподвальном — лаборатории. С двух сторон этот корпус был окружен кукурузными полями, которыми заведовала генетик Барбара Мак-Клинток, выросшая в Бруклине и получившая образование в Корнелле. Демерец взял ее на работу в 1941 году. Большие палатки за Блэкфорд-холлом служили пристанищем для части приезжающих на лето ученых.
Большие палатки за Блэкфорд-холлом служили пристанищем для части приезжающих на лето ученых.
 В 1930 году в Лабораторию привезли на барже бывшее пожарное депо Колд-Спринг-Харбор, чтобы селить в нем летних гостей.
В 1930 году в Лабораторию привезли на барже бывшее пожарное депо Колд-Спринг-Харбор, чтобы селить в нем летних гостей.
Перед тем как приехать в тот год на июньский симпозиум, она уволилась из Университета Миссури, где ее острый ум и независимый характер не ценили по достоинству. Однако Демерец, который за версту видел одаренных людей, вскоре получил от Института Карнеги разрешение предложить ей довольно скромную ставку и лабораторию на третьем этаже построенного в 1914 году Энимал-хауса, в котором с начала двадцатых интенсивно изучали мышей с повышенной предрасположенностью к раку. Хотя окрестности, необычайно красивая гавань и холмы, были прекрасны, состояние лабораторий и жилья вызывало у тех, кто приезжал впервые, чувство, что Колд-Спринг-Харбор едва ли долго продержится в роли передового научного учреждения. Но в то время меня не волновало состояние зданий. Главное, чтобы в них было все необходимое для моих экспериментов с фагами. Нашему контингенту из Индианского университета предоставили для работы корпус Николса, построенный в 1927 году в стиле колониального возрождения. В этом корпусе работали два ученых Биологической лаборатории — Верной Брайсон и Альберт Келнер. Оба они проводили эксперименты по мутагенным факторам у бактерий, и мы могли использовать их паровой стерилизатор (автоклав) и пастеровскую печь, чтобы предотвращать нежелательное загрязнение наших бактериальных культур. Через несколько дней приехал Лурия со своей женой Зеллой, уроженкой Нью-Йорка, аспиранткой-психологом, с которой он встретился вскоре после своего приезда в Индианский университет. Она ждала ребенка, который должен был родиться в конце лета, и была рада возможности питаться в Бэкфорд-холле, вместо того чтобы самой готовить еду в выделенной им в Вильямс-хаусе квартире, которую они меблировали предметами, выброшенными владельцами местных имений. Ренато Дульбекко к тому времени уже тоже был с нами, приехав из Блумингтона на подержанном "понтиаке", на котором он позже отвез свою жену и двух маленьких детей обратно в Блумингтон после их прибытия из Италии. На этом "понтиаке" Макса Дельбрюка и его жену Мэнни вскоре отвезли к Морскому терминалу аэропорта Ла Гардия, где они сели на гидросамолет компании Pan Am и отправились в Англию. Оттуда они собирались поехать в Германию, где семья Макса сильно пострадала от войны, а его брат Юстус, сидевший в тюрьме при нацистах, умер от дифтерии в советском лагере для военнопленных. Снова, уже шестой год подряд, приехал Эрнст Майр со своей женой Гретель и двумя дочерьми, уже почти подростками. Он уже давно был одним из моих кумиров, не только из-за его орнитологических экспедиций в Новую Гвинею и на Соломоновы острова в конце двадцатых, но прежде всего благодаря его эпохальной книге 1942 года — "Систематика и происхождение видов". Я с восторгом прочитал ее в мой последний год в Чикагском университете, вместе с не менее важной книгой "Генетика и происхождение видов" Феодосия Добржанского, профессора Колумбийского университета, который часто приезжал в Колд-Спринг-Харбор к своему близкому другу Демерецу. В нашей лаборатории в корпусе Николса мы с Дульбекко вскоре стали ежедневно проводить эксперименты, чтобы установить, вызывают ли ультрафиолет и рентген при инактивировании ими фагов локальные повреждения в каком-то одном гене или в большем их числе. Лурия поначалу надеялся, что обнаруженное им явление, названное множественной реактивацией (при котором поврежденным ультрафиолетом вирусным частицам каким-то образом удавалось размножаться), можно хорошо объяснить независимой репликацией неповрежденных генетических детерминант. Однако результаты проводимых Ренато экспериментов вскоре показали, что гены, пережившие воздействие определенной дозы ультрафиолета, реплицируются медленнее, чем их необлученные аналоги. Судя по всему, никаких независимо реплицирующихся наборов генов у фагов не было.
 Трейси Соннеборн и Барбара Мак-Клинток в Колд-Спринг-Харбор в 1946 году.
Трейси Соннеборн и Барбара Мак-Клинток в Колд-Спринг-Харбор в 1946 году.
Их гены были, вероятно, расположены в линейном порядке на одной или нескольких хромосомах. Если так, то множественная репликация была результатом кроссинговера, то есть перекреста между хромосомами фагов, благодаря которому генетические детерминанты из разных вирусных частиц могли собираться вместе, образуя полный набор неповрежденных генов вируса. Летняя жизнь в Колд-Спринг-Харбор резко изменилась, когда 28 июня начался трехнедельный курс по фагам. Столовую стало посещать почти вдвое больше народу. Этот курс читался уже четвертый год, и впервые без участия Дельбрюка. Вместо него главным преподавателем стал Марк Адаме из Школы медицины Нью-Йоркского университета, прошедший этот курс двумя годами раньше и обратившийся в убежденного исследователя фагов — он занимался только ими. В число четырнадцати слушателей курса входили получивший медицинское образование Бернард Дэвис, занимавшийся туберкулезом в Школе медицины Корнелла, Сеймур Бензер, физик из Университета Пердью, и Гунтер Стент, недавно получивший степень доктора философии в Иллинойсском университете и собиравшийся осенью заняться исследованиями фагов у Дельбрюка в Калтехе. Я уже знал многое из того, о чем рассказывали в ходе этого курса, за исключением совершенно новых результатов Августа (Гаса) Дёрманна. Прежде чем поступить в Колд-Спринг-Харбор младшим сотрудником, Дёрманн научился исследовать фагов, работая постдоком[9] у Макса в Университете Вандербильта. Гас описал нам свои новые эксперименты, которые впервые позволили установить зависимость числа дочерних вирусных частиц, образующихся в зараженной бактериальной клетке, от времени, прошедшего с момента заражения. Особенно замечательным было его открытие, что после прикрепления к заражаемой бактерии вирусные частицы теряют способность к заражению. Но в то время еще нельзя было разобраться, что именно при этом происходит на химическом уровне. Гас и его жена Гарриет, южанка, жили в коттедже Юри — крошечном деревянном домике, построенном во время Депрессии, чтобы занять плотников, сидевших без работы. Он назывался так в честь Гарольда Юри — прославленного химика из Колумбийского университета, открывшего тяжелую воду и получившего за это в 1934 году Нобелевскую премию. Из-за своего великосветского происхождения Гарриет была непривычна к манерам таких людей, как Дельбрюк, который мог бесчеловечно критиковать кого-нибудь на семинаре, после чего дружелюбно болтать с тем же человеком за обедом. Непостижимым для нее было и то, как Мэнни Дельбрюк могла оставить своего годовалого сына Джонатана с няней и отправиться в поездку по Европе. Еще необъяснимее для нее было то, как Лурия поддерживал новую левую партию Генри Уоллеса — Независимую прогрессивную партию, собрание которой по выдвижению кандидатур на выборы он только что посетил с огромным энтузиазмом. Вернувшись оттуда, Лурия устроил в Лаборатории Джонса званый ужин для сбора денег в поддержку кандидатов от третьей партии. Почти все, кто работал в лаборатории, пришли на этот ужин независимо от политических убеждений, чтобы поесть двустворчатых моллюсков на пару, приготовленных в автоклаве, и выпить пива. Но это было слишком для Гарриет, которая вместе с Гасом и его лаборанткой Маридой Сванстром пикетировала это мероприятие, расхаживая с большими плакатами, на которых был лозунг "Уоллеса в президенты, Лурию — в вице-президенты!". Излюбленным предметом сплетеннеизменно оставалась прижимистость нашего полноватого директора, Милислава Демереца, неизменно отвечавшего на большинство предложений, хороших или плохих: "Сделайте!" С наступлением сумерек мы нередко наблюдали, как он бродит по территории, выключая свет в корпусах, из которых все уже ушли по домам. Убедить его согласиться на капитальный ремонт, если только это не было абсолютно необходимо, было почти невозможно. Как это ни смешно, он однажды отказался даже заменить треснувшую крышку на унитазе в Уильямс-хаусе в квартире Леонора Михаэлиса, великого немецкого биохимика, привыкшего к совсем другому отношению у себя в роскошном Рокфеллеровском институте в Нью-Йорке. Вскоре, после того как Демерец стал директором, он переехал в Эрсли — деревянный фермерский дом начала xviii века, стоявший у северного края территории и до 1942 года входивший в состав имения площадью более ста акров, принадлежавшего Генри де Форесту, главный дом которого, Недермьюр, был построен в пятидесятых годах XIX века. В имении была большая конюшня, а также прекраснейший сад в английском стиле, снискавший немало похвал братьям Олмстед, по чьему проекту он был разбит. В начале века адвокатские таланты де Фореста, представлявшего железные дороги Моргана, помогли преумножить и без того большое состояние, доставшееся ему по наследству. Когда он работал директором Южных Тихоокеанских дорог, у него был свой собственный железнодорожный вагон. Но к последним годам его жизни, а умер он в 1938 году, время и Депрессия нанесли ощутимый удар по его капиталам, некогда превышавшим 70 миллионов и в итоге сократившимся до 8 миллионов. Не стало вскоре и некогда великолепного Недермьюра, который, как говорят, сгорел при загадочных обстоятельствах зимней ночью 1945 года, после того как госпожа де Форест навсегда переехала в свою нью-йоркскую квартиру на Парк-авеню. Кондиционеры, за исключением нескольких лабораторных помещений, отсутствовали, поэтому лучшим способом бороться с летней жарой в Колд-Спринг-Харбор было купание в часы прилива у пристани перед Лабораторией Джонса. Когда позволяло время, мы шли купаться на песчаную косу, простиравшуюся на полмили и почти полностью отделявшую внутреннюю часть гавани от внешней. У пристани перед Лабораторией Джонса имелась принадлежавшая лаборатории байдарка, на которой мы плавали мимо шикарного ресторана Moorings на восточном берегу по пути в местную библиотеку или в кафе-мороженое, до которого плыть было всего минуты три, где подавали несравненный пломбир с сиропом и горячим шоколадом. Еще одна, широкая, лодка принадлежала Софи — пухленькой четырнадцатилетней блондинке, дочери генетика Феодосия Добржанского. Она проводила в Колд-Спринг-Харбор лето, помогая Барбаре Мак-Клинток ухаживать за ее кукурузными полями. Нередко она надумывала присоединиться к играющим в баскетбол на поле, расположенном к востоку от главной лаборатории Карнеги, откуда мячи нередко улетали в направлении бережно лелеемой Мак-Клинток кукурузы. Большая часть земли по дороге к песчаной косе в то время не принадлежала Лаборатории. Обширным участком по-прежнему владела Розали Гардинер Джонс, жившая в особняке в одной миле вверх по дороге к железнодорожной станции Сьоссет. Она родилась в 1885 году в семье двух отпрысков местных землевладельцев и посвятила большую часть жизни борьбе за избирательные права женщин и адвокатской деятельности. Она прожила больше девяноста пяти лет. В молодости ее выдали за Клэренса Дилла, сенатора и светского человека из Вашингтона. Но этот союз не продержался долго: Розали вскоре обнаружила, что муж обращается с ней не как с равной, а сенатор был шокирован нечистоплотностью своей жены, закапывавшей мусор во дворе их дома. Впоследствии самыми верными спутниками Розали стали белые теннисные туфли и стадо коз, сопровождавших ее, когда она осматривала свои разнообразные владения по берегам гавани. Я впервые встретил Розали, когда она вела свой грузовик с козами к принадлежавшему ей полуразвалившемуся деревянному дому середины XIX века чуть севернее Пожарного дома. Не предупредив Лабораторию, она однажды сдала этот дом фермерам с Ямайки, приехавшим на Лонг-Айленд собирать урожай овощей. Демерец немедленно отправился в полицию, где заявил, что этот дом, который он называл "Уют Рози", не годится для проживания людей. За несколько дней он получил предписание суда, требующее от жильцов покинуть этот дом. Розали не осталась в долгу и привезла представителей Национальной ассоциации по содействию прогрессу цветного населения, настаивая на том, что этих работников не стали бы выгонять, не будь они цветными. Но как только представители ассоциации увидели, в каком состоянии находился ее "уютный домик", они тоже пришли к заключению, что людям нельзя жить на такой помойке. В двадцатые годы, на пике эпохи Золотого берега, на Лонг-Айленде было сотни четыре роскошных владений. Чтобы посмотреть, как все это выглядело, я однажды в пятницу вечером прошел пешком несколько миль на север вдоль западного берега Колд-Спринг-Харбор. Пройдя мимо большого заброшенного лодочного сарая, я вскоре оказался у стен 150-футового особняка Куперс-Блафф, смотревшего через Централы-шй остров на коннектикутский берег в шести милях к северу. По другую сторону пролива шириной в полмили, ведущего в бухту Ойстер-Бей, доносилась музыка из шикарного яхт-клуба Seawanhaka — но в этот мир мне не суждено было попасть в то лето. Мощеная усадебная дорога вела от берега к проселку, по которому я дошел до небольшого полицейского участка в Коув-Нек. Там мне подсказали дорогу обратно в Лабораторию, до которой было две с половиной мили. Впоследствии я узнал, что без спросу зашел во владения детей Теодора Рузвельта, в чьем летнем доме Сагамор-Хилл неподалеку в то время по-прежнему жила его вторая жена. Когда Лурия разговаривал на научные темы с биохимиком Сеймуром Коэном, который был на несколько лет его младше, атмосфера была всегда напряженной. Коэн жил со своей женой в Уильямс-хаусе в соседней с Лурия квартире. Два года назад Сеймур прошел курс по фагам, после чего переключился с исследований тифа на изучение репликации фаго в как химического явления.
 В 1948 году я играл роль призрака Макса Дельбрюка, но обычно он сам предводительствовал на вечере, посвященном окончанию курса по фагам. Здесь он стоит с надувным кругом на шее, держа руку на бутылке пива.
В 1948 году я играл роль призрака Макса Дельбрюка, но обычно он сам предводительствовал на вечере, посвященном окончанию курса по фагам. Здесь он стоит с надувным кругом на шее, держа руку на бутылке пива.
Он приехал на лето из Пенсильванского университета, чтобы проводить эксперименты в лаборатории Гаса Дёрманна, где он измерял, за какое время синтезируется фаговая ДНК при размножении вирусов. Жены Коэна и Лурия умели держаться друг с другом в рамках приличия, но Сеймур очень остро ощущал, что, будучи химиком, он навсегда останется аутсайдером в возглавляемой Дельбрюком группе по бактериофагам. Курс по фагам завершился в конце июля полной ребячества торжественной церемонией, впервые проведенной без Дельбрюка, который еще не вернулся из Европы. Мне, одетому в белую простыню поверх шортов, доверили роль его призрака. Я был с ним примерно одного роста и старался имитировать его походку в приличествующей событию, над которым витал его дух, манере небожителя. Пиво было непременной составляющей, а полученные в результате вечеринки увечья послужили для молодых ученых хорошим предлогом, чтобы ближе познакомиться с лаборантками из Института Карнеги: и те и другие знали, что жизнь станет более одинокой, когда закончится лето. Этот курс свел вместе Гунтера Стента и Нао Окуда, и их связь продлилась все лето, несмотря на одно неудачное рандеву на поляне, поросшей ядовитым плющом[10]. Поздний вечер того дня я провел за игрой в пинг-понг под верандой Блэкфорд-холла с Софи Добржанской или с Нэнси Коллинс, в чьих массивных очках отражалось презрение, с которым она относилась к пустоголовым девушкам, изображавшим из себя невесть что. Нэнси, выпускница Вассар-колледжа, училась тогда в Нью-Йоркском университете и приехала в Колд-Спринг-Харбор на лето, чтобы помогать своему научному руководителю, Марку Адамсу, вести курс по фагам. Она прекрасно понимала, что большинство мужчин там не строило долгосрочных планов, и, как и я, терпеливо ждала встречи с достойным спутником жизни. На корте перед Лабораторией Джонса антрополог Уильям Шелдон нередко играл в теннис со своей третьей женой, которая была его намного, намного моложе. Шелдон, работавший тогда в Колледже терапевтов и хирургов Колумбийского университета, добавлял последние штрихи к вскоре опубликованной книге "Типы несовершеннолетних правонарушителей". Он также работал над новым трудом, "Атласом человека", о котором вечером в четверг в конце июля прочитал лекцию. На этой лекции он представил свою концепцию, согласно которой человеческое тело следует рассматривать как сочетание трех качеств — эктоморфии (вытянутости), мезоморфии (мускулистости) и эндоморфии (полноты), которые развиваются на основе разных зародышевых листков. Соотношение различных типов тканей определяет, по Шелдону, не только соматотип (телосложение), но и темперамент человека. Эта лекция, богато проиллюстрированная фотографиями обнаженных мужчин, вполне могла бы быть воспринята как проявление девиантной сексуальности, если бы не смехотворные крайние случаи, преобладавшие на иллюстрациях, представлявших то изможденных эктоморфов, то не менее многочисленных распухших энтоморфов. Согласно разработанной Шелдоном схеме, где доля разных типов тканей обозначалась числовыми показателями, идеальным было телосложение 3-4-3, при котором все продукты всех трех зародышевых листков хорошо представлены при умеренном преобладании мускулатуры. Лурия не пошел на лекцию, не желая почтить своим присутствием эту откровенную чушь. Впоследствии Шелдон сообщил мне, что мое телосложение было 6-1-1, то есть я был эктоморфом, наделенным лишь минимальным количеством мышц в дополнение к моей коже и нервной системе. При этом он умолчал о той части своей теории, согласно которой эктоморфы имеют больше шансов рано или поздно попасть в психбольницу. Столь же несуразную лекцию прочитал в следующий четверг физик-ядерщик Ричард Роберте, приехавший из Вашингтона, где он работал ведущим сотрудником отделения геомагнетизма в Институте Карнеги. Он сразу шокировал нас тем, что вошел в Блэкфорд с сумкой для гольфа, очевидно собираясь провести значительную часть времени своего визита на близлежащих полях для игры в гольф. Роберте получил образование в Принстоне, а в 1939 году установил число нейтронов, высвобождающихся при распаде, и эти данные впоследствии сыграли ключевую роль в разработке атомной бомбы. За это важнейшее для военных интересов открытие он получил медаль "За заслуги" от президента Трумэна. Впоследствии Роберте решил заняться биологией и в 1947 году прошел курс по фагам, который в тот год также прошли Лео Силард и Филип Моррисон, бывший студент Роберта Оппенгеймера, выполнявший теоретические расчеты для создания первой атомной бомбы. К всеобщему удивлению, первый опыт Робертса в биологии был никак не связан с прослушанным годом раньше курсом по фагам, поскольку его предметом было экстрасенсорное восприятие. Хотя Лурия вновь открыто объявил всем, что не желает почтить своим присутствием подобную ерунду, любопытство все же заставило прийти на эту лекцию почти всех, кто был тогда в Колд-Спринг-Харбор. Основным предметом ее были уже тогда поставленные многими под сомнение результаты экспериментов парапсихолога Джозефа Бэнкса Райна. Затем Роберте стал доставать карты из тщательно перетасованной колоды и предсказывать их достоинство. У присутствующих было отчетливое ощущение, что или он, или они рехнулись. В конце лекции берлинец Эрнст Каспари, специалист по генетике насекомых, со свойственной ему безупречной европейской учтивостью поблагодарил Робертса за эту совершенно неповторимую лекцию. Макс и Мэнни Дельбрюк к тому времени вернулись из Германии и поселились в квартире на северной стороне Хупер-хауса. Холл Блэкфорда вскоре стал интеллектуальным центром Лаборатории, и стоявшая в нем доска покрылась термодинамическими уравнениями с альтернативными устойчивыми состояниями. В Германии Макс заинтересовался этой областью благодаря разговорам с выдающимся физхимиком Карлом Фридрихом Бонхёффером, который был его близким другом и брат которого, Клаус, был женат на сестре Макса, Эмми. Он был казнен нацистами вместе с их третьим братом, теологом Дитрихом. Пытаясь разобраться, как по нервным волокнам передаются сигналы, Бонхёффер составил уравнения, которые, по мнению Макса, могли быть приложимы к внезапным изменениям поверхностных антигенов парамеций — ими в то время активно занимался Трейси Соннеборн. Максу не нравились объяснения, которые предлагал сам Соннеборн, постулировавший наличие в цитоплазме детерминант наследственности. Вместе с Максом проверкой уравнений Бонхёффера занялся Гунтер Стент, который теперь, после окончания курса по фагам, мог делать что хотел. Ренато Дульбекко тоже оказался вовлечен в этот процесс, продемонстрировав редкие для доктора медицины математические способности. Я молча наблюдал за их спорами об этих уравнениях, понимая, что мне не по зубам их математические манипуляции. После окончания курса по фагам наша группа из Индианского университета перебралась через Бангтаун-роуд в учебную лабораторию в корпусе Дэвенпорта, где до конца лета работал и Гунтер Стент. Эксперименты, проделываемые мною, были еще ближе к тому, чем занимался Ренато, и касались дочерних фагов, продуцируемых бактериальными клетками, которые были одновременно заражены генетически различными активными и облученными неактивными фагами. К своей немалой радости, я обнаружил, что гены материнских фагов, которые были инактивированы рентгеном, как и гены фагов, инактивированных ультрафиолетом, присутствовали у дочерних фагов. Но была ли эта передача генов результатом кроссинговера или же независимого формирования наборов независимо реплицирующихся генов, как по-прежнему считал Лурия, оставалось неясно. В середине августа мои родители на два дня приехали в Колд-Спринг-Харбор на поезде. Папе очень понравилось общаться с Эрнстом Майром, с которым они обменивались воспоминаниями о некогда виденных замечательных птицах. Возможно, именно поэтому папа решил потранжирить, и я впервые увидел изнутри ресторан Moorings, высокие цены которого делали его недоступным для ученых из Лаборатории. Обычно, чтобы поесть моллюсков и выпить пива, мы проходили по берегу дальше, к довольно обшарпанной "Пещере Нептуна", где был открытый бар с моллюсками, смотрящий на Харбор-роуд и привлекавший тех, кто приезжал сюда на один день из города. Из Колд-Спринг-Харбор мои родители отправились в Нью-Хейвен, где неподалеку от Иеля жил со своей семьей брат отца Билл, физик, и куда на это лето приехала моя сестра Бетти. После того как Лурия и его жена вернулись в Индиану, Ренато отвез Макса, Мэнни и меня на Кейп-Код, где мы провели несколько дней в Лаборатории морской биологии в Вудс-Хоул. На обратном пути меня завезли в Нью-Хейвен, где моя сестра работала на винчестеровской фабрике полуавтоматического оружия. В то лето Бетти приехала в Нью-Хейвен из Чикагского университета как участница программы "Студенты в индустрии", проходившей под покровительством Иельской школы богословия. Эта программа свела в большом здании на Хиллсайд-авеню, принадлежавшем школе, человек десять социально ответственных студенток колледжа и такое же число студентов-китайцев из Китайской христианской студенческой организации. Поначалу все шло хорошо, но вскоре китайские студенты узнали, что они делают винтовки для "коррумпированного" режима Чан Кайши и его обреченной на поражение борьбы с наступающими армиями коммунистов. Тогда они решили, что, по совести, не могут работать на врага, хотя совесть и позволила им не мешать американским студенткам продолжить делать эти винтовки и зарабатывать деньги, необходимые для пребывания всей группы в Нью-Хейвене до конца лета. На следующей неделе мыс Ренато свернули нашу лабораторию в корпусе Дэвенпорта, вернув наши пипетки, пробирки и водяные бани в хранилище до следующего лета. Жена Ренато и их двое детей должны были вскоре приехать по морю из Италии, после чего он собирался поехать вместе с ними в Блумингтон. После состоявшейся в конце августа долгожданной лекции Эрнста Майра о "проблеме вида" лето по сути подошло к концу. Из всей приезжавшей на лето толпы остались только Макс и Мэнни Дельбрюк и я. Мы стали питаться в столовой в полуподвале общежития Института Карнеги, открывшейся для обслуживания неженатых жителей. Макс и Мэнни не торопились обратно в Пасадену, где в начале осени обычно как раз наступают самые жаркие дни. У меня, к счастью, был предлог, чтобы задержаться на Восточном побережье до середины сентября, — тогда я должен был встретиться в Вашингтоне с Лурия на ежегодной конференции Генетического общества. В начале лета Лурия очень вдохновил меня, предложив выступить на этой конференции с кратким докладом о результатах моих экспериментов с убитыми рентгеном фагами, которые должны были дополнить презентуемую самим Лурия публикацию последних данных, полученных им и Ренато. По пути из Нью-Хейвена обратно в Чикаго моя сестра заехала в Колд-Спринг-Харбор посмотреть, как я там живу. Я вскоре привел ее в гости к Максу и Мэнни Дельбрюк, чтобы познакомить их и показать ей стиль работы нашей группы по фагам. Она сразу почувствовала прочную связь, объединяющую участников нашей группы, преданных изучению фагов и с некоторым отчуждением смотревших на ученых, которые занимались скучными или даже глупыми экспериментами на других организмах. Но мое преклонение перед Максом удивило Бетти, поскольку его прямота и самоуверенность были прямой противоположностью свойственному нашим родителям тактичному сочувствию к тем, кто не смог пробиться наверх. Кроме того, Бетти была совершенно не подготовлена к свободным манерам Мэнни и к тому нескрываемому интересу, который вызывали у нее талантливые люди. За день до того, как отправиться в Вашингтон, я отправился пешком на юг по дорожке, проходившей по краю бассейнов лесопилки, чтобы добраться до роскошной, похожей на замок усадьбы Охека, которую построил по своей причуде банкир Отто Кан и огромный силуэт которой был виден с песчаной косы. Она располагалась за вокзалом Колд-Спринг-Харбор, от которого частная дорога в полмили длиной вела через такое же частное поле для гольфа на восемнадцать лунок к этому увенчанному многочисленными башенками строению. В 1917 году, когда эта усадьба с ее сотней с лишним комнат была построена, она стала вторым по размеру частным домом во всех Соединенных Штатах. Чтобы улучшить вид из окон еще не построенной усадьбы, Кан привез на выбранное для строительства место бессчетное число грузовиков песка, и усадьба возвысилась над всеми другими домами Лонг-Айленда. Когда-то имя Отто Кана было легендой, а финансовая мощь банкирского дома Kuhn, Loeb & Со, которым управлял Кан вместе с Якобом Шиффом, соперничала с мощью самого дома Моргана. Герцог Виндзорский провел одну ночь в этом роскошном особняке во время своего визита в Америку в начале двадцатых. Больше двадцати пяти лет, до самой своей смерти в 1933 году, Кан из своих личных средств покрывал весь дефицит бюджета театра Metropolitan Opera. Но после его смерти в разгар Депрессии усадьбе Охека не удалось найти себе достаточно состоятельного хозяина, и она была заброшена, пока ее не стали использовать для военных исследований. Теперь она вновь пустовала и была в запустении. Мне удалось найти открытую дверь, выходящую в сад, и я прошелся среди осыпающейся штукатурки когда-то роскошных комнат, из окон которых можно было разглядеть далекий коннектикутский берег. Обратно я шел не торопясь, лакомился по дороге дикой черникой, обильно растущей на песчаных почвах, и размышлял о том, оживет ли когда-нибудь вновь эта усадьба. По большому счету, мне было все равно, ведь мне незачем было попадать в тот мир, к которому она принадлежала. В Колд-Спринг-Харбор у мира исследователей гена уже был свой загородный клуб на берегу моря, хотя, надо признать, и без поля на восемнадцать лунок для игры в гольф. И хотя нас не собирались навещать надменные гранд-дамы, вместо них у нас были эксцентричные физики-теоретики, некогда помешанные на атомах, а теперь помешавшиеся на генах. И мы не просили советов у неба — нас вел за собой Макс Дельбрюк. Усвоенные уроки 1. КАК МОЖНО СКОРЕЕ НАЧИНАЙТЕ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ИМЕНИ С нашей первой встречи Макс Дельбрюк называл меня Джим и сам всегда хотел, чтобы все называли его Макс. Во всей группе по бактериофагам, которую собрали вокруг себя он и Сальва Лурия, обращение по фамилии или званию могло прозвучать лишь в шутку или в случаях, когда нужно было сбить взятый кем-нибудь слишком напыщенный тон. Звания, как галстуки, предполагают различия в ранге или возрасте, но чтобы двигать вперед науку, лучше общаться друг с другом на равных. 2. ТРИВИАЛЬНЫЕ МЫСЛИ НЕИЗБЕЖНО ЗАНИМАЮТ И ВЕЛИКИЕ УМЫ Я часто садился в столовой рядом с Максом Дельбрюком в надежде чему-то научиться из его строгих разборов новых экспериментов или критики плохо продуманных идей. Бывали дни, когда дискуссия разгорелась, особенно если кто-то из недавно прибывших привозил Максу новые факты или сплетни о друзьях из его европейского прошлого. Однако чаще Макс считал, что важнее поговорить о новой девушке кого-нибудь из студентов или о том, кто у кого в этот день выиграл в теннис. Я понял, что и самые сильные умы не генерируют новые идеи ежедневно. Мозг большую часть времени пребывает без дела, пока подпитка одним или несколькими новыми фактами не подтолкнет его нейроны к решению головоломок, ставящих человека в тупик. 3. РАБОТАЙТЕ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ Устраиваемый со строгой регулярностью выходной плохо согласуется с природой человеческого мозга, который успешно отдыхает лишь в том случае, если работать больше не хочет и удовлетворен достигнутым. За редким исключением временной распорядок экспериментов нельзя предугадать, и не стоит заранее планировать впадение в умственную спячку. Нерешенный вопрос, возникший во время эксперимента, неизбежно останется в вашем сознании. К тому же работать по выходным бывает интереснее, чем по будним дням. Если бы ваши эксперименты не удавались, вы бы не пришли в выходной на работу. 4. СПОРТ ПРОЯСНЯЕТ УМ Эксперименты или идеи должны вести вас вперед, но нельзя рассчитывать на то, что они будут всегда равномерно поддерживать ваши эмоции. Успех приносит радость, а неуспех — нет, но неуспех — неотъемлемая часть работы. Если ваши эксперименты всегда срабатывают или ценные идеи не перестают приходить вам в голову, это значит, что вы, вероятно, выбрали себе цели, к которым не стоит стремиться. Чтобы компенсировать взлеты и падения уровня нейромедиаторов, естественные для таких занятий, как наука, тратьте побольше усилий на занятие спортом, время от времени давая голове отдохнуть. По примеру Макса Дельбрюка я стал бегать несколько раз в день до песчаной косы и обратно. Однако моим любимым ненаучным способом времяпрепровождения был теннис, особенно когда мне приходилось попотеть, играя против сильного теннисиста. Тогда я чувствовал себя хорошо, даже если все время проигрывал. Усиленные занятия спортом позволяют расслабиться — вероятно, физическое напряжение высвобождает (3-эндорфины, близкие к опиатам вещества, которые вырабатывает наш организм. Выброс (3-эндорфинов возник в ходе эволюции как способ заставить нас выполнять упражнения, помогающие надолго сохранять свое здоровье. 5. ПРОВОДИТЬ ЭКСПЕРИМЕНТЫ В КОНЦЕ ЛЕТА ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННО Эйфория, которую вызывают долгие июньские дни, дает возможность и интенсивно работать, и интенсивно играть. День, целиком посвященный экспериментам, ничуть не мешает софтболу или волейболу рано вечером. Но к началу августа сумерки сгущаются ко времени ужина, и пожелтевшие листья начинают напоминать, что осень - не за горами. В это время, когда температура воды еще повышается, чтобы в начале сентября достигнуть максимума, намного разумнее днем отправиться на пляж, чем проводить эксперименты, которые можно легко отложить до следующего утра. Последние недели августа лучше всего подходят для дальних поездок в места, притягательные для того, чтобы, приехав туда, постепенно, дня за два или за три, совсем перестать думать о науке. Если вы можете себе позволить отпуск на несколько недель, он вам никогда не повредит. А ближе к концу отпуска вы, быть может, даже почувствуете, что ваш мозг уже достаточно отдохнул, чтобы поразмышлять над тем, какие новые эксперименты можно поставить, когда вы вернетесь домой. (обратно)
Глава 5. Навыки, переданные амбициозному молодому ученому
Вернувшись осенью 1948 года в университет Индианы, где атмосфера была не такой интеллектуально насыщенной, я начал эксперименты, основу для которых Лурия заложил в 1941 году. Тогда Лурия заметил, что фаги, взвешенные в обычных солевых растворах, намного более чувствительны к инактивации рентгеном, чем фаги, взвешенные в богатом питательными веществами разведенном говяжьем бульоне. По-прежнему оставалось неясным, обладали ли фаги, убитые непрямым способом — в результате воздействия химически активных веществ, возникающих при попадании рентгеновских лучей в окружающие молекулы воды, — какими-то новыми свойствами, отсутствующими у фагов, убитых "прямым попаданием" рентгена. Построенные ранее Лурия кривые инактивации заставляли предположить, что для того, чтобы убить фага, требуется несколько непрямых попаданий. Гибель фагов в результате прямого воздействия рентгена, напротив, как считалось, происходит вследствие единственного акта ионизации. С радостью проводя эксперименты, идея которых принадлежала мне самому, я в то же время предвкушал тот интеллектуальный пир, который был обещан предстоящим в середине октября приездом к нам на выходные Лео Силарда. Силарду недавно исполнилось пятьдесят, и он работал профессором биофизики и социологии в Чикагском университете. С ним должен был приехать младший коллега, Аарон Новик, который тоже прошел курс по фагам в Колд-Спринг-Харбор в 1947 году. Лео незадолго перед тем получил небольшой грант Фонда Рокфеллера, позволявший ему поддерживать, на его собственный выбор, проходящие на Среднем Западе генетические симпозиумы. Рост Силарда был чуть меньше пяти футов шести дюймов, и он неизменно носил галстук и костюм, ничуть не скрывая брюшка, отражавшего его увлечение едой и нелюбовь к спорту. Силард родился в Будапеште в 1898 году в богатой семье. Отличавшийся незаурядным интеллектом, он учился физике и стал работать в Берлине, где близко познакомился с Альбертом Эйнштейном и где вместе с Эрвином Шрёдингером с 1925 по 1932 год преподавал современную физику. Он был евреем и благоразумно покинул Берлин в тот месяц, когда Гитлер пришел к власти. Вскоре он оказался в Англии, где выяснилось, что льющийся из него бурный поток идей плохо сочетается с более размеренным течением английской науки. Он редко проводил больше нескольких месяцев на одном месте, поэтому для экспериментальной проверки всех его теоретических догадок никогда не хватало времени. Кроме того, его стремление патентовать идеи, имеющие коммерческое приложение, создало у принимавших его английских ученых впечатление, что он больше дорожил деньгами, чем идеями. В этом они были на все сто процентов не правы. Только благодаря деньгам, полученным за все его германские патенты, часть — вместе с Эйнштейном, Лео смог изыскать достаточно средств, чтобы остаться в науке. Кроме того, никто в Англии не знал, насколько сильной личной трагедией для него было явившееся ему в 1933 году в Лондоне как откровение понимание природы ядерного распада. При нем выделяется больше нейтронов, чем поглощается, что позволяет высвободить огромную энергию атома, описываемую знаменитым эйнштейновским уравнением Е = mс2. Если бы технология, дающая возможность осуществлять такой распад, оказалась в руках нацистов и позволила им производить атомные бомбы, в их руках оказалась бы вся сила, необходимая им для завоевания мира. Лео в тайне переуступил свой патент Британскому Адмиралтейству, в чем он признался своим близким друзьям только после того, как в 1939 году в Берлине был успешно проведен эксперимент по расщеплению атома урана. До этого Лео ошибочно выбрал вначале бериллий, а затем индий, считая, что именно эти элементы с большой вероятностью могли позволить получить требуемую цепную реакцию. Лео немедленно попытался убедить всех своих друзей-физиков, работавших за пределами Третьего Рейха, ничего больше не публиковать о расщеплении урана. Но сохранить все полученные результаты в тайне не удалось, и вскоре работавший в Париже Фредерик Жолио вопреки советам Лео опубликовал свое открытие, что распад урана-235 приводит к высвобождению двух нейтронов, а не одного. После этого Лео стал прилагать все мыслимые усилия, чтобы Соединенные Штаты как можно быстрее создали атомное оружие. Именно он написал первый черновой вариант знаменитого письма Эйнштейна Рузвельту, отправленного осенью 1939 года, а в следующем году добился принятия итальянца Энрико Ферми, лауреата Нобелевской премии 1938 года, в то время работавшего в статусе беженца на отделении физики Колумбийского университета, в проект, посвященный распаду урана. Через два года он вместе с Ферми перешел из Колумбийского университета в Чикагский, где в 1942 году состоялось решающее испытание построенного ими ядерного реактора. Лео был сочтен слишком независимым, чтобы войти в состав руководимой военными команды, поэтому в отличие от Ферми был отстранен генералом Лесли Гровсом, тогда возглавлявшим Манхэттенский проект, от последующей деятельности в Лос-Аламосе по созданию бомбы. Но, как только прошли успешные испытания первых бомб, Лео приложил все усилия, чтобы добиться гражданского, а не военного подчинения для Комиссии по атомной энергии. Теперь Лео увлекся проблемой поиска генетической основы жизни. Пройдя в 1947 году курс по фагам, он решил регулярно собирать вместе способных людей, чтобы узнавать от них новые факты, которые давали бы ему пищу для размышлений. Впрочем, в этот уик-энд в Блумингтоне он ничего особенного для себя не вынес — ни из моего краткого доклада об инактивированных рентгеном фагах, ни из результатов намного более сложных экспериментов Ренато с фагами, инактивированными ультрафиолетом. При этом важнейший новый результат был доложен самими Силардом и Новиком. За последние шесть месяцев они пришли к убеждению, что, несмотря на более чем открыто декларируемые Максом Дельбрюком сомнения, выводы Джошуа Ледерберга, продемонстрировавшего генетическую рекомбинацию у Е. coli, вовсе не были ошибочны. Лео в полном восторге написал Максу Дельбрюку и Сальве Лурия, что съест свою шляпу, если кому-то удастся опровергнуть результаты проведенных им и Аароном новых экспериментов. На самом деле, как они вскоре выяснили, сам Ледерберг уже опубликовал похожие подтверждающие данные. После того как Силард и Новик отправились обратно в Чикаго, Ренато вернулся к своим экспериментам, в которых вдруг возникли трудности с воспроизводимостью — проблема, с которой в лаборатории Лурии еще не сталкивались. Результаты подсчетов в чашках Петри с агаром, в которых должно было наблюдаться статистически эквивалентное число размножающихся фагов, нередко демонстрировали чудовищную разницу. Однажды днем в середине ноября Ренато заметил, что больше стерильных пятен, возникающих в местах размножения фагов, было в чашках, находившихся в верхней части стопок. В чашках, расположенных внизу, до которых доходило меньше света от недавно установленных флюоресцентных ламп, стерильных пятен было меньше. Это наблюдение подтвердилось на следующий день, убедив Ренато в том, что видимый свет способен компенсировать часть урона, наносимого ультрафиолетом, — эффект, вскоре получивший название "фотореактивация". Я незамедлительно занялся проверкой того, происходит ли фотореактивация и с фагами, инактивированными рентгеном, но, к своему разочарованию, обнаружил лишь слабый, возможно статистически недостоверный, эффект. Сальва, который тогда уехал на неделю в Иель читать лекции, узнал от нас с Ренато сногсшибательную новость о фотореактивации только перед самым Днем благодарения, на второй устроенной Силардом встрече в Чикагском университете. Сальва сразу испугался, не могли ли полученные им ранее результаты с множественной реактивацией быть лишь следствием непреднамеренного воздействия видимого света. Но Ренато успокоил его, заметив, что Сальва уже воспроизвел множественную реактивацию в условиях освещенности, недостаточной для фотореактивации. Сальва, в свою очередь, напомнил Ренато о письме Альберта Келнера из Колд-Спринг-Харбор, которое пришло в Блумингтон перед самым его отъездом в Иель. В этом письме Келнер с восторгом сообщал Лурия о своем сделанном в начале сентября открытии, что убитые ультрафиолетом бактериальные и грибные клетки можно воскресить с помощью видимого света. Перед этим Келнера несколько месяцев преследовали невоспроизводившиеся результаты — он предполагал, что причиной была разница в температурных условиях, в которых находились подверженные воздействию ультрафиолета культуры бактерий. Вскоре после того, как Дульбекко и я уехали из Колд-Спринг-Харбор, Келнер обнаружил, что неподконтрольным фактором, путавшим карты в его экспериментах, был видимый свет, а не температура. Лурия не показал Дульбекко письмо Келнера, а лишь походя упомянул в разговоре полученный Келнером результат, и Дульбекко не связал это открытие со своими собственными невоспроизводящимися результатами. Мы все собрались перед доской в лаборатории Силарда и Новика, помещавшейся в бывшей синагоге заброшенного еврейского приюта в убогом квартале по соседству с Чикагским университетом. Будучи физиком, Лео понимал, что видимый свет сам по себе едва ли мог обеспечить достаточное количество энергии, чтобы компенсировать урон, наносимый ультрафиолетом. Но он с интересом узнал от Ренато, что видимый свет не оказывал никакого эффекта на фагов, находящихся вне бактериальных клеток. Свет срабатывал только после того, как поврежденные фаги попадали внутрь заражаемых ими бактерий. Лео немедленно стал говорить о необходимости проверить, можно ли в таком случае обратить с помощью видимого света и вызванные ультрафиолетом мутации. Чтобы ответить на этот вопрос, они с Новиком провели в последующие шесть месяцев новые эксперименты, которые показали, что созданные с помощью ультрафиолета мутации действительно "вылечиваются" видимым светом в той же пропорции, в какой им реактивируются убитые ультрафиолетом бактерии. Хотя я тоже столкнулся с трудностями в воспроизведении некоторых из моих экспериментов, посвященных "непрямому эффекту", мне не стоило говорить об этом в Чикаго. Только перед самым Рождеством я осознал, что используемый мною в Индианском университете рентген вызывал образование не только очень короткоживущих свободных радикалов, но также и намного более стабильных промежуточных продуктов типа перекисей, сохранявшихся и после выключения рентгеновского излучателя. Не предвидев этого, я не учитывал время, прошедшее с момента облучения рентгеном до проведения анализа на жизнеспособных фагов. Я продолжал свои эксперименты, вносившие скорее неразбериху, чем ясность, вплоть до следующей устроенной по инициативе Силарда встречи в Блумингтоне перед самой конференцией в Национальной лаборатории в Оук-Ридж, на которой должны были выступать Лурия и Дельбрюк. Поначалу Лурия хотел, чтобы я тоже выступил с докладом. Он считал, что мои результаты показывают: эффект, который ранее был описан как следствие прямого действия рентгеновских лучей, на самом деле возникал не из-за ионизации, непосредственно повреждающей жизненно важные компоненты фага, а вследствие воздействия химически активных веществ, таких как свободные радикалы, образование которых внутри вирусных частиц вызывается рентгеновскими лучами. Однако Силард, сидевший в первом ряду на нашей встрече в Блумингтоне, безжалостно разгромил этот вывод. Он обратил внимание на мое наблюдение, что очищенные вирусные частицы, взвешенные в среде, лишенной защитных свойств, теряли способность убивать бактерии каждый раз, когда их инактивировали. Мне стало более чем ясно, что следовало проделать дополнительные эксперименты, прежде чем решаться представить свои результаты даже на такой неформальной встрече. За моим провалившимся докладом последовало комичное выступление Новика и Силарда. Новик должен был говорить о парадоксальных результатах, полученных ими в опытах с заражением бактерий двумя близкородственными фагами Т2 и Т4 одновременно. Почувствовав, что никто из присутствующих не вник в изложенные Новиком выводы, Силард встал, чтобы исправить положение. Однако ему в отличие от меня действительно было что сказать, объясняя результаты, три года назад поставившие Дельбрюка в тупик. В конечном итоге Дельбрюк вынужден был разъяснить для всех то, что Силард и Новик вдвоем не смогли четко изложить. После одновременного заражения фагами Т2 и Т4 у некоторых дочерних частиц оказывался генотип фага Т2, но фенотип фага Т4, и наоборот. На самом деле полученный Лео и Аароном результат был в научном плане блистателен. Макс в то время ошибочно не придал ему большого значения и советовал Лео и Аарону не публиковать эти данные. Только через два года они подготовили по этим материалам статью для Science. На конференции в Оук-Ридж все только и говорили, что о фотореактивации. Альберт Келнер доложил свои результаты, которые он поспешил опубликовать, когда узнал, что Ренато Дульбекко тоже удалось пронаблюдать подобное явление. Ренато, который считал, что его открытие было сделано фактически независимо от Келнера, поначалу не упомянул его в своей краткой заметке, впоследствии подготовленной для публикации в Nature. Прочитав черновой вариант рукописи Дульбекко о фотореактивации у фагов, Келнер почувствовал себя обкраденным. На его взгляд, на Дульбекко должны были повлиять полученные ранее Келнером результаты, которые он изложил в своем письме Лурия. Ренато незамедлительно отреагировал на выраженное Келнером недовольство и добавил в свою заметку для Nature упоминание, что ему было заранее известно о наблюдениях Келнера. Вернувшись в Блумингтон, я решил немедленно доказать Лурия, что способен заниматься осмысленной наукой. Я перестал облучать неочищенные взвеси фагов, в которых могли возникать перекиси, и вместо них сосредоточился на биологических свойствах очищенных фагов, убитых короткоживущими свободными радикалами. Вскоре я получил неопровержимые доказательства, что такие фаги действительно отличаются от фагов, убитых непосредственно рентгеновскими лучами. Во-первых, для их инактивации требовалось несколько актов повреждения, а во-вторых, после того как они были таким способом убиты, они оказывались неспособны к множественной реактивации. К тому времени я с нетерпением ждал запланированной поездки в Калтех на следующее лето. Группа по фагам поехала бы вновь в Колд-Спринг-Харбор, если бы Мэнни Дельбрюк не ждала второго ребенка, который должен был родиться в августе. То, что ей необходимо было оставаться в Пасадене, послужило для нас прекрасным поводом провести лето в Калифорнии. Однако Ренато не собирался возвращаться из этой поездки, потому что Макс переманил его в Калтех, пообещав большую интеллектуальную независимость и стабильность, чем были у него в Индиане. Подходила к концу моя работа ассистентом на курсе орнитологии. К тому времени я уже знал, куда водить экскурсантов, чтобы показать им хохлатую желну — дятла размером с ворону, ареал которого тяготеет к югу, из-за чего мне никогда не удавалось увидеть его в окрестностях Чикаго. Большую часть занявшей полтора дня дороги на поезде до Калифорнии я не спал, наблюдая из окна поезда сорок и жаворонковых овсянок, которые попадались все чаще по мере того, как кукурузные поля сменялись прериями. Я чувствовал себя сильно измотанным, когда прибыл в Атенеум — профессорский клуб Калтеха. В лоджии на его верхнем этаже стоял ряд раскладушек походного типа, на одной из которых мне предстояло за скромную плату ночевать все это лето. Оставив рюкзак, я прошелся до лаборатории Керкхоффа, построенной двадцатью годами раньше для команды биологов, собранной Томасом Морганом, приехавшим в Калтех в 1928 году. Морган в то время уже четыре года как умер, и секцию биологии возглавлял новый заведующий, Джордж Бидл. Его переманили из Стэнфорда, чтобы ввести Калтех в новую эру генетики микроорганизмов. Один из первых шагов Бидла состоял в том, чтобы убедить Макса вернуться в Калтех. С 1946 года Макс и Мэнни жили всего в десяти минутах ходьбы от лаборатории в новом одноэтажном доме типа ранчо, который они построили на одном из немногих остававшихся незанятыми участков поблизости от Калтеха. Когда я впервые пришел к ним на ужин, на меня сильное впечатление произвела просторная гостиная с камином, украшенная большой картиной работы Жанны Маммен, с которой Макс подружился в Берлине в тридцатые годы. До прихода Гитлера к власти она писала и рисовала полусвет, но такое искусство правоверные нацисты считали дегенеративным, и картина в гостиной дома Дельбрюков была выполнена в манере, вдохновленной классическим стилем Пикассо двадцатых годов. Совсем не столь незабываемой была еда, которую готовила Мэнни. Она была не из тех, кто корпел бы над поваренными книгами, пока Макс проводил семинары в лаборатории. Рубленое мясо с мексиканскими приправами и большое количество авокадо вполне устраивали ее и Макса, для которых еда была скорее жизненной необходимостью, чем удовольствием. Они больше ценили качество в разговорах, камерной музыке и партнерах по теннису, а кроме того, их приводили в восторг ароматы и виды калифорнийской природы. Сальва собирался приехать еще только через две недели, и мне хотелось встретить его результатами новых экспериментов с фагами, убитыми перекисью водорода. Лурия отнюдь не считал работу в этом направлении одной из моих приоритетных задач, и те немногие эксперименты, которые я провел с такими фагами в Блумингтоне, были сделаны едва ли не тайком от него. Их результаты оказались более чем вдохновляющими и заставляли предположить, что фаги, убитые перекисью, обладают теми жебиологическими свойствами, что фаги, инактивированные облученными рентгеном продуктами лизиса бактериальных клеток. Если так, то разумно было полагать, что убивающими фагов веществами в облученном мной фаголизате были органические перекиси. За соседним столом со мной Гунтер Стент, уже больше года проработавший в лаборатории Дельбрюка, исследовал, как триптофан влияет на прикрепление бактериофага Т4 к клеткам Е. coli. Кроме того, там был также французский ученый Эли Вольман, родители которого, евреи, тоже бывшие учеными, погибли в нацистских лагерях. Вольман всегда чувствовал себя напряженно в компании молодого химика Вольфа Вайделя, немца, который был его соседом по лабораторной комнате. Но Гунтер, хотя он тоже был евреем, вскоре очень подружился с Вольфом, которому, с его тевтонским воспитанием, было тяжело называть Макса Дельбрюка по имени. Получение воспроизводимых кривых выживаемости потребовало больше времени, чем я ожидал, и Сальва Лурия приехал прежде, чем я мог показать ему результаты. Последующий непрекращающийся лабораторный разгул, во время которого я оставался в лаборатории далеко за полночь, чередовался с безумными автомобильными поездками по выходным, устраиваемыми по инициативе неутомимого Карлтона Гайдузека, который двумя годами раньше получил диплом Гарвардской школы медицины, а теперь числился постдоком сразу в двух лабораториях — у Макса Дельбрюка и у химика Джона Кирквуда. Конечной точкой первой моей такой поездки оказалось место, где в пяти часах езды от Энсенады в Нижней Калифорнии исчезла та неровная дорога, по которой мы ехали. Еще через две недели мы пустились в еще более сумасшедшее безостановочное путешествие в Гуайамас на берегу Калифорнийского залива. Там я впервые увидел огромных фрегатов, круживших над гаванью. Обыкновенная переправа на пароме через Рио Яки прервала нашу дальнейшую поездку в направлении Сьюдад-Обрегон, когда температура в но градусов[11]наконец убедила Карлтона, что от такой жары можно умереть. В последующие выходные целями экстремальных путешествий Карлтона стали намного более прохладные горы Сьерра-Невада, где однажды часть нашей группы поднялась на вершину Уитни спустя долгое время после того, как Карлтон отправился дальше и спустился в расположенную к западу долину. Такие выходные всегда поддерживали меня в достаточно бодром настроении даже после того, как я пришел к неизбежному заключению, что Пасадена — городок исключительно для пенсионеров. И в самом деле, средний возраст постоянных жителей городка, где расположен Калтех, выше, чем у любого другого широко известного американского города. Даже на территории кампуса пульс жизни с трудом прощупывался за пределами лабораторий и библиотек. Общественную жизнь можно было детально описать одним словом — отсутствует. Остро это прочувствовав, Гунтер переселился в расположенный на склоне каньона над Калтехом дом, где жили несколько постдоков из Европы. Так он оказался в кругу молодых химиков, связанных с Лайнусом Полингом. В конце того лета Лайнус, почти налетев на меня в Атенеуме, поприветствовал широкой улыбкой. Поначалу я полагал, что Макс и Лайнус часто сотрудничали в прошлом, потому что вскоре после первого приезда Макса в Калтех они с Лайнусом написали в соавторстве небольшую заметку для Science, критиковавшую представление о том, что какие-то предполагаемые силы притяжения подобного к подобному могут играть роль в копировании генетической информации. Но впоследствии Макс стал настороженно относиться к свойственному Полингу самовозвеличиванию, хотя он всегда внимательно выслушивал новости о работе Лайнуса от его постдоков. Из всей собравшейся там толпы исследователей фагов я особенно непринужденно общался с Дёрманнами. Лучшая пора моего лета наступила в конце августа, когда я сыграл с Гасом два сета в теннис на кортах "Атенеума". По вечерам мы часто отправлялись в центр Пасадены в ресторан, где некоторое время назад увидели двух эффектных блондинок примерно моего возраста. Однако они так и не появились снова. Не более плодотворной в плане разглядывания девушек оказалась наша двухчасовая поездка на пляж на Тихоокеанском побережье, расположенный рядом с морской станцией Калтеха в Корона-дель-Мар. Но к тому времени я по крайней мере выполнил свою экспериментальную задачу на лето, показав, что обработанные перекисью фаги обладают теми же биологическими свойствами, что и фаги, убитые облученным рентгеном фаголизатом. Я был готов доложить эти результаты на дневном собрании группы по фагам под председательством Макса. На предыдущей неделе мы выслушали доклад молодого физика Oгe Бора о философском смысле квантовой неопределенности. Он приехал в Пасадену, заменяя своего отца, Нильса, который навсегда очаровал Макса в начале тридцатых. Кроме Макса только Гунтер выпытывал у Oгe подробности философских озарений его отца. Сидя в заднем ряду, я не понимал ни слова ни из философских тезисов Ore, ни из контраргументов Макса и Гунтера. Мой доклад о трех типах убитых рентгеном фагов, напротив, не демонстрировал никаких фундаментальных парадоксов, а для понимания моих выводов не требовалось особых умственных способностей. Я хорошо запомнил свое провальное выступление перед Силардом в апреле и поэтому держался фактов и ничуть не сулил каких-то прорывов в радиационной биологии или тем более в изучении природы гена. На следующий день Макс у себя в кабинете сказал мне, чтобы я не отчаивался по поводу своих не особенно захватывающих результатов. Вместо этого мне стоило радоваться, что я не оказался на месте Ренато, который попал в эмоционально истощающую гонку, занимаясь исследованиями фотореактивации, никак не связанной с намного более важным вопросом о том, как копируется генетическая информация. Мне пора было сконцентрироваться на освоении навыков серьезной научной работы, а не на том, чтобы выигрывать соревнования экспериментов, результат которых все равно будет иметь лишь маргинальное значение уже лет через десять. Джордж Бидл тоже уверил меня, что я иду по правильному пути. К моему удивлению, он неожиданно пришел послушать мой доклад, а вскоре после этого пригласил меня на ужин в свой скромный дом, расположенный неподалеку. Как и Макс, он уже не проводил экспериментов, получая научное удовлетворение от обходов лаборатории Керкхоффа, во время которых он присматривался к работе магистрантов, аспирантов и постдоков. Он был уже заслуженно известен в то время своими проведенными в Стэнфорде исследованиями плесени нейроспоры, посвященными поиску генов, кодирующих ферменты метаболических путей. В свои сорок пять он уже не рассчитывал совершить еще один концептуальный прорыв такого уровня. В начале августа бактериолог из Беркли Роже Станье провел у нас семинар по бактериальному метаболизму. Станье был холостяком, и вскоре у нас появилась Барбара Райт, аспирантка с Морской станции Хопкинса. Ей не удалось привлечь внимание Роже, но она приглянулась Вольфу Вайделю, который пригласил ее отправиться с ним, Гунтером Стентом и одной секретаршей с отделения биологии на выходные в поход на остров Санта-Каталина. После того как предполагаемая спутница Гунтера дезертировала, выбрав воссоединение со своим мужем, в этот поход из жалости позвали меня, в противном случае обреченного провести еще одни выходные в пасаденском запустении. Все шло хорошо до тех пор, пока наша четверка не сошла на берег в Авалоне, единственном городке острова, где мы узнали, что кемпинг запрещен. Мы решили, что это просто уловка, призванная заставить нас заплатить за гостиницу, и пошли в направлении противоположного берега острова, чтобы найти на каком-нибудь укромном пляже место, где развернуть наши спальные мешки. Идя под палящим все сильнее солнцем, мы слишком поздно осознали, что по выбранной нами тропе, спускавшейся, извиваясь, вдоль обрыва вниз к океану, до которого было несколько сотен футов, до нас ходили только козы. Ни Гунтер, ни Вольф поначалу не хотели проявлять трусость в присутствии Барбары, в то время как я неловко заявил, что собираюсь вернуться обратно в одиночку. После нескольких шагов вниз по склону, остальные тоже согласились пойти обратно. Но тут, без предупреждения, рюкзак Гунтера, который он на минуту сбросил с плеч, скатился по крутому склону вниз, к пляжу. Перспектива потратить изрядную сумму на покупку нового рюкзака и его содержимого заставила Гунтера и Вольфа предпринять еще одну попытку спуститься вниз, и минут через двадцать они добрались до океана, но вскоре поняли, что подняться тем же путем обратно невозможно. Мы с Барбарой, пока они искали альтернативный путь, простояли час наверху, откуда мы даже не могли их видеть, и решили, что не остается ничего, кроме как вернуться в город. В поисках красивых девушек в Корона-дель-Мар (Калифорния).
В поисках красивых девушек в Корона-дель-Мар (Калифорния).
Уже в сумерках мы возвращались той же дорогой, подвергая свои голые ноги постоянным атакам колючек опунций, которые вместе с козами были основными обитателями острова. В городе я рассчитывал остановиться в гостинице и принять душ. Но Барбара настояла на том, чтобы сэкономить и дойти лишь до самой окраины, где мы нашли обширное безлюдное поле и бросили на нем свои спальники. На рассвете нас арестовали за кемпинг на поле для гольфа. В полицейском участке, сказав, что мы биологи и занимались поиском пеликанов, я вдохновил шефа полиции на откровенно бессмысленную операцию по спасению Гунтера и Вольфа. Он посадил нас в свой джип и поехал вместе с нами над обрывами. Вернувшись в город без результата, мы вскоре, к своей немалой радости, заметили Гунтера и Вольфа возле пристани. После рассвета они нашли в обрыве узкую расщелину и смогли по ней доползти до уступа, от которого им удалось с грехом пополам вскарабкаться наверх. Их по-прежнему била дрожь — они понимали, что подвергали свою жизнь немалой опасности. Я к тому времени потерял свои очки для чтения. Гунтер же был еще сильнее раздосадован тем, что ни я, ни Барбара не заметили его дорогой фотоаппарат, который он оставил на склоне, отправившись на спасение своего рюкзака. Поэтому фотографий этого неудачного похода у нас тоже не сохранилось. Вскоре после моего возвращения в Блумингтон в начале сентября Лурия попросил меня провести семинар по бактериологии, на котором я рассказал об экспериментах Сеймура Коэна, проведенных им в Пенсильванском университете и показавших, что зараженные фагами бактерии перестают синтезировать специфические бактериальные вещества, начиная вместо этого синтезировать ДНК и белки, специфические для фагов. Оставалось неясным, что дальше делать с этими ценными результатами. Никому из химиков еще не удалось разобраться в химических основах строения ни белков, ни двух нуклеиновых кислот — ДНК и РНК. Даже Лайнус Полинг тогда еще почти ни до чего в этой области не додумался. Я многого ждал от его лекции, организованной обществом "Сигма-кси" в химической аудитории Индианского университета той осенью, но речь на ней шла о сравнении предполагаемого строения генов со строением антител. Мне хотелось устроиться постдоком в какую-нибудь лабораторию, где я смог бы побольше узнать о химии нуклеиновых кислот. Но когда мы обсудили это за ужином в конце октября вместе с Сальвой и Зеллой, ни один вариант не пришел нам на ум. Решение нашлось только перед самым Рождеством, во время второй с конца лета встречи в Чикаго, профинансированной Силардом. К тому времени Джошуа Ледерберг уже вошел в состав ядра нашей группы по фагам, посвятив свое первое появление на нашей встрече четырехчасовому монологу о неоднозначных результатах экспериментов в области генетики бактерий, полученных в его лаборатории в Висконсинском университете. На нашу вторую встречу приехал также биохимик Герман Калькар, который к тому времени вернулся к себе в Данию, проведя военные годы преимущественно в Сент-Луисе. Герман участвовал еще в первом устроенном Максом курсе по фагам. Он объявил нам, что хотел бы использовать часть полученного им драгоценного радиоактивного аденина для исследования репликации фагов. В связи с этим Макс и Сальва немедленно убедили меня перейти в лабораторию Калькара, расположенную в Копенгагене, поблизости от института Нильса Бора, и близкую той интеллектуальной традиции, благодаря которой Макс некогда и заинтересовался биологией. Калькар тут же с радостью согласился меня взять, и я незамедлительно подал заявку на постдоковскую стипендию, которая позволила бы мне поехать в Копенгаген. В то же время я повторно проводил ряд экспериментов, имевших ключевое значение для моей диссертации, чтобы убедить Сальву, что мои выводы были если и не потрясающими, то, по крайней мере, вполне обоснованными. С этой задачей удалось справиться к концу февраля, что позволило мне подготовить первый черновой вариант диссертации до того, как в середине марта я полетел в Нью-Йорк на собеседование в отборочной комиссии по постдоковским стипендиям Национального исследовательского совета. Хотя из-за перенесенной в самолете тряски я чувствовал себя ужасно, собеседование прошло хорошо, и меньше чем через две недели мне была присуждена престижная стипендия Мерка на два года. Я планировал провести следующее лето в Оук-Ридже с Гасом Дёрманном, недавно устроившимся там на работу в большую лабораторию Комиссии по атомной энергии. Но в начале мая Гас сообщил, что ему не удалось получить для меня допуск в их секретную лабораторию: моя связь с известным своими левыми взглядами Лурия делала мой приезд рискованным. Летом 1948 года осведомитель из ФБР, бывший тогда в Колд-Спринг-Харбор, присутствовал на мероприятии по сбору средств в поддержку Уоллеса, устроенном Лурия в Лаборатории Джонса, в котором участвовал, хотя и без особого политического энтузиазма, почти весь научный коллектив, собравшийся в Колд-Спринг-Харбор, в том числе и я. Мне на помощь пришел Макс, который снова позвал меня в Калтех на июнь и июль, после чего я собирался вместе с ним отправиться в Колд-Спринг-Харбор на встречу группы по фагам. К тому времени Сальва уже по сути заново переписал мою диссертацию, благодаря чему предстоявшая мне в мае защита была уже немногим больше, чем простой формальностью. Только в мой последний год в Индиане у меня появилась своя девушка. Это была бойкая темноволосая студентка, тоже учившаяся на отделении зоологии, по имени Мэрион Дрэшер. В начале декабря я повел ее в театр на местную постановку пьесы Пристли "Визит инспектора", а вскоре уже был горячо влюблен, особенно после Рождества 1949 года, которое мы провели в Нью-Йорке вместе с еще несколькими студентами из Блумингтона, приехавшими на большой ежегодный съезд Американской ассоциации содействия развитию науки. Вначале Мэрион отвергала мои ухаживания, говоря, что между нами слишком большая разница в возрасте (она была на несколько лет меня старше). Однако по возвращении в Блумингтон наши роли постепенно поменялись на противоположные, и мне уже чем дальше, тем меньше хотелось строить далеко идущие совместные планы. Ведь я собирался в ближайшие полгода уехать в Копенгаген и не хотел быть ни в каком смысле связан. Но нам обоим было трудно снова стать просто друзьями, и я тяжело перенес наше расставание в июне, остро ощущая непостоянство своих чувств. Значительную часть своего второго пребывания в Калтехе я посвятил подготовке первой из двух статей для Journal of Bacteriology, написанных на основе моей диссертации. В течение нескольких дней я проводил эксперименты с мутантными фагами Т5, обладающими увеличенным жизненным циклом. Но Макс сделал мне выговор, сказав, что я впустую трачу время, не имея конкретной экспериментальной задачи, и вместо того, чтобы без особой цели слоняться по лаборатории, я стал чаще проводить время в библиотеке или на теннисном корте Атенеума. На несколько дней я съездил к Джорджу Бидлу на морскую биостанцию Калтеха, куда он отправился собирать беспозвоночных. Затем мы с Ренато во второй раз взошли на гору Сан-Ясинто, пройдя сквозь облака и достигнув ее безлесной вершины, расположенной на высоте почти двенадцать тысяч футов над городом Палм-Спрингс. Через несколько дней после этого мне вдруг стало не до шуток — началась война в Корее. Но когда я заехал в Чикаго по пути в Колд-Спринг-Харбор, и затем, когда я отбыл на корабле в Копенгаген, призывная комиссия не стала чинить препятствий моему отъезду за границу, поставив условие, что я буду держать их в курсе, по какому адресу меня можно найти. На встрече группы по фагам в Колд-Спринг-Харбор в конце августа Сальва был ничуть не расстроен проблемами, с которыми столкнулась его теория множественной реактивации, потому что перестал считать, что эксперименты в этом направлении имеют ключевое значение для выяснения природы вирусных генов. Он был вновь полон энтузиазма — благодаря новым данным о частоте спонтанных мутаций у отдельных бактерий, которые, как он считал, свидетельствовали о том, что удвоение генов происходит в ходе реакции, напоминающей деление клеток надвое. В отличие от Сальвы Макс по-прежнему хотел найти смысл кривых множественной реактивации. Из данных, недавно полученных Ренато, Макс выводил предположение, что могут существовать две формы ДНК —одна генетическая, а другая негенетическая. Если фаги действительно были устроены именно так, это как будто позволяло объяснить результаты, которые получили недавно в Чикагском университете Ллойд Козлофф и Фрэнк Путнам. Они помечали ДНК радиоактивным изотопом, и оказалось, что лишь половина ДНК из заражающих бактериальные клетки вирусных частиц передается дочерним вирусным частицам. В связи с этим Сеймур Коэн обратил внимание на то, что у этих радиоактивных дочерних частиц метки должны находиться лишь в генетической ДНК, а значит, они должны, в свою очередь, передавать 100% своей помеченной РНК дочерним частицам второго поколения. Я вновь задумался над возможными экспериментами со вторым поколением фагов, как только корабль Stockholm, путешествие на котором вызвало у меня приступ морской болезни, пришвартовался в Копенгагене.
 В Государственном институте сывороток в Копенгагене в 1951 году. Гунтер Стент — крайний слева, Оле Молёэ — третий слева, Нильс Ерне стоит, а я сижу перед Нильсом.
В Государственном институте сывороток в Копенгагене в 1951 году. Гунтер Стент — крайний слева, Оле Молёэ — третий слева, Нильс Ерне стоит, а я сижу перед Нильсом.
Однако вскоре выяснилось, что Калькар хотел, чтобы я вместо этого сосредоточился на ферментах, синтезирующих нуклеозиды, на основе которых синтезируется ДНК. Но, послушав в течение недели, что говорил мне Герман на своем почти недоступном для понимания английском, я понял, что эксперименты с нуклеозидами никогда не позволят разобраться в природе ДНК. Я никак не мог придумать, как бы повежливее сказать Герману, что я с большей пользой проведу время, если вернусь к экспериментам с фагами. В итоге я решил ничего ему не говорить и вскоре стал ездить каждый день через центр Копенгагена в Государственный институт сывороток, где старый друг Германа Оле Молёэ с увлечением работал в рамках курса по фагам, который в частном порядке провел для него в Калтехе Макс Дельбрюк. Задолго до того, как у нас стали получаться результаты со вторым поколением фагов, внезапно распался брак Германа Калькара. Теперь он был увлечен не столько ферментами, сколько Барбарой Райт, участницей нашей злосчастной поездки на остров Санта-Каталина предыдущим летом. Она, как и я, недавно стала постдоком в лаборатории Калькара вместе с Гунтером Стеном, приехавшим из Калтеха месяцем раньше. Калькар убедил себя, будто диссертация Барбары содержала результаты, из которых следовали какие-то потрясающие выводы. Герман спешно организовал дневную встречу в Институте теоретической физики, где мы с Гунтером выслушали, как Барбара объясняла суть своих экспериментов Нильсу Бору. Затем Герман с гордостью взял на себя роль посредника между Барбарой, которую он возомнил биологом-провидцем, и Бором, который бесспорно был настоящим провидцем-физиком. По прошествии часа Бор учтиво попросил прощения и откланялся. К концу зимы мы с Оле закончили свои эксперименты и получили ответ: дочерние фаги первого поколения передают ничуть не больше ДНК своим потомкам второго поколения, чем передали им материнские частицы. Не было получено никаких свидетельств существования двух форм ДНК. Хотя это был не тот ответ, на который мы рассчитывали, Макс счел его достаточно важным, чтобы отправить получившуюся рукопись в Proceedings of the National Academy of Sciences. Вскоре и сам Герман счел необходимым отлучиться из лаборатории и объявил нам, что они с Барбарой проведут апрель и май на Зоологической станции в Неаполе. Поддерживая видимость, что я по-прежнему остаюсь его постдоком, Герман спросил меня, не хочу ли я присоединиться к нему, чтобы больше узнать о морской биологии, на которой выросла Барбара. Я немедленно согласился, потому что у меня не было на горизонте никаких многообещающих экспериментов с фагами. Незадолго до того, как я уехал из Копенгагена, там состоялась небольшая конференция по генетике микроорганизмов, на которую приехал итальянский аристократ Никколо Висконти ди Модроне, остроту ума которого я уже имел возможность оценить в прошлом августе в Колд-Спринг-Харбор. Никколо, недавно вернувшийся в Милан из Калтеха, сказал мне, что я просто обязан заехать в город его предков, чтобы побывать на опере в La Scala. Встретив на вокзале мой поезд из Копенгагена, он заметил, что все вещи у меня в рюкзаке, из чего справедливо заключил, что у меня не было темного костюма. Поэтому он организовал нам билеты на ту же оперу Вебера, но на другое число. В отделении генетики в расположенном неподалеку университетском городке Павия мы с Никколо неожиданно столкнулись с Эрнстом Майром, которого Никколо тоже знал по Колд-Спринг-Харбор. Посетив старинный монастырь Чертоза ди Павия, мы поужинали на большой ферме, принадлежавшей только что вернувшемуся из Китая брату Никколо, такому же высокому и красивому, как и он сам. Я счел бы, что уже это приобщение к культуре вполне оправдывало мою поездку в Италию на два месяца, но состоявшаяся в середине мая небольшая высокоспециализированная конференция по структуре макромолекул, которая проходила в аудитории Зоологической станции в Неаполе, оказалась еще лучшим оправданием. До этой конференции я полагал, что никто в ближайшее время не сможет в деталях разобраться в трехмерной структуре молекул ДНК на атомарном уровне. Поскольку генетическая информация, закодированная в молекулах ДНК, разнообразна, то и все варианты молекул ДНК, как мне казалось, должны обладать разной структурой, установить которую будет непросто. Но мой пессимизм, рожденный моими простоватыми представлениями о химии, как ветром сдуло после доклада, с которым выступил моложавый физик из Лондонского королевского колледжа Морис Уилкинс. Вместо аморфных молекул его рентгенограммы ДНК демонстрировали высокоупорядоченное строение, какое бывает у кристаллов. Уилкинс вскоре сказал мне, что разгадать структуру ДНК, быть может, не так уж и сложно, учитывая, что это полимерное вещество, в состав которого входят всего четыре типа мономеров. Если он был прав, то природу гена должны были открыть не генетические методы группы по фагам, а метод рентгеноструктурного анализа. Несмотря на явный восторг, который вызвали у меня полученные им результаты, Морис, как мне показалось, решил, что сотрудничать со мной едва ли целесообразно. Поэтому, вернувшись в Копенгаген, я написал Сальве, прося его помочь мне найти другую работающую с биологическими молекулами кристаллографическую лабораторию, в которой я смог бы освоить основы структурно-химической методологии. Сальва выполнил эту просьбу после конференции в Анн-Арбор, на которой он встретился с Джоном Кендрю — специалистом по кристаллографии белков из Кембриджского университета. Джону было тогда всего тридцать четыре, и он искал себе сотрудника еще моложе. Сальва похвалил мои способности, и Кендрю согласился взять меня к себе, чтобы я мог научиться методам кристаллографии у него и его коллег по недавно образованному подразделению по изучению структуры биологических систем Медицинского исследовательского совета.
 Прибытие Макса Дельбрюка в Копенгаген в 1951 году. Слева направо: Гунтер Стент, Оле Молёэ, Карстен Бреш и Джим Уотсон.
Прибытие Макса Дельбрюка в Копенгаген в 1951 году. Слева направо: Гунтер Стент, Оле Молёэ, Карстен Бреш и Джим Уотсон.
К тому времени я уже вернулся к своим исследованиям передачи радиоактивных меток от материнских вирусных частиц к дочерним, зная, что в начале сентября в Копенгаген на международную конференцию по полиомиелиту собирается приехать Макс Дельбрюк. Когда корабль, на котором приехал Макс, причалил в копенгагенском порту, Гунтер, Оле и я приветствовали его на пристани, развернув большой плакат со словами: "Velkommen Max Mendelian Mater"[12]. На самой конференции не было ничего особенного, за исключением ужина в гостях у Нильса Бора, жившего в одном из зданий пивоваренной компании Carlsberg. Согласно завещанию создателя компании, этот дом всегда должен был занимать самый выдающийся гражданин Дании. К счастью, мне не пришлось сидеть рядом с Бором, который, вероятно, высказывал за ужином мысли, которые никто из окружающих, что датчан, что иностранцев, не был в состоянии понять. Вскоре я уже прибыл в Англию, где встретился с Максом Перуцем, коллегой Джона Кендрю, чтобы подготовить мой переезд в Кембридж, запланированный на начало октября. Хотя Кендрю все еще был в США, моя встреча с Перуцем и его начальником — профессором физики Кавендишской лаборатории сэром Лоуренсом Брэггом — прошла успешно, и в тот же вечер я сел на ночной поезд до Эдинбурга, чтобы в ближайшие два дня посмотреть на Шотландское высокогорье в окрестностях Обана. Затем я вернулся на поезде в Лондон, погруженный в чтение "Возвращения в Брайдсхед" Ивлина Во. В завершение своей европейской поездки Дельбрюк посетил Андре Львова и Жака Моно в Институте Пастера, в связи с чем из Лондона я прилетел в Париж. Посмотрев воскресным днем, как Макс ловко лазит по большим валунам в лесу Фонтенбло, я проводил его в аэропорт Орли. Хотя Макс и весьма скептически отнесся к моему обращению к структурной химии в духе Полинга, в тот раз он не стал говорить мне об этом. Он пожелал мне удачи, и я почувствовал, как ко мне подкрадывается ощущение, что я покидаю мир, в котором успех и неуспех можно было уверенно предсказать по ответу на вопрос "Что скажет Макс?". Вскоре я окажусь в сферах, в которых он ничего не значит. Усвоенные уроки 1. ПУСТЬ У ВАС БУДЕТ БОЛЬШАЯ ЦЕЛЬ, ПИТАЮЩАЯ ВАШЕ САМОЛЮБИЕ В 1950 году никто из членов нашей группы по фагам не стал бы отрицать нашего чувства собственной важности, чувства, что мы горстка счастливцев. Ученики Джорджа Бидла и Эда Тейтума, изучавшие на нейроспоре связь генов и ферментов, никогда не чувствовали себя, как мы, единой командой. Личность Макса Дельбрюка была важнейшим фактором. Он был почти святым с его благоговением перед истиной и неизменной готовностью бескорыстно делиться. Но эти добродетели свойственны и многим не столь вдохновенным умам, и они никогда не были источником того рвения, которое отличало его паству. Источником этого рвения была великая миссия — поиск молекулярной и генетической природы гена. Одержимость менее фундаментальными задачами для Макса не имела смысла. Фаги, которые по сути представляют собой чистые гены, которые дают нам ответы уже на следующее утро, должны были оказаться наилучшим биологическим орудием для быстрого продвижения к поставленной цели. Легионы студентов и аспирантов-биологов занимались вещами, которые стоило знать, но которым, быть может, не стоило посвящать жизнь. Стремление к такой цели, не знающей себе равных, несомненно значительной, зажгло в нашем сознании чувство такой преданности, какое у других вызывает религия, но без свойственной религии иррациональности. 2. САДИТЕСЬ В ПЕРВОМ РЯДУ, ЕСЛИ ТЕМА СЕМИНАРА ВАМ ИНТЕРЕСНА Самый лучший способ извлечь пользу из интересных вам семинаров состоит в том, чтобы сидеть в первом ряду. Если вам не скучно, то вы не рискуете попасть в неловкое положение, заснув у всех на глазах. Если вам не удается уследить за ходом мысли того, кто ведет семинар, то, сидя на первом ряду, вы всегда можете прервать его и переспросить. С большой вероятностью окажется, что вы не один потеряли нить рассуждений, и едва ли не все будут вам только благодарны. Ваши вопросы могут даже помочь всем понять, действительно ли ведущий семинар имеет сказать что-то важное или он просто сам себя уверил в этом. Ждать окончания семинара, чтобы задать вопросы, значит проявлять патологическую вежливость. Вы с большой вероятностью забудете, где именно вы потеряли нить рассуждений, и будете задавать вопросы, касающиеся чего-то, что вы и так поняли. Если же вы подозреваете, что семинар окажется для вас скучным, но не уверены в этом настолько, чтобы рискнуть пропустить его, садитесь в заднем ряду. Там пустое и скучающее выражение вашего лица не будет бросаться в глаза, а если вы захотите выйти, присутствующие вполне могут подумать, что вы вышли лишь ненадолго, по зову природы. Силард не следовал этому принципу: он обычно садился в первом ряду и внезапно уходил посреди доклада, если ему становилось неинтересно. Те, кто не входил в ближайший круг его друзей, чувствовали облегчение, когда свойственная Силарду неугомонность заставляла его заняться более увлекательными проблемами. 3. НЕВОСПРОИЗВОДИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОГУТ ПРИНЕСТИ УДАЧУ В науке всегда приятно получить ожидаемый ответ, но он не приносит окончательного удовлетворения, если вам не удалось повторить эксперимент несколько раз и прийти к одному и тому же результату. Эл Херши называл моменты такого удовлетворения "раем Херши"[13]. А результаты, которые не хотят воспроизводиться, приводят в бешенство, в настоящий ад. Альберт Келнер и Ренато Дульбекко столкнулись с этим прежде, чем обнаружили, что видимый свет способен компенсировать значительную часть нанесенного ультрафиолетом урона. Дельбрюк, которого впоследствии удивляло, как долго это явление оставалось неоткрытым, объяснял результат излишней аккуратностью. Им был описан принцип, который он называл принципом ограниченной небрежности. Если вы работаете очень небрежно, то вы, конечно, никогда не получите воспроизводимых результатов. Но если вы проявляете лишь ограниченную небрежность, у вас есть хороший шанс привнести в эксперимент какой-нибудь неучтенный фактор и, если повезет, поймать неизвестное ранее явление. Напротив, если вы всегда проводите эксперимент совершенно одинаково, это ограничивает круг исследуемых вами условий теми, для которых вы заранее подозреваете влияние на ваши результаты. До открытия Келнера-Дульбекко никто не имел оснований предполагать, что в каких-либо условиях видимый свет может компенсировать действие облучения ультрафиолетом. Великие идеи часто рождаются случайно. 4. У ВАШИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ АУДИТОРИЯ Прежде чем начать эксперимент, удостоверьтесь, что проверяемое предположение интересует не только вас. Бесцельные вариации на тему сделанного ранее открытия могут вызвать у всех, кроме сотрудников вашей лаборатории, только зевоту. Для студента такая почти что монотонная деятельность — хороший способ освоить лабораторные методы, но к ней нужно относиться как к упражнениям, а не как к настоящей науке, ведь ее результаты можно опубликовать лишь в журналах, которые никогда не читают серьезные ученые. Попытка сказать новое слово может привести и к худшим последствиям, чем зевота, так что будьте готовы к тому, что большинство коллег будут считать вас ненормальным. Но если вы не можете назвать ни одного, ни, тем более, нескольких умных людей, которые готовы оценить то, чем вы занимаетесь, то вполне вероятно, что такое упорство демонстрирует вашу глупость или безумие. 5. ИЗБЕГАЙТЕ ЗАНУДСТВА Встречи даже успешных ученых ничем не отличаются от встреч представителей любой другой профессии. По-настоящему интересные люди составляют лишь малую часть любой профессиональной группы. Не удивляйтесь, когда, придя на ужин к какому-нибудь старшему коллеге, вы испытаете необъяснимое стремление сбежать оттуда, после того как узнаете, кто сидит с вами рядом. Ежедневное чтение за завтраком New York Times даст вам намного больше фактов и идей, чем вечера в обществе людей, большинство из которых, получив постоянную ставку, перестали нуждаться в том, чтобы иногда менять свой образ мыслей. За исключением случаев, когда вы рассчитываете вкусно поесть или увидеть чье-то приятное лицо, старайтесь не принимать никаких приглашений в гости к старшим коллегам. Говорите им, что шестнадцатичасовой эксперимент может помешать вам прийти. Если вы впоследствии выясните, что там будет кто-то, с кем вы хотели бы встретиться, сообщите, что вам неожиданно удалось освободиться, и смело приходите с коробкой конфет к кофе. 6. НАУКА ТРЕБУЕТ ОБЩЕНИЯ Пока вы учитесь в школе, вы можете преуспеть в изучении фактов и идей независимо от общения с другими. Но когда вы попадаете в мир науки, эти сферы сливаются, и не только качество вашего досуга, но и ваш профессиональный успех требуют, чтобы вы разбирались в личных качествах не хуже других, чем в их научной работе. Сплетничать свойственно всем, в том числе и ученым, а не знать новостей — значит работать со связанными руками. Интеллектуальная жизнеспособность группы по фагам поддерживалась не только регулярными совещаниями, но и постоянным посещением лабораторий друг друга, часто для проведения совместных экспериментов. В начале научной карьеры особенно важно не упустить возможность посмотреть, как работают другие лаборатории, и поговорить с другими о том, как можно по-новому интерпретировать те или иные результаты. Для начинающего вполне естественно видеть в своих коллегах соперников. Отчасти это необходимо и оправданно, но поиск научных знаний — не игра с нулевой суммой, он всегда оставляет что-то, что еще предстоит открыть, и чем лучше вы знаете своих коллег, тем больше у вас шансов ухватить свой кусок пирога. 7. БРОСАЙТЕ ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ОНА ВАМ НАСКУЧИТ Когда я решил отказаться от генетического подхода группы по фагам и отправился в Кембридж, чтобы освоить методы рентгеноструктурного анализа и с их помощью попытаться установить трехмерную структуру ДНК, мне еще не наскучило работать с Максом Дельбрюком и Сальвой Лурия. Мои последние эксперименты с фагами, проведенные в Копенгагене, продолжали давать интересные результаты. Однако к тому времени меня все больше привлекало выяснение структуры ДНК, а встреча с Уилкинсом убедила меня, что группа по фагам, при всех ее достоинствах, шла не в том направлении. В науке, как и в других профессиях, да и в личных отношениях, люди слишком часто ждут, пока все станет совсем плохо, а до того стараются ничего не менять, даже если пора пришла. На деле же нет никаких разумных оснований, чтобы продолжать двигаться под гору. Избегайте этого, и вы до самой смерти будете радоваться жизни. (обратно)
Глава 6. Навыки, необходимые для серьезной науки
Я приехал в Кембридж осенью 1951 года и сразу почувствовал величие этого места и тот интеллектуальный стиль, который больше нигде не встретишь. Великий Кембриджский университет, свидетель почти девятисот лет английской истории, был построен на берегах скромной реки Кем, текущей на северо-восток по Восточной Англии к рыночному городу Эли. Стоящий там массивный собор XII века долгое время возвышался над обширной заболоченной равниной, с которой вода стекала в Кем в сорока милях от мелководного залива Уош, на который и сегодня дважды в сутки накатывают приливные волны. Именно продолжавшееся много веков осушение болот и сделало плодородными угодья этих мест, а вместе с ними и создало богатства землевладельцев Восточной Англии. Их щедрые пожертвования, в свою очередь, позволили построить на так называемых "задворках" по берегам реки Кем те многочисленные элегантные дома для студентов, обеденные залы и часовни, которые уже много веков назад прославили Кембридж как рыночный город необыкновенной красоты. На протяжении большей части своей истории Кембриджский университет был децентрализован. Обучение было делом исключительно предоставляющих общежития колледжей. Самым славным из них издавна считался Колледж Троицы, которому в свое время покровительствовал влиятельнейший патрон — Генрих VIII. В удаленной от Большого двора комнате жил в молодые годы Ньютон, величайшие научные достижения которого были сделаны, когда ему шел третий и четвертый десяток, после чего он переехал в Лондон, чтобы стать смотрителем монетного двора. До середины XVIII века основная задача колледжей состояла в том, чтобы давать образование священникам Англиканской церкви. За выполнение этой миссии отвечали сотрудники колледжей (доны), которые сами не имели права вступать в брак на протяжении всей своей жизни в колледже. Только в XIX веке наука стала играть важную роль в кембриджской системе образования. К Чарльзу Дарвину серьезное увлечение естествознанием и геологией пришло во время изучения этих дисциплин в Колледже Христа в начале тридцатых годов. В течение следующей половины того столетия ответственность за преподавание постепенно перекладывалась с колледжей на недавно созданные академические отделения, подконтрольные руководству университета. В 1871 году Уильям Кавендиш, герцог Девонширский, пожертвовал средства на создание Кавендишской лаборатории и назначение первого кавендишского профессора, которым стал Джеймс Кларк Максвелл, чьи уравнения объединили некогда электродинамику и магнетизм. После смерти Максвелла в 1879 году в возрасте сорока девяти лет вторым кавендишским профессором стал двадцатидевятилетний Джон Уильям Стретт (лорд Рейли), известный своими достижениями в области оптики. В 1904 году он получил Нобелевскую премию, лауреатами которой были и четыре его преемника на этой кафедре: Джозеф Джон Томсон (1906), Эрнест Резерфорд (1908), Уильям Лоуренс Брэгг (1915) и Невилл Мотт (1977). К началу XX века Кембридж стал одним из ведущих мировых научных центров, выйдя на тот же уровень, что и лучшие университеты Германии — Гейдельбергский, Гёттингенский, Берлинский и Мюнхенский. В последующие пятьдесят лет Кембридж держался в этой премьер-лиге, но место Германии заняли Соединенные Штаты, где система университетов немало укрепилась за счет притока выдающихся ученых-евреев, вынужденных бежать от Гитлера. Немало пользы приезжие интеллектуалы-евреи принесли и Англии. Если бы молодой химик Макс Перуц не счел бы за благо в 1936 году уехать из Австрии, мне незачем было бы переезжать на берега реки Кем. Хотя победа в великой войне против Гитлера и истощила финансы Англии, английские интеллектуалы по праву гордились тем, что их страна была во многом обязана им своей великой победой. Без физиков, которые обеспечили британских авиаторов радарами во время Битвы за Англию, или без криптографов из Блетчли-парка, успешно разгадавших шифр "Энигма", что позволило прицельно бомбить немецкие подводные лодки, атаковавшие атлантические конвои союзников, все могло бы обернуться совсем иначе. Вдохновленные войной на дерзость мысли, сотрудники тогдашнего крошечного подразделения по изучению структуры биологических систем Медицинского исследовательского совета в начале пятидесятых годов занимались исследованиями, по мнению многих биологов и химиков, опережавшими свое время. Разобраться, пользуясь методами рентгеноструктурного анализа, в трехмерной структуре белков было, судя по всему, на много порядков сложнее, чем выявить структуру маленьких молекул вроде пенициллина. Выявление структуры белков было обескураживающе сложной задачей не только в связи с их размером и многообразием, но и потому, что последовательности аминокислот в полипептидных цепях были тогда еще неизвестны. Однако ожидалось, что вскоре это препятствие удастся преодолеть. Биохимик Фред Сенген, работавший на расстоянии меньше полумили от лаборатории Макса Перуца и Джона Кендрю в МИС, уже немало продвинулся по пути установления аминокислотной последовательности двух полипептидов инсулина. Другие ученые вскоре взялись за аминокислотные последовательности многих других белков. В то время считалось, что полипептидные цепочки в белках образуют смесь упорядочение свернутых спиралевидных и лентовидных секций, перемежающихся блоками из аминокислот, расположенных неупорядоченно. За год до этого природа предполагаемых спиралевидных секций была по-прежнему окончательно не выяснена, и участники кембриджского трио. Перуц, Кендрю и Брэгг, надеялись разобраться в ней с помощью напоминающих детский конструктор трехмерных моделей спирально свернутых полипептидных цепочек. К сожалению, один местный химик ввел их в заблуждение относительно конфигурации пептидной связи, и в 1950 году они опубликовали работу, выводы которой вскоре оказались ошибочными. Уже через несколько месяцев кембриджцев поставил на место Лайнус Полинг, работавший в Калтехе и имевший в то время славу лучшего химика планеты. Исследуя структуру дипептидов, Полинг пришел к выводу, что пептидная связь имеет строго плоскую конфигурацию, и в апреле 1951-го торжественно явил свету стереохимически весьма удачную модель ос-спирали. Эта новость как гром поразила кембриджцев, но Макс Перуц вскоре ответил на нее остроумным кристаллографическим исследованием, показавшим, что химически синтезированный полипептид, полибензилглутамат, принимает конформацию а-спирали. Группа из Кавендишской лаборатории могла снова почувствовать себя одним из лидеров в области белковой кристаллографии. К тому времени в подразделении по изучению структуры биологических систем появился свой теоретик — физик Фрэнсис Крик, которому было тридцать пять, то есть он был на два года моложе, чем Макс Перуц, и на год старше, чем Джон Кендрю. Фрэнсис происходил из буржуазной семьи вольнодумцев из центральных графств. Обувные фабрики его отца в Нортгемптоне некоторое время процветали, но в тридцатые годы, во время Великой Депрессии, разорились, и только благодаря стипендии Нортгемптонской классической школы Фрэнсис смог поступить в Среднюю школу Милл-Хилла в Северном Лондоне, куда к тому времени переехали его отец и дядя. В средней школе он охотно изучал естественные науки, но ему не удалось получить достаточное количество высоких оценок для поступления в Оксфорд или Кембридж. Вместо этого он выучился на физика в Университетском колледже Лондона, где впоследствии остался васпирантуре благодаря финансовой поддержке своего дяди Артура, который после Милл-Хилла решил, вместо того чтобы присоединиться к семейному делу по производству обуви, открыть фармацевтическое предприятие по производству нейтрализаторов кислотности. В отличие от Макса и Джона, которые оба пришли в науку как химики и имели теперь степень доктора философии, Фрэнсис степени доктора к тому времени так и не добился. Он проработал над диссертацией два года и получил премию за изобретенное им экспериментальное устройство для исследования вязкости воды при высоком давлении и высокой температуре, когда в связи с войной перешел в Адмиралтейство. После того как он попал в группу, задача которой состояла в изобретении средств для противодействия немецким магнитным минам, его начальник, выучившийся в Кавендишской лаборатории физик-ядерщик Гарри Мэсси, в 1943 году поставил перед ним задачу найти способ бороться с последним новшеством военно-морских сил Германии. На судоверфях Германии под большим секретом началось строительство минных тральщиков нового класса, на носу которых были установлены огромные пятисоттонные электромагниты, которые должны были вызывать срабатывание магнитных мин, находящихся на безопасном расстоянии перед тральщиком. Крику пришла в голову остроумная идея создать специальную слабочувствительную мину, которая будет взрываться только тогда, когда тральщик проходит непосредственно над ней. К концу войны такие мины отправили на дно больше сотни немецких минных тральщиков. После того как Гарри Мэсси возглавил британскую урановую программу в Беркли, начальником Фрэнсиса стал кембриджский математик Эдвард Коллингвуд. Фрэнсис был для него и другом, и незаменимым сотрудником. На выходные Коллингвуд приглашал его в свой большой загородный дом, Лилбёрн-Тауэр, в Нортумберленде, а в начале 1945 года взял с собой в Россию, где они помогли разобраться в устройстве недавно перехваченной немецкой акустической торпеды. Но после войны новые начальники Фрэнсиса оказались не столь терпимы к его громкому пронзительному смеху и неприятию общепринятых представлений, которые нередко и были поводом для его насмешек. Хотя формально Фрэнсис перешел на гражданскую службу еще в середине 1946 года, вскоре он потерял интерес к военной разведке и искал для себя более увлекательные жизненные вызовы. Он решил, что именно биология сможет предоставить достаточно широкий спектр проблем, чтобы занять его пытливый ум. Узнав о радикальном изменении выбранного Фрэнсисом курса, Гарри Мэсси посоветовал ему встретиться с физиком Морисом Уилкинсом, который работал в Лондонском королевском колледже, где недавно появилась новая биофизическая лаборатория. После войны, все еще работая в Беркли, Мэсси вызвал поворот в судьбе Уилкинса, дав ему почитать книгу Эрвина Шрёдингера "Что такое жизнь?". Основная мысль этой книги, что тайна жизни заключена в генах, покорила Мориса так же, как она покорила меня, и вскоре он переквалифицировался в биофизика. Вначале он устроился работать у Джона Рэндалла в Сент-Эндрюсском университете, а затем вместе с ним перебрался в Лондон. Фрэнсис и Морис немедленно подружились, и Морис стал просить Рэндалла взять Фрэнсиса на работу. Но Рэндалл не согласился, справедливо полагая, что таким человеком, как Фрэнсис, он никогда не сможет руководить. На помощь Фрэнсису пришел Медицинский исследовательский совет, где приняли во внимание его заслуги времен войны и оплатили ему обучение работе с клетками в Лаборатории Стрейнджуэйса на окраине Кембриджа. Два года работы в направлении, заданном ему в Лаборатории Стрейнджуэйса, где он наблюдал за перемещением крошечных магнитов в цитоплазме клеток, не принесли Фрэнсису новых лавров. Это была малопродуктивная работа, которая лишь дала ему время для поиска более достойных задач. Такие задачи ему наконец удалось найти, когда он, сохранив свою стипендию от Медицинского исследовательского совета, перешел работать на другой конец Кембриджа в подразделение Макса Перуца, занимавшееся белковой кристаллографией. Хотя денег он на новой работе получал не больше, она дала ему возможность работать над диссертацией на соискание степени доктора философии, которая к тому времени стала необходимым условием получения значимой научной должности. К тому времени, как я приехал в Кембридж, стало уже ясно, что Фрэнсис особенно силен в теории кристаллографии, хотя его первые опыты в этой области и не всеми были оценены. В июле 1950 года на первом семинаре нашей группы, темой которого была "Теория белковой кристаллографии", он пришел к заключению, что методы, применяемые в то время Перуцем и Кендрю, никогда не позволят установить трехмерную структуру белков. Это было, надо признать, недипломатичное заявление, и из-за него сэр Лоуренс Брэгг сказал Фрэнсису, что нечего раскачивать лодку. Но по-настоящему их отношения испортились после того, как годом позже Брэгг представил нам новый плод своих раздумий, а Фрэнсис сказал ему, что все это очень похоже на то, о чем он сам рассказывал на совещании шесть месяцев тому назад. Взбешенный этим обвинением в присвоении чужих идей, сэр Лоуренс вызвал Фрэнсиса к себе в кабинет и сказал ему, что после завершения диссертации он может не рассчитывать остаться в Кавендишской лаборатории. К счастью для меня и к еще большему счастью для Фрэнсиса, у него было мало шансов получить докторскую степень в Кембридже раньше, чем через полтора-два года. Я к тому времени обедал с Фрэнсисом почти каждый день в расположенном неподалеку пабе Eagle, который во время войны пользовался успехом у американских летчиков с близлежащего аэродрома. Вскоре кроме собственных письменных столов, которые были у нас в лаборатории помимо столов для экспериментов, нам выделили довольно большой собственный кабинет по соседству с парой кабинетов меньшего размера, принадлежавших Максу и Джону. Благодаря этому безудержный смех Фрэнсиса теперь меньше отвлекал других сотрудников подразделения от работы. На нашем первом совещании Фрэнсис рассказал о своем дорогом друге Морисе Уилкинсе, который, как и сам Фрэнсис, во время войны вступил в брак, впоследствии мирно распавшийся. Фрэнсису хотелось знать, удалось ли Морису получить посредством кристаллографии какие-нибудь новые, быть может более резкие, рентгенограммы ДНК, поэтому он пригласил Мориса на воскресный ужин в Green Door — крошечную квартирку над табачной лавкой на Томпсон-лейн через дорогу от колледжа Св. Иоанна. Раньше в этой квартирке жил Макс Перуц со своей женой Жизелой, а теперь ее занимал Фрэнсис со своей второй женой Одилией, на которой он женился два года назад, в августе 1949 года. За этим ужином мы узнали о неожиданном затруднении, с которым столкнулся Морис в своих исследованиях структуры ДНК. Пока он находился зимой в продолжительной поездке в Соединенные Штаты, его начальник, Джон Рэндалл, взял в Королевский колледж на работу по ДНК физхимика Розалинду Франклин, получившую образование в Кембридже. В последние четыре года она работала в Париже, где использовала рентген для исследования свойств углерода. Розалинда из объяснений Рэндалла поняла свои обязанности так, что рентгенографический анализ ДНК теперь будет исключительно ее прерогативой. Это по сути не позволяло Морису продолжать свои рентгенографические исследования кристаллической структуры ДНК. Хотя формально Морис не получил образование кристаллографа, он к тому времени освоил многие методы кристаллографии и мог немало сделать для успеха этой работы. Но Розалинде не хотелось работать с ним вдвоем: все, что она от него хотела, была помощь его аспиранта Раймонда Гослинга. Однако Морис, которого огорошили всем этим два месяца назад, по-прежнему только и думал, что о ДНК. Он полагал, что полученная им ранее рентгенограмма дифракционных полос отражала не одну полинуклеотидную цепочку, а спиральный комплекс из двух или трех переплетенных друг с другом цепочек. Как именно они были связаны друг с другом, еще предстояло выяснить. Но, как это ни печально, мяч был теперь уже не у него, и Морис предложил нам с Фрэнсисом, если мы хотим узнать больше, приехать через месяц, 21 ноября, в Королевский колледж на доклад Розалинды. Еще до нашей поездки в Лондон у Фрэнсиса появилась причина радоваться, что у него есть место в Кавендишской лаборатории. Вместе с талантливым кристаллографом Биллом Кокраном он разработал удобные для использования уравнения, описывающие дифракцию рентгеновских лучей, проходящих через спиральные молекулы. На самом деле Крик и Кокран независимо друг от друга разработали эти уравнения в двадцать четыре часа после того, как Брэгг показал им рукопись Владимира Ванда из Глазго, в которой они сразу усмотрели незавершенность приведенных уравнений. Это было очень важное достижение: Фрэнсис и Билл подарили миру уравнения, позволяющие предсказывать рентгенограммы дифракционных полос определенных спиральных молекул. Следующей весной я с их помощью показал, что белковые субъединицы вируса табачной мозаики имеют спиральное расположение. Теперь вдруг оказалось, что для выяснения трехмерной структуры ДНК лучше всего строить молекулярные модели, используя уравнения Кокрана и Крика. Еще за год до этого применять такой подход не имело смысла, потому что природа ковалентных связей, которые соединяют друг с другом нуклеотиды в каждой цепочке ДНК, была неизвестна. Но благодаря результатам, полученным исследовательской группой Алекса Тодда тоже в Кембридже, в расположенной неподалеку химической лаборатории, теперь было ясно, что нуклеотиды в ДНК соединены 3'-5'-фосфодиэфирными связями. Построение моделей давало нам подход, альтернативный тому, который использовали в Лондонском королевском колледже, где особое внимание уделяли деталям рентгенограмм. Фрэнсис не смог поехать в Лондон в день доклада Франклин, и я, хотя по-прежнему путался в кристаллографических терминах, таких как "асимметричная единица" и "единичная ячейка", поехал один. В результате на следующее утро я ввел Фрэнсиса в заблуждение, доложив ему, что, согласно результатам Розалинды, ДНК связывает очень мало воды. Моя ошибка всплыла только через неделю, когда Розалинда и Морис приехали из Лондона, чтобы посмотреть на трехцепочечную модель, которую мы в спешке соорудили. В этой модели углеводно-фосфатный скелет цепочек ДНК располагался в центре, а азотистые основания смотрели наружу. Увидев эту модель, Розалинда немедленно объявила ее замысел ошибочным, сказав нам, что фосфатные группы расположены в молекулах ДНК снаружи, а не внутри. Кроме того, согласно нашей модели, ДНК была почти безводной, в то время как в действительности она сильно гидратирована. При этом у нас осталось отчетливое впечатление, что группа из Королевского колледжа изучение структуры ДНК считала исключительно их делом, к которому незачем было привлекать коллег из другого подразделения МИС в Кембридже. Вскоре мы узнали, что сэр Лоуренс Брэгг был того же мнения: он велел нам воздержаться от дальнейшей работы над моделями ДНК. Стремление сохранить хорошие отношения с другой группой, финансируемой МИС, было для Брэгга лишь одной причиной удерживать нас от этой работы. Другая причина была в том, что он хотел, чтобы Фрэнсис сосредоточился исключительно на своей диссертации и поскорее ее закончил. Однако эта неудача не постигла бы нас, если бы Фрэнсис и я с самого начала рассуждали как химики. Даже без рентгенограмм Королевского колледжа в химической литературе было достаточно данных, которые могли послужить ключом к разгадке структуры ДНК, приводя к заключению, что это должна быть двойная спираль. Нам с самого начала нужно было ограничиться моделями, в которых расположенные снаружи углеводно-фосфатные скелеты цепочек были бы соединены друг с другом водородными связями между расположенными в центре основаниями. Убедительные физико-химические свидетельства этого были получены вскоре после войны в экспериментах Джона Галланда. В 1946 году в его лаборатории в Ноттингеме было показано, что в нативных молекулах ДНК основания расположены так, что между ними не происходит обмен атомами водорода. Эти данные заставляли предположить, что водородных связей между азотистыми основаниями в молекуле ДНК довольно много. Все это можно было без труда узнать, так как эти результаты были опубликованы издательством Кембриджского университета в посвященном нуклеиновым кислотам сборнике материалов симпозиума, проведенного Обществом экспериментальной биологии в 1947 году. К тому же, учитывая высказанное еще до войны Лайнусом Полингом и Максом Дельбрюком предположение, что в копировании молекул вещества наследственности участвуют комплементарные структуры, у нас с Фрэнсисом были основания сосредоточиться на двухцепочечных, а не на трехцепочечных моделях. Рассуждая в этом ключе, мы бы поняли, что каждое азотистое основание в молекуле ДНК должно быть связано водородными связями исключительно с основанием, комплементарным ему по строению. При этом экспериментальные данные, указывающие на этот вывод, тоже были опубликованы. Эти данные были получены в основном в нью-йоркской лаборатории австрийского химика Эрвина Чаргаффа. Он показал, хотя и не осознал всего значения этого вывода, что пуринового основания аденина в ДНК примерно столько же, сколько пиримидинового основания тимина, а второго пуринового основания, гуанина, в свою очередь, примерно столько же, сколько второго пиримидинового основания, цитозина. Конкретное строение каждой из этих пар оснований должно было определяться тем, где именно в каждом основании располагаются атомы, способные образовывать водородные связи. В 1951 году лишь немногие химики достаточно хорошо знали квантовую механику, чтобы прийти к этому умозаключению. Поэтому той осенью нам стоило обратиться за советом к кому-то из тех нескольких британских химиков, которые были обучены этой эзотерической дисциплине. Оглядываясь назад, становится ясно, что сотрудникам лаборатории Алекса Тодда после того, как они определили положение ковалентных связей в молекуле ДНК, следовало бы перейти к определению трехмерной структуры этой молекулы. Но в те дни даже лучшие из химиков-органиков считали, что такие вопросы лучше оставить кристаллографам — специалистам по рентгеноструктурному анализу, большинство из которых, в свою очередь, думали, что им еще не время браться за биологические макромолекулы. Эта область поэтому оставалась в некотором смысле никем не занятой. Лайнус Полинг, даже после того как открыл а-спираль, лишь умеренно интересовался ДНК, так всерьез и не поверив, что ДНК имеет генетическое значение. Но даже несмотря на это, узнав о полученной Морисом Уилкинсом рентгенограмме, он попросил ее показать. Его неверно проинформировали, что сам Морис не пытается всерьез определить структуру ДНК. Но Морис именно это и пытался сделать, и он незамедлительно ответил, что нужно еще некоторое время поработать с этой рентгенограммой, прежде чем показывать ее другим. Полинга это не успокоило, и он написал напрямую начальнику Мориса, Джону Рэндаллу, но и этот заход не привел к успеху. Лайнус сбился со следа, который ему удалось снова взять лишь годом позже, на летнем совещании по фагам недалеко от Парижа, где он впервые узнал о работе, недавно завершенной в Колд-Спринг-Харбор Альфредом Херши и Мартой Чейз, которые показали, что гены бактериофагов тоже состоят из ДНК. Эта новость убедила Лайнуса, что он должен взяться за структуру ДНК, несмотря на то что у него не было высококачественных рентгенограмм. Обратная дорога в США едва не дала ему карты в руки. На том же трансатлантическом корабле, что и Полинг, ехал Эрвин Чаргафф, который, как и Полинг, приезжал в Европу на проходивший тем летом в Париже Международный биохимический конгресс. Но Полингу его попутчик сразу не понравился, и вместо того, чтобы узнать от него, что А = Т, а Г = Ц, Лайнус его избегал на протяжении всего пути через Атлантику. Группа Альфреда Херши в Колд-Спринг-Харбор в 1952 году: Никколо Висконти, Марта Чейз, Эл Херши, Констанс Чедвик, Невилл Саймондс, Джун Диксон и Алан Гэрен.
Группа Альфреда Херши в Колд-Спринг-Харбор в 1952 году: Никколо Висконти, Марта Чейз, Эл Херши, Констанс Чедвик, Невилл Саймондс, Джун Диксон и Алан Гэрен.
Большую часть осени 1952 года Полинг соревновался с Фрэнсисом Криком, определяя биспиральную структуру а-кератина, и всерьез взялся за ДНК только в конце ноября. Вскоре его очень привлекла модель, в которой три углеводно-фосфатных скелета были завиты друг вокруг друга. Он застрял на трех цепочках в связи с данными, говорившими о высокой плотности ДНК. Двухцепочечные варианты он никогда всерьез не рассматривал. Для скрепления трех цепочек друг с другом ему нужно было, чтобы молекулы ДНК были беззарядными и между противолежащими фосфатными группами возникали водородные связи. Полинг поспешил поверить, что ему удалось выяснить общую структуру ДНК, и за неделю до Рождества написал об этом Алексу Тодду, добавив, что его не смущает тот факт, что предложенная им структура никак не помогает ответить на вопрос, как ДНК функционирует в клетках. Это был для него уже следующий вопрос. Полинг так и не принял во внимание открытое Чаргаффом соотношение оснований, уже больше года как опубликованное в нескольких журналах. Существенными параметрами для Лайнуса в декабре 1952 года были углы и длины связей, а не биологическая роль ДНК и не то, что происходит с ДНК в растворах. Сразу было ясно, что атомы в его модели подходили друг к другу не так идеально, как в а-спирали. Даже лучшая из предложенных им структур была сомнительна в стереохимическом плане, учитывая, что у нее в центре в подозрительной близости друг от друга находились три атома кислорода из фосфатных групп. Опасаясь, что кто-нибудь в Англии может обскакать его, предложив похожую модель, Лайнус поспешно послал рукопись в Proceedings of the National Academy of Sciences. Затем он, торжествуя, послал два экземпляра рукописи в Кембридж: один Брэггу, а другой — своему сыну Питеру. Нас охватило беспокойство, но вскоре мы поняли, что в модели Лайнуса атомы водорода из разных фосфатных групп служат для образования водородных связей, скрепляющих между собой три цепочки. Нам тут же стало ясно, что эта модель должна быть ошибочной, поскольку ДНК, будучи кислотой, в растворах обычно диссоциирует, и все водороды фосфатных групп отделяются в виде ионов. Мы с Фрэнсисом бросились расспрашивать крупных кембриджских химиков, согласны ли они с тем, что версия Полинга совершенно неправдоподобна. Алекс Тодд немедленно заверил нас, что Лайнус действительно допустил огромный химический ляп, и я почти тотчас же поехал в Лондон, чтобы показать рукопись Полинга Морису Уилкинсу и Розалинде Франклин, которая в то время готовилась перейти в группу Джона Десмонда Бернала в Биркбек-колледже, где она уже не собиралась заниматься ДНК. Морис с огромным облегчением узнал, что Лайнус пока еще пребывает в глубоком заблуждении. Розалинда, когда я показал ей рукопись, была, напротив, только раздосадована и с раздражением сказала мне, что о спиралях ей и читать незачем. По ее мнению, структура кристаллической А-формы ДНК никак не могла быть спиральной. Шестью месяцами раньше, в июле, она даже разослала приглашения на "панихиду" по спиральной модели ДНК. Морис считал, что здесь Розалинда не права, и, чтобы доказать это, импульсивно продемонстрировал мне рентгенограмму, которую группа Королевского колледжа держала в секрете с тех пор, как Раймонд Гослинг получил ее больше девяти месяцев назад. Эта рентгенограмма была сделана с более гидратированной В-формы ДНК. Она ясно показывала дифракционную картину в форме большого креста, какая и должна быть у спиральной молекулы. У меня просто отвалилась челюсть, и я помчался обратно в Кембридж, чтобы рассказать всем о том, что мне удалось узнать. По моему мнению, нельзя было ждать ни минуты, надо было немедленно приступать к построению моделей. Кто-нибудь неизбежно сказал бы Лайнусу, что на его трехцепочечной ДНК можно сразу поставить крест. Сэр Лоуренс Брэгг немедленно согласился, и, заручившись наконец его поддержкой, мы с Фрэнсисом вскоре вернулись к своим играм с вырезанными деталями разной формы. К тому времени я осознал, что показатели плотности ДНК не исключали, как я поначалу думал, возможности, что в молекуле ДНК две цепочки, а не три. Поэтому мне представлялось уместным начать с поиска способа, которым две цепочки ДНК могут быть завиты вокруг друг друга. Розалинда тоже могла бы сосредоточиться на двухцепочечных моделях ДНК. За год с лишним до этого она тщательно промерила дифракционные картины кристаллической А-формы ДНК в поисках проявлений молекулярной симметрии. Обнаружив, что полученные ею данные совместимы с тремя возможными химическими пространственными группами, она отправилась за советом в Оксфорд к Дороти Ходжкин, которая была тогда первым во всей Англии кристаллографом и получила заслуженное признание за решение проблемы структуры молекулы пенициллина. Однако когда Дороти узнала, что Розалинда рассматривает пространственные группы с зеркальной симметрией, она сразу почуяла неискушенного кристаллографа. Опытный кристаллограф никогда не предположил бы, что зеркальная симметрия свойственна молекуле, основу которой составляет исключительно 2-дезокси-В-рибоза. Дороти считала, что Розалинде вместо этого следовало бы разобраться в том, о чем говорит третья моноклинная пространственная группа (прямоугольная призма с тремя неравными осями). Расстроенная тем, как нелестно Дороти отозвалась о ее навыках кристаллографа, Розалинда уехала из Оксфорда и больше туда не возвращалась. Но если бы она обратилась за помощью к Фрэнсису, а не к Дороти Ходжкин, то сразу бы узнала, что моноклинная пространственная группа С2 заставляет предположить, что ДНК представляет собой двойную спираль с противоположно направленными цепочками. Фрэнсис узнал о моноклинной пространственной группе ДНК только из открытого отчета о ходе работы, присланного Максу Перуцу из Королевского колледжа в середине февраля. А я в очередном приступе моделирования обнаружил, что для углеводно-фосфатного скелета диаметром 20 А5 оптимальная протяженность витков составляет 34 А5, а именно такой и была протяженность повторяющихся элементов, измеренная для В-формы ДНК. Теперь, когда у нас были данные об обнаруженной Розалиндой пространственной группе, Фрэнсис настаивал на том, что две цепочки должны быть противоположно направлены. Но поначалу я не готов был принять это утверждение, не понимая кристаллографических соображений о симметрии, лежавших в его основе. Я не хотел и думать о направлении цепочек, не узнав, как связываются друг с другом расположенные в центре азотистые основания. Я еще не знал этого, но мою работу с моделями затрудняло то, что структура гуанина и тимина была описана в учебниках неверно. Используя эти неправильные конфигурации, я ненадолго обрадовался, получив схему попарного соединения, напоминающую ту, что наблюдается в кристаллах аденина. Однако эта схема давала бы витки 17 А5 вокруг оси спирали, а не 34 А5, как следовало из измерений Розалинды. К счастью, Джерри Донохью, специалист по структурной химии из Калтеха, находившийся тогда в годичном отпуске в Кембридже, наставил меня на путь истинный, объяснив, что водороды гуанина и тимина должны находиться в кетонной форме, а не в енольной, предписанной учебниками. Мне понадобился всего день, чтобы задействовать выводы Джерри и поменять положение атомов водорода на моих вырезанных из бумаги моделях тимина и гуанина. Почти сразу же у меня получилось составить пары оснований А-Т и Г-Ц, которые, как мы теперь знаем, и имеются в ДНК. Через полчаса после этого в то субботнее утро в наш кабинет пришел Фрэнсис, которому потребовалось всего несколько минут, чтобы заключить, что симметрия пар азотистых оснований требует, чтобы цепочки были противоположно направлены. Моноклинная пространственная группа Розалинды была настоящим теоретическим предсказанием модели, которую Фрэнсис и я вывели, основываясь только на стереохимии. Двойная спираль определенно была правильной моделью. Нам оставалось только сконструировать сегмент углеродно-фосфатного скелета и измерить координаты атомов, чтобы показать, что все длины и углы связей в нашей модели согласуются с установленными ранее для молекул меньшего размера. Выполнение этой задачи, которая заставила Фрэнсиса впервые за несколько месяцев оторваться от письменного стола, потребовало меньше трех дней. Двойная спираль была готова покорить мир. Новость о том, что мы, похоже, разгадали структуру ДНК, не могла не заставить Уилкинса схватиться за сердце. Через день после того, как мы проверили соответствующие всем атомам координаты, от него пришло письмо, в котором он сообщал Фрэнсису, что Розалинда покинула Королевский колледж и что теперь он собирается вернуться к работе с ДНК. Вероятно, чтобы смягчить удар, Джон Кендрю, а не Фрэнсис позвонил Морису, чтобы сообщить ему, что мы с Фрэнсисом предложили многообещающую новую версию структуры ДНК. Приехав на следующий день, Морис сразу оценил изящную простоту двойной спирали и согласился, что она, по-видимому, слишком хороша, чтобы быть неправдой. Мы с Фрэнсисом знали, что не выяснили бы структуру ДНК, если бы нам не были известны результаты, полученные в Королевском колледже, и поэтому предложили Морису войти в число соавторов рукописи, которую мы планировали послать в Nature. Он без колебаний отказался, возможно, потому, что не знал, как быть со столь же важным вкладом Розалинды Франклин и Раймонда Гослинга. В номере Nature за 25 апреля 1953 года было опубликовано состоящее из девятисот слов описание нашей модели, а также две новые заметки от двух противоборствующих групп исследователей ДНК из Королевского колледжа. Морис впоследствии писал, что, отказавшись стать нашим третьим соавтором, он совершил самую большую ошибку в своей жизни.
 Фрэнсис и я с утренним кофе в руках позируем фотографу в своем кабинете вскоре после публикации нашей заметки в Nature.
Фрэнсис и я с утренним кофе в руках позируем фотографу в своем кабинете вскоре после публикации нашей заметки в Nature.
Открытие двойной спирали было во всех смыслах достижением из области химии. Алекс Тодд полушутя сказал мне, что мы с Фрэнсисом — хорошие химики-органики, не желая признавать, что серьезную химическую проблему решили люди другой специальности. Но в действительности Фрэнсис и я не стали бы первооткрывателями этой структуры, если бы не промахи в работе химиков, коллег Тодда. В руках Лайнуса были все ключи, нужные для этого открытия, но он непостижимым образом не воспользовался ими той осенью 1952 года. Розалинда Франклин увидела бы двойную спираль первой, если бы надумала принять участие в соревновании по моделированию и если бы лучше умела взаимодействовать с другими учеными. Не отвергни она предложение Мориса о сотрудничестве, работая вдвоем, они неизбежно осознали бы значение моноклинной пространственной группы. Тогда нелестный отзыв Дороти Ходжкин из Оксфорда о способностях Розалинды как кристаллографа не стал бы тем смертельным ударом, каким он кажется теперь при взгляде в прошлое. Мы с Фрэнсисом, напротив, были не одни. На этаже над нами работал очень способный Билл Кокран, который перенёс функции Бесселя из теории спиральной дифракции в рабочий лексикон Фрэнсиса, откуда они попали и в мой инструментарий.
 Датированные t апреля 1953 года отрывки из дневника, в которых Джерард Роланд Помрат из Фонда Рокфеллера описывает свой визит в Кавендишскую лабораторию.
Датированные t апреля 1953 года отрывки из дневника, в которых Джерард Роланд Помрат из Фонда Рокфеллера описывает свой визит в Кавендишскую лабораторию.
Что еще важнее, спартанский письменный стол Джерри Донохью находился не дальше двенадцати футов от моего стола и от стола Фрэнсиса в то время, когда его глубокие познания в квантовой химии заставили меня прекратить свои первоначальные попытки сконструировать двойную спираль, в которой подобное притягивалось к подобному при образовании пар оснований (например, А-А, Т-Т). Кавендишская лаборатория привлекала тогда людей мыслящих и готовых спорить. У Лайнуса Полинга в Калтехе была, напротив, химическая теплица, населенная смертными, над которыми витал бог, не видящий нужды выслушивать чужие мнения. Если бы Лайнус провел той осенью всего несколько дней в библиотеках Калтеха и внимательно ознакомился с литературой по ДНК, то весьма вероятно, что ему пришла бы в голову идея пар азотистых оснований, и сегодня он был бы знаменит открытием не только а-спирали, но и двойной спирали. Почти у всех, кто заходил в наш ставший теперь еще теснее кабинет в Кавендишской лаборатории посмотреть на большую трехмерную модель, сделанную в начале апреля, вызывало восторг то, что эта модель собой подразумевала. Все сомнения в том, что именно ДНК, а не белок является носителем генетической информации, внезапно исчезли. Комплементарность последовательностей азотистых оснований на противолежащих цепочках двойной спирали, судя по всему, вполне соответствовала теоретическому предположению Полинга-Дельбрюка о копировании генов посредством создания комплементарных посредников. Двойные спирали ДНК, существующие в природе, должны состоять из кодирующей цепочки, соединенной водородными связями с комплементарной ей производной цепочкой, синтезированной на ее матрице. На два из трех больших вопросов молекулярной генетики — каково строение ДНК и как она копируется — внезапно нашелся ответ благодаря открытию соединенных водородными связями пар азотистых оснований. При этом еще предстояло установить, каким образом информация, передаваемая последовательностью четырех азотистых оснований ДНК (аденина, гуанина, тимина и цитозина), определяет порядок аминокислот в полипептидах, производимых отдельными генами. Было известно, что аминокислот двадцать, а азотистых оснований всего четыре, следовательно, группы из нескольких оснований должны были определять, то есть кодировать, одну аминокислоту. Я поначалу считал, что лучшим подходом к изучению языка ДНК должны оказаться не дальнейшие исследования ее структуры, а исследования трехмерной структуры химически близкородственной ей рибонуклеиновой кислоты (РНК). Мое решение оставить ДНК и обратиться к РНК было связано со сделанным уже за несколько лет до этого наблюдением, что полипептидные (белковые) цепочки не собираются непосредственно на содержащих ДНК хромосомах. Вместо этого они синтезируются в цитоплазме на небольших РНК-содержащих частицах, называемых рибосомами. Еще до того, как мы открыли двойную спираль, я предполагал, что наследственная информация, записанная на ДНК, должна передаваться цепочкам РНК с комплементарной последовательностью, которые, в свою очередь, играют роль непосредственных матриц для синтеза полипептидов. В то время я наивно полагал, что аминокислоты связываются со специфическими углублениями, линейно расположенными на поверхности РНК, входящей в состав рибосом. Следующие три года рентгеноструктурных исследований (первые два в Калтехе, а третий — снова в том же подразделении в английском Кембридже, где ко мне присоединился выучившийся у Полинга и в гарвардской Медицинской школе Алекс Рич), к нашему разочарованию, так и не позволили построить правдоподобную трехмерную модель РНК. Хотя РНК, полученная из разных источников, давала одну и ту же общую дифракционную картину, рассеянный характер этой картины никак не позволял уверенно судить о том, включает дающая его структура одну или две цепочки.
 Бесстрашный Альфред Тиссьер над рекой Гильгит на севере Пакистана.
Бесстрашный Альфред Тиссьер над рекой Гильгит на севере Пакистана.
К началу 1956 года я решил, что, когда осенью того года начну преподавать в Гарварде, мне стоит переключиться с рентгеноскопических исследований РНК на биохимические исследования рибосом. Более выполнимую исследовательскую задачу тогда искал также швейцарский биохимик Альфред Тиссьер, в то время изучавший окислительный метаболизм в Институте Мольтено в Кембридже. Он уже имел дело с рибосомами бактерий, и ему понравилась идея заняться изучением механизма их работы по другую сторону Атлантики, в другом Кембридже[14]. Альфред происходил из старинного рода из кантона Вале, долгое время владевшего банком в Сьоне. Когда Альфреду было меньше года, случилось несчастье: его отец, банкир, умер от гриппа во время великой эпидемии 1918 года. Намного позже полученное Альфредом небольшое наследство позволило ему владеть блестящим "бентли", который он парковал на другом берегу реки Кем на территории, прилежащей к школе, где учились мальчики из знаменитого хора Королевского колледжа. Источником еще большей гордости, чем машина, было для Альфреда его избрание в 1950 году членом британского Альпийского клуба. Благодаря его опыту сложных восхождений на южный склон горы Тешхорн и на северный гребень горы Дан-Бланш его пригласили принять участие в рекогносцировочной швейцарской экспедиции 1951 года на Эверест. Альфред с сожалением отказался, решив, что для него важнее исследования, которыми он занимался в Институте Мольтено и благодаря которым в 1952 году получил исследовательскую стипендию Королевского колледжа. Однако альпинизм всегда оставался важной частью его жизни. Летом 1954 года он принял участие в организованной Альпийским клубом рекогносцировке горы Ракапоши в Пакистане — одного из самых устрашающих пиков Каракорума высотой почти восемь тысяч метров. После моего перехода в Гарвард моим преемником в роли генетика в нашем подразделении в Кембридже должен был стать уроженец Южной Африки Сидни Бреннер. Мы встретились, когда он работал над диссертацией в Оксфорде, получив медицинское образование в Йоханнесбурге. Весной 1953 года Сидни был одним из тех, кто приехал в Кембридж, чтобы взглянуть на нашу большую молекулярную модель двойной спирали. Однако по-настоящему он вошел в нашу с Фрэнсисом жизнь летом 1954 года, в Вудс-Хоул на полуострове Кейп-Код, где мы обсуждали генетический код с русского происхождения физиком-теоретиком Джорджем Гамовым, одним из авторов теории Большого Взрыва. Сидни тогда изучал генетику бактерий в Колд-Спринг-Харбор и приехал на несколько дней в Вудс-Хоул, где произвел огромное впечатление на Гамова и на Фрэнсиса, на лету схватывая их идеи и тут же предлагая эксперименты для их проверки. Гамов, тогда профессор в Университете Джорджа Вашингтона, заинтересовался двойной спиралью, когда прочитал летом 1953 года нашу вторую статью в Nature на эту тему ("Генетическое значение структуры ДНК"). К началу 1954 года его первоначальные идеи, которые могли показаться безумными, выкристаллизовались в четкие представления о механизме работы генетического кода, согласно которым порядок аминокислот в полипептидных цепочках определяется последовательностью из неперекрывающихся триплетов нуклеотидов. Приехав в начале мая 1954 года в Беркли, где Джордж проводил свой годичный отпуск, я предложил ему организовать клуб из двадцати человек, ищущих разгадку генетического кода, по одному на каждую аминокислоту. Джордж немедленно одобрил эту идею, увлеченно предвкушая разработку дизайна галстуков и канцелярских принадлежностей для нашего Клуба галстуков РНК. Хотя у Клуба галстуков РНК никогда не было общего собрания, "записки", циркулировавшие между его членами, сыграли важную роль в развитии представлений о генетическом коде. Самая известная из этих записок, автором которой был Фрэнсис, со временем совершенно изменила наши представления о синтезе белков. В январе 1955 года он написал членам клуба о своем впоследствии оказавшемся правильным предположении, что аминокислоты, прежде чем включиться в полипептидную цепочку, должны присоединяться к небольшим "адаптерным" РНК, которые, в свою очередь, связываются с молекулой матричной РНК. Фрэнсис предположил, что каждой аминокислоте должна соответствовать своя адаптерная РНК (теперь такие РНК называют транспортными). Но тогда еще не было никаких экспериментальных подтверждений ни существования этих маленьких РНК, ни тем более их химического связывания с аминокислотами, поэтому даже Фрэнсис ненадолго сохранил свой первоначальный энтузиазм по поводу этих адаптерных молекул. Лишь по прошествии шести месяцев к нему пришло новое безумное увлечение, на этот раз связанное с трехмерной моделью коллагена, которую он и Алекс Рич построили летом 1955 года. Зимой 1956 года, после того как в декабре Алекс вернулся на свою работу в Национальном институте здоровья в окрестностях Вашингтона, мы с Фрэнсисом сосредоточились на структуре небольших РНК-содержащих вирусов и в целом разобрались, как их кубически симметричные частицы составляются из упорядоченно соединяющихся асимметричных белковых блоков. Как устроены их протяженные цепочки РНК, заключенные в многоспиральные белковые оболочки, — это еще оставалось выяснить. В последний раз мы выступили в качестве одной команды на симпозиуме по теме "Химические основы наследственности", организованном Университетом Джона Хопкинса в середине июня 1956 года. Прибыв в отель "Балтимор", Фрэнсис с восторгом отметил, что нам с ним выделили соседние номера в президентских комнатах на верхнем этаже. Чтобы остаться на верхнем этаже науки, нам после этого дня пришлось бороться уже по отдельности. Усвоенные уроки 1. ВЫБИРАЙТЕ ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ, ОПЕРЕЖАЮЩИЙ СВОЕ ВРЕМЯ Уточнение деталей после сделанного кем-то другим крупного открытия едва ли сделает вас большим ученым. Лучше одним скачком обогнать своих коллег, поставив себе важную исследовательскую задачу, — пусть большинство считает, что момент для ее решения еще не настал. Как раз такой задачей было в 1951 году выяснение трехмерной структуры ДНК, для которого, по мнению едва ли не всех химиков, а также биологов, время еще не пришло. Один широко известный ученый, работавший в то время в области химии ДНК, предсказывал, что пройдет лет сто, прежде чем мы узнаем, что представляет собой ген на химическом уровне. Прежде чем приниматься за дело, необходимо найти для себя тропу, по которой вы будете взбираться к намеченной цели, или, еще лучше, новую интеллектуальную катапульту, способную перекинуть вас через расщелины, которые кажутся слишком широкими, чтобы перепрыгнуть через них с помощью экспериментов. Моделирование структуры ДНК в 1951 году обладало как раз таким потенциалом и позволило нам достичь своей цели в то время, когда более ортодоксальный подход, ограничивающийся анализом рентгенограмм, вел к ней далеко не напрямую. Учитывая недавний успех Полинга, открывшего а-спираль с помощью моделирования, в использовании этого подхода применительно к структуре ДНК не было ничего странного; напротив, это был почти очевидный выбор. 2. РАБОТАЙТЕ ЛИШЬ НАД ТЕМИ ЗАДАЧАМИ, КОТОРЫЕ ПРИНЕСУТ ОЩУТИМЫЙ УСПЕХ УЖЕ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ Важных целей, опережающих свое время, можно найти немало. Мне, например, хотелось бы знать, где именно в моем мозгу хранится номер моего телефона. Но никто из моих коллег, занимающихся мозгом, и близко не представляет, как подступиться к этой проблеме. Намного перспективнее сейчас задаваться вопросом, как в намного меньшем по размеру мозгу мухи соединены между собой клетки, позволяющие ей узнавать запах определенного спирта. Когда мы это выясним, это уже будет шаг вперед. Я уверенно принимаюсь за работу над каким-либо вопросом лишь в том случае, если считаю, что в ближайшие три-пять лет могу получить осмысленные результаты. Не стоит рисковать своей научной карьерой, берясь за темы, с которыми у вас есть лишь ничтожный шанс увидеть свет в конце тоннеля. Но если у вас есть основания полагать, что вы с вероятностью 30% сможете в ближайшие два-три года найти ответ на вопрос, который большинство других считают нерешаемым в ближайшее десятилетие, за такую попытку стоит взяться. 3. НИКОГДА НЕ БУДЬТЕ САМЫМ УМНЫМ ИЗ ПРИСУТСТВУЮЩИХ Чтобы чаще выходить из интеллектуальных турниров победителем, а не проигравшим, нужно принимать участие в неожиданных интеллектуальных поединках. Ничто не заменит вам компанию людей, обладающих достаточными знаниями и способностями, чтобы находить ошибки в ваших рассуждениях или снабжать вас фактами, которые могут подтвердить или опровергнуть ваше мнение. Чем больше будет острота ума окружающих, тем острее станет ваш собственный ум. Это противоречит человеческой природе, особенно мужской природе, но положение вожака стаи может стать преградой для более важных достижений. Намного лучше быть наименее продвинутым химиком на первоклассном отделении химии, чем звездой первой величины на отделении не столь блестящем. К началу пятидесятых научные взаимодействия Лайнуса Полинга с коллегами сводились в основном к монологам, а не к диалогам. Ему хотелось быть объектом преклонения, а не критики. 4. ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ТЕСНЫЕ СВЯЗИ С ВАШИМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ СОПЕРНИКАМИЕсли вы преследуете важную цель, вы наверняка столкнетесь с серьезной конкуренцией. Тем, кто хочет заниматься исследованиями в одиночку, суждено оставаться на задворках науки. Сознание участия в гонке может сильно нервировать, но наличие достойных соперников служит гарантией того, что вы стремитесь к достойной цели. Впрочем, стоит всерьез задуматься, если их слишком много. Это обычно означает, что вы участвуете в гонке, имеющей слишком очевидную цель, не опережающую свое время в достаточной степени, чтобы отпугнуть более консервативное и наделенное меньшим воображением большинство. Наличие более чем трех или четырех конкурентов должно говорить вам не только, что ваши шансы на успех малы, но и что их почти невозможно адекватно оценить — в этом случае у вас едва ли будет адекватное представление о сильных и слабых сторонах большинства соперников. Чем их меньше, тем и разобраться в них легче и тем больше шанс, что вы сможете действовать в ходе этой гонки разумно. Избегать соперников из опасения слишком много им открыть — опасный путь. Каждому из вас помощь может оказаться полезной, а ничейный исход, при котором вы сможете одновременно опубликовать один и тот же результат, явно более предпочтителен по сравнению с проигрышем. Если же окажется, что кто-то другой выйдет несомненным победителем, лучше, если это будет тот, с кем у вас хорошие отношения, чем неизвестный вам конкурент, невольную ненависть к которому вам, хотя бы поначалу, будет сложно преодолеть. 5. РАБОТАЙТЕ ВМЕСТЕ С ЧЕЛОВЕКОМ, С КОТОРЫМ ВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО НА РАВНЫХ Двое ученых, работая вместе, обычно добиваются большего, чем два одиночки, каждый из которых идет своим путем. Лучшие научные пары напоминают браки по расчету, объединяя людей, чьи способности удачно дополняют друг друга. У Фрэнсиса было основательное знание теории кристаллографии, и у меня не былонеобходимости осваивать ее на том же уровне. Мне было нужно лишь знать, что она дает для интерпретации рентгенограмм ДНК. Конечно, всегда оставалась возможность, что Фрэнсис допустит какую-то ошибку, которую я не смогу заметить, но хорошие отношения, которые мы поддерживали с другими специалистами в этой области, означали, что его идеи всегда будут проходить проверку еще более одаренных кристаллографов. Я, в свою очередь, дополнял нашу команду из двух человек тем, что хорошо разбирался в биологии и настойчиво стремился к решению проблемы, которая оказалась одним из фундаментальных вопросов жизни. Благодаря умному коллеге, работающему вместе с вами, вы можете скорее отказаться от неправильного решения. Я слишком долго пытался строить модели ДНК с углеводно-фосфатным скелетом в центре, убежденный, что если скелет будет снаружи, то никакие стереохимические ограничения не будут обеспечивать сворачивание молекулы в правильную спираль. Но Фрэнсис высмеял это утверждение, заставив меня выбрать противоположный путь намного быстрее, чем я сделал бы без него. Вскоре я и сам осознал, что те мои представления никуда не годились и что на самом деле стереохимические особенности углеводно-фосфатных групп должны были, разумеется, приводить их в наружное положение в спиралях, совершающих один полный оборот приблизительно за десять нуклеотидов. Но когда в научной команде больше двух человек, в ней может стать тесно. Когда три человека преследуют общую цель, то один из них становится лидером, а кто-то другой рано или поздно начинает чувствовать себя слабее остальных и обижаться на то, что ключевые решения принимаются без его участия. Кроме того, работая втроем, сложно решить, как отразить вклад каждого в полученный результат. Для нас вполне естественно верить в равноправное партнерство успешных дуэтов, таких как Роджерс и Хаммерстайн или Льюис и Кларк. Большинство людей не верят в равный вклад каждого из участников команды из трех человек. 6. ПУСТЬ У ВАС ВСЕГДА БУДЕТ ТОТ, КТО МОЖЕТ СПАСТИ Стараясь опередить свое время, вы неизбежно будете раздражать тех, кто склонен считать, что вы многовато на себя берете. Они будут радоваться вашим промахам, полагая, что превратности судьбы постигли вас заслуженно. Иногда они могут проявить себя лишь в тот момент, когда вы терпите крушение. Вы часто обнаруживаете, как зависимы от них — например, от их решения продлить или не продлевать вам стипендию или грант. Поэтому всегда стоит знать кого-то, обладающего влиянием (помимо ваших родителей), кто стоит на вашей стороне. Мои надежды пойти ва-банк с проблемой ДНК в Кембридже не сбылись бы, если бы мои покровители времен занятия фагами, Сальвадор Лурия и Макс Дельбрюк, не пришли мне на помощь, когда мне было отказано в прошении перевести мою стипендию из Копенгагена в Кембридж. Меня тогда не без оснований сочли не подготовленным для занятия рентгеноструктурным анализом и предложили вместо этого отправиться в Стокгольм изучать клеточную биологию. Но Джон Кендрю немедленно предоставил мне бесплатно комнату в своем доме, а Лурия благодаря своим личным связям добился продления моей стипендии на восемь месяцев. Вскоре после этого Дельбрюк организовал для меня стипендию Национального фонда полиомиелита на весь следующий год. Изыскивая средства, позволившие мне остаться в Кембридже, Лурия и Дельбрюк надеялись, что мне удастся сделать успешную карьеру в области структурной биохимии и не подвести их. Но они были недовольны, что я ушел от них так далеко, и понимали, что скорее всего я останусь после продолжительного пребывания в Кембридже с пустыми руками. В связи с этим второй год моей стипендии я должен был провести в Калтехе, что хотя бы отчасти страховало меня на случай, если структуру ДНК разгадает кто-нибудь другой. Когда вы оставляете одно поле интеллектуальной деятельности и переходите на другое, нет никакого смысла сжигать перейденные мосты, по крайней мере до тех пор, пока не заладится ваша карьера в новой области. (обратно)
Глава 7. Навыки, свойственные преподавателю без постоянной ставки
В Гарварде, где я начал работать с осени 1956 года, считалось, что это лучший университет в Соединенных Штатах. Несомненно, что это был старейший университет с самым большим бюджетом, и у него были все возможности собрать в своих стенах таких именитых сотрудников, какими не могло похвастаться ни одно учреждение на планете. Прежде чем дать кому-либо постоянную ставку, в Гарварде собирали группу выдающихся специалистов в соответствующей области, которые сообщали президенту, насколько высоким рангом обладает предложенный кандидат среди его коллег во всем мире. Использование таких специальных комитетов началось во время президентства Джеймса Конанта, именитого химика-органика и лишь второго в истории ученого, возглавлявшего Гарвард. Приняв бразды правления от Лоуренса Лоуэлла в 1933 году, он руководил Гарвардом в течение двадцати лет, в 1953 году подав в отставку, чтобы стать верховным комиссаром от США в оккупированной Германии, а затем послом США в Германии. Конант, глубоко вовлеченный в военные исследования, которые помогли Соединенным Штатам победить во Второй мировой войне, ухватился за происходившие улучшения научного потенциала страны, чтобы соответственно повысить планку на отделениях математики, физики и химии Гарварда. На отделении биологии Гарварда работало несколько ученых мирового класса, среди которых особенно выделялись специалист по биохимии зрения Джордж Уолд и авторитет в области эволюции Эрнст Майр. Но слишком многим сотрудникам отделения были свойственны приземленные взгляды, не соответствующие качеству подготовки большинства гарвардских студентов. Более чем характерен был бескрылый вводный курс биологии. Этот курс был переполнен скучными фактами, которые должны были заучивать записавшиеся на курс студенты, преимущественно будущие медики. Он был так безнадежно уныл, что был год, когда студенты, составлявшие "Конфиденциальный путеводитель", написали в нем про одного из преподавателей этого курса, что ему неплохо было бы застрелиться. В отличие от Калтеха, где главной биологической дисциплиной была генетика, на отделении биологии Гарварда, которое тогда возглавлял педантичный специалист по ископаемым насекомым из янтаря Фрэнк Карпентер, все области биологии считались ничуть не важнее других. Его заместителем был тоскливый выпускник Родес-колледжа Орин Сандаски, вместе с которым Карпентер неуклюже надзирал за повседневной жизнью в массивном пятиэтажном здании биологических лабораторий. Это здание в георгианском стиле было построено в начале тридцатых на деньги, выделенные комиссией по общему образованию Фонда Рокфеллера, члены которой хотели, чтобы это пожертвование послужило науке, а не образованию. Отсутствие в Биолабораториях достаточно большой лекционной аудитории было, таким образом, не ошибкой, а делом принципа. К тому времени как в 1932 году началось строительство Биолабораторий, наступила Депрессия, и средства на отделку северного крыла так никогда и не материализовались. Двадцать пять лет спустя фабричного вида длинные пустые этажи этого крыла представлялись отличным местом для расцвета в Гарварде биологии, основанной на изучении ДНК, если бы университет счел это нужным. Не менее важно было то, что многим из старших сотрудников отделения было недалеко до пенсии. Их просторные угловые кабинеты, связанные с помещениями секретариата, которые в менее престижном учреждении сами были бы достаточно велики для профессоров, должны были скоро освободиться. В Биолабораториях не было и столовой, и в полдень вся знать отделения отправлялась в профессорский клуб георгианского стиля на Куинси-стрит. Там старшие сотрудники неизменно обедали в своей собственной компании вокруг одного и того же прямоугольного стола у входа в главный обеденный зал. Большинство разговоров было посвящено административным мелочам, а не идеям, а главным блюдом из тех, что заказывались по меню, был стейк из конины — гордый пережиток сурового военного времени. В стороне от главного обеденного зала находился другой зал, в который обычно входили снаружи через отдельный вход, предназначенный для гостей женского пола. Среди сотрудников гарвардского факультета искусств и наук женщин тогда почти не было. Стены коридоров, казалось, не красили уже по меньшей мере лет десять, и единственным, что оживляло здание Биолабораторий, были два громадных бронзовых носорога, стоявших по обе стороны главного входа. Их изваял друживший с президентом Лоуэллом талантливый скульптор, сделавший также фризы с изображением животных, обрамляющие двор Биолабораторий. Представление о биологии, которое передавали эти скульптурные изображения, хорошо сочеталось с задачей расположенного неподалеку отделения географических исследований. На его крыше по-прежнему стояла радиоантенна для поддержания связи с сотрудниками, находившимися вне пределов западной цивилизации. Но этого отделения больше не было. По слухам, президент Лоуэлл пришел в ужас, узнав, что некоторые из сотрудников отделения были гомосексуалистами. В итоге в красивом одноэтажном кирпичном здании размещался теперь центр исследований Дальнего Востока, где правили авторитетные специалисты Джон Кинг Фэрбенк и Эдвин Райшауэр. Еще ближе к Биолабораториям по Дивинити-авеню располагался Семитский музей, средства на создание которого выделил в конце Первой мировой войны банкир Якоб Шифф, чтобы способствовать изучению древней еврейской культуры. Но теперь большинство из помещений музея занимал руководимый Бобом Боуи и Генри Киссинджером Гарвардский центр международных отношений (Harvard Center for International Affairs, HCIA), сокращенное название которого указывало на секретный источник его государственного финансирования[15], заинтересованный в том, чтобы в Гарварде получали образование будущие лидеры свободного мира. На дальнем конце окруженного вязами двора перед Биолабораториями стояло здание, когда-то служившее главным общежитием гарвардской Школы богословия. Говорят, что в начале XIX века в нем жил Ральф Уолдо Эмерсон. Но подобные исторические факты мало заботили Джеймса Конанта, во время президентства которого роль Школы богословия в протестантском теологическом образовании, и без того давно ставшая незначительной, сократилась почти до нуля. Но перед самым моим переездом в Гарвард религия здесь возродилась с новой силой в связи с назначением Натана Марша Пьюзи следующим президентом Гарварда. Пьюзи родился в Айове в 1907 году и изучал Античность в Гарварде, где в возрасте тридцати лет получил степень доктора философии. Он преподавал в Колледже Лоуренса, в Колледже Скриппса и в Уэслианском университете, после чего в 1944 году вернулся в Висконсин, где стал президентом Колледжа Лоуренса. Там он в послевоенное время прославился тем, что выступал против политики младшего сенатора от штата Висконсин Джозефа Маккарти. Избрав его преемником Джеймса Конанта, пять членов Гарвардской корпорации считали, что тем самым они усиливают значение нравственной составляющей высшего образования. Их не слишком заботило, что сам Пьюзи не обладал почетным интеллектуальным званием сотрудника Гарварда. Впоследствии они молча осознали, что его труды ничем особенным не блистали и что его выступления перед студентами и сотрудниками не несли в себе ни света просвещения, ни искры вдохновения. И библиотека, которую им впоследствии предстояло построить в его честь, была устроена под землей и предназначена для хранения архивов. К чести Пьюзи, он последовал совету Корпорации назначить первоклассного декана факультета искусств и наук. Понимал ли он тогда, что, выбирая Макджорджа Банди, выбирает человека, который будет показывать более высокий класс, чем он сам, везде, где их пути будут пересекаться, мы никогда не узнаем. Банди родился в бостонской семье голубых кровей и пришел в Гарвард через Гротон и блестяще оконченный бакалавриат в Иеле. В Гарварде он первоначально был младшим стипендиатом Гарвардского общества стипендиатов, затем стал работать на отделении государственного управления и получил постоянную ставку к тому времени, как стал важнейшим из гарвардских деканов. Все назначения на факультете искусств и наук были в его ведении, и именно он выбирал участников каждого специального комитета, на заседаниях которых он и президент Пьюзи неизменно присутствовали. Крайне маловероятно, что Банди сыграл какую-то роль в злополучном решении Пьюзи, принятом на втором году его президентства, отказать студенту-еврею, просившему разрешить ему вступить в брак во впечатляющей Мемориальной церкви Гарварда, построенной в двадцатые годы в память об американцах, павших в Первой мировой войне. Это решение Пьюзи вызвало бурю возмущения со стороны сотрудников. Представительная делегация пришла в его кабинет, чтобы сказать ему, что двери гарвардской церкви должны быть открыты для людей любой веры, а не только для христиан. Это требование имело печальную историческую подоплеку. Много лет назад существовала практика не допускать евреев к работе в Гарварде. Сотрудники, пришедшие к президенту, были полны решимости не повторить проявления нетерпимости, запятнавшей прошлое Гарварда. Почувствовав, что пахнет скандалом, который грозит разрушить тот нравственный авторитет, за который его и назначили президентом, Пьюзи отменил свое решение, и об этом инциденте постепенно забыли. Однако президенту было больно слышать, что его первоначальное решение, которое он считал очередным подтверждением давнего протестантского наследия Гарварда, было проявлением антисемитизма. С того момента Пьюзи больше не видел в своих сотрудниках союзников и держался на расстоянии от них все оставшиеся восемнадцать лет своего президентства. Дружбы он и его жена Энн искали среди представителей руководства. Лето они проводили в Сил-Харбор на острове Маунт-Дезерт в штате Мэн, неподалеку от дома Дэвида Рокфеллера, который вскоре возглавил совет смотрителей Гарварда. Оба этих руководителя придавали одинаково большое значение религии: Рокфеллер однажды пожертвовал немалую сумму на укрепление штата сотрудников Школы богословия. Моему решению перейти из Калтеха в Гарвард способствовала растущая дружба с химиком Полом Доути; он работал в здании Лаборатории Гиббса прямо напротив Биолабораторий, по другую сторону Дивинити-авеню. Пол, учившийся первоначально физической химии, а затем химии полимеров, начал физико-химические исследования ДНК лишь после того, как в 1948 году перешел в Гарвард. Будучи на восемь лет меня старше, он как раз получил постоянную ставку профессора, когда я только начал работать в Гарварде. К счастью для меня, он был одним из горстки сотрудников, к которым Макджордж Банди регулярно обращался за советом. Хотя многие гарвардские биологи не были уверены, подходит ли мне больше их отделение или отделение химии, Банди от Пола знал, что я настоящий биолог, и надеялся, что я помогу поднять отделение биологии на уровень, сравнимый с высоким уровнем отделений химии и физики. Недавно в университете была сформирована комиссия по ученым степеням в области биохимии, члены которой отбирались из числа подходящих кандидатур с отделений биологии и химии. Это убеждало меня в том, что моя работа в Гарварде не будет целиком зависеть от прихотей старомодных биологов. Став членом этой комиссии от отделения биологии, я принял участие в наборе первой группы студентов магистратуры и в выборе подходящих курсов для их первого года обучения. Первым студентом, у которого я стал научным руководителем, был Боб Райзбрау, принятый в магистратуру отделения биологии. Степень бакалавра он получил в Корнелле, где специализировался преимущественно на орнитологии. Теперь же он был увлечен ДНК, и я решил, что лучшим введением в эту область для него может стать работа над диссертацией о свойствах фага фx174, тогда считавшегося самым маленьким из всех известных фагов. Соответственно маленькими могли оказаться и его молекулы ДНК, и тогда они прекрасно подходили для изучения физико-химическими методами, которые применял Пол Доути. Впоследствии я дал моему первому студенту-биохимику, Джулиану Флейшману, задание определить размеры молекул ДНК намного более крупного фага Т2. Каждая частица фага Т2 предположительно содержала несколько молекул ДНК, соединенных вместе за концы белковыми мостиками. Изучение этих молекул могло дать хорошую модель того, как организовано хранение ДНК в хромосомах клеток высших организмов. Когда Пол Доути сурово предупредил меня, что решения о предоставлении постоянной ставки часто основаны на оценке преподавательских успехов, я понял, что не могу позволить себе дать старомодным биологам повод считать, что мне могла бы лучше подойти работа в чисто исследовательском учреждении или в медицинской школе. Поэтому в первые месяцы работы я уделял особенно много внимания своим преподавательским обязанностям. Я все время боялся, что в моей памяти не окажется достаточно материала, чтобы заполнить им следующий час занятий, поэтому тщательно готовил для себя конспект каждой следующей лекции. Благодаря этому я мог раздавать слушателям моего курса по вирусам, в основном продвинутым студентам колледжа, копии этих конспектов, тем самым избавляя их от необходимости за мной записывать. Однако лишь немногие из студентов пользовались этим предложением, большинство же продолжали с ученическим усердием делать записи, так что по их лицам никак нельзя было сказать, следят ли они за ходом моих рассуждений. К счастью, большинство из них не завалили часовой экзамен в середине семестра. Я помнил, как много дали мне семестровые работы, которые я писал в Индианском университете, и попросил своих студентов написать от десяти до пятнадцати страниц о чем-нибудь в моем курсе, что им особенно понравилось. Поначалу я надеялся включиться в общественную жизнь Гарварда за счет того, что буду жить в одном из больших корпусов для студентов колледжа. Эти здания были воплощением стремления президента Лоуэлла построить между Гарвард-Ярдом и рекой Чарльз копии кембриджских и оксфордских колледжей. Как и положено, в них в специальных квартирах из нескольких комнат жили молодые неженатые "доны". Я спросил председателя моего отделения, Фрэнка Карпентера, могу ли я поселиться в одном из них, и он посоветовал попробовать Леверетт-хаус, которым заведовал эмбриолог Ли Хоудли. Хотя Ли давно уже перестал даже делать вид, что он ученый, у меня не было оснований предполагать, что он окажется столь же плохим домоправителем. Однако я очень скоро открыл для себя, что студенты колледжа отнюдь не предпочитали другим корпусам Леверегт-хаус, известный тогда под названием "Кроличья клетка", и что его так называемый "высокий стол"[16] был прямой противоположностью тому, который я знал по Кембриджу. Мы ели те же скучные блюда, что и студенты, а темы для разговоров задавал господин Хоудли, не способный ни на глубокие мысли, ни на легкомысленность. Этот эрзац "высокого стола" не имел бы такого значения, если бы мне досталась достойная квартира. Но мои окна смотрели отнюдь не на реку Чарльз, а лишь на матовое стекло ванной комнаты домоправителя. Не прибавило мне оптимизма и последующее признание Хоудли, что он предоставил мне жилье, которое, возможно, больше подходило для собаки. У меня не было причин немедленно уведомить его о переезде, когда я переселился в однокомнатную квартиру, которую удалось выбить в большом здании, расположенном неподалеку на Фрэнсис-авеню. Моя первая лаборантка, Селия Гилберт, дочь журналиста-радикала Иззи Стоуна, сказала мне, что у дружившей с ее отцом Хелен Лэнд есть в доме неподалеку свободная квартира. Это была одна из нескольких маленьких квартир, которые, как я позже понял, сдавались преимущественно людям, связанным с левым движением. Когда я въезжал в свою новую квартиру, журналист Джонатан Мирски как раз выезжал из того же дома. Его квартиру потом занял магистрант с отделения государственного управления Джим Томсон, которого я встретил вновь, когда он стал членом Национального совета безопасности. Я приехал в Гарвард по-прежнему неженатым, и поэтому меня более чем интересовало все происходившее в женском Рэдклифф-колледже, раньше отдельном от Гарварда. До домов, где жили его студентки, было меньше мили, и после войны все занятия в обоих колледжах уже стали совместными. Только студенческая Библиотека Лэмонта по-прежнему оставалась исключительно женской. Куда пойти, чтобы встретить девушек из Рэдклиффа, было непонятно, потому что на их вечеринки, казалось, никогда не приходили те, в чьей компании хотелось показаться на людях. К счастью, у генетика Джека Шульца была дочь Джилл, которую я знал еще по Колд-Спринг-Харбор, и теперь она училась на последнем курсе Рэдклифф-колледжа и жила в небольшом деревянном домике за пределами кампуса на Массачусетс-авеню. Вскоре я познакомился с несколькими ее соседками по дому и постепенно завоевал доверие, позволявшее мне заглядывать к ним без приглашения на кофе после ужина. Меня никогда не радовала перспектива все время есть одному в профессорском клубе, и я охотно принимал приглашения на ужин к Полу Доути. Он и его жена жили теперь на расстоянии меньше тысячи футов от его лаборатории, в огромном доме с мансардной крышей на Киркланд-плейс. Меня очень поддерживали приглашения на ужины к Уолли и Селии Гилберт, чья квартира тоже находилась поблизости. Мы познакомились за год до этого в Кембриджском университете, куда Уолли, молодой физик-теоретик, перебрался из Гарварда. Зная, что они вскоре снова вернутся в Гарвард, как Уолли получит доктора философии, я предложил Селии, которая до этого училась английскому в Смит-колледже, работу в моей лаборатории начиная с осени. Селия даже монотонные лабораторные манипуляции сопровождала весьма колкими репликами. Но, проработав в Биолабораториях всего четыре месяца, она слегла с мононуклеозом. Болезнь лишила ее постоянной ставки в моей лаборатории. Может быть, ее немного утешило то, что ей больше не приходилось тревожиться о правильном разведении взвеси фагов в миллион и более раз. Хитрые разговоры вновь начались в марте, когда из Кембриджа прибыл Альфред Тиссьер на своем "бентли". Он вскоре нашел себе комнату в доме на Брэттл-стрит и взялся найти нам новую лаборантку на место Селии. К счастью, работой в нашей лаборатории заинтересовалась Кейти Койт, у родителей которой Альфред снял комнату. Узнав, что Кейти не только умна, но и увлечена скалолазанием, Альфред убедил ее стать профессиональным мастером на все руки в нашей лаборатории. Кейти впервые довелось заняться наукой, но, жизнерадостная и здравомыслящая, она вскоре стала незаменимой. Зарплату Альфреда покрывал грант, полученный мною от Национального научного фонда на исследование рибосом бактерий. Эти средства позволили также купить препаративную ультрацентрифугу Spinco, нужную нам для отделения рибосом от других компонентов бактериальных клеток. Нам требовалась также и более дорогая аналитическая ультрацентрифуга Spinco, чтобы измерять скорость оседания рибосом, но на это возможностей моего гранта не хватало. К счастью, такая центрифуга была в нашем распоряжении благодаря специалисту по химии белка Джону Эдсаллу, работавшему этажом выше. По вечерам я обычно снова возвращался в лабораторию, проведя там до этого и несколько дневных часов. Приходя во внеурочное время, мы должны были расписываться в учетной книге у ночного охранника. Для существования этой книги не было никаких разумных оснований, не считая того, что с ее помощью можно было уличить неверного мужа во лжи относительно его вечернего местопребывания. Придя в лабораторию однажды вечером, я с радостью обнаружил, что эта книга пропала, что не привело ни к каким нежелательным последствиям для надлежащей работы корпуса. Более огорчительно было то, что библиотеку запирали на замок после ухода домой сурового библиотекаря. Хотя у сотрудников и были ключи, у студентов их не было, и они не могли заниматься по вечерам и в выходные. Мои настойчивые прошения о том, чтобы отделение нанимало для охраны входа студентов, в конце концов привели к тому, что эта реформа ко всеобщему благу состоялась. По воскресеньям Натан Пьюзи регулярно приглашал сотрудников Гарварда с супругами на чай с пирожными в свой величественный Президентский дом. Пол Доути уговорил меня попробовать прийти на одно такое мероприятие, и однажды, когда мои лекции в осеннем семестре уже подходили к концу, я с некоторой неловкостью явился к парадному входу этого здания. Служанка провела меня в главную гостиную, где я представился Натану Пьюзи и его жене, после чего проследовал дальше, где мне встретились шведский богослов Кристер Стендаль, которому было под сорок, и его моложавая жена Брита. Стендаль был ценным приобретением для Школы богословия, которую Пьюзи стремился возродить. Сильные, угловатые, слегка неправильные черты его лица напомнили мне неспокойного священника из фильма Ингмара Бергмана. Разговаривая с ним и его женой, я связывал его разумную открытость с тем, как сложно устроена жизнь, но все же был не в состоянии даже притвориться, что интересуюсь евангелистом Матфеем, о котором он недавно написал ученый труд. Позже ко мне подошла Энн Пьюзи, и я с облегчением перешел на разговор о своем обучении в Чикаго и о том, как рад я был тому, что попал в число сотрудников Гарварда. Одновременно с этим я пытался расслышать, что наш президент говорил другим гостям. Позже, выходя на Куинси-стрит, я раздумывал, может ли хотя бы какая-нибудь тема разговора вызвать у него оживленную реакцию. Впоследствии, во время ежемесячных встреч сотрудников факультета искусств и наук, мне лучше удавалось разобраться в чувствах, занимавших то, что он считал своей душой. Мы всегда обращались к Банди, чтобы он намеком дал понять, чего нам ждать от Пьюзи. Казалось, Пьюзи оживал лишь тогда, когда ему доводилось вручать почетные дипломы магистра искусств новоиспеченным сотрудникам с постоянной ставкой, получившим свои настоящие степени в других университетах. Считалось, что этот обряд благословения нужен Гарварду затем, чтобы каждый из его сотрудников в равной степени чувствовал, как его ценят. Моя социальная жизнь в Гарварде по-прежнему оставляла желать лучшего. Перед самым Рождеством я полетел в Лондон, а затем поехал на поезде встречать Новый год к Дику и Наоми Митчисон на мыс Кинтайр в Хайлэндс. За сбором вируса табачной мозаики в 1958 году. Слева направо: Джулиан Флейшман, Кейти Койт, Джон Мендельсон и Чак Курланд.
За сбором вируса табачной мозаики в 1958 году. Слева направо: Джулиан Флейшман, Кейти Койт, Джон Мендельсон и Чак Курланд.
В первый раз я посетил их дом в Каррадейле пятью годами раньше, когда меня пригласил их младший сын Эврион, который тогда работал в Оксфорде над диссертацией, посвященной иммунному ответу. Мать Эвриона была известной писательницей, придерживавшейся левых убеждений, и в их доме я вновь мог рассчитывать на участие в интеллектуальных вечерах, долгих прогулках по болотистым пустошам, горячих спорах — больше о политике, чем о науке — и на обильную, хотя и не особенно изысканную пищу. В любом случае я знал, что это понравится мне намного больше, чем возвращение в небольшой домик среди песчаных дюн Индианы, куда переехали родители после того, как моя сестра окончила колледж Чикагского университета. Мне еще предстояло пожалеть о том, что я не послушался сыновнего долга, когда моя мать, которой было всего пятьдесят семь, умерла от внезапного сердечного приступа вскоре после праздников. Ей так и не довелось посетить Гарвард, чтобы увидеть меня в почетном звании его сотрудника. Когда я приехал домой на похороны, мне стало ясно, что отец едва ли когда-нибудь полностью оправится от этой неожиданной утраты. В конце июля я был рад возможности взять отца с собой, отправившись на остров Скай, куда меня пригласили быть свидетелем жениха на свадьбе Эва Митчисона и Лорны Мартин. На этой свадьбе мне впервые представился случай познакомиться с высокоинтеллектуальным научным руководителем Эва — Питером Медаваром. Он приехал из Лондона вместе со своей женой Джин, женщиной волевой, а также дочерью Кэролайн, умной девушкой, которая намеревалась поскорее сбежать оттуда, чтобы не встречаться с молодым человеком, которого ей хотели сосватать родители. Посреди праздника я без особого труда похитил Кэролайн и совершил с ней поездку на машине среди диких красот острова Скай, продлившуюся достаточно долго, чтобы Питер и Джин забеспокоились, не решили ли мы с Кэролайн, что созданы друг для друга. Но на ближайшие несколько недель у нее были другие таны. А я, проводив отца на самолет до Чикаго, предвкушал встречу в Тоскане с путешествовавшей в то время по Европе девушкой из Рэдклиффа, с которой я познакомился в домике за пределами кампуса на Массачусетс-авеню. Несколько писем, отправленных из предыдущих точек ее маршрута, уверили меня, что мне уготована теплая встреча, когда наши дороги наконец пересекутся в Ассизи. Но, пока мы рассматривали фрески Джотто на стенах базилики XV века, я почувствовал, что сердце ее уже кем-то занято. Впоследствии я узнал, что ее сразил молодой преподаватель Античности. Еще до моего отъезда в Европу все шло к тому, чтобы взять на отделение биологии высококлассного генетика. Задача отхватить такого человека была поставлена еще в конце сороковых, когда Гарвард пытался безуспешно переманить Трейси Соннеборна из Индианы. Теперь вводный курс генетики вел Пол Левин, недавно получивший, не без некоторых затруднений, постоянную ставку. Выдвигая его на соискание постоянной ставки, старшие сотрудники отделения хотели отметить прежде всего его признанные успехи в преподавании, поскольку его научные опыты с дрозофилами не представляли собой ничего выдающегося. Учитывая, что Банди был известен своим твердым намерением помешать морально устаревшим сотрудникам поддерживать на отделении биологии присущий им дух посредственности, повышение, которое получил Левин, указывало на что-то вроде компромисса между Банди и Пьюзи. В письме, направленном администрацией факультета отделению биологии, говорилось, что Левин будет назначен на постоянную ставку только при условии, что следующее постоянное место на отделении будет зарезервировано для генетика с научными достижениями мирового класса. Поначалу я опасался, что они отыщут кандидата, не лишенного талантов, но еще не чувствующего необходимости смотреть на вещи в свете двойной спирали. К счастью, мои опасения оказались более чем напрасны. Организованная впоследствии на отделении комиссия поставила первым номером в своем списке Сеймура Бензера из Университета Пердью, специалиста по генетике фагов и уже тогда моего близкого друга. Решающую роль в этом сыграл в высшей степени одобрительный отзыв Пола Мандельсдорфа, специалиста по генетике кукурузы, о докладе, сделанном недавно Бензером на Международном генетическом конгрессе в Торонто. В течение нескольких дней после того, как Сеймур приехал в Гарвард, чтобы прочитать лекцию о полученной им подробной генетической карте гена хг фага Т4, мои старшие коллеги по отделению биологии единогласно проголосовали за его назначение. Сеймур был, разумеется, заранее извещен о намерениях отделения. Мы с Полом Доути сказали ему, что было совершенно невероятно, чтобы какая-либо разумно подобранная специальная комиссия не утвердила его в звании сотрудника Гарварда. Альфред Тиссьер теперь остался без своего "бентли". В июле он собирался жениться в Колорадо на такой же волевой, как и он сам, Вирджинии Уокоб, девушке шотландского происхождения из Денвера, с которой он познакомился в Калтехе, куда отлучился на год из Королевского колледжа. Он не мог позволить себе содержать и жену, и "бентли", которому вскоре мог понадобиться капитальный ремонт двигателя, а зарплата Альфреда в Гарварде была несколько меньше моей. Теперь владельцем его "бентли" стал более щедро оплачиваемый профессор школы права. На то, чтобы собрать специальный комитет, потребовалось больше времени, чем ожидалось, и только в начале февраля 1958 года Сеймур получил официальное предложение и приглашение вновь приехать в Гарвард для встречи с Банди. Он хотел удостовериться, что администрация намерена и в дальнейшем поддерживать подход к биологии, основанный на изучении ДНК. Меня очень обеспокоило, что Сеймур не принял это предложение незамедлительно, вероятно, опасаясь большей преподавательской нагрузки, чем была у него в Университете Пердью. Поэтому я испытал огромное облегчение, когда в начале следующей недели Банди позвонил мне и радостно сообщил, что у него на столе лежит полученное от Сеймура письмо, извещавшее о согласии. Вскоре после этого я отправился в Университет Иллинойса в Урбане в качестве приглашенного по стипендии Джорджа Миллера лектора на курс бактериологии, наконец убежденный в том, что дни устаревших подходов на гарвардском отделении биологии сочтены. Приглашение мне организовал Сальва Лурия, который к тому времени уже больше пяти лет был профессором в Урбане. Прочитанные мною лекции о репликации макромолекул и о росте клеток были репетицией лекций, которые я планировал впоследствии читать гарвардским студентам колледжа. В Урбане я на три недели с удовольствием погрузился в кипевшую там научную жизнь, вдохновлявшую меня на новые исследования. Особенно приятно мне было общаться с безумно увлеченным миниатюрным Солом Шпигельманом, который в то время тоже уделял особое внимание изучению рибосом. Прилетев в Бостон в состоянии интеллектуального восторга, по прибытии в Гарвард я тут же рухнул с небес на землю. Сеймур Бензер сообщал о болезни сердца, которая заставляла его изменить свое решение о переходе в Гарвард. Оставаясь в Пердью, где он почти не был обременен необходимостью преподавать, он подвергал себя меньшей нагрузке, чем в Гарварде, а ему нужно было позаботиться о своем здоровье. Вызванное этой новостью разочарование было бы совсем невыносимым, если бы Эв Митчисон не приехал в Гарвард на весенний семестр, чтобы прочитать углубленный курс иммунологии. К моему большому удовольствию, Эв и его молодая жена Лорна, а также Альфред Тиссьер и я временно заняли большой дом Пола Доути на Киркланд-плейс, пока Доути и его жена проводили годичный отпуск, давно причитавшийся Полу, в другом Кембридже. Рядом с моим MG TF под окнами главной спальни дома Доути был припаркован купленный Альфредом себе в утешение новый, блестящий седан "альфа-ромео". Если бы Доути не прилетал время от времени из Англии, чтобы проследить за работой своей постоянно растущей лаборатории, мой прямой путь связи с Макджорджем Банди оказался бы отрезан в то самое время, когда он был мне особенно нужен. Почти без предупреждения я узнал, что вскоре должен собраться специальный комитет для одновременного обсуждения повышения Эдварда Осборна Уилсона и меня с должности старшего преподавателя (assistant professor) до адъюнкт-профессора (associate professor) с постоянной ставкой. Первоначально на отделении биологии вовсе не собирались рассматривать мою кандидатуру на год раньше положенного срока. Прежде всего их заботил Уилсон, которому нужно было дать повышение, чтобы он не перешел в Стэнфорд, где ему предлагали такую же ставку. Получив образование натуралиста в колледже у себя в Алабаме, Эд переехал на север в Гарвард, чтобы там получить степень доктора философии. Продемонстрировав свои блистательные способности исследованиями муравьев и их поведения, он был выбран младшим стипендиатом, что тогда считалось наилучшим первым шагом к тому, чтобы в конечном итоге получить постоянную ставку. С тех пор как я приехал в Гарвард, нам редко находилось о чем поговорить: я был со Среднего Запада, он с Юга, он был самый настоящий натуралист, а я не знал о муравьях ровным счетом ничего, утратив к тому времени мой первоначальный интерес к поведению животных. Но обширные музеи былой славы Гарварда не должны были пропасть, и, похоже, Уилсон вполне мог обладать умом и энтузиазмом, необходимыми для продвижения эволюционной традиции Гарварда в будущее. Поскольку мои научные достижения уже получили международное признание и никто не мог обвинить меня в том, что я увиливал от своих преподавательских обязанностей или не выполнял их как следует, Пол Доути считал, что справедливость требует: на отделении биологии должны определиться, хотят ли они, чтобы я стал их постоянным сотрудником. Банди с радостью согласился и в одностороннем порядке проинформировал отделение биологии, что он и мистер Пьюзи хотели бы рассмотреть и мою кандидатуру наряду с кандидатурой Эда Уилсона. Предложение, полученное Уилсоном из Стэнфорда, требовало скорого ответа, поэтому специальный комитет был сформирован даже раньше, чем состоялось голосование на отделении, перед самым днем моего рождения (6 апреля), когда мне исполнилось тридцать лет. Через одного из членов комиссии, проницательнейшего Уоррена Уивера, отвечавшего в Фонде Рофеллера за науку, Пол вскоре узнал, что решение комиссии было благоприятным для нас обоих. К тому времени Банди уже сообщил отделению биологии, что он получил от президента Пьюзи разрешение повысить в должности не только Уилсона, но и меня. Поэтому на следующий день Фрэнк Карпентер собрал старший преподавательский состав отделения, чтобы узнать, согласятся ли они с решением специального комитета.
 Объявление о цикле лекций «Репликация макромолекул и рост клеток» в Гарварде.
Объявление о цикле лекций «Репликация макромолекул и рост клеток» в Гарварде.
Я очень беспокоился, что многие из этих динозавров проголосуют против меня. И в самом деле, большинство из них проголосовали против, предпочтя на год отложить решение о моем повышении. Узнав об этом от Эрнста Майра, который благоразумно умолчал, кто именно голосовал против, я не мог сдержать своего возмущения. Удалившись в дом Доути прежде, чем у меня вырвалось бы непечатное ругательство в присутствии слишком многих студентов магистратуры, я во взвинченном состоянии ждал ужина, на который должны были прийти Пол Доути и Дэн Мазия, зоолог из Беркли. За ужином Дэн попытался меня утешить, сказав, что у них в Беркли никогда не стали бы пытаться отклонить решение, которое было настолько неизбежным. Атмосфера была мрачной, Пол Доути, пытаясь спасти вечер, заверил меня, что пока игра не окончена, она не окончена. Если Макджордж Банди позволит одному из второсортных отделений своего факультета пренебрегать его мнением, его власть пошатнется. Пол советовал мне по возможности воздержаться, хотя бы до поры до времени, от грубых выпадов в адрес коллег по отделению. Конечно, наступившие выходные я провел в напряжении, думая, какого же цвета дым пойдет из здания факультетской администрации[17]. К моему глубокому облегчению, Банди перешел в наступление, сообщив Фрэнку Карпентеру, что пока отделение биологии не даст мне повышения, оно может не рассчитывать на новые постоянные ставки или нецелевое финансирование со стороны декана. Вскоре те профессора, которые еще несколько дней назад были категорически против моего утверждения, сочли, что они слишком поспешили с выводами. Еще раз все обдумав, теперь они готовы были охотно поддержать рекомендацию специального комитета. Мне было легче от того, что теперь не придется решать, предлагать ли свою кандидатуру отделению химии, однако не особенно радовался этой победе. Но мне было сложно не оценить мысль, позже высказанную Сеймуром Бензером, — затруднения, сопутствовавшие моему повышению, лишний раз убедили его, что он правильно поступил, когда решил отказаться от перехода в Гарвард. Жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее на одном отделении с примадоннами, чьи скудные достижения едва ли дают им право гордиться даже тем, что они сделали когда-то в прошлом. И все же я не сожалел о Гарварде. Я все лучше понимал, что качество студентов значит намного больше, чем качество коллег по отделению. А в этом отношении Гарвард не в чем было упрекнуть. Усвоенные уроки 1. ГОВОРИТЕ НА ЛЕКЦИЯХ О СВОИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ Осенью 1956 года о ДНК было не так много известно, чтобы посвящать ей отдельный курс. Поэтому я предпочел рассказывать о ДНК в контексте курса по вирусам, в ходе которого я мог сравнивать элегантные эксперименты группы по фагам со старомодными подходами специалистов по вирусам растений и животных. Студенты магистратуры проходили самоотбор в соответствии с тем, насколько их привлекали мои молекулярные идеи. Читая их семестровые работы, я мог отметить тех, кто обращал внимание на важные темы и не переводил бумагу на изложение ничтожных. 2. ТРЕБУЙТЕ ОТ СТУДЕНТОВ УМЕНИЯ ВИДЕТЬ ДАЛЬШЕ ИЗЛАГАЕМЫХ ФАКТОВ Если требовать от способных студентов лишь умения отрыгивать факты и идеи, усвоенные от других, это не подготовит их к жизни за пределами учебных аудиторий. Поэтому на своих экзаменах я все чаще задавал вопросы, требующие оценить правдоподобие гипотетических заголовков из New York Times и Nature. Например, стоит ли верить сообщению, что был обнаружен вирус, способный размножаться вне клеток в среде, в которой содержатся исключительно низкомолекулярные предшественники ДНК, РНК и белков? Любой студент, ответивший на этот вопрос утвердительно, тем самым показал бы, что не уловил самой сути моего курса, и я не посоветовал бы ему выбирать естественнонаучную карьеру. К счастью, на этот вопрос все отвечали правильно. 3. ПООЩРЯЙТЕ СВОИХ СТУДЕНТОВ ОСВАИВАТЬ ПРЕДМЕТЫ, ПО КОТОРЫМ ВЫ НЕ СПЕЦИАЛИСТ Лучший способ подготовить студентов к самостоятельности, к которой все они стремятся, состоит в том, чтобы давать им возможность знакомиться с периферийными дисциплинами и с технологиями, необходимыми для продвижения в будущее. В конце 1950-х, когда мы старались разобраться, как закодированная в молекулах ДНК информация экспрессируется в клетках, ответ надо было искать на молекулярном уровне. Поэтому вполне естественно, что я, биолог, требовал от тех студентов, с которыми собирался работать, с особой силой налегать на химию. Я следил за тем, чтобы в течение первого года магистратуры они выбирали сложные курсы физической и органической химии. Позже им могла пригодиться лишь малая доля полученных на этих курсах специальных знаний, но им никогда не пришлось бы чувствовать себя недостаточно компетентными для экспериментов на молекулярном уровне. 4. НИКОГДА НЕ ДАВАЙТЕ СВОИМ СТУДЕНТАМ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЛАБОРАНТАМИ Имеет смысл давать своим студентам для будущих диссертаций темы, которыми высами искренне интересуетесь. В то же время ни в коем случае нельзя допускать, чтобы они чувствовали, что они работают ради вашей научной карьеры. Студенты лучше занимаются тогда, когда могут быть уверены, что их усилия будут отмечены прежде всего как их собственная заслуга. Обычно всего через месяц или через два после прихода студента в мою лабораторию я переставал ежедневно следить за ходом его работы. Я позволял ему работать в собственном темпе и приходить в мой кабинет лишь тогда, когда ему было что показать — какие-нибудь результаты, положительные или отрицательные. Когда студент оказывается в состоянии провести у себя в лаборатории содержательный семинар, это значит, что он уже научился работать самостоятельно. Неопытному докладчику может пойти на пользу фиаско, когда представленные выводы и полученные данные не будут соотноситься. Нет лучшего средства от нелогичных выводов, чем необходимость представить их перед другими. Впоследствии я взял себе за правило, чтобы меня никогда не указывали как соавтора в публикациях экспериментальных работ моих студентов. 5. НАНИМАЙТЕ ЖИЗНЕРАДОСТНЫХ ПОМОЩНИКОВ Не имеющий постоянной ставки ученый если не спит, то проводит время в лаборатории. Те, кто работал вместе со мной, были для меня чем-то вроде семьи, в кругу которой я часто обедал и вместе с которой ходил на пляж и катался на лыжах. И, нанимая себе лаборантов, которые помогали мне справляться с лабораторной рутиной, я старался окружить себя людьми с чувством юмора и позитивным настроем, с отношением к миру, которое могло успокоить в момент неудачи. Лучшим окружением были мои неженатые ровесники. Еще не обремененные семейными обязанностями, они могли не соблюдать строгий режим работы. Их можно было попросить помочь в вечерние часы или в выходные, когда нам хотелось поскорее получить ответ на какой-нибудь вопрос. Я, в свою очередь, относился к ним скорее как к друзьям, чем как к сотрудникам, и не просил их присутствовать в лаборатории, когда делать там было нечего. 6. АКАДЕМИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕ МОЖЕТ ЗАПРОСТО ИЗМЕНИТЬСЯ Большая часть академических баталий ведется за помещения, назначения и повышения. Университетская жизнь слишком часто оказывается игрой с нулевой суммой, где на каждый выигрыш приходится эквивалентный проигрыш. Увы, большинство деканов и заведующих отделениями часто действуют непоследовательно и поддерживают свои власть и влияние, награждая своего сотрудника чем-то, в чем годом раньше ему было отказано. Еще до моего переезда туда Лео Силард говорил, что Гарвард живет как во сне — характеристика, несомненно, связанная с тем, что его самого так и не позвали на гарвардское отделение физики. Но Лео был хорошо знаком со свойственной университетской среде склонности ко всему ортодоксальному и предупреждал меня, что я должен быть реалистом и что нельзя не ждать особенных перемен от косного отделения биологии Гарварда. Его пессимизм оказался бы более чем оправданным, если бы не твердое намерение Макджорджа Банди довести до конца радикальную модернизацию гарвардской биологии. Люди таких твердых убеждений редко встречаются среди университетского начальства. (обратно)
Глава 8. Навыки, пригодившиеся для успешной университетской карьеры
К возвращению Пола Доути и его жены из Англии мне нужно было найти себе новое жилье. Мне повезло, и я нашел свободную квартиру с одной спальней на Эппиан-Уэй, улице длиной в тысячу футов, всего в пяти минутах ходьбы от Гарвард-сквер. Эппиан-Уэй проходит между Гарден-стрит и Брэттл-стрит, а на ее северной стороне расположен Рэдклифф-Ярд, где некогда гарвардские преподаватели вели почти все занятия Рэдклифф-колледжа. Но теперь, с исчезновением отдельных женских курсов, бывшие аудитории Лонгфелло-холла в Рэдклифф-Ярде перешли в распоряжение педагогического отделения. Вскоре после моего переезда на Эппиан-Уэй педагогическое отделение стало расширяться и на другую сторону дороги, снеся все стоящие на ней скромные деревянные дома, за исключением дома номер ю, построенного в середине XIX века и давно принадлежавшего семье Нун, на втором этаже которого я и жил. Я регулярно, раз в два месяца, выписывал чеки на имя Теодора Нуна, обучавшегося в Гарварде в начале века и преподававшего в Лоуренсвилле еще до Первой мировой войны. Ему было под восемьдесят, он давно уже не преподавал, а дожил почти до ста. Мне было приятно узнать, что среди прошлых жильцов дома номер 10 по Эппиан-Уэй были писатели Оуэн Уистер и Шон О'Фаолейн. Далеко не столь приятной была система центрального отопления этого дома. Зимой мне постоянно приходилось спать под одеялом с электроподогревом. Спартанский облик моей квартиры был просто создан для недорогой мебели, которую я закупил в магазине Door Store на Массачусетс-авеню по дороге к Сентрал-сквер. Простоту этой мебели скоро дополнил большой нью-гемпширский раскладной стол, который я нашел в антикварном магазине около Фолмута на полуострове Кейп-Код. Я надеялся, что присущая ему элегантность вдохновит кого-нибудь из рэдклиффских девушек продемонстрировать свои кулинарные способности на моей крошечной кухне. К началу осени я потерял всякую надежду, что на место главного генетика, от которого отказался Сеймур Бензер, к нам переедет из Глазго проницательный Гвидо Понтекорво. За шесть месяцев перед тем специальный комитет, созванный, чтобы оценить Бензера, счел заслуги Понте также достойными высокой должности. К такому же выводу одновременно пришли выборщики, решавшие, кому занять кафедру генетики, которую планировалось вскоре открыть в Кембридже. Но Понте был сильно привязан к Глазго. Когда его брат Бруно прямо перед тем, как его должны были обвинить в государственной измене за передачу советским агентам секретов атомной бомбы, сбежал в Москву, коллеги дружно защитили Гвидо. Понте, в свою очередь, решил не бросать своих друзей и не поехал ни в один из Кембриджей. В осеннем семестре того года, зная, что весной мне предстоит преподавать студентам колледжа, я прочитал курс биохимии рака для студентов магистратуры. За те недели, что я провел предыдущей зимой в Иллинойсском университете, я понял, что бесконтрольный рост клеток должен стать предметом изучения не только медиков, но и биологов. Биохимик Ван Поттер из Висконсинского университета провел там посвященный раку вечерний коллоквиум, во время которого я осознал, что в любой момент времени большинство клеток в организме взрослого животного не находится в состоянии деления. Чтобы удвоить хромосомы и разделиться, эти клетки должны получить химические сигналы, запускающие последовательность событий, кульминацией которой становится синтез ферментов, задействованных в синтезе ДНК. Раковые клетки, напротив, обычно не нуждаются в сигналах извне, чтобы запустить цикл роста и деления. Последующие поиски таких внутренних сигналов, вызывающих митоз, должны были с большой вероятностью затронуть уже давно известные к тому времени опухолеродные вирусы. Заразив так называемые непермиссивные нормальные клетки, эти вирусы не начинают в них размножаться, но превращают здоровые клетки в раковые. Вирус папилломы Шоупа, про который уже больше двадцати лет было известно, что он вызывает образование бородавок на коже у кроликов, вызывал у меня особый интерес. В его крошечных молекулах ДНК, состоящих из каких-нибудь пяти тысяч пар нуклеотидов, скорее всего, было лишь несколько генов. Прошлым летом в лаборатории морской биологии в Вудс-Хоул я встретился с биохимиком Сеймуром Коэном, который в то время был вне себя от радости из-за сделанного недавно в его лаборатории открытия, что ДНК фага Тг содержит гены, кодирующие ферменты, задействованные в синтезе ДНК. Поначалу я не придавал открытию Коэна должного значения, но через несколько месяцев резко изменил свое мнение. Это произошло во время подготовки к лекции, посвященной опухолеродному вирусу папилломы Шоупа. Я тогда поймал себя на том, что задаюсь вопросом, могут ли его хромосомы тоже, как и хромосомы фага Тг, кодировать один или больше белков, запускающих синтез ДНК. Поскольку в любой момент времени подавляющее большинство клеток взрослого организма не содержит того большого набора ферментов, который необходим для синтеза ДНК, можно предположить, что все ДНК-содержащие вирусы животных обладают генами, функция которых состоит в активации синтеза этих ферментов. Что еще важнее, эти гены, если они каким-либо образом встраиваются в хромосомы клеток, могут превращать такие клетки в раковые. Я был просто без ума от этой идеи, когда излагал ее на лекции, ведь мне удалось наконец понять природу опухолеродных вирусов. Однако за следующие несколько дней я заметил, что мой восторг не передается окружающим. Только тот, кто сам пришел к какой-нибудь заманчиво простой идее, сразу начинает сходить от нее с ума. Все остальные требуют экспериментального подтверждения, прежде чем присоединиться к его танцам с бубном. Я был по-прежнему в восторге от своей теории в начале 1959 года, когда пришел на коктейль к Дэвиду Сэмюелу, британско-израильскому химику, ставшему недавно старшим постдоком в лаборатории специалиста по биоорганической химии Фрэнка Вестхаймера. Дэвид был наследником титула британского лорда, вслед за своим отцом и дедом, первым виконтом Сэмюелом, одним из первых влиятельных людей, поддержавших создание еврейского государства на Святой земле. Он был в то время по-прежнему опечален смертью своей троюродной сестры Розалинды Франклин, которая умерла от рака яичников в апреле предыдущего года. Они много общались друг с другом в школьные годы, но после того, как для обучения химии он выбрал Оксфорд, а она — Кембридж, их пути стали пересекаться реже. Я только тогда осознал, что Розалинда происходила отнюдь не из простой семьи. Будь у нее желание, она легко могла бы войти в то богатое общество, в котором с таким явным удовольствием вращался Дэвид в свободное от химии время. Ярче всех остальных гостей, пришедших в тот день к Дэвиду, была студентка последнего курса Рэдклифф-колледжа Диана де Be. Поспешив занять место рядом с ней, я узнал, что ее отец был венгр Имре де Be, инвестиционный банкир, а мать принадлежала к одному из самых знатных родов Америки. Благодаря этому Диана поучилась и в Брерли, и в Школе мисс Портер, прежде чем поступить в Рэдклифф, где ей удалось почти полностью избежать занятий естественными науками. Мой конспект курса углубленной биологии, первая лекция: «Что такое жизнь?».
Мой конспект курса углубленной биологии, первая лекция: «Что такое жизнь?».
Теперь она жила в одном из домов за пределами кампуса, где ее охотно навещали подруги по частным школам. Пришла и ушла она, привлекая к себе гораздо меньше внимания, чем постаралась бы привлечь одна из обитательниц больших общежитий из красного кирпича, окружающих рэдклиффский четырехугольник на Гарден-стрит. Дэвид, заметив, что Диана, уходя на другую вечеринку, оставила мне свой телефонный номер, не отказал себе в удовольствии тут же сообщить, что некоторое время назад она привлекла внимание сенатора Джона Кеннеди. Его служебную машину недавно присылали за ней из Бостона, когда он в очередной раз заезжал в Массачусетс проведать своих избирателей. Вскоре я позвонил Диане и пригласил ее на обед после одной из моих лекций по углубленному курсу биологии. Этот новый семестровый курс был предназначен для студентов, уже овладевших некоторыми основами биологии. Он был бы куда более полезен, если бы представлял собой связную последовательность лекций, читаемых одним и тем же преподавателем, в духе углубленного курса химии, который давно и с успехом вел Леонард Нэш. Но на моем отделении уже давно решили, что углубленный курс биологии должны вести четыре преподавателя, и в результате получалось попурри из фактов и идей, в котором студентам предстояло разбираться. Но так как я был одним из тех четырех, студенты неизбежно должны были многое услышать о ДНК. Общей темой, связывающей все мои лекции, была необходимость понимать биологические явления как проявления информации, которую несут в себе молекулы ДНК. Многие студенты, а я надеялся, что и большинство, пришли в состояние глубокой безысходности после девяти лекций, прочитанных физиологом Эдвардом Каслом. Высокий и худощавый Касл был человеком умным, но унылым. Его регулярно можно было видеть спешащим на велосипеде, еще до окончания рабочего дня, домой, к жене, которая давно страдала рассеянным склерозом. Его лекции как будто открывали дыру во времени в тридцатые годы. Послушав его вступительную лекцию, я решил, что слушание еще одной будет губительным для моего душевного здоровья. Через три недели пред той же сотней студентов в аудитории Геологического музея прозвучали первые слова моей лекции — обещание, что они ничего больше не услышат о кроликах. Взрыв громкого смеха, раздавшийся в ответ, говорил мне, что атмосферу удалось разрядить. После своей последней лекции, которая была посвящена раку, я повел Диану де Be во французский ресторан Henri IV на Уинтроп-стрит в двух шагах от Гарвард-сквер, которым владела суровая Женевьева Макмиллан. Под ее руководством скромный деревянный дом превратился в популярное заведение, где можно было насладиться французской кухней, общаясь с разговорчивыми собеседниками. Я смотрел в большие глаза Дианы, и настроение у меня было замечательное. Мои лекции прошли хорошо, а импровизированные попытки пошутить не остались неоцененными. Фрэнсис Крик проводил тот семестр в Гарварде как приглашенный профессор химии. Даже теперь, через шесть лет после открытия двойной спирали, Кембриджский университет еще не обеспечил достойной лабораторией Фрэнсиса и Сидни Бреннера, уроженца Южной Африки и необычайно способного экспериментатора, с которым Фрэнсис теперь сотрудничал. Они проводили свои эксперименты в лачуге, построенной во время войны рядом с крылом Остина Кавендишской лаборатории, где когда-то сошлись пары азотистых оснований ДНК. На гарвардском отделении химии, где всегда стремились нанять лучших из лучших, Фрэнсису недавно предложили ставку профессора, правда, не особенно надеясь на его согласие. Тут они были правы, потому что Фрэнсис вскоре узнал, что Медицинский исследовательский совет готов предоставить ему средства для строительства нового лабораторного корпуса специально для микробиологических исследований. Фрэнсис чувствовал себя в хорошей интеллектуальной форме благодаря тому, что его адаптерная гипотеза, которой долгое время пренебрегали, теперь стала широко признанным фактом. Он готов был без конца в подробностях обсуждать, как аминокислоты перед участием в синтезе белка присоединяются к своим специфическим молекулам транспортной РНК. Когда нам с ним вручали премию Уоррена Триэнниала в госпитале штата Массачусетс, моя речь была куда менее убедительной, чем его, — я воспользовался случаем, чтобы высказать свою еще не. подтвержденную теорию о том, что ДНК-содержащие опухолеродные вирусы вызывают рак за счет того, что обладают генами, инициирующими синтез ДНК. Исследования рибосом к тому времени показывали, что их структура намного сложнее, чем мы предполагали, и Альфред Тиссьер убедил специалиста по химии белка, валлийца Юэна Харриса, на время приехать к нам из Кембриджа, чтобы помочь с этой работой. Поначалу мы считали, что на молекулярном уровне рибосомы устроены так же просто, как небольшие вирусы растений. Но первый же анализ концевых групп аминокислот, проведенный Юэном, показал, что рибосомы содержат намного больше белков, чем он мог успешно разделить, пользуясь доступными тогда методами. В связи с этим остаток весны он искал утешения, пробуя еще не знакомые ему сорта американского пива. Размер моей лабораторной группы постепенно увеличивался, несмотря на то что мой первый студент-магистрант, Боб Райзбрау, к моему огорчению, сбежал от нас в море на океанографическом паруснике Atlantis, принадлежавшем лаборатории в Вудс-Хоул. Намного успешнее прошло приобщение к молекулярной биологии двух новых моих студентов, Дэвида Шлессингера и Чарльза Курланда. Дэвид некоторое время работал вместе с Альфредом над дополнительными подтверждениями того, что рибосомы состоят из двух субъединиц, а затем ненадолго съездил в Калтех, чтобы проверить, можно ли выяснить, как долго субъединицы остаются вместе во время многократных циклов синтеза белка, с помощью технологии центрифугирования в градиенте хлорида цезия, используемой Мэттом Мезельсоном. Он вернулся с пустыми руками, обнаружив, что даже субъединицы рибосом нестабильны в высоких градиентах хлорида цезия. Но эта поездка была не совсем безуспешной: в Калтехе Дэвид познакомился с девушкой, на которой впоследствии женился. Он также открыл Дэвида Зипсера, разочаровавшегося в Калтехе студента первого года магистратуры, который жаждал теперь попытать счастья в Гарварде. Первые результаты экспериментов Чака Курланда, посвященных строению рибосом, оказались совсем не такими, как я ожидал. В каждой субъединице он обнаружил одноцепочечные молекулы РНК, причем в большой субъединице эти молекулы были вдвое длиннее, чем в малой. Он ожидал обнаружить цепочки РНК разнообразной длины, чья величина зависела бы от размера полипептидных цепочек, на которые они помогают передавать информацию. Через год Мэтт Мезельсон и Рик Дейверн открыли, что после того, как эти рибосомальные РНК синтезируются, они остаются весьма стабильными при условиях, оптимальных для синтеза белков. При этом одновременно с нашими открытиями Франсуа Жакоб, Жак Моно и Артур Парди получили в Институте Пастера в Париже свидетельства того, что матричные РНК так называемых индуцируемых ферментов существуют всего несколько минут. Это кажущееся противоречие вскрылось в конце лета 1959 года на конференции в Копенгагене, на которой Жак Моно высказал сомнения в том, что молекулы РНК служат матрицей для синтеза всех белков. Не могли ли в действительности молекулы ДНК служить матрицами для синтеза индуцируемых ферментов? Я отверг эту гипотезу по ходу своего краткого доклада о наших открытиях, касающихся рибосом. К сожалению, единственный оживленный эпизод, связанный с этим докладом, произошел в самом его начале и не касался его содержания. Все, кто сидел в первом ряду, достали по экземпляру New York Times — это была идея Сидни Бреннера, который уже давно с завистью отмечал мою способность следить за мыслью докладчика и одновременно быть в курсе последних событий. Незадолго до этого, тем же летом, японский биохимик Масаясу Номура, работавший тогда постдоком в лабораторииСола Шпигельмана в Урбане, заехал ненадолго в мою лабораторию по дороге в Колд-Спринг-Харбор на курс по фагам 1959 года. Лето предыдущего года он провел вместе со мной и Альфредом, описывая аномальные рибосомы, образующиеся при ингибировании синтеза белка левомицетином. Прошел год, а мы по-прежнему не могли прийти ни к какому заключению относительно биологического значения таких рибосом, поэтому я предложил Масаясу воспользоваться опытом, который ему предстояло получить на курсе по фагам, для изучения молекулярной формы нестабильной РНК, образующейся во время заражения клетки фагом Т2. Меня давно уже привлекала РНК фага Тг, потому что ее нуклеотидный состав был почти идентичен нуклеотидному составу ДНК этого фага и можно было предположить, что на эту РНК скопирована информация с ДНК. Хотя это я&аение могло оказаться очень важным, его никак не удавалось описать более подробно. Что представляла собой РНК фага Тг, должно было выясниться благодаря новому методу центрифугирования в градиенте сахарозы, для которого достаточно было небольшого количества РНК и с помощью которого была надежда получить сведения о функции этой РНК посредством измерения скорости оседания ее молекул, помеченных радиоактивными метками. Переход Дэвида Зипсера в Гарвард из Калтеха принес нам немало пользы. Дэвид, которого вскоре стали звать Зип, едва приехав, сразу сосредоточился на технологии центрифугирования в градиенте сахарозы, недавно разработанной в биофизической лаборатории Института Карнеги в Вашингтоне. Безусловно, он был для нас ценным приобретением, но когда мы познакомились с ним лучше, то убедились, что его недовольство Калтехом было, вероятно, связано с одной чертой его характера: он не умел играть в команде. После особенно неуместного замечания о девушке другого студента Зип был наказан испытательным сроком: я запретил ему участвовать в наших дневных чаепитиях с печеньем, и этот запрет сохранялся в течение большей части года. О многом говорит то, что за него при этом никто не стал заступаться. Не улучшил он отношение к себе и тем, что радовался по поводу сбитого в мае 1960 года самолета Гэри Пауэрса, из-за которого Эйзенхауэр был вынужден отменить свой визит в Москву, намеченный на тот же месяц. Зип вырос в семье нью-йоркских коммунистов и вполне осознавал, что улучшение отношений между Соединенными Штатами и СССР отняло бы у его семьи одну из целей существования. Пользу всем, кто работал в Биолабораториях, принесло также назначение специалиста по физиологии насекомых Кэрролла Уильямса новым председателем отделения биологии. В июне 1959 года он получил от администрации факультета деньги на покраску коридоров, при которой в ход пошли яркие оттенки красного, желтого и синего. Были новости и поважнее. Макджордж Банди сказал Кэрроллу, что хотел бы, чтобы отделение биологии представило пять кандидатов на рассмотрение главного специального комитета, который должны были сформировать в середине зимы. После того как нашему отделению в течение всего прошедшего года не удалось переманить в Гарвард именитого генетика, Банди понял, что пора самому брать быка за рога, если он действительно хочет привести отделение биологии в соответствие с новыми требованиями. Для этого не нужно было брать на работу только молекулярных биологов, а каждое новое назначение должно было представлять собой заметный шаг вперед. Миротворческие усилия Кэрролла превзошли все мои ожидания: он хотел, чтобы все пять кандидатур были единогласно поддержаны отделением. Мое ликование по поводу предложения Банди несколько поутихло, когда я узнал, что среди тех пяти, кого собираются пригласить на наше отделение, двое были эмбриологами животных и растений — Аарон Москона и Джон Торри. Я полагал, что эмбриологии суждено оставаться занятием для любителей старины, пока ей не дадут новую жизнь лучшие представления о регуляции экспрессии генов, и поэтому боялся, что эти назначения могут добавить нам еще двух отстающих. Больше надежды внушало стремление отделения нанять специалиста по электронной микроскопии, который мог бы вести современный курс клеточной биологии, и я был рад узнать, что на эту должность решили заманить энергичного Кита Портера из Рокфеллеровского университета. На роль преподавателя современной микробиологии сложно было найти лучшего претендента, чем Мел Кон из Стэнфорда, бывший парижский протеже Жака Моно. Но лучше всего было намерение убедить Мэтта Мезельсона бросить Калтех. Некоторое время назад Мэтт очаровал наше отделение, прочитав лекцию о том, как проведенные им вместе с Фрэнком Сталем эксперименты продемонстрировали полуконсервативный характер репликации ДНК. Серьезным препятствием на пути наших усилий могло стать создание продвинутого научно-исследовательского биологического института в Ла-Хойя, которое планировал Ионас Солк. Он хвастался будущим расположением этого института с видом на океан, когда заезжал в Гарвард осенью 1959 года по дороге в Эксетер, где учился его сын. Он представлял себе, как наберет в этот институт ведущих биологов, включая меня, и они будут проводить там передовые исследования, не обремененные педагогической нагрузкой. У истоков этой утопической картины лежало стремление Лео Силарда создать первоклассную научную среду, которая стала бы его постоянной базой для одновременных занятий биологией и политикой в области ядерных вооружений. Лео очень хотел, чтобы именно Ионас возглавил это учреждение, полагая, что его слава позволит с легкостью добыть деньги у голливудских евреев. Мое возражение, что интеллектуальные заслуги Ионаса не намного выше, чем заслуги Натана Пьюзи, ничуть его не смутило. Лео ответил на это, что в новом институте можно будет учредить такой устав, что управление кадрами и финансами окажется в руках ведущих ученых. Но мне, признаться, более заманчивым показалось предложение стать одним из биологов-основателей нового ответвления Калифорнийского университета, кампус которого тоже должен был расположиться в идиллической Ла-Хойе. В начале марта 1960 года состоялся мой официальный визит в Ла-Хойю для осмотра предполагаемого места нового кампуса. Визит был спланирован так, чтобы совпасть по времени со встречей потенциальных сотрудников института, впоследствии названного Институтом Солка. В аэропорту Сан-Диего меня ждал Ионас с белым стретч-лимузином, чтобы отвезти нас в мотель на берегу Тихого океана. Машину, как объяснил Ионас, предоставил давно покровительствующий ему Национальный фонд полиомиелита, тогда все еще возглавляемый бывшим адвокатом и доверенным лицом Франклина Рузвельта Бэзилом О'Коннором. О'Коннор полагал, что лишь такой роскошный вид транспорта обеспечит Йонасу должное уважение, которого тот был достоин за успешную борьбу с полиомиелитом. Прибыв на место с видом на океан, предназначенное для Института Солка, я увидел, что Мэтта Мезельсона и Мела Кона Ионас тоже позвал в Ла-Хойю. Я потихоньку сообщил всем, что Мезельсону и Кону вскоре предложат также работу в Гарварде. Атмосфера на завершающем обеде, который дали Ионас и руководитель почтенного Института океанографии Скриппса и инициатор создания нового отделения Калифорнийского университета океанограф Роджер Ревелл, была на редкость напряженной, Роджер, которого женитьба сделала наследником "газетных" денег Скриппсов, холодно отнесся к словам Йонаса о том, что он и Йонас будут играть на этом обеде роль мамы и папы соответственно. Я уехал из Сан-Диего, совсем не чувствуя искушения переехать в это место с идеальным климатом. Напротив, я спешил обратно в Гарвард, предвкушая ожидаемый визит Питера, Джин и Кэролайн Медавар. Три года прошло с тех пор, как все мы встретились на острове Скай, и тем временем Кэролайн уже почти закончила обучение в Кембридже. Питер должен был читать в этом году Пратеровские лекции на отделении биологии.
 В гарвардских Биолабораториях.
В гарвардских Биолабораториях.
По окончании последней из трех прочитанных им лекций я пригласил Кэролайн поехать в Вермонт покататься на лыжах. Здесь я совершил ошибку. Кэролайн была неопытной лыжницей и каталась неважно, особенно в сравнении с бесстрашно скользившей вниз по склонам девушкой из Рэдклиффа, которую я тоже позвал вместе с нами. Расстроенная, что ее оставила позади другая девушка, да еще и умная, Кэролайн отправилась к родителям в Нью-Йорк, так что не стоит проявлять внимание к двум девушкам одновременно. К счастью, вскоре в моей лаборатории был сделан серьезный идейный прорыв. В конце 1959 года, как редактор недавно организованного Journal of Molecular Biology, я получил из Урбаны рукопись статьи об РНК фага Т2, авторами которой были Масаясу Номура, Бен Холл и Сол Шпигельман. Я сразу усомнился в ее главном выводе, что, судя по скорости оседания, РНК фага Т2 могла представлять из себя нечто вроде особой формы малой рибосомальной субъединицы. Исходя из того что экспериментально установленные факты заслуживают широкой известности, даже если они были, возможно, неверно интерпретированы, я принял эту статью к печати. Вскоре после этого я предложил Бобу Райзбрау, который только что вернулся после длительной экспедиции в Индийском океане, повторить поставленные в Урбане эксперименты в надежде, что мы сможем наконец обнаружить РНК-матрицы для синтеза белка. Для меня давно было загадкой, почему Боб так внезапно смылся от нас в море. Теперь же я с облегчением узнал, что бежал он вовсе не от моей лаборатории и ее экспериментов, а от собственной связи с одной замужней женщиной. Боб надеялся, что возникшие было осложнения теперь позади, и хотел вернуться в игру. За шесть недель Бобу удалось докопаться до самой сути особой природы РНК фага Т2. При использовании градиентов сахарозы с высоким (10-2М) содержанием ионов Mg2+ вся РНК фага Т2 оказывалась связана с комплексом 70S больших и малых рибосомальных субъединиц. Но при этом, когда Боб воспользовался градиентами сахарозы с более низким (10-4М) содержанием Mg2+, то РНК фага Т2 оседала как свободная РНК, а не как часть малой или большой рибосомальной субъединицы. Мы с восторгом осознали, что рибосомальная РНК вовсе не определяет порядок аминокислот в ходе синтеза белка. Содержащие ее рибосомы представляют собой неспецифические "фабрики", в которых порядок аминокислот в ходе синтеза белка определяется матричной РНК фага Т2. Такую матричную (информационную) РНК до сих пор не удавалось обнаружить в связи с тем, что в большинстве клеток синтезируется намного больше рибосомальной РНК, чем информационной. Но после заражения бактерии таким фагом, как Тг, весь синтез бактериальной РНК прекращается. Все молекулы РНК, производимые в клетке после заражения фагом, синтезируются на матрице ДНК фага Т2. Через неделю я полетел в Нью-Йорк, где безуспешно попытался возобновить дружбу с Кэролайн Медавар, проводившей выходные вместе с родителями в Рокфеллеровском университете. В те же выходные я навестил Лео Силарда, в то время лежавшего в Мемориал-госпитале. Перед самым Рождеством я получил ужасное известие, что у Лео рак мочевого пузыря и что диагностирован он был, возможно, слишком поздно. К счастью, к тому времени, когда я с ним увиделся, Лео взял лечение радиотерапией в свои руки и вскоре уже полностью исцелился. Он хотел первым делом посплетничать о моей поездке в Сан-Диего, а я, в свою очередь, хотел поговорить о нашем большом прорыве с РНК фага Тг. Он сказал, что не готов принять мою идею всерьез, до тех пор пока не будет показано существование молекул информационной РНК не только в зараженных фагом, но и в незараженных клетках. Я ответил, что это и будет следующей задачей наших исследований. Франсуа Гро, молодой французский биохимик из Института Пастера, должен был приехать в Гарвард на лето, чтобы заняться поиском информационной РНК в незараженных клетках Е. coli. Вскоре моей главной задачей стало убедить Мэтта Мезельсона перейти в Гарвард, а не к Йонасу Солку. Он приехал во время случайно выдавшейся недели идеальной апрельской погоды, что уже само по себе было заманчиво по сравнению со смогом Пасадены. Мэтт, в отличие от Бензера, быстро согласился, сказав Полу Доути и мне, что приедет, как только будут отремонтированы предназначенные для него лабораторные помещения. Мел Кон, напротив, выбрал Институт Солка, а Аарон Москона, к моей ничуть не скрываемой радости, решил остаться в Чикаго. В будущем пользу Гарварду сулило также согласие Кита Портера. Напротив, решение Джона Торри покинуть Англию означало, что ботаника в Гарварде, скорее всего, останется интеллектуально пресной. В то время Селия Гилберт нередко приглашала меня на вечеринки, на которых главным напитком была водка и на которых нередко присутствовал один из младших коллег Уолли — физик-теоретик Шелдон Глэшоу. Уолли было тогда двадцать восемь лет, и он уже два года работал старшим преподавателем физики. Оказалось, как ни странно, что теперь его намного больше увлекают наши эксперименты с РНК фага Тг, чем собственные попытки заниматься продвинутой физикой. Вскоре он охотно поехал вместе с Альфредом Тиссьером, Франсуа Гро и мной в Нью-Гемпшир на Гордоновскую конференцию по нуклеиновым кислотам, а затем помогал Франсуа в его поисках РНК, похожей на РНК фага Т2, в незараженных бактериальных клетках.
 Уолли Гилберт в моей лаборатории летом 1960 года.
Уолли Гилберт в моей лаборатории летом 1960 года.
Было очень удобно, что Франсуа и его жена Франсуаза, которая тоже занималась наукой, жили в крошечной квартирке по адресу 101/2 по Эппиан-Уэй, в которую переехал мой отец за два года до этого, довольно рано уйдя на пенсию со своей работы в Чикаго. Папа был в отъезде: годом раньше он съездил в продолжительное путешествие по Европе, которое ему понравилось, и через год он отправился в еще одно, примерно такое же. Эти поездки, к моей радости, говорили о том, что теперь он может подолгу жить один, а значит, после смерти матери ему удалось смириться со своей утратой. На Гордоновской конференции мы узнали, что Сидни Бреннер собирается вскоре поехать в Калтех, чтобы проводить вместе с Мэттом Мезельсоном эксперименты, которые могли независимо доказать существование информационной РНК. В апреле Франсуа Жакоб приехал в Кембридж, чтобы поговорить с Сидни и с Фрэнсисом Криком, и убедил их, что рибосомы сами по себе не несут генетической информации, определяющей порядок аминокислот при синтезе белка. Чтобы подтвердить эту догадку, Сидни вскоре высказал предположение, что фокусы Мезельсона с ультрацентрифугированием должны позволить им обнаружить новые молекулы иРНК фага Т4, связанные с рибосомами, синтезированными клеткой до заражения. В конце июля Сидни, торжествуя, вернулся в Кембридж с известием, что его предположение подтвердилось. Только впоследствии, когда Сидни рассказал нам о результатах, полученных им в Калтехе, он узнал подробности того, как Боб Райзбрау независимо продемонстрировал реальность иРНК. В то лето, в 1960 году, нашу лабораторию украсили несколько жизнерадостных студенток Рэдклифф-колледжа, которые хотели работать лаборантками, чтобы можно было остаться на лето поблизости от Гарвард-сквер. Особенно приятно было присутствие очаровательной Фрэнни Бир, рыжеволосой дочери столь же рыжеволосого Сэма Бира, гарвардского специалиста по американской политике. Я знал Фрэнни еще по моим лекциям по углубленному курсу биологии, на которых она всегда сидела, улыбаясь, в одном из первых рядов. Встретив ее вскоре после этого в Биолабораториях, я узнал, что она очень любит собак и хочет стать ветеринаром. Мы оба сообщили друг другу о своей последовательной поддержке Демократической партии, но поначалу я не мог разделить ее восторгов по поводу Джона Кеннеди. Его отец, Джо, был мне по-прежнему ненавистен за его былые прогерманские настроения. Еще раньше, в июне, мы с Фрэнни были на гарвардской церемонии вручения дипломов, где видели, как ее кумир, бывший одним из попечителей Гарварда, прошагал мимо нас. Как и Элеонора Рузвельт, я тогда по-прежнему поддерживал Эдлая Стивенсона, который уже был демократическим кандидатом на прошлых выборах. Фрэнни же, вслед за ее отцом, надеялась, что на демократическом съезде одержит победу Джон Кеннеди, намного более сильный потенциальный кандидат. Осенью того года Фрэнни, которая была без ума от рок-н-ролла, привела меня на позднее сборище рок-фанатов из колледжа. Никогда мне не приходилось быть настолько не в своей тарелке, и я понял, что мне лучше опекать Фрэнни, как я опекал бы свою маленькую сестру. Осенью я уже не мог приглашать Диану де Be на обеды в ресторан Henri IV. Президентская кампания Джона Кеннеди шла полным ходом, и Диана отложила занятия арабистикой, которым посвятила предыдущий год. Теперь она ездила по стране, агитируя за Кеннеди. Зато в нашу лабораторию пришла студентка последнего курса Рэдклифф-колледжа Нина Гордон, выполнявшая исследовательское задание и обеспечившая мне частые приглашения в ее дом в Рэдклиффе, где у меня был шанс встретить какую-нибудь симпатичную блондинку. В Гарварде президентская кампания постепенно овладевала умами, и я пошел смотреть по телевизору дебаты между Кеннеди и Никсоном к Альфреду и Вирджинии Тиссьер, в их большую квартиру в доме начала века на Спаркс-стрит. Они жили там два года, со времени женитьбы. Ту же самую квартиру вскоре заняли Мэтт Мезельсон и его очень молодая жена Кэтрин. Мэтт и Кэтрин познакомились летом в Колорадо на фестивале и школе классической музыки в Аспене, где Кэтрин училась играть на флейте. К началу сентября я стал уже ярым сторонником Кеннеди, еще больше возненавидел Никсона и был в восторге от того, что среди советников Кеннеди было так много гарвардских профессоров. За опросами общественного мнения я следил с всевозрастающей тревогой, а напряженный вечер дня выборов провел перед телевизором вместе с Альфредом и Вирджинией. Пол Доути и его жена входили в группу гарвардцев постарше, приближенных к кампании Кеннеди. Я слишком устал, чтобы не ложиться спать, пока победа Кеннеди не будет гарантирована, утешаясь тем, что моя мать много лет работала на партийную машину демократов в Иллинойсе и что там Кеннеди не может проиграть. Недели, последовавшие за победой Кеннеди, не дали никаких поводов для разочарований. Главный из висевших в воздухе вопросов был о том, кого из гарвардцев позовут в новую администрацию. То, что Артур Шлезингер покинет Гарвард, чтобы помогать Кеннеди в составлении речей, считалось делом почти решенным. Все были столь же обрадованы тем, что Джона Кеннета Гэлбрейта назначили послом в Индии, а Эдвина Райшауэра — послом в Японии. Но особенный восторг вызвало назначение Макджорджа Банди советником президента по национальной безопасности, управление которого располагалось в западном крыле Белого дома. Чтобы выбрать себе первого заместителя, Банди решил похитить у Гарварда еще одного профессора, остановив выбор на своем друге экономисте Карле Кейзене. Прежде чем вступить в президентскую должность, Кеннеди счел уместным отказаться от членства в попечительском совете Гарварда, пообещав присутствовать на его январском собрании перед самой своей инаугурацией. Несколько недель я с нетерпением ожидал своего выступления в его присутствии, поскольку меня вместе с Фрэнком Вестхаймером попросили вкратце доложить попечителям о новых возможностях для исследований в области молекулярной биологии и биохимии. Но наш избранный президент не смог приехать в тот день в Гарвард из-за неотложных дел в другом месте. Однако это собрание дало мне возможность в последний раз поговорить с Макджорджем Банди как с деканом. За несколько недель до этого он заинтриговал меня, попросив прийти к нему для разговора. Я даже немного помечтал о том, что и меня могли бы позвать в Вашингтон. Однако в последний момент его помощница Верна Джонсон позвонила мне, чтобы отменить эту встречу. На собрании попечителей Банди отвел меня в сторону, чтобы лично сообщить мне хорошую новость, что с 1 июля меня повышают до профессора. Затем он насмешливо добавил, что более высокого академического звания мне уже ждать не приходится. Усвоенные уроки 1. ПРЕПОДАВАНИЕ ПОМОГАЕТ МЫСЛИТЬ ПЕРСПЕКТИВНО Выдающиеся исследователи, наслаждающиеся ничтожной или отсутствующей преподавательской нагрузкой, возможно, предаются роскоши, которую мыслящий человек с трудом может себе позволить. Когда передо мной не стоит задача немедленно разобраться в противоречивых экспериментальных данных, мои мысли текут слишком вяло. Прекрасным стимулом для того, чтобы вплотную взяться за необъясненные результаты, служит необходимость рассказать о них на лекциях. Лучшая аудитория для таких лекций — продвинутые студенты колледжа или магистранты и аспиранты, знающие достаточно, чтобы их реакция могла вызвать у вас внезапное озарение. В начале семидесятых, когда я читал лекции о репликации ДНК, представления о которой тогда были довольно туманны, я внезапно понял, почему вирусные молекулы ДНК имеют избыточные концы, которые соединяются друг с другом во время репликации. Идея, что это приспособление для копирования их концов, была слишком красива, чтобы оказаться неправильной. 2. ЛЕКЦИИ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УДРУЧАЮЩЕ СЕРЬЕЗНЫМИ Не интересно ни читать, ни слушать часовую лекцию, в которой нет ничего, кроме непрерывного потока сухих фактов или даже идей. В любых лекциях, докладах и выступлениях следует чередовать нетрудный для понимания и знакомый материал с мыслями, которые усвоить сложнее. В Гарварде я всегда старался придавать экспериментам, о которых рассказывал, человеческое измерение, дополняя лекции отступлениями о людях и их качествах и давая моим слушателям возможность представить себя на месте экспериментатора, где рано или поздно им и в самом деле предстояло оказаться. 3. ГОВОРИТЕ СТУДЕНТАМ ВСЕ КАК ЕСТЬ В число моих лекций по углубленному курсу биологии в начале 1960-х регулярно входила одна, озаглавленная "Против эмбриологии". Ее основная мысль состояла в том, что изучение многоклеточных организмов лучше отложить до тех пор, пока мы не разберемся в фундаментальных основах жизни, исследуя одноклеточные бактерии. Начало 1960-х было не лучшим временем, чтобы, например, пойти в Лабораторию морской биологии в Вудс-Хоул и изучать там морских ежей. Тех, кто пошел вместо этого в Колд-Спринг-Харбор, чтобы заниматься генами, ждало намного более яркое будущее. Это был не тот тезис, с которым согласилось бы большинство моих коллег, преподавателей биологии, и многие из них считали, что с моей стороны неуместно заявлять такое студентам. Но, приукрашая и замалчивая, мы никуда не придем и плохо подготовим студентов к тому, что ждет их в будущем. 4. ПООЩРЯЙТЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ Если лабораторные столы были свободны, я немедленно принимал способных студентов колледжа, жаждавших проводить исследования под моим руководством. Многие из них еще не определились, идти ли им дальше в магистратуру или в медицинский колледж, и им полезно было самим увидеть разницу между научной работой и работой в клинике. Кроме того, участие в исследовательской группе позволяло им убедиться, что для науки личные качества часто не менее важны, чем умственные способности. Это правда, что для успешного занятия наукой нужны способности определенного рода. В лабораториях нередко можно встретить людей, чьи исключительные таланты могут никогда не проявляться на экзаменах. Они оживают лишь тогда, когда перед ними стоит вопрос о "новом неизвестном", а не о "старом известном". 5. ПОСВЯЩАЙТЕ СЕМИНАРЫ СВОЕГО ФАКУЛЬТЕТА НОВОМУ В НАУКЕ О качестве факультета обычно можно судить по еженедельным семинарам. Научные знаменитости обычно готовы приехать куда-то лишь в том случае, если видят в этом пользу для себя. Семинары, на которые не удается привлечь широкую студенческую аудиторию, скорее всего, окажутся скучными и для аудитории, состоящей в основном из сотрудников, пришедших туда лишь для поддержания чести факультета. Для проведения семинаровлучше всего приглашать представителей зарождающихся научных дисциплин, еще не утвердившихся в вашем университете. Выбирая для проведения семинаров преимущественно своих друзей из числа старших сотрудников, вы рискуете дать студентам лишь то, что у них уже есть. В большинстве случаев следует доверять кому-то из младших сотрудников договариваться с человеком, от которого можно ожидать блестящего семинара, и опекать его, когда он приедет. У младших сотрудников больше времени и мотивов хорошо справиться с этой работой, поскольку они ценят возможность встретиться с ученым, чьи мысли в состоянии обогатить их интеллектуальную жизнь. 6. ВОЙДИТЕ В СОСТАВ РЕДКОЛЛЕГИИ НОВОГО ЖУРНАЛА Состав редколлегии давно существующего журнала слишком редко меняется, чтобы отвечать запросам новых научных дисциплин. Новая дисциплина создает новый образ мыслей и требует нового журнала. Редакторы, живущие прошлым, не всегда могут по достоинству оценить значение нового в науке и часто даже не знают, к кому обращаться за рецензией. Прошло всего шесть лет от открытия двойной спирали до основания Journal of Molecular Biology. Поначалу я сомневался, стоит ли входить в редколлегию и тратить время на то, чтобы отделять зерна от плевел. Но когда главным редактором стал специалист по кристаллографии белка Джон Кендрю, мне стало ясно, что этот журнал будет привлекать статьи высокого качества. За взятую на себя ответственность следить за тем, чтобы важные новые идеи публиковались как можно быстрее, я был вознагражден возможностью одним из первых извлекать пользу из знакомства с этими идеями. 7. НЕМЕДЛЕННО ПУБЛИКУЙТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БОЛЬШИХ ОТКРЫТИЙ Мы совершили большую ошибку, когда не стали сразу публиковать данные о сделанном в нашей лаборатории в феврале 1960 года открытии информационной РНК фага Т2. В то время мы с Уолли хотели еще немного дополнить эти данные, продемонстрировав одновременно и существование информационной РНК кишечной палочки. Но эта задача оказалась намного сложнее, чем мы ожидали. Тем временем в Кембридже в конце апреля Сидни Бреннер и Франсуа Жакоб независимо пришли к концепции информационной РНК, и Сидни вскоре доказал ее существование, проведя эксперименты в Калтехе вместе с Мэттом Мезельсоном. Хотя наши работы были опубликованы одновременно, Сидни рассказывал, что я задержал его публикацию, из-за чего другие коллеги решили, что наши гарвардские эксперименты были производным от их экспериментов. На деле же наши были проведены на четыре месяца раньше. 8. ПУТЕШЕСТВИЯ ДЕЛАЮТ НАУКУ ЛУЧШЕ В каком бы престижном научном учреждении вы ни работали, в любой отдельно взятый момент действительно важные для вашей специальности вещи с большой вероятностью делают где-то в другом месте. Если вы живете в Бостоне, это не значит, что вам незачем постоянно быть в курсе, что происходит в других горячих точках науки, таких как Стэнфорд, Калтех или Ла-Хойя. Отказываясь от выступлений перед другими аудиториями, вы вредите собственному будущему. Выбираясь за пределы своей территории, вы можете встретить способных аспирантов и постдоков, которые сумеют усилить вашу команду. Если вы знакомитесь со способным исследователем по его статьям, вероятно, его взял на работу кто-то другой. Если вы разъезжаете слишком много, это, естественно, приводит уже к обратным результатам. Старайтесь никогда не отменять своих лекций по ключевым курсам. Но когда таких лекций у вас нет, стоит тратить время на то, чтобы знакомиться с продвинутыми исследованиями в других местах. (обратно)
Глава 9. Навыки, подхваченные незначительным консультантом Белого дома
Я ждал восемь месяцев, пока в сентябре 1961 года администрация Кеннеди не сообщила мне, что мои способности могут ей пригодиться. После обеда за длинным главным столом в профессорском клубе гарвардский физхимик Джордж Кистяковский отвел меня в сторону, чтобы спросить, не соглашусь ли я помогать Президентскому комитету научных консультантов (PSAC) в оценке возможности нашей страны в области использования биологического оружия. Со времени окончания Второй мировой войны мне всегда хотелось знать, какое биологическое оружие могло быть у нас разработано, и я ответил, что если понадоблюсь PSAC, я всегда к его услугам. Комитет научных консультантов был создан президентом Эйзенхауэром года три назад в ответ на то потрясение, которое вызвал запуск спутника, показавший, что СССР опередил нас в освоении космоса. Вначале PSAC возглавлял Джеймс Киллиан, тогдашний президент Массачусетского технологического института, а после него — Джордж, что было связано с тем уважением, которое питал Айк[18] к его способностям использовать научные достижения в военных целях. В Лос-Аламосе обширный опыт Джорджа в работе с взрывчатыми веществами пригодился для изготовления первых атомных бомб. Теперь же PSAC возглавлял Джером Визнер из крупной лаборатории электроники Массачусетского технологического, в конце войны тоже работавший в Лос-Аламосе. Большинство членов комитета были физиками и химиками, что было связано с общей озабоченностью ядерным оружием и ракетной техникой. Джордж по-прежнему входил в его состав, как и Пол Доути, который надеялся, что теперь, когда Кеннеди стал президентом, у нас могло получиться замедлить, если не прекратить совсем, испытания все более мощных водородных бомб. Вскоре я заполнил несколько анкет из Белого дома, требуемых ФБР для наведения необходимых справок, чтобы выдать мне допуск к совершенно секретным материалам. Только имея такой допуск, я мог приехать в Форт-Детрик — большой и беспорядочно выстроенный комплекс, где занимались биологическим оружием, расположенный в двадцати пяти милях к северу от границы округа Колумбия, у подножий Голубого хребта. Пол Доути (слева), Джерри Визнер (справа) и президент, который дал им надежду.
Пол Доути (слева), Джерри Визнер (справа) и президент, который дал им надежду.
Той осенью Уолли Гилберт проводил все больше времени в Биолабораториях, куда он часто приходил со своего отделения физики, где у него по-прежнему было много преподавательской работы. У всех на уме была тогда концепция информационной РНК, и на прошедшем в июне того года симпозиуме в Колд-Спринг-Харбор главной темой было ее значение. Альфред Тиссьер, убедившись, что новосинтезированные молекулы иРНК способны функционировать в системах, лишенных клеток Е. coli, задался вопросом, могут ли молекулы РНК, у которых все азотистые основания одинаковы, тоже стимулировать синтез белка. Но, к его разочарованию, поли-адениловая кислота, или полиА (AAA...), синтезированная в лаборатории Пола Доути, не проявляла никаких матричных функций, и Альфред выбросил синтетическую РНК из головы. Он снова вспомнил о ней, когда на Биологическом конгрессе в Москве в августе того года услышал, вместе со мной и Уолли, поразительное сообщение Маршалла Ниренберга, что полиуридиловая кислота, или полиУ (УУУ...), кодирует поли-фенилаланин. Впоследствии выяснилось, что полиА тоже может служить матрицей для синтеза белка и кодирует полилизин. У Альфреда не получилось обнаружить, что полиА может выступать в роли иРНК, в связи с тем, что ему, к несчастью, дали агрегированную РНК, не способную связываться с рибосомами. Вернувшись из Москвы, Уолли занял бывший лабораторный кабинет Альфреда и занялся изучением взаимодействий между полиУ и рибосомами. В течение следующего года Альфред планировал работать то в Париже, то в Кембридже, ожидая, когда в Женеве будет готова его новая лаборатория. За несколько дней до своего отъезда Альфред и Вирджиния присоединились ко мне и Фрэнни Бир, которая этим летом снова работала у меня лаборанткой, за изысканным ужином на четверых в новом, похожем на посольство здании Американской академии — Брандеджи, к юго-западу от Бостона. Мы с Фрэнни приехали на моем MG, который я собирался одолжить ей на ближайшие шесть недель, пока меня не будет. После Москвы я планировал поехать в Камбоджу, где муж моей сестры, Боб Майерс, возглавлял базу ЦРУ, а затем в Японию, которую мне обещал показать Масаясу Номура. Тем летом ежедневное общение с Фрэнни помогало мне разбираться в своих отношениях с двумя студентками Рэдклиффа, с которыми я недавно подружился, — чудесными блондинками-близняшками Софией и Талассой Хенкен. Они жили в большом комфортабельном доме в шикарном районе Честнат-Хилл, всегда в тени своей матери, которая была авторитетом по садоводству и вела собственную телепередачу. Таласса, которой, казалось бы, суждено было выйти замуж за человека голубых кровей, недавно познакомилась с молодым инженером-пакистанцем, персонажем куда более ярким, чем можно было ожидать от жениха будущей дамы из бостонского Винсент-клуба. У Софии, не такой оригиналки, как ее сестра, был молодой человек из Нового Орлеана, который, хотя и не подходил для Бруклинского загородного клуба, умел неплохо исполнять Гилберта и Салливана. Мать близняшек планировала в середине октября устроить дома большой праздник по случаю их двадцать первого дня рождения. Я надеялся, что мои многочисленные письма и открытки из Королевского отеля в Катманду обеспечат мне приглашение на место рядом с Софией или с Талассой на этом торжественном вечере. Но, увы, этого не случилось, хотя приглашение я все же получил, а Фрэнни любезно согласилась быть моей дамой. Близняшек на этом вечере несколько затмевала элегантная высокая второкурсница Энн Дуглас Уотсон (мне не родственница), чье очевидное социальное и интеллектуальное превосходство над мужчинами ее возраста заставляло меня с надеждой задумываться, не дает ли мне как потенциальному жениху преимущество то обстоятельство, что ей не пришлось бы менять фамилию. Но самым завидным женихом на этом вечере, что прекрасно понимала госпожа Хенкен, был Десмонд Фицджеральд, наследник рыцарского титула, приехавший из Ирландии, чтобы изучать историю искусства в Музее Фогга. Вскоре благодаря близняшкам я получил приглашение от Десмонда на субботний вечер в его квартире на Массачусетс-авеню, устроенный им вместе с Дороти Дин. Ее облаченная в черное фигура с королевской осанкой нередко была украшением обедов в University Restaurant и Hayes-Bickford's и еще большим украшением тех многолюдных компаний, состоявших во многом из геев, которые собирались по вечерам в клубе Casablanca под кинотеатром Brattle. Разговаривая в начале вечера с Талассой, которая утверждала, будто о большинстве гостей ничего не знает, я невольно стал прислушиваться к самоуверенному и радостному голосу Эбби Рокфеллер, самой юной на этом вечере, старшей дочери Дэвида и Пегги Рокфеллер. Эбби не пошла в колледж, а стала учиться игре на виолончели в Бостоне, поселившись в доме своей подруги к северу от Гарвард-сквер. И вот, на следующий день, пешком, поскольку мой открытый MG был теперь оставлен на зиму в гараже мисс Маккартни на Брэттл-сквер, я дошел по Брэттл-стрит до дома семьи Черчиллей, чтобы продолжить наш оживленный разговор, завязавшийся прошлым вечером. За чаем мы сошлись на том, что неимущим от имущих во все времена будут перепадать одни гроши. К тому времени материализовался мой допуск, и вскоре я стал регулярно летать в Вашингтон для участия в заседаниях новообразованной группы по "ограниченной войне" Президентского комитета научных консультантов. Недавнее создание этой группы было ответом PSAC на постоянно растущее американское присутствие во Вьетнаме. Использование ядерного оружия было исключено с тех пор, как Эйзенхауэр решил не спасать с его помощью французов при Дьенбьенфу, и теперь было неясно, как удержать Южный Вьетнам от вьетконговцев. Ни один из подчиненных Банди не считал, что решением было массированное применение сухопутных войск. В условиях, когда их южные границы были под угрозой, китайцы всегда могли обеспечить столько солдат в качестве пушечного мяса, что ни один американский президент не мог и помыслить тягаться с ними. Использование летальных химических или биологических средств тоже было Рубиконом, который правительство не хотело переходить. Поэтому военные, отвечавшие за химическое и биологическое оружие, решали вопрос об использовании "инкапаситантов" — средств, которые выводили бы вражеских солдат из строя лишь на время. Министру обороны Роберту Макнамаре, судя по всему, нравилась эта идея, и задача PSAC состояла в том, чтобы представить Кеннеди независимую оценку возможности военного применения таких средств. Первый новый химический агент, о котором я узнал, был как раз смертельным ядом — но только для растений. "Агент Оранж" был на повестке дня в мой первый визит в здание Исполнительного управления Президента, на юго-восточной стороне четвертого этажа которого, некогда занимаемого госсекретарем Корделлом Халлом, теперь располагалось управление PSAC. Выступая перед всей группой по ограниченной войне, офицер войск специального назначения разъяснял, как распыление этого гербицида вдоль дорог снижает опасность вьетконговских засад. Если бы это было выступление на научном семинаре, я высказал бы свои сомнения в его выводах из-за нехватки статистического анализа. Но, будучи простым консультантом, я счел уместным хранить молчание, впервые в жизни присутствуя на инструктаже, проводимом военными. Впоследствии Вине Макрей, отвечавший в PSAC за ограниченную войну, сообщил мне, что он никогда не высказывает сомнений в компетентности инструктирующих офицеров. Это уж было дело вышестоящего начальства, если оно сочло бы такое уместным. Возможность PSAC влиять на военные решения зависела от того, чтобы Министерство обороны видело в комитете возможного союзника в попытках добиться своего от президента. Снижает ли "Агент Оранж" число засад — об этом могли судить одни военные. PSAC нужен был, чтобы оценить, сулило ли использование этого гербицида какие-либо негативные последствия для здоровья военнослужащих, задействованных в его распылении. Но здесь нас тоже заверили, что подобные дефолианты для людей не представляют опасности. Разговор с Винсом позволил мне узнать, где в Белом доме работала моя очаровательная подруга из Рэдклиффа Диана де Be. Быстро выяснив, что ее кабинет находится этажом выше, я взбежал вверх по лестнице и застал ее за разговором с начальником, Маркусом Раскиным, младшим сотрудником Национального совета безопасности, который теперь возглавлял Макджордж Банди. Марк, работавший раньше на либерального конгрессмена-демократа Боба Кастенмайера из Висконсина, теперь играл роль символического "левого" в Совете безопасности. Банди полагал, что присутствие Раскина может дать ему возможность выбирать из нескольких возможных вариантов, имея дело со сложными международно-политическими дилеммами. Намного позже я узнал, что проявленная Марком ранее откровенность в вопросах, связанных с Кубой, к тому времени уже привела к его исключению из узкого круга лиц, принимавших важные решения. Однако по Диане, ободренной визитом в Пентагон, который она совершила в тот день на вертолете, никак нельзя было сказать, что она понимает ничтожную роль ее ведомства в деле национальной безопасности. На тот вечер у нее уже были планы, и мы договорились поужинать вместе, когда я в следующий раз буду в Вашингтоне. Еще одним консультантом PSAC был тогда мой гарвардский коллега Элиас Джеймс Кори. Первоклассный химик-органик, он должен был отвечать за химические средства, в то время как я — за биологические. Он ездил на Абердинский испытательный полигон, чтобы посмотреть, чем там занимаются химические войска, а я навещал Форт-Детрик, чтобы быть в курсе нашей программы по биологическому оружию. Когда мы с Кори впоследствии составляли отчет, имевший шансы дойти до президента, мы пользовались для хранения сверхсекретных материалов надежным сейфом в одном из помещений Мемориальной библиотеки Конверсов. Незадолго перед тем нам вкратце доложили также о советских работах в этих направлениях. Мы увидели фотографии, полученные, наверное, еще до разведывательных полетов Гэри Пауэрса, и на этих снимках были запечатлены сетки из перекрещивающихся полос, которые можно было интерпретировать как советские полигоны для испытаний химического и биологического оружия. К тому времени у СССР определенно были возможности для использования смертельных фосфорорганических нейротоксинов в качестве оружия массового поражения на территории США. Но разве стали бы советские власти это делать, если считали, что мы можем ответить ядерным ударом? И кроме того, разве стала бы любая серьезная армия рисковать возможностью того, что переменившийся ветер отнесет облако нервно-паралитического газа не в сторону цели, а на свои же войска? Куда срочнее химическим войскам требовалось, чтобы в PSAC подготовили серьезный анализ инкапаситанта BZ, по поводу которого военные были полны энтузиазма. Добровольцы, подвергавшиеся его воздействию, некоторое время вели себя как зомби, а никакого долговременного эффекта замечено не было. Могло ли это средство позволить выигрывать сражения, не убивая вражеских солдат? Однако не будут ли одурманенные этим средством люди в условиях сильной жары умирать от обезвоживания? Еще большее беспокойство вызывало то, что добровольцы, подвергшиеся воздействию BZ, поначалу испытывали галлюцинации, сходные с теми, что вызывает ЛСД. Поэтому ни Кори, ни я не считали BZ разумной мерой борьбы с Вьетконгом. Вечером перед моим первым визитом в Форт-Детрик, центр, руководивший разработками биологического оружия, я заехал в Вашингтон ради своего отложенного ужина с Дианой де Be. Мы поужинали в ресторане Jockey Club при гостинице Fairfax возле Дюпон-серкл. Это было заведение, самое что ни на есть подходящее для того, чтобы увидеть руководителей компаний и политиков или чтобы они увидели вас, и в часы ужина здесь сложно было отыскать людей малозначительных. Диана, судя по всему, не собиралась никого видеть, потому что не взяла очков, без которых видела только мое лицо. Она уже входила в состав джорджтаунской команды "Новых рубежей" и избегала разговоров о Кеннеди, предпочитая говорить о выходных, которые она провела недавно вместе с министром финансов Дугласом Диллоном и его женой Филлис. Представитель власти совсем другого рода встретил меня, когда я впервые пришел в офицерский клуб Форт-Детрика. Это был гражданский научный директор программы Райли Хаусрайт, выросший в Техасе. Давно связанный с разработками биологического оружия, он стал работать на армию сразу после того, как получил доктора философии в Чикагском университете. За обедом Райли сказал мне, что считает свою детрикскую программу прискорбной государственной необходимостью. Позже мы в сопровождении нескольких военных осмотрели огромный детрикский комплекс. Мне показали множество разнообразных конструкций бомб для распыления биологических агентов, а потом одели меня в защитную одежду и провели в большое, похожее на фабрику здание, где размещались огромные емкости для выращивания опасных болезнетворных организмов. Затем мы вернулись в центр на инструктаж, посвященный двум многообещающим биологическим инкапаситантам — вирусу венесуэльского энцефаломиелита лошадей (ВЭЛ) и стафилококковому энтеротоксину. С первым из них (ВЭЛ) удалось продвинуться в сторону возможности боевого применения намного дальше, чем со вторым. Хотя ВЭЛ обычно переносится комарами, ученые из Детрика показали, что животных можно также заражать им с помощью аэрозольных облаков. В такой форме он с большой вероятностью был способен заражать также людей. Хотя мне говорили, что у взрослых ВЭЛ-инфекция обычно проходит, не оставляя долговременных повреждений мозга, иногда этот вызывающий лихорадку вирус приводит к смерти самых молодых или самых старых. На мой взгляд, о применении его во Вьетнаме или, если уж на то пошло, где бы то ни было еще и речи быть не могло. Форсирование программы по стафилококковому энтеротоксину, напротив, представлялось мне многообещающим. Он вызывал непрерывную рвоту в течение суток, что, конечно, могло испортить церковный пикник или любое другое подобное мероприятие, но случаев смертельного исхода, вызванного этой инфекцией, известно не было. Перед самым отъездом я сказал Райли, что меня удивило, как мало нашей стороне известно о токсине сибирской язвы, несмотря на постоянно проскальзывающую в печати озабоченность по поводу его смертоносных свойств. Не могли ли на его основе без труда создать оружие, которое стали бы без предупреждения применять против ни в чем не повинного гражданского населения? Тогда я формально находился в Гарварде в годичном отпуске, собираясь получить стипендию приглашенного сотрудника в Колледже Черчилля в Кембридже. Планируя ознакомиться там с работой совершенно новой Лаборатории молекулярной биологии (ЛМБ) Медицинского исследовательского совета, я еще не предвидел моих новых обязанностей, связанных с PSAC. В ЛМБ я собирался начать работу с РНК-содержащими фагами, которых открыли годом раньше в Рокфеллеровском университете Нортон Зиндер и его аспирант Тим Лёб. Лёб не хотел посылать образцы своего фага h потенциальным конкурентам до завершения экспериментальной части своей диссертации. В течение следующего года были открыты еще несколько РНК-содержащих фагов, одного из которых, R17, Сидни Бреннеру уже удалось раздобыть. Приехав в его лабораторию в ЛМБ, я собирался получить очищенные образцы R17, что было бы первым шагом на пути исследования его короткой одноцепочечной РНК, в которой было, судя по всему, меньше четырех тысяч нуклеотидов. Такие молекулы могли дать превосходные матричные РНК для исследований синтеза белка in vitro (в среде без клеток). В конце марта я приехал в Кембридж, где ко мне присоединилась Нина Гордон, за год до этого работавшая над диссертацией у меня в лаборатории. Теперь ей хотелось быть в Европе, поближе к ее молодому человеку Джино Сердже, физику-теоретику из Италии, работавшему в то время в Женеве. К нашему с Ниной огорчению, эксперименты с фагом R17 в ближайшие два месяца застряли из-за загрязнения культур клеток Е. coli более обычными ДНК-содержащими фагами. Работу с фагом R17 удалось по-настоящему начать только в первой половине июня, когда я вернулся в Гарвард, где мог подключить к этому занятию своих студентов. Еще находясь в Англии, я надеялся больше узнать о сибирской язве, посетив сверхсекретную британскую лабораторию в Портон-Дауне в окрестностях Солсбери, где занимались работами, связанными с биологическим оружием. Но оказалось, что с программой по изучению сибирской язвы там продвинулись не дальше, чем в Форт-Детрике. В 1942 году в Великобритании вели активные исследования сибирской язвы на небольшом островке у берегов Шотландии, но нынешний руководитель программы, Дэвид Хендерсон, не хотел продолжать тратить деньги на оружие, которое, по его мнению, могло разрушить моральный авторитет британского правительства. Когда я на некоторое время вновь вернулся в Детрик, меня подробнее проинструктировали о программе по пирикуляриозу риса — болезни риса, вызываемой патогенным грибком, о которой я узнал в свой прошлый визит. В то время как генетики в других учреждениях работали над выведением новых сортов риса, устойчивых к пирикуляриозу, в Детрике задачей было выведение сортов возбудителя пирикуляриоза, подходящих для уничтожения риса в Северном Вьетнаме. В Детрике вполне можно было разводить этот возбудитель в немалых количествах, но оставалось неясным, каким образом внедрять его на поля. Использование вертолетов считали совершенно нереальным, потому что ни у одного имевшегося на вооружении американской армии вертолета не было радаров, которые позволили бы осуществлять ночные рейды для распыления патогена над рисовыми полями в дельте Красной реки. Впоследствии один офицер военно-воздушных сил сообщил мне об остававшемся под секретом прижимающемся к земле бомбардировщике, управляемом с помощью радаров, который проходил тогда испытания в окрестностях Далласа. Вероятно, только благодаря бюрократическому недоразумению меня допустили в центр специального проекта Форг-Детрика, где осуществляли часть его программы, которую я увидел лишь однажды. В этом центре ученые работали не на Министерство обороны, а на ЦРУ, разрабатывая яды для политических убийств. В числе прочих ядов, над применением которых они трудились, был токсин рыбы фугу. Однако синтез этого токсина оказался задачей, достойной лучших химиков-органиков, поэтому сотрудники Детрика привлекли для этой цели Боба Вудворда из Гарварда. Где-то в недрах их ничем не примечательного серого здания, судя по всему, хранился яд, который Бобби Кеннеди впоследствии надеялся подсунуть Фиделю Кастро. Многие из сотрудников Гарварда, горячо выступавших в поддержку "Новых рубежей", были неприятно удивлены, когда тридцатилетний брат президента Кеннеди, Эдвард Мур (Тедди), выдвинул свою кандидатуру на выборах младшего сенатора от штата Массачусетс, где его соперником был Джордж Лодж. Баллотироваться в сенаторы, имея ничтожный опыт работы в течение одного года помощником окружного прокурора, было весьма самонадеянно. А годы обучения Тедди в гарвардском колледже были запятнаны скандалом, вызванным тем, что он послал вместо себя на экзамен кого-то другого. Хотя потом он и получил диплом юриста в Университете Вирджинии и, в 1959-м, разрешение на адвокатскую практику, в Гарварде этим выпускником не гордились. Еще одним кандидатом, независимым, был гарвардский профессор истории Стюарт Хьюз, в основе избирательной кампании которого было противостояние гонке ядерных вооружений. Политолог Сэм Бир, отец Фрэнни, не одобрял Хьюза, полагая, что он непрактичен и не имеет шансов на победу, он считал, что, как демократы, мы должны поддержать кого-то, кто усилит поддержку президента Кеннеди в сенате. Вскоре меня пригласили посмотреть на Тедди лично на собрании, которое проводил Сэм для избранных коллег по Гарварду в отеле Continental в Кембридже. В тот день Тедди определенно произвел меньшее впечатление, чем его обаятельная светловолосая жена Джоан. Надзор PSAC за ядами принял более гуманный оборот, после того как Джерри Визнер прочитал книгу Рейчел Карсон "Безмолвная весна", по частям публиковавшуюся в журнале New Yorker начиная с июня 1962 года. Карсон утверждала, что химические пестициды быстро распространяются по пищевым цепям на всей планете и представляют непосредственную опасность для окружающей среды, что они не только убивают рыб и певчих птиц, но и могут представлять угрозу самому существованию человечества. Идеи Карсон вызвали в обществе настоящую бурю, и сам президент Кеннеди оказался вовлечен в полемику, заявив, что книга Карсон убедила его администрацию отнестись к проблеме пестицидов со всей серьезностью. В то время ни одному федеральному агентству не было поручено проводить серьезные и беспристрастные исследования экологических последствий применения таких химикатов. Эту функцию было бы естественно доверить Министерству сельского хозяйства, но оно было слишком крепко связано с производителями сельскохозяйственных химикатов. Поэтому Джерри назначил своего заместителя по биологическим наукам Колина Маклауда главой специальной рабочей группы PSAC, в которую попросили войти Пола Доути и меня. Первое собрание группы состоялось 1 октября, но вскоре нам пришлось прервать ее работу в связи с тем, что все внимание PSAC отвлек на себя Карибский кризис. Только через год я узнал, что один из обсуждавшихся в ту страшную неделю ответов состоял в том, чтобы самолеты с авиабазы в Хоумстед к югу от Майами сбрасывали на Кубу устройства, распыляющие ВЭЛ. Наша группа работала прежде всего с двумя типами пестицидов — с долгоживущими хлорированными углеводородами, самым известным из которых был ДДТ, и с намного более токсичными короткоживущими фосфорорганическими соединениями, такими как севин. Последние были первоначально разработаны как нервно-паралитические агенты для использования в военных целях, но впоследствии были получены их менее токсичные аналоги, такие как тиофос, предназначенные для борьбы с насекомыми. Оба типа пестицидов применяли все больше и больше, причем многие насекомые, в свою очередь, на генетическом уровне вырабатывали к ним устойчивость, особенно к хлорированным углеводородам. Карсон сконцентрировала свое внимание прежде всего на хлорсодержащих пестицидах, в связи с тем что они намного стабильнее, и указала на постоянно растущие концентрации этих веществ в жировых тканях живых существ во всех звеньях пищевых цепей. Хотя ДДТ, который добровольцы принимали в довольно больших количествах, в ближайшие сроки не оказывал никакого эффекта, его более токсичные производные, такие как диелдрин, вполне могли представлять угрозу здравоохранению. Диелдрин, уже широко применяемый в то время в качестве пестицида, в больших дозах оказывал опасное токсическое воздействие на печень. Еще тревожнее было то, что у мышей, подвергшихся воздействию диелдрина в намного меньших количествах, возникали гепатоаденомы, которые вполне могли развиться в злокачественные карциномы. Но в Управлении по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств эти аденомы называли доброкачественными, поэтому Министерство сельского хозяйства препятствовало применению здесь так называемой поправки Делани, не допускающей наличия канцерогенов в пищевых продуктах нашей страны. Однако если бы Управление полностью запретило все пестициды на основе хлорированных углеводородов, то американское сельское хозяйство лишилось бы химических средств, которые стали жизненно необходимы для его высокой производительности. Самым благоразумным выходом представлялось рекомендовать резкое сокращение применения диелдрина, до тех пор пока не будет окончательно выяснена степень его канцерогенности. Только после подробного изучения деятельности Министерства сельского хозяйства и Управления по контролю качества пищевых продуктов, связанной с пестицидами, мы пригласили на заседание нашей группы Рейчел Карсон. Она с радостью приняла это приглашение, но сохраняла в тот ранний январский вечер невозмутимое спокойствие и ничем не напоминала свихнувшуюся натуралистку-истеричку, какой ее изображали лоббисты производителей химикатов и сельскохозяйственной продукции. Гигантская химическая компания Mon-santo распространила пять тысяч экземпляров пародирующей "Безмолвную весну" брошюры под названием "Годы запустения", где описывался мир без пестицидов, опустошенный голодом, болезнями и насекомыми. Такие нападки нашли отражение и в рецензии на "Безмолвную весну", опубликованной журналом Time, где сетовали на чрезмерно упрощенный подход автора и откровенные неточности. Через две недели после встречи с Рейчел Карсон наша группа в ходе долгих обсуждений подготовила первый вариант отчета президенту. Хотя в этом отчете и признавалась незаменимой роль пестицидов в современном сельском хозяйстве и здравоохранении (например, для борьбы с комарами), по большей части он был посвящен опасности, которую представляют пестициды для людей, рыб, всей живой природы и окружающей среды. На этот вариант отчета немедленно последовала возмущенная реакция со стороны Министерства сельского хозяйства. Министр Орвилл Фриман написал PSAC, что в нынешнем виде отчет нанесет огромный вред сельскому хозяйству США. После того как в отчет было добавлено еще несколько страниц о пользе пестицидов и вся группа PSAC одобрила его новый вариант, министерство потребовало, чтобы они подготовили подробную рецензию на этот отчет, прежде чем президент одобрит его публикацию. Но Джерри Визнер настоял на своем, отказавшись также добавить в отчет обобщающее утверждение, что пищевые продукты нашей страны безопасны, и убрать последнее предложение, отмечавшее роль Рейчел Карсон в привлечении общественного внимания к этой проблеме. К нашему глубокому облегчению, президент Кеннеди опубликовал этот документ без искажений 15 мая 1963 года. К тому времени Диана де Be больше не работала у Марка Раскина в PSAC под крышей здания Исполнительного управления. Несмотря на то что недавно она купила дом на тихой улочке возле Джорджтаунского университета, в какой-то момент она внезапно уехала в Париж. В Вашингтоне мне теперь чаще приходилось обедать и ужинать с другими участниками групп PSAC или с Лео Силардом и его женой, не имевшими постоянного жилья и жившими в то время в отеле Dupont Plaza. Во время Карибского кризиса Лео с таким ужасом ожидал, что вот-вот разразится война, что уехал из Нью-Йорка в Женеву через Рим, где безуспешно пытался добиться аудиенции у папы. Через месяц Силарды с некоторой опаской вернулись в Вашингтон, где Лео продолжил работать над своими неортодоксальными проектами, как уменьшить вероятность ядерной войны. В последнее время вновь возобновились надземные ядерные испытания: Советский Союз вскоре после возведения Берлинской стены прервал международный мораторий. Через шесть месяцев наши разработчики ядерного оружия последовали примеру советских. В политике меня в то время более всего беспокоило непрерывно расширяющееся военное присутствие США во Вьетнаме. В то время в Вашингтон только что вернулись моя сестра Бетти и ее муж Боб, бывший начальник базы ЦРУ в Камбодже. Пятнадцать с лишним лет опыта работы на Дальнем Востоке убедили Боба, что посылать во Вьетнам новые и новые войска — значит создавать там болото, от погружения в которое наша страна еще долго не оправится. Но он знал, что многие в руководстве армии США были настроены более оптимистично. В гостях у Боба и Бетти в их доме типа ранчо, откуда Бобу было несложно регулярно ездить в штаб ЦРУ в Лэнгли, я говорил, что нашей группе по ограниченной войне было нечего предложить в помощь американской миссии во Вьетнаме. К тому времени я узнал, что стафилококковый энтеротоксин больше нельзя было считать всего лишь инкапаситантом. Обезьяны, в организм которых он попадал через легкие, быстро умирали. Надо полагать, что с людьми при таком же воздействии произошло бы то же самое. Через четыре месяца я сообщил об этом Джону Ричардсону, когда он навещал Боба и Бетти после того, как его сняли с руководства базой в Сайгоне, что было воспринято как знак прекращения американской поддержки коррумпированного правительства Нго Динь Зьема. За два года до этого, когда я навещал свою сестру и ее мужа в Камбодже, Боб Блум, который тогда возглавлял Азиатский фонд, тайно финансируемый ЦРУ, говорил мне, что любой преемник Зьема, скорее всего, окажется еще хуже. Через месяц я встретился с "суперагентом" Десмондом Фицджеральдом, придя в его дом однажды в середине июня, чтобы повести на ужин его приемную дочь, учившуюся вместе с Эбби Рокфеллер. Десмонд принадлежал к великосветской элите, при участии которой было основано ЦРУ, и на собственном опыте, полученном на Филиппинах, знал, что взятки, а не солдаты служат лучшим способом решать внешнеполитические задачи Соединенных Штатов в Азии. Мне показалось, что он думает о чем-то другом, когда я высказывал ему свои сомнения в том, что использование арсеналов пирикуляриоза риса из Форт-Детрика помешает Северному Вьетнаму продолжать поддержку Вьетконга. Только через двадцать пять лет я узнал, что Бобби Кеннеди поручил Десмонду задачу убить Фиделя Кастро. Хотя я и участвовал в общем собрании группы по ограниченной войне в начале мая, моя основная роль в PSAC состояла в то время в руководстве новой группой по вредителям хлопка. Возникла эта группа в связи с тем, что сенатор от штата Аризона Карл Хейден обратился к президенту Кеннеди с просьбой предпринять на федеральном уровне усилия, чтобы каким-то образом не дать хлопковому долгоносику проникнуть из Мексики на высокорентабельные орошаемые хлопковые поля Аризоны. Расходы на пестициды уже достигали 20% всех затрат на производство хлопка в юго-восточных штатах, а хлопковый долгоносик с каждым годом становился все более устойчив к используемым для борьбы с ним хлорированным углеводородам. На первой встрече нашей группы в Бетсвилле в окрестностях Вашингтона нас проинструктировали относительно самой проблемы и ее возможного решения. Стерилизационный метод, который, как утверждалось, позволил уничтожить паразитическую мясную муху Cochliomyia hominivorax в отдельных, известных своими ипподромами районах Флориды, теоретически должен был оказаться идеальным средством для спасения урожаев хлопка от долгоносика. Но практическое применение этой процедуры для уничтожения долгоносика представлялось затруднительным. На то, чтобы развести и выпустить в природу стерильных хлопковых долгоносиков в достаточном количестве, могло потребоваться несколько миллиардов долларов. Во время наших последующих поездок на хлопковые поля Миссисипи, Техаса, Калифорнии и Мексики энтомологи, преобладавшие в нашей группе, пришли к выводу, что спасти фермеров от дальнейших расходов на пестициды могут методы комплексной борьбы с вредителями (integrated pest management). Первой остановкой на нашем пути была Лаборатория по исследованию хлопкового долгоносика в колледже штата Миссисипи в Старксвилле, расположенном, что неудивительно, в том самом районе, от которого был избран в Конгресс влиятельный Джейми Уиттен. Будучи председателем комитета по ассигнованиям, Уиттен имел большее влияние на политику в области сельскохозяйственных исследований, чем сам министр сельского хозяйства. Позже, по дороге на обширные поля все еще принадлежавших британцам хлопковых плантаций Delta and Pine в окрестностях Гринсвилла, меня поразили дома работников, занимавшихся прополкой хлопка, еще более обветшалые, чем те жилища, что я видел за два года до этого по краям рисовых полей в Камбодже. Позже представитель Delta and Pine, проводивший для нас экскурсию по своим обширным владениям, отметил, что его работники так ленивы, что прекращают работать мотыгами всякий раз, как только его машина скрывается из вида. По дороге в лабораторию Министерства сельского хозяйства, исследовавшую вредителей хлопка, в окрестностях Браунсвилла в Техасе, нас облил пестицидами небольшой самолет, пролетевший над нами. К счастью, мы ехали не в открытом автомобиле. Повсюду можно было видеть рекламу пестицидов на больших придорожных щитах, на которых каждая из конкурирующих агрохимических компаний нахваливала достоинства своего пестицидного варева, как если бы это был лосьон после бритья. До поездки в Техас у меня были надежды, что с "хлопковыми червями" — гусеницами, которые в некоторые годы приносили больший вред, чем хлопковый долгоносик, — удастся успешно бороться, распыляя взвеси полиэдрических вирусов. Подобные вирусы уже использовали для борьбы с гусеницами елового почкоеда в Канаде, но здесь такое предприятие было неосуществимо, поскольку, как мы, к своему ужасу, узнали, 85% бюджета лаборатории в Браунсвилле уходило на зарплаты. Основная функция большинства региональных лабораторий Минсельхоза состояла в том, чтобы обеспечивать хорошей работой людей, которым покровительствовал местный конгрессмен. Например, в лаборатории по исследованию хлопкового долгоносика главным администратором был близкий родственник конгрессмена Уиттена. За осень мы собирались три раза, чтобы выработать наш окончательный отчет во всех подробностях. Я написал его первое предложение: "Хлопковый долгоносик стал у нас едва ли не общенациональным учреждением". Я втайне надеялся, что его прочтет сам президент Кеннеди и отметит меня как потенциального спичрайтера. В первый же день последней из запланированных встреч нашей группы на наше совещание ворвался Джим Хартгеринг, заместитель Колина Маклауда, принесший нам весть, что президент был ранен в Далласе. Мы без особого энтузиазма пытались снова вернуться к обсуждению вредителей хлопка, пока через час нам не сообщили, что Кеннеди умер. В состоянии шока я вышел из управления PSAC и вскоре забрел на верхний этаж к Марку Раскину, который уже несколько месяцев хотел подать в отставку со своей символической должности у Банди в Национальном совете безопасности и основать свой собственный институт международной политики. Нам обоим хотелось бы знать, при каких обстоятельствах эту новость услышит Диана де Be. Чувства не давали нам осознать, что теперь нашим президентом будет Линдон Джонсон, и смириться с этим. Наконец я решил, что незачем слоняться без дела, и отправился в отель Dupont Plaza, где я теперь поселился, чтобы быть поближе к Силардам, вместо отеля Hay-Adams напротив Белого дома по другую сторону Лафайет-парка, который был в те времена недорогим и в котором я останавливался раньше, когда приезжал в Вашингтон. Лео, всегда предвкушавший следующий прием пищи, настоял на том, чтобы Труди и я немедленно пошли вместе с ним в Rathskeller по другую сторону Дюпон-серкл на Коннектикут-авеню. Там он без устали твердил о том, как добиться, чтобы Линдон Джонсон прекратил гонку ядерных вооружений. У меня не было моральных сил, чтобы остаться в городе и посмотреть на похоронную процессию, которая скоро должна была торжественно проследовать по Пенсильвания-авеню. На следующее утро я малодушно улетел в Бостон. Макджордж Банди остался советником по национальной безопасности, но Джерри Визнер вскоре подал в отставку, чтобы вернуться в Массачусетский технологический на должность декана школы естественных наук. Прошло почти восемь месяцев, пока то, что осталось от нашего искромсанного отчета по вредителям хлопка, было наконец опубликовано. Из отчета пропала наша рекомендация тратить больше на оборудование для исследований и их финансирование и меньше на зарплаты. Мы не видели для американского производства хлопка никакой возможности выйти из-под полной зависимости от пестицидов, если только не обучить большое число энтомологов, которые помогли бы внедрить в эту область более осмысленные подходы. Но нам сказали, что новый президент не хочет, чтобы мы рекомендовали курс, требующий вкладывать больше средств в исследования вредителей хлопка. Учитывая, что окончательному варианту нашего отчета все равно, судя по всему, не суждено было ни на кого повлиять, я не видел смысла возражать против его нового, более прозаичного первого предложения: "Хлопок является важнейшей товарной культурой Соединенных Штатов". В последний раз мне довелось выступать в качестве консультанта PSAC с ежедневным окладом в 50 долларов в тот день, когда подгруппу по биологическому и химическому оружию собрали для оценки предложения выпустить несколько инфекционных агентов над Тихим океаном к западу от Гавайев и проверить, заразятся ли эндемичные тихоокеанские птицы. Если бы никто из них не заразился, это означало бы, например, что ВЭЛ уже разрешат наконец использовать в надлежащих военных целях. Когда я увидел, чтопредседательствовать на этом инструктаже пришел генерал-лейтенант, я понял, что военные очень хотят, чтобы эти тесты состоялись. Они уже привлекли для этой цели орнитологов из Смитсоновского института. В то утро я был единственным членом группы, оказавшимся в оппозиции, настаивая, в частности, на том, что ВЭЛ не является инкапаситантом. Он убивает очень молодых и очень старых, и его ни в коем случае нельзя распылять над какими-либо территориями, населенными людьми. Из последовавшего разговора с Винсентом Макреем у меня возникло отчетливое впечатление, что генерал-лейтенант хотел, чтобы его план тихоокеанских испытаний был одобрен единогласно. Неудивительно, что с тех пор меня никогда больше не вызывали в исполнительное управление президента. Больше года спустя, в начале июня 1965 года, меня пригласили на прием в честь "президентских ученых" (элиты выпускников колледжей со всей страны, отобранных в рамках программы, которую придумал президент Джонсон), проходивший на южной лужайке перед Белым домом. Я оказался рядом с фигуристкой Пегги Флеминг, рядом с которой, в свою очередь, был генерал Уильям Уэстморленд. На возвышении стояла Люси Джонсон[19] и говорила о том, что мы должны всеми силами поддерживать наших американских солдат, бывших теперь во Вьетнаме не просто "наблюдателями", но воюющей армией пугающего размера. Впоследствии, в очереди к принимавшему нас президенту, я наблюдал, как сенатор Уильям Фулбрайт пытался соблюсти политес во время короткого разговора с Джонсоном. Столь же любезна была тогда первая леди, которая провела некоторых из нас внутрь, чтобы показать приемные залы президентской резиденции. Я осознал в тот момент, что эпоха закончилась и другого шанса увидеть Белый дом изнутри мне уже может и не представиться. Усвоенные уроки 1. ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ НЕ ОТМЕНЯЮТ БАЗОВЫХ ИСТИН Книга, так же как спектакль или фильм, имеет наибольший успех, когда она преувеличивает действительность. В изложении научных фактов для неспециалистов есть огромная разница между "эффектно преувеличить" и "ввести в заблуждение". Вопросы, которые ученые должны разъяснять обществу (в то время — загрязнение ДДТ, сегодня — скажем, глобальное потепление или использование стволовых клеток), для большинства людей потребовали бы слишком многих лет изучения, чтобы разобраться в них во всех нюансах. Ученые неизбежно что-то преувеличивают, но их моральный долг перед обществом требует преувеличивать ответственно. Когда я писал учебники, то понял, что подчеркивать исключения из общепризнанных истин вредно. Использование таких уточняющих терминов, как "вероятно" или "возможно", — плохой способ знакомить с новыми идеями. Некоторые из приведенных Рейчел Карсон фактов оказались недостаточно доказанными, непреложной осталась та истина, что синтетические пестициды распространяются по пищевым цепям столь быстро, что легко могут достигать концентраций, опасных для человека. Любые оговорки по этому поводу дали бы только увеличение прибылей химической промышленности. 2. ВОЕННЫХ ИНТЕРЕСУЕТ, ЧТО УЧЕНЫЕ ЗНАЮТ, А НЕ ЧТО ОНИ ДУМАЮТ Инструктаж, который проводили в Форт-Детрике для PSAC, был посвящен тому, насколько действенны будут те или иные биологические агенты в случае их использования в военных целях или нашей, или советской стороной. Следует ли использовать такое оружие — эта тема не обсуждалась. И вопрос о том, следует ли рассматривать ВЭЛ как тактическое или стратегическое оружие, перед нами тоже никогда не ставили. Я наивно полагал, что никто не станет всерьез обсуждать возможность использования ВЭЛ в каком-либо качестве в ближайшем будущем, но то, что представляется абсурдом человеку штатскому, может считаться вполне приемлемым в мире, где не склонны полностью отказываться от всех имеющихся вариантов. Неудивительно, что нам никогда не говорили, что ВЭЛ почти готов для использования в качестве оружия. Если бы мы об этом узнали, то сразу отправились бы к Макджорджу Банди, если не к самому президенту, чтобы сообщить, что мы против использования такого оружия. Мне по-прежнему неизвестно, знали ли Банди и Кеннеди, как далеко продвинулась американская программа по ВЭЛ. Могу предположить, что они знали не больше, чем наша группа при PSAC. Допуск к сверхсекретным материалам отнюдь не предполагает, что его обладателю все нужно знать. Мне выдали такой допуск, но лишь благодаря собственному любопытству, возникшему, когда я увидел здание непонятного назначения, я узнал, что одна из особенно хорошо финансируемых миссий Форт-Детрика состояла в улучшении возможностей ЦРУ убивать. 3. НЕ ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТ ЧУДЕС Предложение избавить южные штаты от хлопкового долгоносика, выпуская в среду стерилизованных облучением самцов, чтобы с ними скрещивались самки, нам, экспертам, с самого начала показалось нелепым. Никто из тех, кто проводил для нас инструктаж, не мог сказать, в какую сумму это может обойтись. Хуже того, почти все пробные испытания, проведенные на тот момент, дали отрицательные результаты, а их сторонники теперь говорили, что нужны дополнительные исследования. Создатели проекта со стерильными самцами были заинтересованы в том, чтобы в Конгрессе считали, что лаборатория по исследованию хлопкового долгоносика стоит на пороге большого достижения. В этом случае конгрессмен Джейми Уиттен мог купаться в лучах ее воображаемой славы. Те, кто читал наш отчет, знали, что, по нашему мнению, проводимые на местах исследования ведут в тупик, но, в конце концов, правительство может игнорировать даже мнение собственных научных консультантов. Никого не волновало, что на получение стерильных самцов в достаточном количестве во всех регионах страны, где выращивают хлопок, потребовалась бы большая сумма, чем прибыль от среднего урожая. 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СПОРНЫМ ВОПРОСАМ НУЖДАЮТСЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ Вывод нашей группы при PSAC, что пестициды представляют опасность для окружающей среды, дошел до общественности только благодаря тому, что президент Кеннеди согласился его опубликовать. Если бы он был в большом долгу перед химической промышленностью, сотрудники его администрации проследили бы, чтобы пассажи, вредящие интересам этой промышленности, оказались смягчены, оставляя открытым вопрос о правомерности выводов "Безмолвной весны", а призывы исправить положение стали не такими настоятельными. К счастью, у Кеннеди не было такого политического долга, и Белый дом не оказывал на нас никакого давления. Администрация президента Джонсона, напротив, сочла политически вредной публикацию Белым домом отчета, в котором говорилось бы, что отечественным производителям хлопка требуется нечто большее, чем усиленное опрыскивание пестицидами, позволявшее их полям сохранять рентабельность. Когда жалкие остатки нашего отчета о вредителях хлопка вышли в свет, большинство членов группы осознали, что все наши труды пропали даром. (обратно)
Глава 10. Навыки, подобающие нобелевскому лауреату
Предполагается, что люди, номинированные на соискание Нобелевской премии, не должны знать о выдвижении своей кандидатуры. Шведская академия, которая оценивает кандидатов и присуждает премии, вполне однозначно формулирует это правило на бланках для номинации кандидатов. Однако Жак Моно не смог утаить от Фрэнсиса Крика, что в январе представитель Каролинского института обратился к нему с просьбой номинировать нас на Нобелевскую премию по физиологии и медицине 1962 года. В свою очередь Фрэнсис, приехав в Гарвард в феврале, чтобы прочитать лекцию, разболтал мне эту тайну за ужином в китайском ресторане. Но он предупредил меня: помалкивай, чтобы это не дошло до Швеции. О том, что мы можем однажды получить Нобелевскую премию за двойную спираль, поговаривали с самого дня нашего открытия. Незадолго до смерти моей матери в 1957 году Чарльз Хиггинс, в то время самый известный медик-исследователь Чикагского университета, сказал ей, что мне непременно будет оказана такая честь. Хотя многие поначалу скептически относились к идее, что при репликации ДНК происходит разделение цепочек, ропот сомнения затих, когда в 1958 году эксперимент Мезельсона-Сталя продемонстрировал именно это явление. В Шведской академии определенно не сомневались в правильности двухспиральной модели, когда в 1959 году присудили Артуру Корнбергу половину премии по физиологии и медицине за эксперименты, продемонстрировавшие ферментативный синтез ДНК. На фотографии, сделанной вскоре после сообщения о присуждении ему Нобелевской премии, сияющий Корнберг держит в руках копию нашей демонстрационной модели ДНК. С приближением 18 октября — дня, когда объявляют Нобелевских лауреатов по физиологии и медицине, — я, естественно, начал нервничать. Можно было предположить, что ответственные шведские профессора попросили номинировать нескольких кандидатов, учитывая разделившиеся во время предварительного обсуждения кандидатур мнения. Тем не менее, ложась спать вечером накануне объявления лауреатов, я невольно представлял себе, как рано утром меня разбудит звонок из Швеции. Вместо этого я проснулся раньше времени из-за схваченной накануне сильной простуды и с тяжелым чувством осознал, что из Стокгольма ничего не слышно. Мне не хотелось вставать, и я остался дрожать под своим электроодеялом, пока в 8:15 не зазвонил телефон. Бросившись в соседнюю комнату, я с радостью услышал голос репортера шведской газеты, сообщивший мне, что Фрэнсис Крик, Морис Уилкинс и я удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине. Все, что я мог сказать в ответ на вопрос, как я себя чувствую, было: "Прекрасно!" Вначале я позвонил папе, а затем сестре, пригласив их обоих поехать со мной в Стокгольм. Вскоре после этого мой телефон стал звонить не умолкая: меня поздравляли друзья, уже узнавшие обо всем из утренних новостей. Были звонки и от репортеров, но я сказал, чтобы они попытались допросить меня в Гарварде, после того как я проведу свое утреннее занятие по вирусам. Пока мы с папой завтракали, я чувствовал, что мне нет нужды торопиться, и уже почти половина занятия прошла, когда я вошел в аудиторию, которая оказалась переполнена студентами и друзьями, ожидавшими моего появления. На доске было написано: "Доктору Уотсону только что присудили Нобелевскую премию". Эта толпа определенно не хотела слушать лекцию о вирусах, поэтому я стал говорить, что почувствовал такое же ликование, когда впервые увидел, как идеально укладываются пары азотистых оснований в двойную спираль ДНК, и о том, как я рад, что Морис Уилкинс тоже разделит эту премию. Ведь это его рентгенограмма кристаллической А-формы сказала нам, что существует высокоупорядоченная структура ДНК, которую оставалось выяснить. Я праздную важное известие с Уолли Гилбертом (слева) и Мэггом Мезельсоном (справа).
Я праздную важное известие с Уолли Гилбертом (слева) и Мэггом Мезельсоном (справа).
Если бы неудачная модель Лайнуса Полинга не заставила нас с Фрэнсисом вернуться в игру с ДНК, Морис, который хотел возобновить свою работу с ДНК, как только Розалинда Франклин перейдет в Биркбек-колледж, вполне мог бы стать первооткрывателем двойной спирали. Когда объявили лауреатов премии, он был с временным визитом в Штатах и провел в Институте Слоана-Кеттеринга пресс-конференцию, сидя рядом с большой моделью ДНК. Давно установленное правило, что Нобелевскую премию могут разделить не более чем три человека, создало бы неловкую ситуацию или даже неразрешимую дилемму, если бы Розалинда Франклин была жива. Но меньше чем через четыре года после открытия двойной спирали ей поставили печальный диагноз — рак яичников, и весной 1958 года она умерла. Вскоре после занятия я оказался с бокалом шампанского в руках перед репортерами агентств Associated Press, United Press International и газет Boston Globe и Boston Traveler. Их заметки были перепечатаны большинством газет по всей стране, вырезки из которых попадали ко мне через гарвардский пресс-центр. Часто они сопровождались фотографиями Associated Press, на которых я был изображен стоящим перед своими студентами или держащим в руках небольшую демонстрационную модель той двойной спирали, которую мы соорудили в Кавендишской лаборатории в 1953 году. Я мог позволить себе роскошь быть скромным и старался приуменьшить практическое значение нашего открытия, говоря, что лекарство от рака не входит в число его очевидных следствий. Трудно было не заметить мой заложенный нос и хриплый голос, и я подчеркнул, что нам пока не удалось победить даже обычную простуду. Эта фраза стала цитатой дня в номере New York Times от 19 октября. Когда меня спросили, как я собираюсь потратить полученные деньги, я ответил, что, возможно, на дом, но вполне определенно не на какое-нибудь хобби вроде собирания марок. На вопрос, может ли наше открытие привести к генетическому совершенствованию человека, я ответил: "Чтобы у вас были умные дети, найдите умную жену". В нескольких из вышедших на следующий день статей я был описан, как холостяк, в котором есть что-то мальчишеское, по словам друзей, жизнерадостный и доброжелательный. В некоторых заметках, что неудивительно, попадались глупые ошибки. В одних, например, была фотография Мориса, а под ней — мое имя, а другие сообщали, что во время войны я работал над Манхэттенским проектом, опять же путая меня с Уилкинсом, который в 1943 году приехал в Соединенные Штаты, чтобы работать в Беркли над разделением изотопов урана. Газеты Индианы, естественно, подчеркивали, что я учился в Индианском университете, и Indiana Daily Student приводила слова Трейси Соннеборна, что я большой любитель чтения, нетерпимый к глупости и очень уважающий высокие умственные способности. В том же ключе Chicago Tribune с гордостью сообщала о том, что я вырос в Чикаго и выступал в передаче "Дети-знатоки", а также приводила слова моего отца, что я пришел в науку благодаря возникшему в детстве интересу к птицам. Вечернее празднество, в спешке организованное в доме Пола и Хельги Доути на Киркланд-плейс, дало моим кембриджским друзьям возможность выпить за мой успех. Еще раньше я переговорил по телефону с Фрэнсисом Криком, который не меньше меня ликовал в другом Кембридже. Большинство телеграмм, которых было штук восемьдесят, пришли за ближайшие два дня, а следующая неделя принесла около двухсот писем, отправителей которых мне нужно было рано или поздно поблагодарить. Джошуа Ледерберг, получивший Нобелевскую премию на три года раньше и уже прошедший через тот ад, что сопровождает ее вручение, посоветовал мне воспользоваться его хитростью и послать всем открытки из Стокгольма. Наш бывший начальник в Кавендишской лаборатории Лоуренс Брэгг, который попал тогда на некоторое время в больницу, попросил свою секретаршу написать мне, как он рад. Президент Пьюзи — единственный, обратившийся ко мне "мистер Уотсон"[20], — писал: "Мне кажется едва ли не излишним прибавить мои поздравления к тем многим дружеским посланиям, которые вы будете получать". И я задумался том, не ошибся ли я, поддержав гарвардца Стюарта Хьюза на выборах в сенат, когда не он, а Эдвард Кеннеди нашел время написать мне: "То, что вы сделали, есть одно из самых замечательных научных достижений нашего времени". Были также и неизбежные письма, авторы которых высказывали не поздравления, а какие-то мысли на свои собственные излюбленные темы. Один человек из Палм-Бич, например, объявлял браки между родственниками причиной всех великих бед, постигших человечество. Я чуть было не решил написать ему ответ и спросить, не состоял ли в таких браках кто-то из его предков. Через несколько дней директор-распорядитель шведской компании, производившей пастилки от больного горла Lakerol, написал мне, чтобы сообщить, что он велел прислать мне экспортную коробку напрямую от его нью-йоркского дистрибьютора. Он отмечал, что в его продукции отсутствуют вредные ингредиенты, в связи с чем ее можно потреблять ежедневно даже совершенно здоровому человеку. Вскоре, когда моя простуда перешла в боли в горле, я стал каждый день ухлопывать по нескольку его пастилок. К сожалению, они совершенно не действовали, и я все дни празднования промучился с больным горлом. Из Варшавы в штате Индиана врач-ортопед писал о том, что все болезни происходят от двух простых, но повсеместных проблем — утомления и дыхательного дисбаланса. Проведенные им исследования убедили его, что в основе этих двух коренных патологий лежат, в свою очередь, неправильная механика работы стопы и походка. Он лечил многих людей, которые перестали простужаться благодаря терапевтически восстановленной правильной механике ходьбы. Среди тех, кому помог его курс лечения, длившийся обычно от трех до четырех лет, был и сам автор письма. Еще один революционный способ борьбы с простудами был предложен человеком из Нью-Мексико, шотландцем по происхождению, который заметил, что главные герои романов Джона Бакана "Тридцать девять ступеней" и "Джон Макнаб" никогда не страдали даже насморком. Эту невосприимчивость к простудам человек из Нью-Мексико приписывал трудовым будням в условиях холода, тумана и дождя. Более трогательное, хотя и тоже необычное письмо пришло от семнадцатилетней девушки из города Паго-Паго на островах Самоа, которая, после благодарений Господу за его любовь и доброту, представлялась как Ваисима Томас Уиллис Уотсон. Она надеялась, что я был родственником ее отца, Томаса Уиллиса Уотсона, каптенармуса морской пехоты США во Вторую мировую войну. Ее мать не получила от него ни одного известия с тех пор, как он вернулся в Штаты. В своем ответе я отметил, что фамилия Уотсон очень распространенная и в одной только бостонской телефонной книге Уотсонов несколько сотен. Вскоре мне прислали из Стокгольма путеводитель по моей Нобелевской неделе, в котором она была описана в самых общих чертах. Меня должны были разместить в "Гранд-отеле" вместе с моими гостями. Там все мои личные расходы должен был оплатить Нобелевский фонд, который готов был также покрыть все расходы на еду и проживание жены и любых детей. Поскольку дорога до Стокгольма оставалась моей заботой, Нобелевский фонд должен был заранее выплатить часть суммы моей премии, чтобы из этих денег я мог оплатить авиаперелет. Вручение премии должно было состояться в Стокгольмском концертном зале, по традиции, 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, скончавшегося в Италии, в Сан-Ремо, в 1896 году в возрасте шестидесяти трех лет. Моего прибытия ожидали на несколько дней раньше, чтобы я мог посетить два торжественных приема, устраиваемые один — Каролинским институтом для своих лауреатов[21], а другой — Нобелевским фондом для всех, кроме лауреатов премии Мира, которые всегда получают свою премию в Осло от норвежского короля. На церемонии вручения премий и на банкете в Королевском дворце вечером того же дня на мне должны были быть белый галстук-бабочка и фрак. В аэропорту меня должен был встретить младший сотрудник Министерства иностранных дел, в обязанности которого входило сопровождать меня на все официальные мероприятия и проводить, когда я буду отбывать из Стокгольма. Еще большее значение этому мероприятию придавало то, что премию по химии в тот год присудили Джону Кендрю и Максу Перуцу за выяснение трехмерной структуры белков миоглобина и гемоглобина соответственно. Никогда еще в нобелевской истории призы по биологии и химии одного и того же года не доставались ученым, работавшим в одной и той же университетской лаборатории. О присуждении премии Джону и Максу было объявлено через несколько дней после объявления о нашей премии, и в тот же день премия по физике была присуждена российскому физику-теоретику Льву Ландау за его новаторскую теорию жидкого гелия. К сожалению, из-за жуткой автокатастрофы перед этим, в которой он получил серьезную черепно-мозговую травму, он не мог присоединиться к нам в Стокгольме. После открытия двойной спирали физик Джордж Гамов весьма польстил моему самолюбию, сказав, что я напоминаю ему молодого Ландау. В последнюю очередь должны были объявить, кому присудили премию по литературе. Ее удостоился Джон Стейнбек, который должен был выступить с Нобелевской лекцией на большом банкете в стокгольмской ратуше после церемонии вручения премий. В письме с подробным описанием того, как мне подготовиться к Стокгольму, сообщалось, что места в отеле и все сопутствующее могли быть зарезервированы также для моих особо отличившихся лаборантов-исследователей. Если бы я мог, не нарушая приличий, привезти с собой работавшую у меня лаборанткой прошедшим летом студентку третьего курса Рэдклиффа Пэт Коллиндж, своим присутствием она бы еще больше украсила это мероприятие. Ее волшебной озорной манере и ярко-голубым глазам едва ли нашлись бы равные в Стокгольме. Но, увы, у нее теперь был молодой человек, студент гарвардского колледжа с литературными устремлениями, и у меня было мало шансов занять его место. Однако Пэт пообещала, что поможет мне освоить навыки вальса, необходимые для традиционного первого танца, который должен был последовать за лекцией Джона Стейнбека. В течение нескольких дней я с нетерпением ожидал назначенного на 1 ноября торжественного ужина в Белом доме, на который мне прислали приглашение в последний момент. Хотя сам этот ужин устраивали в честь великой герцогини Люксембургской, я гораздо больше хотел увидеть собственными глазами королевскую чету Америки. Прошло всего шесть месяцев с тех пор, как Джон и Джеки Кеннеди достойно чествовали американских нобелевских лауреатов 1961 года, и я надеялся, что на этом ужине мне достанется место рядом с Джеки. Однако все эти мысли были внезапно прерваны Карибским кризисом. Обращение президента к народу в понедельник 20 октября было не из тех, которые лучше слушать одному. Взволнованный, я пришел к Полу и Хельге Доути, чтобы посмотреть эту речь на большом экране их телевизора. Еще до окончания речи я понял: положение настолько серьезное, что торжественный ужин, в котором не было политической необходимости, неизбежно должны отменить. С этого момента президенту необходимо будет сосредоточить все свое внимание на том, бросит ли советская сторона вызов американской блокаде Кубы. В этом случае перспектива ядерной войны казалась и в самом деле реальной. В течение следующих нескольких дней мне приходилось задумываться и о том, удастся ли мне вообще поехать в Стокгольм. Советские власти могли, в свою очередь, установить блокаду Берлина. По счастью, меньше чем через неделю Хрущев решил уступить. Но к тому времени было уже поздно снова назначать ужин в честь великой герцогини. Однако в Белом доме обо мне не забыли и в декабре пригласили меня на обед в честь президента Чили. Увы, восторг, который вызвал у меня полученный из Белого дома конверт, испарился, когда я открыл его и обнаружил, что дата этого обеда приходилась как раз на Нобелевскую неделю. Я по-прежнему надеялся, что для меня найдется место и еще на каком-нибудь событии в Белом доме. Но когда наступил новый календарный год, я уже больше не был свежей знаменитостью. Нежданную радость принесла мне открытка из Беркли от бывшей студентки Рэдклиффа Фифи Моррис, с которой я дружил и которая лет за пять до этого сильно рассердилась на меня за то, что у меня возникли слишком теплые чувства к ее соседке по комнате. Столь же нежданным было письмо из Чикаго от Марго Шутт, с которой я познакомился на корабле по дороге обратно в Англию в конце августа 1953 года. Окончив Вассар-колледж, она переехала в Бостон в то самое время, когда я стал сотрудником Гарварда. Мы некоторое время встречались в начале 1957 года, пока однажды она внезапно не объявила, что переезжает в Лондон, тем самым дав мне понять, что я не был для нее достаточным основанием, чтобы оставаться в Бостоне. Теперь она жила в Чикаго и прочитала, что на ближайшее время запланирован мой визит в Чикагский университет. О поездке в Чикаго я договорился за некоторое время до объявления лауреатов премии. Но теперь она вдруг привлекла всеобщее внимание, и для меня были поспешно организованы также посещения моей бывшей начальной и средней школы. Начальную школу Хораса Манна в тот же день собиралась посетить также Грета Браун, бывшая директором в тот период, когда я там учился, в возрасте от пяти до тринадцати. За некоторое время до этого она написала мне теплое письмо, в котором вспоминала о тех днях, когда я ходил наблюдать за птицами, и сожалела, что моя мать, которую все так любили, не дожила до этого дня, чтобы порадоваться моему триумфу. Школьный актовый зал был заполнен до отказа, когда я выступал на его сцене, и у меня перед глазами снова были высокие красивые стены, расписанные некогда рабочими, нанятыми управлением общественных работ. На следующий день один из разворотов Chicago Daily News был почти целиком занят статьей, озаглавленной "Возвращение героя", в которой цитировались слова одного из моих учителей, запомнившего меня как "очень низкорослого, но с очень пытливым умом". Позже я выступал в средней школе Южного берега перед еще большей аудиторией, в том числе перед моей бывшей учительницей биологии, Дороти Ли, которая немало поощряла мой интерес во второй год моего обучения. Запланированную лекцию в Чикагском университете в связи с моей новой славой перенесли в более просторную аудиторию школы права. После лекции я пошел на ужин в гости к Ллойду Козлофф, одному из моих друзей того времени, когда я занимался фагами, биохимику из Чикагского университета, жившему в Гайд-парке. На следующий день я отправился на студию ABC на запись телешоу Ирва Купсинета. Куп, ставший в Чикаго настоящей знаменитостью благодаря своей ежедневной колонке светской хроники в Sun-Times, вел также трехчасовое ток-шоу на телевидении, в котором кроме меня в тот день блистали писатели Лео Ростен и Вэнс Пэккард. Ужин с Марго Шутт вечером того же дня под конец принял неожиданный оборот. За этим ужином во французском ресторане на Северном берегу мы обменялись новостями о том, что случилось в нашей жизни за последнее время. Марго тогда работала в институте искусств, где мой дядя Дадли Крафт Уотсон давно и с немалым успехом читал по воскресеньям дневные публичные лекции. Хотя в Марго меня всегда особенно привлекали ее манеры, почти как у героев Генри Джеймса, я не ожидал, что в духе Генри Джеймса этот вечер и закончится. За десертом она вдруг спросила меня, женился ли бы я на ней, если бы она приняла мои ухаживания в ту весну 1957 года. Я не знал, что сказать, и большая часть обратной дороги на такси до ее дома прошла в неловком молчании. На следующий день я улетел в Сан-Франциско, откуда поехал в Стэнфорд, чтобы поговорить там на научные темы. Затем я отправился через залив в Беркли, где остановился у Дона и Бонни Глэзер. За два года до этого Дон получил Нобелевскую премию по физике за изобретение пузырьковой камеры, в связи с чем Дон и Бонни перенесли день своей свадьбы, чтобы поехать в Швецию уже в качестве супружеской пары. В присланном мне поздравлении Бонни советовала положить глаз на одну из шведских принцесс, из которых она особенно рекомендовала Дезире за ее красоту и осанку, а также за то, что ей чаще было что сказать, чем двум ее старшим сестрам. В связи с этим я рассказал Дону и Бонни о телеграмме, полученной от физика Дика Фейнмана, моего друга из Калтеха, в которой он предлагал мне тот же план действий, но с еще большей иронией: "И там он встретил прекрасную принцессу, и жили они счастливо до конца своих дней". Более серьезно мы обсуждали мою рэдклиффскую подругу Фифи, которая теперь училась в магистратуре в Беркли. Вечером следующего дня я заехал за ней на ее квартиру возле Ченнинг-уэй, после чего мы отправились в рыбный ресторан Спенлера, расположенный у воды возле начала Юниверсити-авеню. Передо мной была все та же добродушная, умная девушка, вспоминая которую я заключил, что она в высшей степени подошла бы на роль моей спутницы в Стокгольме. Но я все еще не мог забыть тот вопрос в духе Генри Джеймса, заданный Марго, и поддерживал в течение ужина легкий разговор, попутно сообщив, что мой отец и моя сестра очень рады, что я пригласил их с собой в Стокгольм. В конце вечера мы договорились снова увидеться во время моего следующего визита в Сан-Франциско, запланированного на февраль. По возвращении в Гарвард моей главной заботой вскоре стала моя предстоящая Нобелевская лекция. Морис должен был рассказать об экспериментах его лаборатории в Королевском колледже, подтвердивших существование двойной спирали, Фрэнсис собирался говорить прежде всего о генетическом коде, а я, в свою очередь, — о роли РНК в синтезе белка. По счастью, мои научные результаты, полученные за последние пять лет в Гарварде, были вполне достойны Нобелевской лекции. Я устроил репетицию своего выступления в конце ноября в Рокфеллеровском университете, воспользовавшись этим случаем, чтобы также посетить нью-йоркское отделение Би-Би-Си, где сделали запись моих воспоминаний о том, что за человек был Фрэнсис в те времена, когда его исключительные способности еще не были широко оценены.
 Я с сестрой Бетти и отцом по прибытии в Стокгольм в декабре 1962 года.
Я с сестрой Бетти и отцом по прибытии в Стокгольм в декабре 1962 года.
К тому времени я уже купил необходимые фрак и белую бабочку в кембриджском филиале J. Press, чей первый магазин в Нью-Хейвене уже давно стал главным поставщиком одежды для йельских студентов колледжа из богатых семей. Вскоре после того, как я стал работать в Гарварде, я начал покупать костюмы в магазине этой фирмы на Маунт-Оберн-стрит, обнаружив, что это было одно из немногих мест, где можно было найти подходящую одежду на мою по-прежнему тощую фигуру. Продавец, вероятно заметив, в каком я прекрасном расположении духа, без труда убедил меня приобрести ради этого торжественного случая также черное пальто с меховым воротником. Днем 4 декабря моя сестра присоединилась к нам с папой в Нью-Йорке, где мы сели на самолет авиакомпании Scandinavian Airlines. Мы планировали вначале провести два дня в Копенгагене, чтобы навестить там тех, с кем Бетти и я подружились, когда жили там в начале 1950-х. Но, перелетев через Атлантику, пилоты обнаружили, что Копенгаген затянут туманом. В итоге мы оказались в Стокгольме на два дня раньше, чем ожидалось. Нас провели мимо таможни, как если бы мы были дипломатической делегацией, и сразу отвезли на лимузине в легендарный Гранд-отель, построенный в 1874 году напротив Королевского дворца, на который выходили окна моего номера, одного из лучших во всем здании. Я вскоре присоединился к сестре и папе за шведским столом, ломившимся от сельди, и мы пообедали в компании Кая Фалькмана, молодого шведского дипломата, который должен был сопровождать нас на все мероприятия Нобелевской недели. Вздремнув, что было нам совершенно необходимо, мы все вместе поужинали в подвальном ресторанчике в Старом городе, где старейшие дома построены в xv веке. За ужином Кай рассказал нам, что самая младшая из четырех шведских принцесс, Кристина, собирается после окончания шведской средней школы провести год в одном из американских университетов, возможно в Гарварде.
 Перед моей сестрой Бетти занимают свои места принцессы Дезире, Маргарета и Кристина.
Перед моей сестрой Бетти занимают свои места принцессы Дезире, Маргарета и Кристина.
Вероятно, она захочет поговорить со мной в ходе моего нобелевского визита. Я, естественно, выразил свою полную готовность быть к ее услугам, чтобы разъяснить ей единственные в своем роде отношения Рэдклиффа и Гарварда. Проснувшись уже ближе к полудню следующего дня, я увидел свой портрет на первой странице стокгольмской газеты Svenska Dagbladet вместе со статьей, где приводились слова разных людей обо мне и упоминались такие мои интересы, как политика и птицы. К сожалению, мое горло, которое продолжало болеть после той сильной простуды в октябре, вскоре заставило меня обратиться за медицинской помощью. Поэтому в Каролинском институте я первым делом увидел его главную больницу, а не его исследовательские лаборатории. Там меня осмотрел ведущий отоларинголог, который не нашел у меня ничего серьезного, зато признался мне, что входил в состав комиссии, решившей присудить мне Нобелевскую премию. В этой официальной роли он приветствовал меня вечером следующего дня, когда я прибыл в Дом Нобеля на прием, организованный Каролинским институтом. Это мероприятие не было парадным, и я пришел на него в том же полосатом костюме, в котором прилетел в Швецию. Дом Фонда служил также домом Нильсу Столе, директору-распорядителю фонда, и я был рад, что на том вечере присутствовали его симпатичная рыжеволосая незамужняя дочь Марлин и дочь Стена Фриберга, ректора Каролинского института, очень светлая блондинка. Отрадно было видеть обеих девушек и на первом торжественном мероприятии недели — приеме, проводимом Нобелевским фондом для всех лауреатов того года. В роскошной библиотеке Шведской академии самой важной персоной был Джон Стейнбек, прибывший в Швецию только утром того дня. Хотя оказанная честь и была для него желанна, он выглядел скорее взволнованным, чем счастливым, беспокоясь за свою Нобелевскую лекцию, которую ему предстояло прочитать следующим вечером. Лекцию Уильяма Фолкнера, прочитанную в 1950 году, до сих пор вспоминали с глубоким уважением, и Стейнбек чувствовал груз возложенных на него ожиданий. В тот вечер он и его жена отправились на ужин с представителями шведской литературной элиты, а я вместе с другими лауреатами-учеными поужинал в изысканной офицерской столовой на острове Скеппсхольмен в Стокгольмской гавани. На следующее утро я получил возможность заранее оценить великолепие концертного зала, где я вместе с другими лауреатами репетировал хореографию получения премий из рук короля, ожидаемого вечером того дня. Как это и бывает с большинством лауреатов, это был мой первый опыт мероприятия во фраках и белых бабочках, и в таком наряде я чувствовал себя немного неловко. Бетти, папа и я вышли из гостиницы в 15:45, что давало мне более чем достаточно времени, чтобы присоединиться к тем, кто выстроился за сценой. Ровно в 16:30 звук фанфар возвестил о прибытии короля и королевы, которые вошли в сопровождении свиты и проследовали на свои места перед сценой под королевский гимн, исполняемый Стокгольмским филармоническим оркестром. Затем, при новых громких звуках труб, вошли и заняли свои места поблизости от королевских Макс, Джон, Фрэнсис, Морис, Джон Стейнбек и я. Перед вручением королем каждой премии академик соответствующего профиля зачитывал на шведском описания достижений лауреата. Чтобы мы знали, о чем будет идти речь, нам заранее выдали переводы текста этих выступлений. Вместе с по-своему украшенной грамотой в кожаном переплете и золотой медалью король выдал каждому из нас чек на причитавшуюся ему долю премии. Из концертного зала мы напрямую прошли в массивное здание стокгольмской ратуши, построенное в тридцатые годы, на Нобелевский банкет, который проходил в Золотом зале. Во всю длину этого прекрасного зала стоял очень длинный стол, на котором расселись все лауреаты с супругами, а также королевская свита и представители дипломатического корпуса. В центре стола друг напротив друга сидели король и королева. Мое место было на стороне королевы. В то время как Макс, Джон, Фрэнсис и Джон Стейнбек сидели рядом с принцессами, моими собеседницами, к которым я поочередно обращался, стали жены Мориса и Джона Стейнбека. Говорить через стол не имело смысла, во-первых, из-за его ширины, а во-вторых, из-за усиленного алкоголем гула, создаваемого восемью с лишним сотнями празднующих. За ужином председатель Нобелевского фонда Арне Тиселиус провозгласил тост за короля и королеву, а король, в свою очередь, предложил минуту молчания, чтобы почтить память Альфреда Нобеля и вспомнить его великое завещание и филантропию. Как только было покончено с десертом, Джон Стейнбек взошел на великолепный подиум, возвышающийся над залом, чтобы прочитать свою Нобелевскую лекцию.
 Церемония вручения Нобелевских премий в декабре 1962 года. Слева направо: Морис Уилкинс, Макс Перуц, Фрэнсис Крик, Джон Стейнбек, я и Джон Кендрю.
Церемония вручения Нобелевских премий в декабре 1962 года. Слева направо: Морис Уилкинс, Макс Перуц, Фрэнсис Крик, Джон Стейнбек, я и Джон Кендрю.
 Фрэнсис и Одилия Крик привезли в Стокгольм своих собственных принцесс.
Фрэнсис и Одилия Крик привезли в Стокгольм своих собственных принцесс.
В ней он сосредоточился на способности человека проявлять величие сердца и духа в нескончаемой борьбе против слабости и отчаяния. В словах писателя, раскрывавшего общечеловеческую дилемму, слышались мысли о "Холодной войне" и ядерном оружии. Он говорил о том, что люди присвоили себе права небожителей: "Взяв в свои руки мощь, подобную божественной, мы должны искать в себе ответственность и мудрость, какими когда-то наделяли в молитвах своих божеств". В заключение этой торжественной речи он перефразировал святого Иоанна Богослова: "В конце есть Слово, и Слово есть человек, и Слово есть у людей". Я волновался все сильнее и не мог внимательно слушать, потому что всего через несколько минут мне предстояло подняться на тот же подиум, чтобы произнести ответные слова от имени лауреатов по физиологии и медицине. Я надеялся, что моя импровизация окажется чем-то большим, чем набор банальностей. Только вернувшись на свое место, я расслабился, зная, что произнес свою речь от чистого сердца. Я был доволен ее последними фразами, в которых пытался повторить интонацию одной из самых удачных речей президента Кеннеди. После моего выступления Фрэнсис передал мне через стол отмечавшую его место карточку, на обороте которой он учтиво написал: "Намного лучше, чем вышло бы у меня. Ф." Мне приятно было услышать после этого, как Джон Кендрю выражал свою радость по поводу того, что входил в число пяти человек, работавших вместе и общающихся друг с другом вот уже пятнадцать лет, которые теперь смогли приехать в Стокгольм по одному и тому же счастливому поводу. Поздним утром следующего дня прочли свои лекции лауреаты научных премий. Фрэнсису, Морису и мне было выделено по тридцать минут. Ответов на вопросы аудитории, состоявшей преимущественно из наших коллег-ученых, не предполагалось. Вечером того же дня к половине восьмого я один проследовал во дворец на второй королевский прием, протокол которого почему-то снова не дал мне места рядом с принцессами.
 Расшифровка стенограммы моей Нобелевской речи.
Расшифровка стенограммы моей Нобелевской речи.
На этот раз я сидел между женой шведского премьер-министра и Сибиллой, вдовой кронпринца Густава Адольфа, погибшего в 1947 году в авиакатастрофе, когда его дочери, принцессы, были еще маленькими. Мне оказалось легче беседовать с женой премьер-министра, чем с Сибиллой, родным языком которой был немецкий. Сибилла почти ничего не ела, может быть, полагая, что ей надо поберечь все еще красивую фигуру от сходства с телесами королев прошедшего века. На следующий день, перед обедом в резиденции американского посла, меня проводили в банк семьи Валленбергов Enskilda, чтобы я обменял выданный мне авансом чек на сумму 85 739 крон на соответствующий чек в долларах, в которых эта сумма составила около 16 500. Еще раньше, в Доме Нобеля, мне вручили бронзовую копию моей золотой Нобелевской медали, чтобы я мог без опаски держать ее у себя на столе. В прошлом случались кражи золотых оригиналов, и мне настоятельно рекомендовали хранить оригинал в банковском сейфе. Затем мне показали, казалось, сотни фотографий, сделанных на торжествах последних дней, чтобы я мог заказать копии тех, что мне понравятся. Мои глаза сразу остановились на одной из них, запечатлевшей Фрэнсиса и принцессу Дезире, сидевших напротив меня на Нобелевском банкете. Посол Грэм Парсонс учтиво приветствовал меня, ничем не выдав тех воинственных наклонностей, которые, как утверждали, привели недавно к его изгнанию из вашингтонских коридоров власти, где принимались решения по Юго-Восточной Азии. Радушно встречал нас и второй человек в посольстве, Томас Эндерс, которого я спросил, не родственник ли он Джону Эндерсу, специалисту по полиомиелиту из гарвардской Школы медицины, восемь лет назад получившему Нобелевскую премию. В самом деле, этот Эндерс приходился племянником нобелевскому лауреату. Он был очень рад, что жил уже не за железным занавесом, как раньше, когда работал на младшей дипломатической должности в Польше. Нобелевская неделя завершалась, согласно традиции, в День св. Луции[22]. Меня, как и всех лауреатов, разбудила девушка в белых одеждах и в короне из зажженных свечей, распевавшая неаполитанский гимн, который уже давно стал прочно ассоциироваться с этим зимним шведским праздником. Наш отец в гот день отбывал на неделю во Францию, а мы с Бетти снова надели свои парадные наряды, чтобы пойти на бал в честь св. Луции, который давали в студенческом центре Medicinska Foreningen. Главным блюдом ужина было мясо северного оленя. Затем мы продолжили празднование в намного более узком кругу, что дало мне возможность долго перешучиваться с Эллен Хульдт, симпатичной темноволосой студенткой-медиком, с которой мы затем договорились следующим вечером вместе поужинать. Прежде чем сесть в такси, чтобы поехать за Эллен, я написал письмо президенту Пьюзи, в котором рассказал ему о совершенном в тот день визите в королевский дворец к принцессе Кристине. Вместе с моим дипломатическим сопровождающим, Каем Фалькманом, я вошел в один из приватных приемных залов, где застал принцессу вместе с ее матерью, Сибиллой. За чаем с пирожными я рассказал им о том, какое для меня удовольствие преподавать жизнерадостным студентам Гарварда и Рэдклиффа, и заверил мать, что год, проведенный в Рэдклиффе, принесет ее дочери немало радости. По возвращении домой я отправил в Швецию несколько экземпляров гарвардской газеты Crimson, чтобы дать Кристине возможность проникнуться гарвардской студенческой жизнью. По окончании Нобелевской недели мне предстояло совершить визит в Западный Берлин, организованный Госдепартаментом. Моя лекция для западноберлинских ученых должна была послужить еще одним подтверждением непоколебимой приверженности Соединенных Штатов интересам народов, оказавшихся заложниками Холодной войны. Перед тем как улететь в Берлин через Гамбург, я провел свой последний вечер в Швеции с Джоном Стейнбеком и его женой в доме-студии их друга, художника Бо Бескова. Мне понравилась "Балетная школа", одна из картин его полуфигуративного голубого стиля, а цена ее оказалась в пределах моих несколько улучшившихся финансовых возможностей, и я договорился о том, чтобы ее прислали в Гарвард. Она долгое время висела на стене библиотеки в здании Биолабораторий. В Берлине я остановился на три ночи в гостинице при Свободном университете, созданном после войны и расположенном средизданий, которые до гитлеровских времен приютили многих из лучших ученых Германии. До прихода нацистов к власти Лео Силард и Эрвин Шрёдингер читали здесь лекции по квантовой механике, а во всех дискуссиях заметную роль играл голос Эйнштейна. Теперь из былых титанов остался только нобелевский лауреат-биохимик Отто Варбург. Вскоре меня встретила Кейки Гилберт, которая за год до окончания Рэдклифф-колледжа работала у нас лаборанткой и помогала Альфреду Тиссьеру и мне в наших экспериментах с информационной РНК. Теперь она была студенткой Свободного университета и готова была показать мне Западный Берлин. К сожалению, она не могла получить разрешение на то, чтобы вместе со мной на полдня отправиться в Восточный Берлин, где меня поразили выдающиеся коллекции греческого и ассирийского искусства в громадном Пергамском музее. Однако в Западном Берлине Кейки смогла пойти со мной на обед в резиденцию главы американской миссии. Там я познакомился с Отто Варбургом, чей легендарный вклад в ферментологию сделал его самым обсуждаемым биохимиком нашего времени. Варбург был наполовину евреем, хотя и вел себя как пруссак, но его многолетний интерес к изучению рака привел к тому, что Гитлер, всегда панически боявшийся заболеть раком, позволил Варбургу работать в Берлине в течение всей войны. В разговоре со мной Варбург сказал, что его гарвардский коллега Джордж Уолд слишком сильно интересуется философией, которой он сам совершенно не интересовался. Позже, когда мы с Кейки обедали в ресторанчике, оказавшемся типично немецким, у меня снова ужасно разболелось горло. Поэтому мы не задержались в центре допоздна и вернулись в Далем по ветке метро, ведущей на юго-западные окраины Западного Берлина. Моя следующая остановка была в Кёльне, где Макс и Мэнни Дельбрюк проводили этот год, помогая Кёльнскому университету организовать отделение генетики в антиавторитарном американском стиле. Я едва мог говорить даже шепотом, так непереносимо у меня опять разболелось горло, но Макс тем не менее настоял на том, чтобы я выступил с запланированной речью, в ходе которой многим в аудитории, догадавшимся о моем недуге, пришлось испытывать душевные страдания. К счастью, к тому времени, как я приехал в Женеву, голос ко мне вернулся, что позволило мне посетить ЦЕРН, крупную физическую лабораторию, которую тогда возглавлял Викки Вайскопф, друг Макса времен его работы в Копенгагене. Наш с ним разговор вертелся в основном вокруг Лео Силарда, который только что улетел из Женевы обратно в Нью-Йорк. Силард хотел, чтобы Вайскопф и Кендрю организовали по образцу Колд-Спринг-Харбора аналогичную ЦЕРНу европейскую молекулярно-биологическую лабораторию, финансируемую многими странами. В идеале Лео мечтал, чтобы эта лаборатория была в Женеве, хотя его устроила бы и Ривьера. Такая лаборатория стала бы для него альтернативным интеллектуальным приютом на случай, если бы курс Соединенных Штатов отклонился вправо в ответ на еще возросшую советскую военную угрозу. К тому времени из Парижа приехали Альфред и Вирджиния Тиссьер, чтобы провести праздники со своей семьей в Лозанне. Перед самым Рождеством я поехал с ними кататься на лыжах в Вербье — новый горнолыжный курорт в кантоне Вале, в создании которого принимал участие брат Альфреда Рудольф. Вскоре должны были приехать мои новые друзья из Стокгольма, Хелен Фриберг и Кай Фалькман, которые планировали пробыть там до Нового года. Однако я к тому времени собирался быть уже в Шотландии, в гостях у Митчисонов. Лондон был в снегу, но трава вокруг аэропорта в Кэмпбелтоне, где утром 31 декабря приземлился мой небольшой самолетик компании British European Airways, по-прежнему была зеленой. Оттуда меня довезли на машине до расположенного милях в двадцати уединенного дома Митчисонов возле Каррадейла, куда я прибыл очень уставшим с дороги. После трех дней бодрых пеших прогулок по высокогорью я улетел обратно в Штаты через Исландию. Вернувшись в Гарвард, я обнаружил на своем столе сообщение от президента Пьюзи, благодарившего меня за мое письмо о принцессе Кристине, которое он передал президенту Рэдклиффа Мэри Бантинг. Необходимые бланки заявки на поступление были отправлены в Швецию, и Кристина немедленно заполнила их и попросила свою школу, L'ecole frangaise, послать аттестат о ее учебных успехах. Новость о том, что она может поступить в Рэдклифф, впервые сообщила Boston Globe в середине марта, а официальное известие из королевского дворца пришло в начале апреля. На следующий день меня попросили рассказать о своей роли в решении принцессы для газеты Crimson, и моя попытка пошутить привела к неприятным последствиям. На следующий день я в смущении прочитал слова: "Я ничуть не больше уговаривал ее поступить, чем стал бы уговаривать любую другую симпатичную девушку". Мне оставалось лишь надеяться, что этот номер Crimson никогда не попадет в Стокгольм. В любом случае у меня было еще одно основание считать, что я сделал правильный выбор, когда решил работать в Гарварде. Принцессы не идут в Калтех. Усвоенные уроки 1. КУПИТЕ СЕБЕ ФРАК, А НЕ БЕРИТЕ ЕГО НАПРОКАТ Даже если вы полагаете, что вам не представится другого случая надеть костюм, подобающий оперному дирижеру, получение Нобелевской премии — слишком важное событие для одежды, взятой напрокат. Кроме того, если ваша научная карьера будет продолжаться на высоком уровне, вас могут снова пригласить на Нобелевскую неделю, когда лауреатом станет кто-то из ваших протеже. А если вы по прошествии торжеств будете долго хранить этот наряд в шкафу, он сможет служить вам напоминанием о том, в какой форме вы когда-то были. 2. НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ ПЕТИЦИЙ ТЕХ, КТО НУЖДАЕТСЯ В ВАС КАК В ЗНАМЕНИТОСТИ Как только вас объявят нобелевским лауреатом, многочисленные борцы за справедливость, нуждающиеся в подписях известных людей под своими петициями, немедленно к вам обратятся. Поддерживая своим именем такие прошения, вы можете оказаться за пределами своей профессиональной компетенции и тем самым выразите мнение, которое значит не больше, чем, скажем, мнение рядового бухгалтера. При этом вы транжирите авторитет нобелевского лауреата и делаете последующее использование вашего имени менее убедительным. Гораздо лучше делать что-то хорошее по-настоящему, а не символически. 3. НЕ УПУСКАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ТОТ ГОД, ЧТО ПОСЛЕДУЕТ ЗА ОБЪЯВЛЕНИЕМ О ВАШЕЙ ПРЕМИИ Ваша дальнейшая жизнь во многом обеспечена присужденной премией, но в распоряжении есть только год, в течение которого вы будете оставаться текущей научной знаменитостью. Все уважают нобелевских лауреатов, но лауреат этого года — самый желанный гость на любом банкете. В Стокгольме народ относится к лауреатам текущего года как к кинозвездам и готов просить автографы даже у какого-нибудь химика, о котором, если бы не премия, никто бы и не услышал. Здесь дела обстоят как с конкурсом "Мисс Америка". Как только будет объявлено, кто удостоен награды следующего года, ваше царствование в роли актуальной научной звезды бесповоротно закончится. 4. НЕ ЖДИТЕ, ЧТО ДЕВУШКА, ПОЮЩАЯ "САНТА ЛЮЧИЯ", БУДЕТ С ВАМИ ФЛИРТОВАТЬ После прибытия на Нобелевскую неделю вы не раз услышите, что в День св. Луции вас разбудит симпатичная девушка, которая будет петь традиционную песню. Увы, она будет не одна, и вполне вероятно, что в сопровождении одного или нескольких фотографов, ожидающих вашей улыбки при звуках неаполитанского напева, который только обделенные солнцем шведы могут принимать за рождественский гимн. Как только она допоет свою песню, то сразу отправится в номер другого лауреата, оставив вас еще на несколько часов в темноте, пока зимнее солнце не покажется над горизонтом. 5. ПОСЛЕ СТОКГОЛЬМА ОЖИДАЙТЕ ПРИБАВЛЕНИЯ В ВЕСЕ Во время неизбежного после возвращения из Стокгольма приступа нежелания наносить визиты вы получите массу всевозможных приглашений. Вы будете принимать приглашения туда, куда раньше вам и в голову бы не пришло пойти, и участие в банкетах может стать для вас чем-то вроде второй профессии. Не могу забыть превосходный ужин в Хьюстоне в его некогда шикарном Докторском клубе еще до того, как нефтяная столица Техаса заняла место на карте передовых биомедицинских центров. Я помню, с каким глупым видом я уставился на стоявшее на столе гигантское ледяное изваяние, зная, что оно недолго будет славить мое существование. Когда устроители банкета смущают вас речами, преувеличивая ваше значение, взять еще добавки бывает легче, чем поддерживать разговор. 6. ИЗБЕГАЙТЕ МЕСТ, ГДЕ СОБИРАЕТСЯ БОЛЬШЕ ДВУХ НОБЕЛЕВСКИХ ЛАУРЕАТОВ Очень часто бывает, что кто-нибудь из самых лучших побуждений, к вящей славе своего города или университета, собирает вместе нобелевских лауреатов, тем самым придавая больший вес тому или иному мероприятию. Устроитель поступает так в убеждении, что эти почетные гости будут демонстрировать свою гениальность и свои несравненные или по крайней мере блистательно эксцентричные личные качества. Но в действительности многие годы разделяют присуждение Нобелевской премии и выполнение работы, за которую оказана эта честь, поэтому даже новоиспеченные нобелевские лауреаты, скорее всего, знавали и лучшие времена. Никакой гонорар, даже самый высокий, не вознаградит вас за осознание того, что ваш вид и поведение выдают в вас такого же старого и усталого человека, как остальные лауреаты, беседовать с которыми вам, вероятно, так же скучно, как им беседовать с вами. Лучший способ оставаться бодрым и жизнерадостным состоит в том, чтобы ограничить круг своего профессионального общения молодыми, еще не прославленными коллегами. Они, скорее всего, будут выигрывать у вас в теннис, но они также не дадут вашему мозгу остановиться. 7. ПОТРАТЬТЕ ПРЕМИАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ НА ПОКУПКУ ДОМА Купленная за бешеные деньги модная машина даже вашим лучшим друзьям даст основания полагать, что статус "полузнаменитости" ударил вам в голову и с вашей системой ценностей не все в порядке. Покажите им, что человек, став немного богаче, не особенно изменяется и что вы по-прежнему один из них. Покупка дома большего размера всего лишь поставит вас в одну категорию с президентом вашего университета, которому ни у кого нет разумных оснований завидовать. (обратно)
Глава 11. Навыки, востребованные академической профнепригодностью
С момента присуждения Нобелевской премии меня грела мысль, что меня ждет большее, чем обычно, повышение ежегодной зарплаты. За последние два года я дважды получил прибавку к ежегодной сумме в 1000 долларов, поэтому, когда я открыл небольшой конверт из деканата, полученный 2 июля, я ожидал узнать о прибавке в 2000. Вместо этого историк Фраклин Форд, ставший после Банди деканом факультета искусств и наук, сообщал мне, что впервые за время моей работы в Гарварде я не получу совсем никакой прибавки. Я был просто вне себя и сообщил о своем возмущении всем близким друзьям. Почему Гарвард не стал вознаграждать меня за перепавший ему благодаря мне дополнительный престиж? Была ли это административная ошибка, или президент Пьюзи хотел дать мне понять, что знаменитостям не место в его университете и что мне стоит подумать о переходе в другое место? Можно было бы излить свой гнев перед друзьями-студентами, работавшими на Crimson, но это, скорее всего, привело бы к неприятным последствиям, вызвав официальный ответ, в котором бы сообщалось, что Гарвард никогда не мог адекватно вознаградить своих сотрудников за все их неоценимые заслуги в деле обогащения научной среды. Вместо этого я поговорил с лучшим химиком Гарварда, Бобом Вудвордом, который и сам скоро должен был получить Нобелевскую премию. Он попытался меня успокоить, говоря, что, по его мнению, Гарвард не вознаградил меня по неразумности нашего посредственного президента, а вовсе не желая преднамеренно оскорбить. Боб сказал, что готов написать Франклину Форду о том, что, если бы с ним самим так обошлись, он был бы столь же недоволен руководством Гарварда. Позже Франклин Форд вызвал меня в свой кабинет, чтобы сказать, что меня никто не хотел оскорбить, а все дело в том, что в первую очередь решили повысить зарплату другим преподавателям, у которых она была особенно низкой. В следующем году моя зарплата выросла на 2000 долларов. Спартанская жизнь, которую я вел в доме номер 10 по Эппиан-Уэй, как и прежде, позволяла мне постоянно тратить меньше, чем я зарабатывал. Письма, полученные в начале и в конце того учебного года, когда я получил Нобелевскую премию — но не получил прибавки от Гарварда.
Письма, полученные в начале и в конце того учебного года, когда я получил Нобелевскую премию — но не получил прибавки от Гарварда.
Я задумывался о деньгах только тогда, когда хотел приобрести картину или рисунок по цене, которая была за пределами моих возможностей. И все же я был бы на 1000 долларов беднее на момент подачи налоговой декларации во все последующие годы, если бы не выказал тогда своего неудовольствия. Для поддержания моего духа более существенную роль, чем зарплата, играли научные результаты моей лаборатории. Здесь у меня было чему порадоваться — прежде всего, высокому качеству последней порции моих магистрантов, состоявшей из Джона Ричардсона, Рея Гестеланда, Марио Капекки и Гэри Гассина. Теперь, когда информационная РНК была открыта, они и сами знали, что делать дальше. В основе их многочисленных успехов было все более частое использование фаговых цепочек РНК в качестве матриц для синтеза белков. Чтобы дать старт этим экспериментам, Рей Гестеланд работал вместе с Хельгой Доути над определением молекулярного состава РНК-содержащего фага R17, РНК-составляющая которого, включающая лишь тысячи три нуклеотидов, скорее всего, кодировала всего от трех до пяти разных белков. Самым большим сюрпризом лета 1963 года было открытие, что РНК-содержащие фаги начинают цикл размножения с того, что прикрепляются к тонким ворсинкам (которые называются "пили"), отходящим от поверхности мужских клеток бактерии Е. coli. У женских клеток Е. coli такие ворсинки отсутствуют, чем и объясняется тот казавшийся загадочным факт, что РНК-содержащие фаги растут только на мужских бактериях. Электронной микроскопией у нас занималась Элизабет Крофорд, приехавшая на лето из Глазго вместе со своим мужем Лайонелом, вирусологом. Вскоре после их приезда мы втроем отправились в Белые горы, где случайно снискали гнев гнездящегося ястреба-тетеревятника, который пикировал на нас, пока мы спускались после тяжелого пешего подъема на гору Картер-Доум высотой более четырех тысяч футов. Перед самым Днем труда[23] я полетел в Женеву, чтобы оттуда поехать в Италию читать лекции на финансируемой НАТО летней молекулярно-биологической школе. Эта школа проходила в Равелло, через залив от Неаполя. Среди других лекторов были Пол Доути, Фриц Липман, Жак Моно и Макс Перуц. Моя комната с высоким потолком на вилле Чимброне была бы идеальна, если бы не ночные налеты комаров. Фортуна подарила мне в качестве одного из шестидесяти студентов Клауса Вебера, молодого немецкого специалиста по химии белка, работавшего тогда над диссертацией во Фрайбурге, где он проводил эксперименты с ферментом β-галактозидазой. Клаус приехал в Равелло, чтобы расширить свои познания в области нуклеиновых кислот, и к концу двухнедельной программы принял мое приглашение приехать на следующий год в мою гарвардскую лабораторию для работы с РНК-содержащими фагами. По окончании летнего курса лекций Лео Силард прилетел из Женевы, чтобы принять участие в проведении дальнейших дискуссий об учреждении в Европе центра исследований, конференций и курсов, подобного Лаборатории Колд-Спринг-Харбор в штате Нью-Йорк. Лео приехал в Европу прежде всего для продвижения своего последнего плана предотвращения ядерного уничтожения планеты. В Равелло он заехал по дороге в Дубровник на Пагуошскую конференцию по разоружению. Среди тех, кто также ненадолго остановился тогда на вилле Чимброне, были Оле Молёэ из Дании, Сидни Бреннер и Джон Кендрю из Кембриджа, Эфраим Качальский из Израиля и Джеффрис Уайман, живший теперь в Риме. К концу двухдневного совещания нам удалось заручиться широкой поддержкой для создания Европейской лаборатории по фундаментальной биологии, а также Европейской молекулярно-биологической организации из ста или двухсот ведущих европейских биологов. В художественной галерее в Риме, куда я заехал на обратном пути, у меня не хватило смелости приобрести почти доступную для меня по цене сюрреалистическую картину художника Виктора Браунера, которого я тогда еще не знал. Однако за следующие несколько дней я купил небольшой рисунок Пауля Клее из галереи Moos, над которой располагалась женевская квартира Жана Вайгле, а также несколько рисунков Андре Дерена из галереи Maeght в Париже. Через неделю мои новые приобретения увидела принцесса Кристина, пришедшая ко мне в воскресенье днем вместе с несколькими другими гостями, которых я позвал, чтобы помочь ей освоиться в Гарварде. Ее сопровождала Антония Ионсон, наследница ведущего промышленного и судоходного семейного предприятия Швеции, тоже собиравшаяся провести этот год в Рэдклиффе. Чтобы атмосфера была более дружеской, я пригласил некоторых своих студентов, особенно студентов колледжа, работавших у меня над исследовательскими проектами. Но когда через сорок пять минут Кристина и Антония ушли, чтобы пойти в гости еще к кому-то, я задумался, будут ли у нас поводы общаться или мы только будем кланяться друг другу при встрече. Ни Кристина, ни Антония не выбрали курсов, которые могли бы привести их в один из научных корпусов Гарварда. С другой стороны, у Кристины должны были, скорее всего, сложиться приятельские отношения с Нэнси Хейвен Доу, студенткой Рэдклиффа, с которой я дружил, учившейся в школе Спенс. Она происходила из нью-йоркского светского общества, с которым первая принцесса Рэдклиффа наверняка хотела познакомиться. Тем временем я все больше погружался в политику отделения биологии. Председателем был уже не Кэрролл Уильяме, а сменивший его Дон Гриффин, родившийся и выросший в Гарварде специалист по поведению животных, в особенности по навигации у летучих мышей. Он был когда-то младшим сотрудником Гарварда, затем сделал стремительную научную карьеру в Корнелле, откуда его позвали обратно в 1956 году. У Дона было естественное родство интересов с теми, кто занимался биологией организмов, поэтому никто не ожидал, что, став председателем, он первым делом сократит власть гарвардских биологических музеев, получавших отдельное финансирование, — таких как музей сравнительной зоологии и гербарий. До этого исторического преобразования работавшие в музеях на постоянных ставках ученые не только выбирали будущих музейных кураторов, но и участвовали в принятии кадровых решений факультета искусств и наук. Еще в июне 1963 года постоянные сотрудники проголосовали за предложение Дона, чтобы только те сотрудники, которым выделял деньги факультет искусств и наук, автоматически имели право голоса. В то же время ключевым сотрудникам музеев предоставили возможность занимать на трехлетний срок места в комитете постоянных профессоров в случае утверждения их членства двумя третями сотрудников, финансируемых факультетом. Тем самым всеми уважаемые ученые из музеев, такие как Эрнст Майр, должны были сохранить право голоса. Кэрролл Уильяме, который по-прежнему сохранял на отделении немалое политическое влияние, впоследствии приложил все усилия, чтобы это решение было отменено. Если бы бездельники из музеев были отстранены от участия в жизни отделения, то Кэрролла перестали бы воспринимать как незаинтересованную сторону в напряженных отношениях между старомодными специалистами по биологии организмов и новой группой молекулярных биологов. Вместо этого к нему стали бы относиться как к лидеру консервативной фракции биологов, не скрывающих своего стремления не дать работам по исследованию ДНК занять доминирующее положение в гарвардской биологии. Оставалось неясным, удастся ли Кэрроллу добиться своего, — вплоть до осени 1963 года. Тогда от Франклина Форда пришло письмо, повторно подтверждающее решение, что только сотрудники, финансируемые факультетом искусств и наук, должны иметь право голоса в кадровых вопросах соответствующих отделений. Однако этот разумный избирательный ценз не мог в достаточной мере гарантировать, что на отделение биологии будут брать только первоклассных специалистов. По крайней мере треть здания Биолабораторий не перестраивалась со времени его возведения, то есть вот уже тридцать лет. Особенно это касалось помещений практикумов, библиотеки, вивария и механических мастерских. Кроме того, существующая практика ремонта и переоборудования устаревших лабораторий новоприбывших младших сотрудников за счет правительственных грантов старших сотрудников делала первых зависимыми от вторых. Новое финансирование должно было пойти из бюджета факультета искусств и наук, а не из одних только федеральных грантов, если Гарвард хотел удержать свое место в соперничестве со Стэнфордом, Калтехом, Массачусетским технологическим институтом и Рокфеллеровским университетом. Кит Портер, Пол Левин и я подготовили отчет об оборудовании, который Дон Гриффин передал Франклину Форду. В этом отчете мы наметили три возможных плана действий. Первый предполагал капитальную переделку Биолабораторий, второй — строительство нового пятиэтажного крыла на восточной стороне, а третий — строительство нового десятиэтажного здания, для которого требовалось снести историческое кирпичное здание общежития школы богословия на Дивинити-авеню перед зданием Биолабораторий. Вскоре из администрации факультета пришел ответ, что деньги на строительство новых помещений отделения биологии отсутствуют. Любое расширение состава сотрудников было возможно лишь в пределах существующих рамок Биолабораторий. Этот отказ имел неожиданное положительное следствие. На более скорое утверждение администрацией могли рассчитывать уже находящиеся в Гарварде ученые, потребности которых в рабочем пространстве можно было удовлетворить сравнительно недорогим переоборудованием существующих лабораторий. Поэтому задача выбить для Уолли Гилберта постоянную ставку должна была решиться намного проще, чем мы предполагали годом раньше. Уолли был по-прежнему обременен большой педагогической нагрузкой по физике и руководил диссертационными работами нескольких аспирантов. Только после Биохимического конгресса в Москве в августе 1961 года Уолли стал тратить большую часть своего свободного времени на молекулярно-биологические эксперименты. Он первым продемонстрировал, что одна молекула полиУ может служить матрицей для работы нескольких рибосом одновременно. Затем он обнаружил присутствие молекул транспортной РНК на С-концах растущих полипептидных цепочек. Теперь же он работал над тем, чтобы показать, что прикрепление к рибосомам стрептомицина вызывает ошибки в считывании генетического кода. Но, несмотря на все эти доказательства исключительных способностей Уолли как экспериментатора, я опасался, что добиться, чтобы его приняли на отделение биологии, будет очень непросто. В глазах сотрудников отделения Уолли решал примерно те же проблемы, что и я, и многие видели в этом проблему. К счастью, Пол Доути вскоре смог устроить так, чтобы Уолли дали постоянную ставку, но не как сотруднику отделения биологии, а как члену комиссии по ученым степеням в области биофизики. Для этой цели я написал Артуру Соломону, уже давно царившему в гарвардской биофизике, что Уолли по своим интеллектуальным и экспериментаторским способностям принадлежит к одной категории с такими людьми, как Сеймур Берзер и Сидни Бреннер. Франклин Форд вскоре обеспечил средства для создания новой постоянной биофизической ставки, и назначение Уолли на эту ставку было без проблем утверждено специальным комитетом в начале апреля 1964 года. Когда проходило утверждение Уолли, я был в Париже, где выступал на апрельской конференции, посвященной пятидесятой годовщине Французского биохимического общества. Там я впервые объявил об экспериментально показанном наличии на рибосомах двух участков, специфически связывающих молекулы транспортной РНК. Один участок я назвал А, ввиду того что его функция состоит в связывании добавляемой к цепочке аминокислоты, а другой — Р поскольку он соединяет растущую полипептидную цепочку с рибосомой. Какой-то механизм, который еще предстояло определить, позволял растущей полипептидной цепочке сразу переходить с А-участка на Р-участок после образования каждой следующей пептидной связи. Ближе к концу доклада я отметил, что мы также ожидаем найти на молекулах иРНК сигнальные участки, определяющие начало и конец синтеза полипептидной цепочки. Нам до сих пор не удалось обнаружить эти участки, и это могло быть связано с тем, что в лишенных клеток экспериментальных системах для синтеза белка в то время матрицами служили лишь синтетические молекулы РНК. На таких молекулах нет сигнальных участков. Синтетические молекулы, вероятно, работали как нормальные матрицы лишь в результате ошибок в считывании кодонов. Изложив все это, я стал беспокоиться, не сочтут ли мой доклад спекулятивным, и испытал огромное облегчение, когда Франсуа Жакоб, никогда не расточавший пустых похвал, назвал мое выступление одним из лучших, какие он когда-либо слышал. Я в то время был очень горд тем, что стал старшим стипендиатом в гарвардском Обществе стипендиатов. Главная задача восьми старших членов общества состояла в том, чтобы каждый год выбирать похожее число младших членов на срок в три года. От нас также ожидали участия в совместном ужине по понедельникам с младшими стипендиатами в отделанном деревом помещении общества в Элиот-хаусе. Репутация этого общества как объединения людей исключительных интеллектуальных способностей была вполне заслуженной. В 1962 году в его состав выбрали специалиста по эволюционной биологии Джареда Даймонда и будущего нобелевского лауреата по химии Роальда Хофмана. Я обнаружил, что сидеть рядом с младшими стипендиатами гораздо интереснее, чем со старшими. Особенно тяжело было попасться в соседи язвительному, но робкому литературному критику Гарри Левину или чрезмерно обходительному специалисту по Античности Герберту Блоху. А философ Уиллард Ван Орман Куайн, возможно, и был умнейшим из всех, но он оживлялся лишь тогда, когда говорил о географических картах. Одного такого вечера в год было бы для меня вполне достаточно. Ужины стипендиатов стали несколько веселее, когда в июле 1964 года председателем стал экономист Василий Леонтьев, провернувший избрание старшим стипендиатом бостонского старшего судьи Чарльза Визански, интересы которого — как интеллектуальные, так и социальные — выходили далеко за пределы Гарварда. Председателем общества все еще был историк Крейн Бринтон, когда я предложил пригласить на один из наших ужинов по понедельникам принцессу Кристину. Вскоре меня известили, что ее королевское присутствие будет отвлекать членов общества от их интеллектуальных задач. Мы с принцессой недавно столкнулись друг с другом в обычно переполненной кофейне напротив Библиотеки Уайденера. С ней была и Антония Йонсон, и мы втроем пообедали в одной из секций кофейни. Мы много говорили о нынешнем молодом человеке Антонии, который жил в Филадельфии и занимался биофизическими исследованиями в Пенсильванском университете. Через несколько недель я снова встретил Кристину на вечере, где танцевали вальс, в отеле Parker House. Во время этого вечера она убедилась, что танцевальный зал — это место не для меня. Я был там в качестве не самого удачного спутника сногсшибательной полноватой блондинки Шелдон Огилви, у которой недавно не заладилось обучение в колледже в Нью-Йорке. Каким-то образом она оказалась в списке гостей этого небольшого ежемесячного танцевального вечера бостонского общества. Излучая счастливую беззаботность героини Трумэна Капоте, Шелдон потягивала коктейль "Бренди Александр", когда мы сидели с ней в клубе Casablanca под кинотеатром Brattle. В начале мая Кристина и я были на субботнем вечере с танцами в Локаст-Вэлли на Золотом берегу Лонг-Айленда. Это было празднование дня рождения Деминг Прэтт, соседки Нэнси Доу по комнате в Рэдклиффе; ей исполнился двадцать один год. Брачные узы некогда связывали ту ветвь нефтепромышленной семьи Прэтт, к которой принадлежала Деминг, с шведским королевским домом Бернадотов. Нэнси сказала мне, что я просто обязан туда пойти, поэтому я договорился о том, чтобы переночевать в Лаборатории Колд-Спринг-Харбор, расположенной всего в пятнадцати минутах езды от Локаст-Вэлли. Скотч с содовой, выпитый за ужином перед танцами в клубе Piping Rock, придал мне храбрости, чтобы в очередной раз дать Кристине почувствовать нехватку у меня чувства ритма. Большую часть вечера я проговорил с Уэнди Маркус, наследницей техасской сети универмагов, и с сопровождавшим ее латиноамериканским корреспондентом New York Times. Покинув этот вечер, когда большинство гостей уже разошлись, я по рассеянности поехал, не включив фары. Меня немедленно остановил местный полицейский, который милосердно ограничился тем, что велел мне постоять на обочине, пока голова не прояснится. В те времена к вождению в состоянии опьянения относились легкомысленно и потому снисходительно. Впоследствии я содрогался при мысли о той огласке, которую получила бы эта история, если бы полицейский оказался построже и, как положено, забрал меня в участок. С приходом лета Шелдон Огилви было уже незачем оставаться в Кембридже, и она нашла себе приют в доме 336 по Риверсайд-драйв в Нью-Йорке. Хотя она и не состояла в родстве с мастером рекламного бизнеса Дэвидом Огилви, ее взяли на секретарскую работу в приемной агентства Ogilvy & Mather. Я заглянул к ней в конце июля, когда приехал в отель Hilton на Международный биохимический конгресс 1964 года. Фрэнсис Крик тоже выступал там с одним из ключевых для этого конгресса докладов. По ходу моего выступления я между делом показал слайд с фотографией с Нобелевского банкета, на которой Фрэнсис, казалось, неподобающим образом смотрит на принцессу Дезире. Впоследствии, в возмещение морального ущерба, я познакомил Фрэнсиса с Шелдон за неформальным ужином в баре с фортепиано на крыше отеля St. Regis. На следующий день Фрэнсис позвонил ей на работу, чтобы заполучить ее адрес и телефон с прицелом на встречу в свою следующую поездку в Штаты. Я узнал об этом только в начале декабря, когда Шелдон сообщила мне в письме, что будет снова ужинать с Фрэнсисом на его обратном пути в Англию и что ее поначалу саму несколько удивляло, что она принимает его знаки внимания. Потом удивляло уже то, что она была такой придирчивой, учитывая, как замечательно мы втроем провели время в St. Regis. Шелдон больше уже не работала в приемной, а стала давать уроки фокстрота в Вестчестере девочкам, которых она называла "маленькими аристократками", чтобы они смотрелись презентабельно, когда им настанет пора выезжать в свет. В своем небольшом письме она выражала сожаление по поводу того, что в октябре почти без объяснений уклонилась от поездки со мной на выходные в Колд-Спринг-Харбор. Теперь она объяснила, что из-за бурного веселья накануне была не в форме. Учтивость не позволила мне расспрашивать о подробностях. Занимало ее и менее спортивное увлечение: она была поглощена Вирджинией Вульф и хотела, чтобы я помог ее возвращению в Барнард-колледж, разогнав тучи, нависшие над ней со времени ее внезапного ухода. Я не понимал, как ей может помочь моя рекомендация, и было совсем неясно, какую именно рекомендацию я должен дать. К осени 1964 года на факультете постепенно сложился консенсус, за который очень ратовал Франклин Форд, чтобы перевести давно существующую биохимическую специализацию студентов колледжа под юрисдикцию комиссии по ученым степеням в области биохимии. Студенты-биохимики исторически были нацелены на медицинскую школу, и многие из членов попечительского совета комиссии были, соответственно, сотрудниками медицинской школы. В 1958 году из медицинской школы Нью-Йоркского университета в Гарвард перешел микробиолог Элвин Паппенхаймер, возглавивший преподавательский совет комиссии по биохимии, сменив на этом посту многлетнего главу Джона Эдсалла. Теперь Пап хотел подать в отставку, потому что был только что назначен управляющим общежития Данстер-хаус. Предлагаемая реорганизация позволила бы младшим сотрудникам факультета попеременно занимать должность главы преподавательского совета, благодаря чему декану не пришлось бы создавать постоянную ставку для каждого нового главы. Чтобы добиться поддержки немедленного создания обособленного отделения биохимии, Франклин Форд дал разрешение начать поиски нового старшего биохимика или молекулярного биолога, который усилил бы эти дисциплины. Столь же важно, что Форд и президент Пьюзи пообещали построить новый естественнонаучный корпус между Мемориальной библиотекой Конверсов и Биолабораториями. Об официальном создании новой комиссии по биохимии и молекулярной биологии было объявлено на собрании сотрудников факультета искусств и наук в феврале 1965 года. Первым председателем комиссии должен был стать Джон Эдсалл, что говорило о серьезности намерений. В то время многие с энтузиазмом относились к идее взять на постоянную ставку на отделение биологии Дэвида Хьюбела, получившего доктора медицины в Канаде и работавшего адъюнкт-профессором нейрофизиологии в Гарвардской школе медицины. Эксперименты, проводимые в то время Хьюбелом и его коллегой, шведом Торстеном Визелом, вносили существенный вклад в представление об устройстве зрительной коры головного мозга. Дон Гриффин ради продолжения сотрудничества Хьюбела и Визела предложил дать Визелу ставку старшего научного сотрудника на отделении биологии. Их достижения произвели особенно большое впечатление на Фрэнсиса Крика, который теперь пользовался своим положением сотрудника-нерезидента Института Солка для того, чтобы часто встречаться там с Хьюбелом и Визелом. Если бы Хьюбела и Визела удалось привлечь в Биолаборатории, это был бы огромный шаг вперед для нашего отделения, это бы безоговорочно подтвердило статус передового биологического учреждения. В то время уже поговаривали о том, что Хьюбел и Визел неизбежно получат за свои совместные исследования Нобелевскую премию. Поэтому здравый смысл требовал, чтобы и Визелу тоже была предложена постоянная ставка. Но нам было сказано, что у декана в настоящий момент нет возможности создать для него новую постоянную ставку, особенно учитывая, что он, как утверждали, не хотел вести занятия у студентов колледжа. Мне вскоре представилась возможность лучше познакомиться с Хьюбелом и Визелом, когда я в конце зимы посетил Институт Солка в Ла-Хойе. Поводом для моего визита в район Сан-Диего послужил трехдневный симпозиум, посвященный роли генов в иммунном ответе, проходивший в Уорнер-Спрингс неподалеку от обсерватории на горе Паломар с ее большим телескопом. На этом симпозиуме Норберт Хилыпман из лаборатории Лаймана Крейга в Рокфеллеровском университете показал слайд, на котором были представлены аминокислотные последовательности антителоподобных белков Бенс-Джонса, обнаруживаемых в организме жертв множественной миеломы. Хильшман позаботился о том, чтобы этот слайд не оставался на экране достаточно долго, чтобы с него успел переписать данные его конкурент из Рокфеллеровского университета Джерри Эдельман, тоже присутствовавший в зале. Возмущенный таким проявлением дурного тона Макс Дельбрюк поднялся с места и высказал Хильшману свое осуждение. Но те из нас, кто хорошо знал Джерри, понимали, что положение Хильшмана было безвыходным. Решив в последний момент продлить свой визит в Калифорнию еще на одну неделю, я нарушил бы с давних пор действующее на факультете искусств и наук правило, согласно которому все визиты за пределы Гарварда продолжительностью более одной недели должны были получать одобрение президента и совета факультета. Но на ту неделю у меня не были запланированы лекции, а если бы я в последний момент обратился к руководству за одобрением, это могло бы задержать мой отъезд в Уорнер-Спрингс. Поэтому я решил просто сказать Дону Гриффину, что меня не будет недели две. Мне никак не приходило в голову, что он сочтет нужным сообщать об этом Франклину Форду. Но он это сделал, о чем мне стало известно только в Институте Солка, где я знакомился с текущей работой Хьюбела и Уизела. Они были в числе первых, кто узнал, в какую ярость я пришел, после того как Дон позвонил мне и сказал, что президент Пьюзи хочет, чтобы я немедленно вернулся в Гарвард. Со мной обращались как с солдатом, ушедшим в самоволку. В глубоком возмущении я сказал Дону, что, быть может, Пыози и получил бы удовлетворение, унизив меня подобным образом, но тем самым он давал Хыобелу основания задуматься, зачем ему переходить из Гарвардской школы медицины, работая в которой он мог путешествовать как ему заблагорассудится, на факультет искусств и наук, где от него будут требовать подчинения правилам, больше подходящим для подростков, чем для серьезных ученых. Дон позвонил мне на следующее утро и сказал, что я могу остаться. До этого у меня на уме вертелось лишь непечатное ругательство по адресу Гарварда и Пьюзи, которое я неоднократно повторял в течение вечера. Когда я вернулся в Гарвард, Пол Доути просветил меня, что Кеннет Гэлбрейт тоже как-то повздорил с Пьюзи из-за отъезда в течение семестра. После того как ему отказали в разрешении провести зиму, не занятую преподаванием, катаясь на лыжах в Гштааде, Кен добыл справку от врача о том, что этот отпуск необходим ему по медицинским показаниям, чтобы предотвратить чрезмерную нагрузку на кровеносную систему. Не рискуя пойти на скандал, который Кен мог придать огласке, Пьюзи решил уступить. Пятном на репутации Гарвардской корпорации по-прежнему оставался случай, когда вскоре после Второй мировой войны Кена чуть не прокатили за его экономические взгляды, которые были сочтены слишком левыми. Я опасался, что линия поведения, которую выбрал по отношению ко мне президент Пьюзи, была его способом еще раз подтвердить свою власть над сотрудниками Гарварда. Стоит ли говорить, что я был встревожен, когда пришло письмо Франклина Форда от 1 июля о размере моей зарплаты на следующий год! К своему облегчению, я получил прибавку в 1000 долларов. За три месяца до этого еще большее удовлетворение мне принесло другое письмо от Форда, в котором говорилось, что мистер Пьюзи и Гарвардская корпорация собираются пересмотреть свою политику в вопросах поездок и заработной платы сотрудников. Они хотели, чтобы этот вопрос исследовала в течение следующего года специальная комиссия, работа которой будет глубоко конфиденциальна. Не согласен ли я возглавить эту комиссию, несмотря на то что я планировал быть в отъезде на протяжении большей части следующего года? Чувствуя себя с лихвой вознагражденным за все страдания, я позвонил Полу Доути. К моему удивлению, мне вовсе не показалось, что он удивлен и обрадован этим поворотом в политике корпорации. Только через несколько часов, по дороге к дому Пола, я еще раз посмотрел на письмо Форда и обнаружил, что оно было датировано 1 апреля. Встретив у ворот дома Форда Дороти Зинберг, которая тоже с ним дружила, я сразу понял, что мы оба стали жертвами одного и того же розыгрыша. Я мог бы догадаться, что от Гарварда нельзя было ожидать такого резкого поворота курса, но я, хоть убей, не мог понять, как Полу удалось добыть из Юниверсити-холла бланки деканата. Хотя я и повздорил с Пыози, мне ничуть не хотелось из-за этого уходить из Гарварда. Едва ли в каком-либо другом месте у меня могли быть студенты такого же высокого уровня. Последний их триумф состоял в том, что они обошли две лаборатории Рокфеллеровского университета, разбираясь в ключевых особенностях механизма синтеза белка. Больше года рокфеллеровская группа Нортона Зиндера и моя группа по РНК-содержащим фагам старались опередить друг друга, выясняя, каким образом у так называемых нонсенс-супрессорных бактериальных штаммов происходит ошибка в считывании играющих роль стоп-сигналов мутантных нонсенс-кодонов, в результате которой синтезируются биологически активные полипептидные цепочки. К концу весны Гэри Гассин и Марио Капекки подготовили статью для Science о том, что мутантные молекулы тРНК считывают нонсенс-кодоны, как если бы они кодировали определенную аминокислоту, и, тем самым, победили в этом соревновании. Меньше трех месяцев спустя Капекки и Джерри Адаме показали, что молекулы формилметионил-тРНК запускают синтез бактериальных белковых цепочек. Незадолго перед тем я посетил Рокфеллеровский университет, чтобы узнать, изучают ли в лаборатории Фрица Липмана формилметионил-тРНК, открытую за несколько месяцев до этого в Дании. Ее существование могло объяснить, почему у такого большого числа бактериальных белков на конце цепочки находится аминокислота метионин. Но Фриц не пришел к этой идее, и я уехал из Нью-Йорка, зная, что у Джерри Адамса не будет конкурентов в исследовании начального этапа синтеза белка. Вскоре Джерри открыл способ снабжать формилметионил-тРНК радиоактивными метками, что позволило ему и Марио пометить формильные группы на концах белков РНК-содержащего фага, полученных in vitro. Статья о результатах этих экспериментов была отправлена в Proceedings of the National Academy of Sciences перед самым моим отлетом в Лондон, откуда я собирался в Кембридж, чтобы провести там декабрь 1965 года. К тому времени едва ли не все в Биолабораториях понимали, что в лучших интересах всех и каждого как можно скорее преобразовать комиссию по биохимии и молекулярной биологии в полноценное отделение. Предполагаемых будущих сотрудников беспокоила неопределенность с рабочим пространством, которое им могли предоставить. Когда закончился трехлетний срок председательства Дона Гриффина, его место занял Кит Портер. Всего за несколько месяцев до передачи своих полномочий Гриффин неожиданно объявил, что увольняется из Гарварда, чтобы работать в Рокфеллеровском университете и на его биостанции в Миллбруке, милях в пятидесяти к северу от Нью-Йорка. Отделение биологии в панике предложило его постоянную ставку Эдвину Фёршпану, который изучал синапсы беспозвоночных в Гарвардской школе медицины по соседству с лабораторией Дэвида Хьюбела и Торстена Визела. Казалось, что удастся склонить Дэвида Хьюбела к переходу на факультет наук и искусств. Однако эта уловка не сработала. Дэвид, Торстен и Эд в конечном итоге решили остаться в Гарвардской школе медицины. Постоянная микробиологическая ставка Паппенхаймера тоже оставаласьбесхозной с тех пор, как Борис Магасаник больше года назад отказался от нее, предпочтя остаться в Массачусетском технологическом на отделении биологии, где будущее выглядело стабильным. Тогда в Гарварде предложили это место Ренато Дульбекко, исследования которого, посвященные ДНК-содержащим опухолеродным вирусам, шли вперед полным ходом. Никто, однако, не удивился, когда Ренато отверг это предложение, зная, что оборудование, которое будет в его распоряжении в уже почти достроенном Институте Солка, будет несравнимо лучше, чем то, что Гарвард может предложить ему в Биолабораториях. Стремясь успешно провернуть хотя бы одно назначение на постоянную ставку, Кит Портер с энтузиазмом стал ратовать за кандидатуру специалиста по циркадианным ритмам Вуди Хастингса из Иллинойса. Вуди, давно ставший неизменным участником летней жизни Вудс-Хоул, всем нравился, и я согласился проголосовать за его назначение, хотя и сомневался, что его исследования оставят в науке глубокий след. Так как я собирался вскоре покинуть отделение биологии и встать в ряды сотрудников комиссии по биохимии и молекулярной биологии, то считал, что, выступив по идейным соображениям против назначения Вуди, только испорчу наши отношения. Если уж этому назначению суждено было не пройти, то его должен был отклонить специальный комитет. Но комитет состоял из тех, кто считал, что в преподавании биологии необходимо сохранять разнообразие, и назначение состоялось. На собрании отделения биологии и января 1966 года, на котором была рекомендована кандидатура Хастингса, решили, кроме того, принять на отделение Уолли Гилберта, открывая для него возможность получить рабочее пространство, которое, как я полагал, будет расположено по соседству с моей лабораторией.
 Я в своем кабинете в 1967 году.
Я в своем кабинете в 1967 году.
Также на этом собрании долго обсуждали докладную, поданную Джоном Эдсаллом Франклину Форду, в которой Эдсалл всячески советовал ускорить создание отделения биохимии и молекулярной биологии. Кит сказал, что сформирует комиссию из трех человек, чтобы она подготовила проект заявления, которым, как ожидалось, отделение биологии выразит свою поддержку предполагаемому разделению. Похожее обсуждение состоялось на отделении химии, где идею разделения тоже поддержали, хотя и выразили сожаление, что их покинут некоторые значительные фигуры, такие как Пол Доути. Франклин Форд, считая это дело слишком серьезным, представил предложенный Эдсаллом план на суд специально созванной комиссии, которая сначала потребовала уточнения ряда подробностей этого плана. Официально отделение биохимии и молекулярной биологии должно было начать свое существование i февраля 1967 года, а для его руководства были выделены помещения на Дивинити-авеню в большом деревянном доме, в котором вырос прославленный историк Артур Шлезингер. Однако, несмотря на намеченное создание отделения биохимии и молекулярной биологии, я не мог позволить себе расслабиться. Весной, которую я проводил в лаборатории Альфреда Тиссьера в Женеве, до меня дошел слух, что отделение биологии предложило перевести лабораторию генетика Пола Левина на четвертый этаж, где она заняла бы помещение по соседству с моей лабораторией. Если бы это случилось, то помещение не досталось бы Уолли Гилберту и оставило бы меньше возможностей для размещения младших сотрудников по соседству с Уолли и со мной. Поскольку Дульбекко только что отклонил наше предложение, я написал Киту письмо, в котором говорил, что если в Биолаборатории должна влиться свежая кровь, то произойти это может только через сотрудников младшего звена. От мысли, что Пола сделают моим соседом и тем самым вытеснят Уолли на четвертый этаж, во мне просто кровь кипела, о чем я и сообщил Портеру. С тех самых пор, как Уолли получил постоянную ставку, у наших студентов фактически было одновременно два наставника, что давало им уникальный опыт как начинающим исследователям. Оживленные разговоры за утренним кофе, за обедом и за чаем происходили бы намного реже, если бы две наши группы оказались на разных этажах. В течение лета разговоры о переселении Левина прекратились, и это давало мне надежду, что поднятого мной скандала оказалось достаточно, чтобы поставить крест на этой затее. Однако в сентябре тот же план опять возродился стараниями Джеффри Поллитта, старшего администратора Биолабораторий, который доказывал, что это позволит освободить десять единиц драгоценного лабораторного пространства. На мой взгляд, той же цели можно было добиться, сократив территорию Левина, которая по площади в то время равнялась моей, несмотря на то что работало на ней вдвое меньше народу. Только в середине декабря Кит пошел на попятный и официально передал Уолли Гилберту те самые кабинет и лабораторное помещение, которые в мае он предлагал отдать Полу Левину. Наше новое отделение, которое давно пора было создать, начинало свое существование. Усвоенные уроки 1. ДОСТИЖЕНИЯ НУЖНО ВОЗНАГРАЖДАТЬ Я никогда не узнаю, причастны ли мои враги с отделения биологии к тому, что Гарвард не смог выразить мне признательность за Нобелевскую премию достойным повышением зарплаты. Мне казалось, что мой вклад в повышение престижа Гарварда заслуживает большего, чем формальная поздравительная отписка в одно предложение, полученная от президента. Люди много болтают о том, что, мол, для научной среды деньги не первичный стимул. Однако это не отменяет того факта, что для любого нанимателя зарплата служит средством показать, насколько он вас ценит. Так что, нужны вам эти деньги или нет, следите за тем, чтобы ваша зарплата соответствовала вашему статусу. 2. ИЗЛИВАЙТЕ СВОЙ ГНЕВ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ Чувство глубокого возмущения в адрес университетской администрации лучше выражать через друзей, которые также считают, что с вами обошлись неподобающим образом. Попытка высказать все непосредственно своему декану слишком легко может вылиться в слова, которые сожгут для вас мосты. Ни в коем случае не надо допускать, чтобы вас воспринимали как человека несдержанного и неспособного взглянуть на вещи с другой точки зрения. 3. БУДЬТЕ ГОТОВЫ УВОЛИТЬСЯ ИЗ-ЗА НЕАДЕКВАТНОГО РАБОЧЕГО ПОМЕЩЕНИЯ Ваши коллеги не узнают, получили ли вы прибавку на тысячу долларов меньше или больше, чем они, но всякому будет видно, какое именно помещение вам выделили, и это скажется и на ваших достижениях, и на восприятии вас другими. Равное распределение помещений для всех сотрудников одного ранга выглядит справедливо, но снижает эффективность работы. У научных работников, находящихся на разных этапах своей карьеры, разные потребности, однако если соответствующим образом выделять и отнимать рабочее пространство, то это приводит к обвинениям в фаворитизме. Так распределение помещений больше из политических, чем из рациональных соображений стало нормой. Но если окажется, что вам не выделяют пространство, необходимое вам для разработки новой светлой идеи или для совершения экспериментального прорыва, вас вполне могут обойти соперники, работающие в другом месте. Отказ в выделении подобающего помещения означает, что ваших способностей не ценят по достоинству или что вашему факультету все равно, останетесь вы или уйдете. Если вы не сможете убедительно пригрозить своим увольнением, вы никогда не узнаете, на каком вы счету. Все это довольно серьезно, и всегда тяжело через это проходить. Но если в дарвиновском мире научного учреждения вы не будете создавать такие кризисы, то ограниченные ресурсы неизбежно будут уходить вашим менее безропотным коллегам. 4. ПУСТЬ У ВАС БУДУТ ДРУЗЬЯ, БЛИЗКИЕ К НАЧАЛЬСТВУ Когда Чарли Визански узнал за ужином Общества стипендиатов, что от меня во время поездки в Калифорнию потребовали спешно вернуться в Гарвард, он написал своему другу из Гарвардской корпорации, Томасу Лэмонту. В этом частном письме Чарли дал понять, как глупо будет выглядеть Гарвард, если новость об этом эпизоде просочится в бостонские газеты. Его поняли с полуслова, и этого оказалось достаточно. 5. НИКОГДА НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ ПОСТОЯННЫХ СТАВОК СПЕЦИАЛИСТАМ ПО УМИРАЮЩИМ ДИСЦИПЛИНАМ В 1960-е годы гарвардское отделение биологии продолжало давать постоянные ставки в таких областях, как эмбриология или ботаника, — исчезающих видах. Это объяснялось необходимостью преподавать соответствующие курсы студентам колледжа. В Массачусетском технологическом институте, напротив, в отношении этих умирающих дисциплин практиковали постепенный отсев, оставляя их преподавание сотрудникам без постоянных ставок. В результате к середине 1970-х соперничающий с нами в сфере биологии институт стал переходить из отстающих в положение лидера. Это предсказуемым образом сказалось на образовании студентов магистратуры обоих учреждений. 6. СТАНЬТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ Большинство ведущих университетских ученых презирают обязанности, отнимающие время от занятия наукой. Они считают административную работу занудством, и каждый хочет, чтобы председателем отделения стал кто-нибудь другой. В результате этого увиливания от ответственности работа на большинстве естественнонаучных отделений оказывается далеко не такой захватывающей, какой она могла бы быть. Соломинка, которой смешивают коктейль, дорогого стоит. Слабые руководители отделений принимают неразумные решения, распределяя среди сотрудников важные курсы или драгоценное оборудование и рабочее пространство. Неудачно подобранные сотрудники ведут занятия и заведуют приобретением для библиотеки журналов, которых никто не читает. Собрания отделений проходят бессмысленно, в нудных обсуждениях, не касающихся жизненно важных вопросов и продолжающихся до тех пор, пока в помещении не закончится кислород. Функции председателя не должны отнимать у разумного профессора больше ю% времени — быть может, меньше, чем теряется в противном случае на жалобы по поводу неудачных решений, принятых другими. 7. ПРОСИТЕ ДЕКАНА ТОЛЬКО О ТОМ, ЧТО ОН МОЖЕТ СДЕЛАТЬ И говорить, и слышать слово "нет" неприятно: тот, кто отказал, выглядит не способным на великодушие, а тот, кому отказали, — ничего не понимающим или бессильным. Всем нам многого хочется, но, прежде чем просить о чем-либо у декана, убедитесь, что вы продумали, как он сможет разумно выполнить вашу просьбу без серьезного политического ущерба для самого себя. Однако совсем другое — просить декана обратиться к руководству университета с ходатайством о каком-то нужном вам изменении курса. Хотя получать отрицательный ответ всегда досадно, в этом случае ни вы, ни декан не предстанете в невыгодном свете, а вы, по крайней мере, получите какое-то представление о финансовых возможностях и приоритетах вашего университета. (обратно)
Глава 12. Навыки, позволяющие написать вполне читаемую книгу
"Двойная спираль" — книга о том, как мы с Фрэнсисом открыли структуру ДНК, — была опубликована в феврале 1968 года, через пятнадцать лет после этого открытия. Я давно решил, что стоит рассказать широкой публике о многих неожиданных поворотах этой истории, но мысль о том, как их изложить, пришла в голову только весной 1962 года на банкете в Нью-Йорке. Это был банкет в честь награждения Фрэнсиса и меня премией Исследовательской корпорации. Фрэнсис не мог на нем присутствовать, потому что был в то время в Сиэтле, где читал давно запланированные публичные лекции в Вашингтонском университете. Эбби Рокфеллер пригласила меня переночевать в доме ее родителей, где я имел возможность полюбоваться на принадлежавшую ее отцу большую картину вида на Темзу в фовистском стиле работы Дерена, а также увидеть семейную коллекцию фарфора, которую оценил в меньшей степени. Я прошел от Восточной Шестьдесят пятой улицы до отеля Ambassador на Парк-авеню, где в то время проходило много торжественных мероприятий подобного рода. Я сидел на почетном месте рядом за Жаком Барзэном, знатоком литературы из Колумбийского университета, знакомым мне с юных лет по радиопередачам на CBS. Разговор с Барзэном вдохновил меня, и я воспользовался предоставленным мне после банкета словом, чтобы рассказать историю нашего открытия как подлинную драму, в которой также участвовали Морис Уилкинс, Розалинда Франклин, Эрвин Чаргафф и Лайнус Полинг. Моя неожиданно откровенная речь вызвала немало смеха, и ее впоследствии хвалили за то, что она дала слушателям возможность почувствовать себя участниками одного из больших событий в истории науки. Возвращаясь в дом Рокфеллеров по Лексингтон-авеню в приподнятом настроении, я понял, что напишу свою будущую книгу в жанре, который Трумэн Капоте позже назвал "документальным романом". Но поскольку я должен был тут же вернуться в Англию, где проводил небольшой академический отпуск в кембриджском Колледже Черчилля, я понимал, что не смогу начать писать, пока не вернусь в Гарвард. В Лондоне я поначалу надеялся, что смогу использовать свою половину премии Исследовательской корпорации, чтобы заказать Фрэнсису Бэкону портрет Фрэнсиса Крика. Некоторое время назад я видел один из небольших портретов работы Бэкона в Женеве, и он надолго остался в моей памяти. Но в галерее Marlborough мне сообщили, что ирландец Бэкон пишет портреты только близких знакомых. Того факта, что Фрэнсис и Одилия видели художника прошлым летом в Танжере, было недостаточно. Через час я вышел на Альбемарль-стрит, став довольным обладателем девяти копий бронзовой "Головы воина" работы Генри Мура. Первая глава книги, получившей название "Двойная спираль", была написана в доме Альберта и Марты Сент-Дьёрди на полуострове Кейп-Код. Лето подходило к концу, и моя летняя лаборантка из Рэдклиффа Пэт Коллиндж собиралась присоединиться к своему молодому человеку из Гарварда, Джейку, работавшему над романом в дальней части полуострова. Еще в начале лета голубые глаза Пэт и ее наряд озорного ребенка убедили меня, что она послужит идеальной музой, чтобы я мог без заметных усилий набросать первые страницы моей повести о ДНК. Синтия Джонсон и я в Рэдклифф-Ярдс.
Синтия Джонсон и я в Рэдклифф-Ярдс.
 Уолли Гилберт и я верхом на носороге перед гарвардскими Биолабораториями вместе с Барбарой Риддл и голубоглазой Пэт Коллиндж.
Уолли Гилберт и я верхом на носороге перед гарвардскими Биолабораториями вместе с Барбарой Риддл и голубоглазой Пэт Коллиндж.
 Эбби Рокфеллер.
Эбби Рокфеллер.
По счастью, она согласилась, чтобы я довез ее до Кейп-Кода в своем открытом MG TF, и приняла предложение поработать одно утро моей машинисткой в Вудс-Хоул, прежде чем ехать дальше в Уэллфлит. Но в течение нескольких часов я был в творческом тупике, пока ко мне не пришли первые слова: "Я никогда не видел, чтобы Фрэнсис Крик держался скромно". Больше половины первой главы было напечатано, когда явился Джейк, и я остался в грустных раздумьях о том, как мне закончить оставшуюся часть главы без голубых глаз Пэт, служивших мне источником вдохновения. Это было совсем не просто, и только по возвращении в Гарвард я закончил последние абзацы, после чего моя секретарша напечатала полный текст первой главы. Осенние события, связанные с моей Нобелевской премией, словно сговорились с делами учебного года, чтобы не дать мне больше ничего написать до следующего лета. В то лето я как-то заметил прелестную студентку последнего курса Рэдклиффа Синтию Джонсон, обедавшую под большим вязом перед зданием Биолабораторий. С ней был самый красивый из старших преподавателей нашего отделения, Джон Даулинг, под руководством которого она выполняла летом исследовательскую работу в лаборатории зрения Джорджа Уолда. На следующий день я присоединился к ним за обедом, а вскоре уже играл с Синтией в теннис на рэдклиффских кортах. Очень скоро мне пришлось узнать, что у нее есть постоянный молодой человек, Малькольм Маккей, который только что закончил колледж в Принстоне и находится в Европе, откуда собирается вернуться осенью, чтобы учиться в Гарвардской школе права. Однако до этого времени мы с Синтией не раз совершали однодневные путешествия, одно из них — в Нахант на пляж, где я, к своему ужасу, впервые заметил, что переедание на банкетах наградило меня небольшим брюшком — а ведь раньше у меня никогда не было жира в области брюшной стенки! Я провел несколько выходных в гостях у семьи Синтии в Эдгартауне на острове Мартас-Винъярд, где узнал не только о том, что ее мать, художница, рисовала портреты герцога и герцогини Виндзорских, но и о том, что ее бабушка была близкой подругой Эмили Пост, чья книга об этикете ускорила упадок влияния протестантской англосаксонской аристократии в Америке. Полагая, что, будучи не только лауреатом, но и писателем, я мог бы создать достаточно романтический образ, чтобы вытеснить Малькольма из сердца Синтии, я провел последние две недели августа за написанием еще двух глав. Но когда наступила осень и Синтия привела Малькольма ко мне домой для одобрения, я понял, что не смогу соперничать с его парусными лодками. В ту пору все мое свободное время было занято написанием шести коротких глав о репликации биологических молекул для книжки, которая должна была выйти к январю, когда у меня были запланированы лекции для одаренных австралийских старшеклассников. В предыдущем году Джордж Гамов уже читал лекции в этой летней школе в Сиднее и всячески рекомендовал мне ее как предлог для того, чтобы провести январь под теплым южным солнцем. Я тоже стремился избежать обычного для Восточного побережья уныния рождественско-новогодних каникул и поэтому смирился с необходимостью подготовить упрощенную версию моих лекций по углубленному курсу биологии. В один душный августовский вечер, сидя за простым деревянным столом в своей квартире на Эппиан-Уэй, я написал: "Очень легко считать человека уникальным среди живых организмов. Великие цивилизации так преобразовывали и изменяли окружающую среду на нашей планете, как и не снилось ни одной другой форме жизни. Поэтому у людей всегда была склонность считать, что нечто особенное отличает человека от всего остального в этом мире. Эти представления часто находят выражение в человеческих религиях, которые пытаются сообщить нам об истоках нашего существования и так дать нам правила, которыми мы могли бы пользоваться в ходе своей жизни. Естественно было считать, что как всякая человечеcкая жизнь начинается в определенное время, так же и человек не всегда существовал, но был некогда создан, быть может одновременно со всеми другими формами жизни. Однако всего сто с небольшим лет назад эти представления были впервые всерьез подвергнуты сомнению, когда Дарвин и Уоллес выдвинули свою теорию эволюции, основанную на отборе наиболее приспособленных". Остаток этой вводной главы мне удалось без труда написать за следующие несколько дней, что давало уверенность: остальные пять глав удастся подготовить к концу октября. В этом случае книжка была бы уже готова к началу австралийской летней школы. Но срочные задания Президентского комитета научных консультантов позволили мне отослать только три главы ("Введение", "Живая клетка с точки зрения химика" и "Концепция молекулярных матриц"). Позже смерть Джона Кеннеди в Далласе и инсульт у моего отца не дали мне записать оставшиеся три лекции. К моему облегчению, одна сторона тела у моего отца оказалась парализованной не полностью, и к тому времени, когда я отвез его в Вашингтон, чтобы он провел зиму у моей сестры, он уже мог, опираясь на трость, доходить до Гарвард-сквер и обратно. Несмотря на непродолжительную остановку на Фиджи, я выглядел и чувствовал себя измученным, когда прибыл в Сидней вскоре после Нового года. Из-за короткой темной бородки, которую я отпустил в сентябре, когда читал лекции в Равелло, в сиднейской газете про меня было написано, что я "погружен в себя и похож на Мефистофеля" и "такой же интроверт, какой пригласивший его физик Гарри Мессел — экстраверт". Далее статья сообщала, что меня трудно развеселить. У этого и правда была причина — несколько званых ужинов, устроенных ради меня пожилыми профессорами, не были украшены ни одним симпатичным женским лицом. В отчаянии я предложил провести один вечер в ночном клубе, но там оказалось, что в пуританском Сиднее танцовщицы полностью одеты. Моя жизнь резко улучшилась, когда репортер из Mirror познакомил меня с художественной средой пригорода Пэддингтон, где тон задавал молодой художник и критик Роберт Хьюз. В галерее Rudy Komen я купил большую картину в голубых тонах "Женщина из Кингс-Кросс" работы бывшего боксера Роберта Дикерсона и напоминающую картины де Кунинга женщину с зеленым лицом работы столь же талантливого Джона Мольвига. Затем мы зашли в галерею Kellma, где я приобрел деревянную фигуру человека в натуральную величину, вырезанную аборигенами с реки Сепик в Папуа — Новой Гвинее. Его раскрашенное лицо, вызывающее в памяти работы Дюбюффе, позже заняло место напротив моего стола в Биолабораториях. Мое настроение наконец замечательным образом улучшилось, и я надеялся провести еще один день в блужданиях по галереям, но Хыоз отказался, и я заподозрил, что женщины его не привлекают, в чем впоследствии имел немало случаев разувериться.
 Из правого угла кабинета за моей работой наблюдает деревянная скульптура с реки Сепик, купленная вскоре после того, как я получил Нобелевскую премию.
Из правого угла кабинета за моей работой наблюдает деревянная скульптура с реки Сепик, купленная вскоре после того, как я получил Нобелевскую премию.
Еще до возвращения в Гарвард я стал опасаться, что мои лекции и их письменные версии подходят скорее для колледжа, чем для средней школы, и аудитория в них не разберется. Я решил, что три завершенные мной главы лучше подошли бы в качестве начала небольшого учебника для колледжей о том, как ДНК обеспечивает хранение и передачу информации, позволяющей клеткам существовать. Я случайно встретился в ресторане Wursthaus на Гарвард-сквер с молекулярным биологом из Массачусетского технологического Сайрусом Левинталем, который порекомендовал мне новое издательство естественнонаучной учебной литературы W. A. Benjamin. Эта компания стремилась расширить свою область деятельности, первоначально ограниченную физикой и химией, включив в нее также биохимию и молекулярную биологию. Меньше чем через неделю главный редактор издательства, молодой канадец Нил Паттерсон, посетил меня в моем кабинете, чтобы принять в ряды бенджаминовских авторов, в число которых им был ранее принят "суперфизик" Мюррей Гелл-Манн. Вскоре после этого я оказался в неопрятных помещениях издательства W A. Benjamin в Нью-Йорке, расположенных над кегельбаном на Верхнем Бродвее. Мое неблагоприятное впечатление немного ослабло, когда мне сказали, что издательство скоро переедет на Парк-авеню 2 в помещения под Центральным вокзалом. Мне нравился подход Нила Паттерсона к поиску авторов среди молодых способных ученых, и я подписал контракт с авансом в 1000 долларов за книгу объемом 125 страниц, которую нужно было завершить к концу года. Кроме того, мне предоставили возможность приобрести пять тысяч акций издательства — похоже, были основания надеяться, что их возрастет стоимость, когда развернется выпуск новых книг. К тому времени я уже дал своей будущей книге название "Молекулярная биология гена". Поначалу меня привлекала мысль назвать ее "Вот что такое жизнь", как бы отвечая на название книги Эрвина Шрёдингера "Что такое жизнь?". Однако, поразмыслив, я решил, что тем самым обещал бы больше, чем мог дать. Работая над новыми главами, я выделял жирным шрифтом предложения, резюмирующие основную идею последующих абзацев (например, "Молекулы соединяются избирательно", "Ферменты не могут определять последовательность аминокислот в белке", "В основе матричного синтеза лежит работа слабых связей на коротких расстояниях"). Мне пришла в голову мысль делать такие "концептуальные заголовки", когда я, еще до поездки в Австралию, работал над главой "Живая клетка с точки зрения химика". Они естественным образом возникали из тезисов, составлявших подготовленный мною план, расписывающий, о чем должна идти речь в каждой главе. Почти сразу я понял, что мои австралийские главы нужно расширить, и стал придумывать яркие концептуальные заголовки, такие как "Двадцать пять лет одиночества белкового кристаллографа". Не менее важную роль в том, что из "Молекулярной биологии гена" в итоге получилась вполне читаемая книга, сыграли иллюстрации, которые подготовил юный Кит Роберте, готовившийся начать свое обучение в университете. В начале 1964 года Кит приехал из Англии и устроился на временную работу лаборантом, а затем изучал в Кембридже ботанику. После того как я однажды спросил его мнения о черновых вариантах моих первых глав, он рассказал, что сначала собирался учиться искусству, а не науке, и вызвался сделать необходимые иллюстрации. По мере того как моя рукопись постепенно разрасталась, Кит работал над иллюстрациями целые дни и продолжал рисовать для меня и после того, как у него начались занятия первого курса. В то время в издательстве Benjamin применяли двуцветную печать и пользовались услугами профессиональных художников. Большой удачей для меня было то, что преобразовать художественные идеи Кита в законченные иллюстрации мне помог нью-йоркский художник Билл Прокус. У Билла была тогда мастерская на Двадцать третьей улице в Челси, где он писал картины и работал над иллюстрациями для издательства Benjamin. Чтобы ускорить работу Билла, я стал регулярно приезжать в Нью-Йорк и останавливаться в отеле Plaza, где номера, не выходившие окнами на улицу, никогда не стоили больше 20 долларов. Несмотря на это, Боб Борт, наследник сталелитейного капитала, работавший финдиректором издательства, велел мне прекратить эти визиты, после того как прочитал неодобрительный отзыв о моей рукописи, тогда уже почти законченной. Нил Паттерсон посылал ее цитологу Бобу Аллену в Дартмут, и тот нашел ее неподходящей для своих студентов. К счастью, Паттерсон был главнее, чем Борт, и мне не пришлось останавливаться в сомнительных достоинств гостинице Chelsea, расположенной напротив мастерской Билла Прокуса. Все мои черновые варианты глав сильно улучшились благодаря редактуре, сделанной студенткой последнего курса Рэдклиффа Долли Гартер. На первом курсе она прошла общеобразовательный курс биологии Джорджа Уолда и поэтому была знакома с ДНК-центрическим образом мышления. Большим плюсом было то, что она специализировалась на английском и интересовалась литературным трудом. Ей удалось сделать мой напыщенный стиль более ясным. Я поставил перед собой задачу довести главы до такого вида, чтобы Долли понимала в них все, не прибегая к иллюстрациям Кита, которые часто были еще не готовы. Я исходил из того, что если один только текст будет позволять Долли во всем разобраться, то у менее способных студентов не возникнет трудностей, когда мои тезисы будут снабжены подходящими иллюстрациями. Долли работала всю осень 1964 года, редактируя главы по мере их написания. К тому времени я расширил круг тем, охваченных "Молекулярной биологией генов", добавив главы "Важность слабых химических взаимодействий" и "Сопряженные реакции и реакции переноса групп" для студентов-биологов с более слабой подготовкой по химии. Как и многие более поздние главы, они постоянно требовали переработки, чтобы не отставать от последних научных достижений. Бесчисленная правка, внесенная в первоначальные гранки, привела к тому, что большую часть "Молекулярной биологии гена" пришлось полностью набирать заново. Даже в постраничную корректуру я внес намного больше изменений, чем хотели мои издатели, и они пригрозили вычесть из моего гонорара связанные с этим расходы. Но в результате они этого так и не сделали, осознав итоговую ценность абсолютно современной книги. Тоненькая и хрупкая Долли, уроженка Бруклина, входила в круг людей, связанных с гарвардским литературным журналом The Advocate, и я попросил ее прочитать первые главы моих воспоминаний об открытии двойной спирали. Первоначальное название книги было "Честный Джим" — в связи с тем, что незадолго до того Альфред Тиссьер напомнил мне, что Уилли Сидс, сотрудничавший с Морисом Уилкинсом, язвительно назвал меня "честный Джим", когда в августе 1955 года случайно встретился со мной и Альфредом на горной тропе в Альпах. Теперь я хотел использовать название "Честный Джим", чтобы прямо заявить свою позицию по спорному вопросу, по поводу которого и язвил Сидс, — вопросу о том, имело ли место со стороны моей и Фрэнсиса недопустимое использование конфиденциальных данных Королевского колледжа в нашей работе над структурой ДНК. Я вспомнил в связи с этим, как Джозеф Конрад использовал название "Лорд Джим", чтобы тем самым сразу показать характер своего героя. Ободренный восторгом Долли от первых глав "Честного Джима", я решил вернуться к работе над этой книгой, как только закончу принципиальную доработку "Молекулярной биологии гена". К июню, когда Долли закончила колледж вместе со своим молодым человеком, студентом-математиком и тоже уроженцем Бруклина, по имени Дэнни, Долли прочитала уже половину "Честного Джима". Она написала мне из Принстона, где теперь работала в издательстве Wan Nostrand, что гарвардский Advocate хотел бы опубликовать первые главы моей книги. Хотя, по ее мнению, жизнь ученого неизбежно скучна, Долли находила, что читателям журнала пойдет на пользу возможность прочесть о моих увлекательных экспериментах. В то время я надеялся, что "Честного Джима" опубликует издательство Houghton Mufflin. В один майский вечер предыдущего года я съездил в Беверли, чтобы посетить изысканный деревянный дом, где жила Дороти де Сантильяна, старший редактор этого издательства, муж которой, Джорджио, был специалистом по истории науки. Мы уже встречались с Дороти благодаря ее младшей родственнице, выпускнице Рэдклиффа Элле Кларк. За ужином у меня была приятная возможность поговорить с Дачией Мараини, женой писателя Альберто Моравиа, которая была его намного моложе и сама только что опубликовала роман, полный эротики. Перед отъездом я вручил Дороти несколько ранних глав "Честного Джима". Вскоре она написала мне краткое лестное письмо, в котором говорила, что когда моя рукопись будет готова, мне стоит предложить ее издательству Houghton Mufflin. Когда закончился весенний семестр 1965 года, я полетел в Германию, где должен был прочитать три лекции. Первая из них была в Мюнхене, где я разделил с биохимиком Феодором Линеном своего первого молочного поросенка в большом пивном ресторане. Линен, в то время крупнейший биохимик своей страны, не реже двух раз в год ездил в Штаты, чтобы быть в курсе последних достижений ферментологии. В конце того года ему предстояло вместе с моим гарвардским коллегой Конрадом Блохом получить Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие механизма синтеза холестерина в клетках. Затем я поехал на север, вначале в Вюрцбург, а затем в Гёттинген, где химик Манфред Эйген изучал скорость химических реакций, за что через три года тоже получил Нобелевскую премию. Манфред был всего на год старше меня и с детским восторгом увлекался множеством не связанных с химией занятий, особенно игрой на фортепиано. У себя дома он собрал небольшой камерный оркестр, в сопровождении которого проворно сыграл концерт Моцарта, лишь изредка допуская ошибки. Главной целью моей поездки в Европу была намеченная на июнь конференция по теме "Принципы организации биологических молекул" в здании компании Ciba. Эта конференция была по сути продолжением другой, по теме "Природа вирусов", состоявшейся там же девятью годами раньше. Перед самой конференцией Джон Десмонд Бернал, глава Биркбек-колледжа, в который перешла из Королевского колледжа Розалинда Франклин, перенес слабый инсульт, из-за которого его вступительную речь было больно слушать тем, кто был с ним давно знаком и называл Мудрецом. Но ничто не свидетельствовало о болезни в его последующей публикации, в которой он утверждал, что жизнь представляет собой не какую-то метафизическую сущность, а систему с четко организованной структурой вплоть до атомарного уровня. Феодор Линен тоже был на этой конференции, и нас обоих весьма заинтриговал последний доклад на тему "Минимальный размер клеток", с которым выступил Гарольд Моровиц из Иеля. Он посвятил свой доклад прежде всего мельчайшим свободноживущим клеткам, таким как микоплазмы, геномы которых, по-видимому, содержали меньше миллиона пар азотистых оснований. После конференции я уехал из центрального Лондона, чтобы навестить Эва и Лорну Митчисон на Риджуэй, неподалеку от лаборатории Медицинского исследовательского совета в Милл-Хилл. В гостях у них было несколько друзей семьи, из которых моложе всех была Сьюзи Ридер, отличавшаяся умом и классической красотой. Сыози вскоре должна была окончить Университет Сассекса, после чего собиралась пойти в аспирантуру по криминологии в Кембридж. На следующий вечер мы с ней поужинали в ресторане Rules совсем рядом с Ковент-Гарден. Оттуда было всего несколько минут ходьбы до театра Aldwych, где мы посмотрели "Возвращение домой" Гарольда Пинтера с Иэном Холмом и Вивьен Мерчант, бывшей тогда женой Пинтера. После этого я проводил Сьюзи через мост Ватерлоо на поезд, на котором она поехала к своей матери в Патни. Через месяц Сьюзи должна была поехать в Штаты, чтобы провести месячные каникулы в окрестностях Денвера, где она собиралась навестить своего молодого человека, тоже британца. Она, как мне показалось, охотно согласилась заехать в Колд-Спринг-Харбор, где в середине июля я собирался остановиться у директора лаборатории Джона Кэрнса. В итоге Сьюзи приехала всего на один день, что позволило мне полюбоваться ее фигурой в купальнике во время плавания на плоту в окрестностях лабораторного пляжа. Постоянное присутствие немецкой овчарки Джона Кэрнса, которая чуть не укусила меня за ногу, обеспечило не самые приятные воспоминания об этом дне. В начале сентября, по дороге обратно в Англию, Сьюзи заехала в Бостон на достаточно долгий срок, чтобы пойти со мной на ужин в ресторан Union Oyster House, после того как я горестно отметил, что картины и рисунки на стенах моей квартиры не были ей интересны. За две недели до этого издательство Benjamin устроило в Вудс-Хоул празднование в честь выхода первых экземпляров "Молекулярной биологии гена". Многие из коллег пришли на это мероприятие, пришел и мой папа, с которым Нил Паттерсон любезно проговорил большую часть вечера. Я приехал в тот день раньше других вместе с симпатичной студенткой последнего курса Рэдклиффа Джоши Пэшлер, у которой тоже был повод для празднования: недавно она открыла своего первого мутантного РНК-содержащего фага R17. В течение лета я давал Джоши читать новые законченные мной главы "Честного Джима" в надежде на то, что каждая из них будет вызывать у нее желание прочитать следующую. Как и у моих предыдущих умных и симпатичных лаборанток, у Джоши в Гарварде был постоянный молодой человек, хотя я и отметил, к некоторому для себя утешению, что она была намного сообразительнее, чем он. На празднике издательства Benjamin был и Кит Роберте, вернувшийся на большую часть лета. Первые его месяцы в Кембридже оказались не тем, чего он ждал. Для начала, его давняя подруга из Нориджа Дженни сошлась с "более зрелым и более красивым мужчиной". А его жилье в Кембридже было дешевым, но жалким — одна маленькая комнатка без традиционного камина. Кроме того, он находил жизнь колледжа скучной: в 23:30 все закрывалось, а на ужин в колледже св. Иоанна требовалось являться в мантии пять раз в неделю. Чтобы хоть как-то развлечься, он вступил в Художественное общество, Ассоциацию гуманистов и Марксистское общество. Он также имел удовольствие прослушать лекцию Фрэнсиса для Ассоциации гуманистов на тему "Правда ли, что витализм мертв?", прочитанную с силой убеждения, которая пришлась не по вкусу тем, кто не разделяет взгляда, что религия — это ошибка. Но потом жизнь Кита наладилась, потому что Дженни еще до конца учебного года вернулась к нему и теперь была вместе с ним на этом праздновании в Вудс-Хоул. Если бы не иллюстрации Кита, моя книга не разошлась бы тиражом в двадцать тысяч экземпляров за первый год после публикации и еще больше за второй. Благодаря этому мой авторский гонорар вскоре сравнялся с моей гарвардской зарплатой. Следующий учебный год я планировал провести в оплачиваемом годичном отпуске в лаборатории Альфреда Тиссьера в Женеве, получая вместо половины своей гарвардской зарплаты гуггенхаймовскую стипендию. Однако когда настало время уезжать, я осознал, что первую половину отпуска лучше провести в Кембридже, чтобы дописать "Честного Джима". Там у меня была бы возможность извлечь из памяти Фрэнсиса какие-нибудь подробности ключевых эпизодов наших приключений. Прежде чем лететь через Атлантику, я послал свою полузаконченную рукопись Дороти де Сантильяна с просьбой показать ее также коллегам Дороти по Houghton Mufflin. Прошло несколько недель, и я получил ответ главного редактора, Пола Брукса, за обедом в его бостонском клубе. По его мнению, язык был слишком резким и, скорее всего, должен был привести к обвинениям в клевете. Но поскольку Брукс не был экспертом в таких делах, он устроил для меня визит в Hale and Doer, престижную фирму в центре Бостона, куда издательство направило написанные мной главы. Через несколько дней я вновь пересек реку Чарльз, чтобы ознакомиться с несколькими страницами комментариев, подготовленными бостонцем голубых кровей по имени Конрад Дизенхофер, который разъяснял, какие проблемы должны вызвать те или иные написанные мною слова. Я вернулся в Гарвард, подозревая, что стратегия ухода от риска издательства Houghton Mufflin не позволит им совершить более смелый шаг, чем выпуск новых изданий определителей птиц Роджера Тори Питерсона. В Кембридже Сидни Бреннер нашел для меня жилье в Королевском колледже, с окнами на большую зеленую лужайку перед Колледжем Клэр. Закончив главу, я относил ее в Лабораторию молекулярной биологии, чтобы ее напечатала юная секретарша Фрэнсиса. Временами мне казалось, что Фрэнсиса раздражает, что я записываю эту историю один, а не вместе с ним. Но бывало и так, что он без труда вспоминал ключевые события, которые уже стерлись из моей памяти. Я показывал то, что у меня получалось, Сьюзи Ридер, чьи аспирантские занятия по криминологии проходили в основном в здании xix века на Уэст-роуд, неподалеку от того места, где во время моего первого приезда Кембридж жили Лоуренс и Элис Брэгг. Несколько раз Сьюзи ездила со мной по вечерам в рестораны за пределами Кембриджа на взятом напрокат седане MG, на котором я также ездил в Лабораторию молекулярной биологии и обратно. В мои последние десять дней в Кембридже неподалеку от меня в Королевском кембриджском отеле на Скруп-террас остановился мой отец, приехавший из центральной Франции, где он до этого отдыхал. Перед самым Рождеством он улетел обратно в Америку, к моей сестре в Вашингтон. Я тем временем уехал в Шотландию, чтобы погостить в большом доме Дика и Наоми Митчисон в Каррадейле. К тому времени я почти закончил "Честного Джима" — мне оставалось только две главы. В кабинете Наоми, под одной из принадлежавших ей картин Уиндхема Льюиса, я написал предпоследнюю главу. После празднования Нового года я полетел обратно в Гарвард, где мне понадобился всего один день на написание заключительной главы. Последнее предложение — "Мне было двадцать пять лет — слишком много, чтобы быть оригинальным" — пришло мне в голову уже давно. На следующий день в профессорском клубе я встретил Эрнста Майра и сказал ему, что только что закончил свои воспоминания об открытии двойной спирали. Эрнст был тогда представителем университета в издательстве Гарварда и быстро позвонил Тому Уилсону, директору издательства, чтобы сообщить ему о моей рукописи. На следующее утро Том пришел ко мне в кабинет и забрал рукопись, чтобы прочитать ее к завтрашнему дню, зная, что я скоро возвращаюсь в Лондон. На следующее утро он позвонил мне и взволнованно сообщил, что хочет, чтобы издательство опубликовало "Честного Джима", и что с моего разрешения он пошлет копии рецензентам из числа сотрудников Гарварда, которые помогали решать, какие книги издательству следует печатать. Приехав в Лондон, я немедленно позвонил моему старому другу Питеру Полингу, чтобы предложить ему устроить праздничный обед вместе с высокоинтеллектуальной Луизой Джонсон, всегда носившей замшевые жакеты. Она, как и Питер, работала над диссертацией доктора философии в Королевской ассоциации, президентом которой был тогда сэр Лоуренс Брэгг. Месяцем раньше я познакомился с Луизой на конференции по биофизике в Колледже королевы Елизаветы и узнал, что она работает над структурой лизоцима вместе с Дэвидом Филлипсом. Питеру удалось, на радость мне, в последний момент предложить Луизе и столь же юному кристаллографу Тони Норту присоединиться к нам в ресторане Wheeler's на Дувр-стрит. Показав им мою рукопись, я сообщил, что, задумав эту книгу как подобие романа, в ее первых главах я изобразил сэра Лоуренса не особенно лестным образом. Я признался, что пребываю в сомнениях, показывать ли ее сэру Лоуренсу, несмотря даже на то, что больше года назад он сам предложил мне описать мою роль в открытии двойной спирали. В то время его беспокоило, что Фрэнсису достается слишком много лавров за наш совместный научный прорыв. Нас всех поставила в тупик проблема, как сделать так, чтобы он прочитал рукопись и не пришел в ярость. Но Тони в ходе нашего мозгового штурма пришла в голову светлая мысль. Почему бы не попросить сэра Лоуренса написать к моей книге предисловие? Это был бы выигрышный ход и для него, и для меня. Я смог обратиться к сэру Лоуренсу с этой просьбой только в марте, когда я вернулся из своей шестинедельной поездки по Восточной Африке, спонсированной Фондом Форда. Эту поездку в последний момент организовал для меня Чарли Визански, который, будучи членом правления, недавно уже побывал в Восточной Африке по делам фонда. Восточноафриканское управление фонда находилось в Найроби, куда я полетел на самолете VCio корпорации British Overseas Airways, первым классом, как летали ведущие сотрудники Фонда Форда. Женщина, сидевшая в соседнем кресле, попросила меня показать ей рукопись "Честного Джима", которая лежала рядом со мной. Она прочитала ее за два часа и сказала мне, что не могла оторваться. После того как я съездил на три дня в Уганду, чтобы прочитать три лекции в Университете Макерере в Кампале, ко мне присоединился Фрэнк Саттон, бывший младший сотрудник Гарварда, и мы отправились с ним в поездку, чтобы посмотреть, как расходуются средства фонда, выделяемые на природоохранные цели. Первую остановку мы сделали в Национальном парке королевы Елизаветы на озере Эдвард, над которым поднимаются за облака Лунные горы. Затем мы попали в окружение бегемотов и крокодилов,мимо которых старомодный пароходик, как в фильме "Африканская королева", довез нас до подножья водопада Мерчисон, по которому каскадом стекает Белый Нил. В профессорском клубе Университета Макерере в то время остановился также выпускник Оксфорда писатель Видиадхар Сураджпрасад Найпол, который за несколькими завтраками не проявил интереса к тому, что я тоже стал одним из авторов английской прозы. В окрестностях бассейна я встречал тоже неприветливую, хотя и совсем по-другому, миниатюрную девушку с красивой фигурой, дочь Дональда Соупера, известного английского священника-методиста. Кэролайн не выразила ни малейшего желания прочитать историю "Честного Джима" о кембриджской научной жизни. Она была там только затем, чтобы присматривать за детьми своей сестры, муж которой, физиолог из Кембриджа, читал тем временем лекции студентам Макерере. В Университете Макерере, по примеру Кембриджа, студенты и преподаватели приходили в обеденный зал в мантиях. Во время нескольких ужинов я, к своему неудовольствию, следовал этой традиции. После окончания моих африканских лекций, которые привели меня также в Танзанию, Судан и Эфиопию, я сделал своей главной базой Женеву вплоть до мая, которым оканчивался мой годичный отпуск. Из Женевы я дважды летал в Лондон, в первый раз — чтобы передать сэру Лоуренсу свою рукопись и сообщить ему, что ее хочет опубликовать издательство Гарвардского университета. В мой второй визит поначалу я в волнении стоял у дверей его квартиры на верхнем этаже Королевской ассоциации. Но когда сэр Лоуренс вошел, то сразу меня успокоил, сказав, что если он напишет предисловие, то не сможет обвинить меня в клевете. Впоследствии я узнал, что его первоначальной реакцией на мою рукопись была, как я и опасался, глубокая ярость, но Элис, жена, смогла его успокоить. Я немедленно попросил Тома Уилсона официально сообщить Брэггу о планах издательства Гарварда на публикацию книги. В течение месяца Брэгг подготовил свое внятное, изящное предисловие, в котором говорилось, что я написал свою книгу с пипсовской откровенностью[24]. Чувствуя, что ее уже можно публиковать, я послал рукопись Фрэнсису, попросив его прокомментировать, правильно ли я изложил все детали. Я также вручил "Честного Джима" Дженет Стюарт, с которой дружил много лет, работавшей тогда редактором в издательстве Андре Дойча, чтобы узнать, не хочет ли ее издательство обсудить возможность публикации моей книги в Великобритании. Мы с Дженет впервые встретились в Кембридже, когда она училась в Гиртон-колледже. Теперь она была замужем за известным адвокатом Беном Уитейкером. Некоторое время она работала в издательской сфере в Нью-Йорке, а затем вернулась в Англию, где стала редактором у издателя Андре Дойча, родившегося в Венгрии. За ужином в гостях у Дженет и ее мужа на Честер-Роу я сообщил им новость о предисловии Брэгга. Через несколько дней я пришел в издательство Дойча на Грейт-Расселл-стрит, где Дженет представила меня своему начальнику и была явно обеспокоена, когда он предложил мне 250 фунтов аванса. Я учтиво ответил, что ему лучше адресовать свое предложение директору издательства Гарвардского университета Тому Уилсону. Впоследствии я попросил Тома найти для меня британского издателя, который понимал бы, что ученые не безразличны к деньгам. Выбранный Томом издатель тоже оказался родом из Европы — это был проницательный толстяк Джордж Вайденфельд, который, как говорят, послужил прообразом главного героя романа Кингсли Эмиса "Один толстый англичанин". Его издательство Weidenfeld & Nicolson прославилось недавно публикацией "Лолиты", которая стоила Найджелу Николсону места в палате общин (хотя, судя по всему, и не помешала Вайденфельду стать в 1976 году пожизненным пэром). Том вскоре послал рукопись "Честного Джима" Джорджу, так что у него было достаточно времени прочитать ее к середине июля, когда я заехал в Лондон по дороге на конференцию, проходившую в Греции. Издательство Weidenfeld & Nicolson располагалось тогда на Бонд-стрит, сам же Джордж жил в квартире на Итон-сквер, высокие потолки которой идеально подходили для выставления принадлежавших ему больших полотен, в число которых вскоре вошла и одна работа Фрэнсиса Бэкона. Не тратя лишних слов, Джордж предложил мне 10 000 долларов аванса, половина которого подлежала выплате сразу после подписания контракта, а другая — после публикации книги. Я немедленно согласился и попросил его послать этот контракт Тому Уилсону, чтобы убедиться, что его условия совместимы с условиями того контракта, который я собирался подписать с издательством Гарварда. К тому времени Фрэнсис сообщил мне, что ему не нравится название "Честный Джим", которое, на его взгляд, подразумевало, что я один рассказываю святую правду. Его ничуть не убеждало, что едва ли кто-то предположил бы нечто подобное, покупая подержанную машину "Честного Фрэнсиса" или даже у "Честного Иисуса". Поэтому я изменил название на "Пары оснований", вполне сознавая, что эта игра слов[25] сама по себе может стать поводом для иска по делу о клевете, если изобразить на обложке нас с Фрэнсисом и Мориса с Розалиндой, смотрящих друг на друга, как герои фильма "Добрые сердца и короны". Хотя Том Уилсон хотел, чтобы я использовал свой третий вариант, "Двойная спираль", он согласился оставить название "Пары оснований" на титульном листе лишь умеренно отредактированного варианта рукописи, отправленного Фрэнсису, Морису, Джону Кендрю и Питеру Полингу вместе с бланками заявлений о том, что они не против публикации моей рукописи издательством Гарвардского университета. Мы должны были понимать, что ни Фрэнсис, ни Морис не видят ни малейшего смысла разрешать публикацию, которая покажется им не только бесполезной для читателей, но и вредной для их репутации. Их ответ вскоре пришел через весьма влиятельного поверенного, изложившего в письме президенту Пьюзи позицию своих клиентов: моя рукопись содержала клевету на них. Нанятый ими адвокат был тем же, к чьим услугам безуспешно прибегла Жаклин Кеннеди, пытаясь предотвратить публикацию книги Уильяма Манчестера "Смерть президента", посвященной убийству ее мужа. Мы с Томом Уилсоном заметили, что нью-йоркский наймит позаботился о том, чтобы не утверждать, что он сам считает, что моя книга содержит клевету. Тем не менее мы опасались, что президент Пьюзи почувствует, что его вовлекли во что-то неподобающее, и Том в одностороннем порядке решил, что издательство продолжит работу над публикацией только с санкции президента Гарварда. Я должен был также понимать, что Питер Полинг сочтет своим сыновним долгом отправить мою рукопись Лайнусу. Прочитав ее, Лайнус тут же послал Тому Уилсону гневное письмо, в котором назвал "Пары оснований" "постыдным образчиком недоброжелательности и эгоцентризма". Он потребовал, чтобы я удалил строки "Лайнус напортачил с химией" и "Лайнус выставил себя ослом". Про эти фразы я и так знал, что чувство вкуса требует их убрать, до того как рукопись пойдет в печать. Но поскольку все это была правда, мне очень не хотелось удалять их без крайней необходимости. Точно так же мне никак нельзя было рассылать рукопись, в которой говорилось, что Фрэнсис не стал сотрудником ни одного колледжа, потому что его считали склонным воровать чужие идеи. Этим я хотел объяснить, почему Фрэнсиса так и не взяли на работу в Королевский колледж — вопреки интересам колледжа и несмотря на то, что его блестящие способности ни у кого не вызывали сомнений. Том Уилсон уже поручил редактору Джойс Лейбовиц поработать вместе со мной над рукописью, чтобы та вызывала меньше возражений у главных действующих лиц моей повести, но без ущерба для замысла рассказать как все было на самом деле. Джойс разумно заметила, что моя повесть выиграет от эпилога, в котором будет сказано, что мои описания Розалинды Франклин не отдают должного ее научным достижениям, сделанным в Королевском колледже. Мне помогала также способная студентка последнего курса колледжа Либби Олдрич, которая специализировалась на литературе и, как и Долли Гартер, прошла естественнонаучный курс биологии Джорджа Уолда. Либби в то время писала дипломную работу о Сильвии Плат, которую я запомнил стремительно бегущей вдоль улицы Кингс-Парейд в Кембридже в середине пятидесятых. Вскоре после получения рукописи "Пар оснований" Джон Кендрю отвез ее Джону Десмонду Берналу, который написал ему так: "Я не мог от нее оторваться... Если считать ее романом из истории науки, такой, как ее следует описывать, она несравненна. Она так же увлекательна, как "Мартин Эрроусмит"[26]. В то же время он настаивал на том, что я был несправедлив к вкладу Розалинды Франклин, и отмечал, что я даже не упомянул исследований Свена Фурберга, тоже работавшего в его лаборатории, но комментировал это следующим образом: "Уотсон и Крик проделали великолепную работу, но по ходу этой работы поневоле допускали огромные ошибки, которые они вовремя умели исправить. Все это демонстрирует постыдную глупость великих научных открытий. Моим вердиктом могли бы послужить слова Хилэра Беллока:
А это правда? Нет, друзья. Нам правды рассказать нельзя[27]
Меня вдохновило письмо, полученное от иммунолога Джорджа Клейна, родившегося в Венгрии и работавшего тогда в Каролинском институте. Когда он приехал в конце осени в Гарвардскую школу медицины, мой отец приготовил воскресный обед для нас троих у себя на Эппиан-Уэй 101/2. Уходя, Джордж взял с собой экземпляр "Пар оснований", чтобы почитать в самолете по дороге в Стокгольм. Из Швеции он прислал мне письмо, в котором говорил, что моя книга — "непревзойденное описание восторгов, разочарований, величия и мелочности творческих исследователей... Враждебной реакции большинства ученых следовало ожидать. Не стоит пытаться смягчить твою книгу, пусть ее печатают как есть или вообще не печатают". Три зимних месяца я постепенно вносил небольшие изменения, чтобы исправить ошибки, касающиеся фактов и мотивов, в особенности в свете комментариев Фрэнсиса и сэра Лоуренса Брэгга. Снова остановившись на названии "Честный Джим", я беспокоился, что возражения Фрэнсиса и Мориса приведут к тому, что сэр Лоуренс откажется публиковать свое предисловие, и написал ему, что отнесусь с пониманием, если он сочтет нужным так поступить. Он ответил 19 апреля, что ему будет очень жаль, если до этого дойдет, но он также желает категорически заявить, что его участие возможно только при условии, что я внесу определенные изменения, в особенности исправлю неверное утверждение, что Перуц и Кендрю пригрозили ему уходом из Кавендишской лаборатории, если он уволит Крика. В заключение он "желал этой книге всяческих успехов". В то же время Джон Мэддокс, главный редактор Nature, не усмотрел в новейшем варианте "ЧестногоДжима" ничего клеветнического. Более того, он находил мою книгу далеко не такой сомнительной, какой ему ее расписали: "Иными словами, я хотел бы увидеть ее опубликованной". Но когда это случится, говорил он, "вам придется забаррикадироваться месяцев так на шесть". И Морис, и Фрэнсис продолжали выступать против "Честного Джима" всеми возможными способами. В одном письме Морис напомнил мне, что я написал ему, когда посылал первый вариант: "Ты можешь решить, что у тебя есть основания меня пристрелить". Теперь же Морис беспокоился, что это я из-за его письма захочу его пристрелить. В этом письме он предлагал мне вообще отказаться от публикации моей книги целиком, а вместо этого договориться о том, чтобы научные фрагменты из нее были включены в готовящуюся книгу историка Роберта Олби, посвященную двойной спирали. Ожидалось также, что в эту книгу войдут расшифровки магнитофонных записей его самого, Фрэнсиса, Эрвина Чаргаффа и Лайнуса Полинга. Письмо Фрэнсиса от 13 апреля, занимавшее пять страниц, начиналось со слов, что новая версия немного лучше, но главные возражения остаются прежними: "твоя книга нехороша в историческом плане", "ты не документируешь своих утверждений (соответствующими ссылками)... представляя историю науки в виде сплетен", "твой взгляд на историю науки можно найти в самых низкопробных женских журналах", "если же считать ее автобиографией, то она вводит в заблуждение и безвкусна", "тот факт, что человек всем известен, еще не дает его друзьям права пренебрегать неприкосновенностью его частной жизни, пока он жив", "единственным исключением должны быть частные дела, непосредственно касающиеся общественности, как в случае с миссис Симпсон и королем Эдуардом", "твоя книга — вульгарная популяризация, которой нет оправдания". На предпоследней странице Фрэнсис поднимал ставки. Он утверждал, что психиатр, которому он дал мою рукопись, сказал: "Эта книга могла быть написана только человеком, ненавидящим женщин". Еще один психиатр заключил, что я слишком сильно люблю свою сестру — "факт, который много обсуждали твои друзья, когда ты работал в Кембридже, но от того, чтобы писать об этом, до сих пор воздерживались". На последней странице Фрэнсис сообщал, что посылает копии своего письма в числе прочих Брэггу, Полингу и Пьюзи. Через месяц Натан Пьюзи сообщил издательству Гарвардского университета, что публиковать мою книгу нельзя на том основании, что "Гарвард не хочет оказаться вовлеченным в ссоры между учеными". Соображения, связанные с обвинениями в клевете, были, скорее всего, ни при чем, но никаких оснований для подобных обвинений в любом случае установлено не было. За несколько месяцев до того, на вечеринке, где среди гостей преобладали студенты Гарвардской школы права, один недавний выпускник школы права сказал мне, что читал мою рукопись по заданию бостонской конторы Ropes & Gray, консультировавшей Гарвард, но объяснил, что раньше не имел опыта с делами, связанными с обвинениями в клевете. Когда я узнал, что издательство Гарвардского университета выходит из игры, Джойс Лейбовиц предложила мне нанять в качестве личного консультанта нью-йоркского юриста Эфраима Лондона. Всеми уважаемый правовед, Эф успешно представлял несколько дел о свободе слова в Верховном суде США. Высокий и худощавый Эф был связан с издательскими делами уже несколько десятилетий и был некогда юрисконсультом издательского дома Simon & Schuster. Прочитав мою рукопись, он сказал, что она не содержит никакой клеветы. Я уже нашел себе нового издателя — издательство Atheneum, которое основали недавно Пэт Кнопф, сын известного издателя Альфреда Кнопфа, и Саймон Майкл Бесси. Я выбрал это издательство, чтобы продолжить работу с Томом Уилсоном, который увольнялся с должности директора издательства Гарвардского университета, чтобы перейти в Atheneum. Уход Тома из Гарварда был никак не связан с запретом Пьюзи на публикацию моей книги. Это решение было принято заранее в связи с приближением возраста, в котором сотрудникам гарвардского издательства требовалось уходить на пенсию. Дети Тома еще не были взрослыми, и ему нужна была хорошо оплачиваемая работа на обозримое будущее. По иронии судьбы, только из-за того, что гарвардское издательство не стало публиковать мою книгу, я мог по-прежнему радоваться тому, что на моей стороне есть такой надежный человек, как Том. Лоуренс Брэгг, уверенный в порядочности Тома, разрешил оставить свое предисловие. Издательство Atheneum, опасаясь обвинений в клевете или даже ходатайства о запрете на публикацию "Честного Джима", наняло нью-йоркского адвоката Алана Шварца, к помощи которого прибегал Уильям Манчестер для защиты от обвинений в клевете со стороны Жаклин Кеннеди. Я встречался с ним и с Томом Уилсоном уже несколько раз, когда в дело вмешался Эф Лондон, сказавший Шварцу, что предлагаемые им изменения излишни, поскольку "Честный Джим" не содержит ни клеветы, ни недозволенного посягательства на частную жизнь. Прими я многие из предложений Шварца, откровенность, к которой я стремился, была бы неполной. Допустимый, по его мнению, вариант первого предложения — "Я не припомню, чтобы видел, как Фрэнсис Крик держался скромно" — мог быть написан только робким юристом. В нескольких случаях он предлагал безвредные замены, такие как "нередко" вместо "обычно". На них я согласился. Поскольку в вопросе о названии Том Уилсон был целиком на стороне Шварца, я согласился также с его пожеланием, чтобы название было "Двойная спираль". Ситуация была в меньшей степени под контролем по другую сторону Атлантики, где юрисконсульт Вайденфельда, Колин Мейди, по-прежнему настаивал на том, что моя книга порочит Фрэнсиса и что, учитывая его репутацию человека не особенно уравновешенного, нам не стоит ожидать от него здравой реакции, которая бы не повредила его собственным интересам. К концу сентября Мейди резко изменил свое мнение и сказал Вайденфельду, что можно вернуться к работе над публикацией. Это произошло после того, как он показал рукопись одному близкому другу, который много лет знал Фрэнсиса и сказал, что набросанный портрет был "прямо в точку". После этого главный редактор Вайденфельда, Николас Томпсон, перечитал рукопись и написал мне, что мое "изображение Фрэнсиса таково, что протестовать против него может только гиперчувствительный или очень неразумный человек. Вы в самом деле указываете на его недостатки, но намного больше внимания уделяете его огромным способностям и симпатичным качествам". Теперь можно было перейти к подписанию окончательных контрактов, и Том Уилсон смущенно сообщил мне сумму предложенного Саймоном Майклом Бесси аванса, сравнимого с тем, что мне предлагал Андре Дойч. Я не видел смысла спрашивать Бесси, почему он принимает меня за дурака, и дал Эфу договориться о более приемлемой сумме. После этого Бесси попытался отказаться от своего обещания, что по условиям контракта Atheneum покроет половину любых расходов на успешную защиту от обвинений в клевете. В связи с этим я написал ему, что все компромиссы уже оговорены в контракте, и точка. В противном случае я готов был найти другого издателя, несмотря на мои отношения с Томом. Я назвал Бесси крайний срок, до которого он должен был уступить, и он уступил. Мне было жаль Тома, поскольку пришлось работать у этого перехваленного издателя, которого близко нельзя было поставить с Джорджем Вайденфельдом. Лучшую сторону издательства Atheneum представлял Гарри Форд, заслугой которого был выбор гарнитуры и дизайн эффектной красной суперобложки. Разобравшись с первыми лекциями осеннего семестра в Гарварде, я подобрал и послал ему подходящие фотографии и предварительные наброски диаграмм азотистых оснований, углеводно-фосфатного скелета и так далее. Я уже не мог обратиться за помощью к Либби Олдрич, которая уехала в Оксфорд, чтобы изучать английский в колледже Леди Маргарет Холл и убежать от своих чувств к бывшему редактору журнала Advocate Стюарту Эрроусмиту Дэвису. Она написала мне письмо на голубой бумаге в манере Сильвии Плат, в котором описывала себя как замерзшую, бледную и голодную, но достаточно акклиматизировавшуюся для того, чтобы бросать шиллинги в различные отопительные устройства и посещать общественные бани (еще шиллинг) вместе с остальными живущими по соседству женщинами из Индии и с Кипра. Сам колледж Леди Маргарет Холл, по ее словам, был отчасти женским монастырем, отчасти тюрьмой и очень во многом — небольшой автономной частной школой для девушек, через которую прошли бесчисленные сморщенные пожилые леди, две из которых были ее преподавателями: старая и злобная по древнеанглийскому и старая и по-детски грустная по литературе. Портреты Мика Джаггера и Боба Дилана висели для поднятия настроения на стенах двух ее комнат под крышей над этажами, занятыми лендлордом, кротким ирландцем, и его женой-мегерой. Посмотрев фильм "Привилегия", Либби написала, что укоротила свои юбки и решила развивать в себе личное обаяние. Том Уилсон мог теперь связаться с журналом New Yorker и предложить для публикации "Двойную спираль" по частям, как они опубликовали книгу Трумэна Капоте "Хладнокровное убийство". Но они нам отказали, как и журнал Life, редакция которого сообщила, что в 1963 году они уже посвятили ДНК большую иллюстрированную статью. Позитивнее был ответ журнала Atlantic Monthly, опубликовавшего "Двойную спираль" полностью в номерах за январь и февраль 1968 года. К тому времени Фрэнсис и Морис отказались от идеи каких-либо судебных преследований. Фрэнсис чувствовал себя победителем в связи с тем, что книгу не напечатали в Гарварде. Теперь ни у кого не будет оснований думать, что "Двойная спираль" — научная книга. В начале февраля Эф прислал мне счет на 700 долларов за его услуги, оказанные с июня по 6 октября 1967 года, а именно: его суждение о содержании в книге клеветы, отмена предложенных издательством изменений, которые он считал излишними, переговоры с юристами издательства касательно требований поверенного д-ра Крика изучить рукописи, письма и прочее. В конце счета с меня взыскивалось 8 долларов 86 центов за междугородние телефонные разговоры и 5 долларов 75 центов за услуги курьера. В нью-йоркском клубе Century Association 14 февраля 1968 года был устроен праздничный обед для рецензентов и научных редакторов. На этом обеде мне пришлось любезничать с Майклом Бесси, но, к счастью, в моем распоряжении была Либби Олдрич, которой я мог адресовать за его спиной свои язвительные замечания. Перед самым рождеством Оксфорд выпал из ее жизни, и в течение шести недель она готовилась стать миссис Стюарт Эрроусмит Дэвис. Свадьба должна была состояться в Бронксвилле в субботу перед моим празднованием. Однако перед самым бракосочетанием у жениха произошел нервный срыв, и свадьбу пришлось отложить на неопределенный срок. К концу обеда Либби куда-то пропала, и в конечном итоге я нашел ее в дамском туалете без чувств от слишком большого количества напитков, которые она выпила в начале обеда, чтобы утопить в них свое горе. Я довез ее на такси до отеля Plaza, где у меня был просторный номер с видом на парк, и Либби немедленно заснула в моей постели. К 19:00 она уже достаточно пришла в себя для ужина в La Cote Basque, после которого я проводил ее на Центральный вокзал, и она села на поезд до Нью-Хейвена, где Стюарт учился в магистратуре Йеля. Вечером следующего дня я встретился с рекламным агентом издательства Atheneum в студии, где я должен был выступать в телепередаче Мерва Гриффина. Мне показалось, что мой разговор с Гриффином закончился едва ли не раньше, чем начался, и из-за моих нервных телодвижений напарник Гриффина, "английский дворецкий" Артур Тричер (в честь которого назвали известную сеть рыбных ресторанчиков), осведомился, не надо ли мне в комнату для мальчиков. Через десять дней я снова приехал в Нью-Йорк, чтобы выступить вслед за Гарри Белафонте в передаче Today и отметить на праздничном обеде официальную дату публикации книги. В середине марта я снова приехал еще на один литературный обед в отеле Waldorf-Astoria. К тому времени появилось несколько положительных рецензий, самую важную из которых написал социолог из Колумбийского университета Роберт Мертон. Эта статья, озаглавленная "Научный способ добиться своего", начиналась словами: "Это откровенный автопортрет молодого ученого в спешке". Ричард Левонтин в своей колонке в Chicago Sun-Times сравнил "Двойную спираль" с книгой Франсуазы Жило "Моя жизнь с Пикассо" и назвал ее вульгарной диковинкой о второстепенных ученых. Вскоре я попал в список бестселлеров New York Times, где оставался шестнадцать недель, хотя никогда и не приближался к его началу. Журнал Time недели две хотел поместить мой портрет на обложку и прислал репортера, который ходил за мной по Гарварду, а затем слушал мою речь в Дартмуте. Я в нетерпении разыскал Time в тот день, когда должен был попасть на обложку, но вместо своей физиономии увидел на первой полосе лицо Даниэля КонБендита. Студенческие баррикады в Париже стали важнее, чем ДНК. Только в конце мая у Вайденфельда вышло британское издание "Двойной спирали". Его издательство также подготовило сжатую версию для публикации в Sunday Times, но я поставил крест на этом проекте, сказав, что в нем теряется дух полного текста книги и что эта публикация будет только напрасно раздражать Фрэнсиса и Мориса. Еще хуже была вульгарная суперобложка, напечатанная без моего ведома за месяц до выхода книги. Она должна была привлечь внимание и выставляла Фрэнсиса на посмешище, так как на ней были напечатаны вопросы: "1) У какого нобелевского лауреата голос такой громкий, что от него может звенеть в ушах? 2) Какой ведущий кембриджский ученый сплетничает за ужином о личной жизни студенток колледжа? 3) Какой выдающийся английский биолог вызвал скандал на костюмированной вечеринке тем, что оделся Бернардом Шоу и стал целовать всех девушек, скрывая свое истинное лицо за жидкой рыжей бородой?". Возмущенный глупостью и грубостью моих издателей, я немедленно связался с Николасом Томпсоном и потребовал, чтобы эту оскорбительную суперобложку заменили. Они без споров уступили, и Джордж ВайДенфельд лично заверил меня, что старые суперобложки уже уничтожают. В ту неделю, что я провел в Англии, чтобы отметить официальную дату публикации, мне не стоило пытаться встретиться с Фрэнсисом и Морисом. Но провести время с Питером Полингом было, как всегда, приятно, и я смог передать английскую версию книги Наоми Митчисон, которой я посвятил "Двойную спираль". Я также навестил Лоуренса и Элис Брэгг в их загородном доме невдалеке от побережья Суффолка. Большинство рецензий в Англии были одобрительными. Критичнее всех был отзыв Конрада Хэла Уоддингтона, который находил у меня склонность к маниакальному эгоцентризму в духе Сальвадора Дали. К концу года в Соединенных Штатах было распродано около семидесяти тысяч книг, а в Великобритании — почти тридцать тысяч. Учитывая, что книга заслужила много похвал и была повсюду замечена, Том Уилсон считал, что мне обеспечена Национальная книжная премия 1969 года. Но ее получил Роберт Джей Лифтон из Иеля за книгу "Смерть при жизни. Пережившие Хиросиму". Хотя я и был разочарован, теперь мне незачем было слышать от других, что я написал книгу, которую стоит читать. Усвоенные уроки 1. СТАРАЙТЕСЬ ПЕРВЫМ РАССКАЗАТЬ ХОРОШУЮ ИСТОРИЮ Открытие двойной спирали в 1953 году само по себе еще не давало возможности написать новый серьезный учебник. В любом таком учебнике, выпущенном на следующий год, неизбежно преобладали бы факты, уже хорошо описанные и по-прежнему составлявшие большую часто того, что было известно о природе жизни. Должно было пройти двенадцать лет, прежде чем можно было рассказать почти полную, новую историю о том, как генетическая информация, содержащаяся в молекулах ДНК, используется клетками при определении последовательности аминокислот в белках. Историю поисков структуры ДНК, напротив, можно было рассказать немедленно, хотя у меня и ушло почти десять лет на то, чтобы разобраться в том, как лучше взяться за этот рассказ. У многих нашлись возражения против моей версии и событий, но она завладела всеобщим воображением не в последнюю очередь оттого, что вышла первой. 2. РАЗУМНЫЙ РЕДАКТОР ВАЖНЕЕ БОЛЬШОГО АВАНСА В тех случаях, когда вам не предлагают оскорбительно ничтожную сумму, выбирать издателя на основании размера аванса — все равно что выбирать строителя исключительно за самую низкую цену. Новаторская книга обычно требует больше времени для написания и может потребовать больше денег для издания, чем вы или ваш издатель предполагаете на момент подписания контракта. Если завершение вашей рукописи потребует намного больше времени, чем оговорено контрактом, лучше иметь на своей стороне опытного и понимающего редактора. К тому времени на вашего редактора, если он не будет уже работать в другом месте, будут давить, чтобы он по возможности сократил расходы на издание книги. Число иллюстраций могут уменьшить, а их подготовку скинуть на самого дешевого из доступных художников. Вероятность всего этого не так велика, если издатель не оказался в глубоком минусе, заплатив вам деньги, которых вы еще не заработали. Если вам не переплачивают, у вас остается больше прав свободы вернуть аванс и найти другого издателя, а также больше возможности требовать, чтобы на вашей книге не экономили. 3. НАЙДИТЕ АГЕНТА, СОВЕТАМ КОТОРОГО ВЫ БУДЕТЕ СЛЕДОВАТЬ Издательские контракты неизменно содержат пункты, понятные только юристам, работающим в издательском деле. Если вы не стремитесь стать признанным профессионалом в этой загадочной специальности (еще одной области, лучшие дни которой уже позади), дайте ознакомиться с проектом вашего контракта человеку, которому вы заплатите за то, чтобы ваши интересы не были нарушены. Ожидать, что ваш издатель, какой бы безупречной ни была его репутация, будет заботиться о ваших интересах как о своих, значит ожидать слишком многого. Заплатить 10-15% дохода авторитетному агенту куда выгоднее, чем пытаться что-то сэкономить, представляя себя самостоятельно. 4. НАЧИНАЙТЕ КАЖДУЮ ГЛАВУ С ЯРКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ Когда по телевизору так много всего, лаконичное и яркое первое предложение важно как никогда, чтобы втянуть читателя в новую главу вашей книги. Пусть ваша аудитория знает, что ее ждет, если она продолжит вас слушать. В "Двойной спирали" я использовал такие вводные фразы, как "Я постепенно забывал Мориса — но не ту рентгенограмму". Столь же важны заключительные предложения, в которые я нередко подпускал немного иронии, как во фразе "Оставшееся от христианства было небесполезным" или в попытках афоризмов в духе Оскара Уайльда: "Вывод из моего первого знакомства с аристократией был ясен. Если я буду вести себя как все, меня больше не станут приглашать". 5. НЕ ДЕЛАЙТЕ АВТОБИОГРАФИЮ СРЕДСТВОМ ОПРАВДАНИЯ СВОИХ ПОСТУПКОВ ИЛИ МОТИВОВ Одна из главных целей написания автобиографии — не дать будущим биографам переврать основные факты вашей жизни. Если она была украшена множеством запоминающихся событий, уже из простого правдивого и непредвзятого их описания получится книга, которую стоит читать. Попытки оправдывать свои действия или извиняться за плохое поведение в давние времена отнесут ваше произведение к сомнительному жанру апологетики. Лучше рассказать обо всем откровенно, без тщеславия и стыда, и пусть другие хвалят или проклинают вас, что они в любом случае неизбежно будут делать. 6. ИЗБЕГАЙТЕ РАСПЛЫВЧАТЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ Такие определения, как "очень", "весьма", "во многом" и "возможно", не сообщают никакой полезной информации и только снижают воздействие слов, которые без них были бы намного ярче. Называя человека очень способным, мы сообщаем о нем не больше, чем просто называя его способным. Чтобы пойти дальше, нужно проявить изобретательность. Например, сравнивайте чьи-либо таланты (или глупость) со способностями кого-то известного или ранжируйте своего персонажа, например, сказав: "Он был самым способным во всей лаборатории", — это что-нибудь да значит. 7. НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О СВОИХ ВООБРАЖАЕМЫХ ЧИТАТЕЛЯХ Мне с самого начала хотелось, чтобы "Двойную спираль" читали за пределами научного мира. Поэтому я совместил в ней фрагменты, посвященные науке, с фрагментами о людях, о поступках и мотивах каждого из них. Сложные детали, не существенные для сюжета, я выбросил. И все равно оказалось, что у некоторых высокооплачиваемых юристов вызывали раздражение фрагменты, слишком сложные для неспециалиста. И я чувствовал, что в чем-то они правы. 8. ПЕРЕЧИТЫВАЙТЕ НАПИСАННОЕ ВСЛУХ Чтобы "Двойная спираль" легко читалась, я прочитал вслух каждое ее предложение, стремясь убедиться, что оно звучит осмысленно. Длинные предложения, в которые сложно было вникнуть, я разбивал на более короткие. Иногда я объединял несколько коротких предложений в одно — когда короткие предложения идут одно за другим, бывает трудно понять значение событий, разворачивавшихся на протяжении нескольких дней. Рубленые фразы больше годятся для поваренных книг и лабораторных справочников. (обратно)
Глава 13. Навыки, необходимые для общения с университетскими коллегами
К середине 1960-х направление исследований, которые проводились на четвертом этаже в моей лаборатории и в лаборатории Уолли, все больше устремлялось в сторону проблемы регуляции работы генов специфическими переключателями — некоторыми факторами среды. Мы были поглощены концепциями, которые в последнее десятилетие создавались в Институте Пастера в Париже. Работавшие там Жак Моно и Франсуа Жакоб мастерски использовали генетический анализ бактерии Е. coli для изучения механизма, позволяющего в среде, содержащей молочный сахар лактозу преимущественно, синтезировать расщепляющий лактозу фермент β-галактозидазу. Они показали, что существует некий лактозный "репрессор", присутствие которого снижает скорость синтеза β-галактозидазы. Полученные ими результаты заставляли предположить, что свободные молекулы лактозного репрессора связываются с одним или несколькими регуляторными участками гена β-галактозидазы, тем самым не позволяя синтезирующему РНК ферменту РНК-полимеразе в дальнейшем связываться с этим геном. В работе, опубликованной в материалах симпозиума в Колд-Спринг-Харбор 1961 года, Жакоб и Моно высказали предположение, что лактозный репрессор представляет собой молекулу РНК. По-прежнему оставалось спорным, были ли правы они или те, кто подозревал, что это белок. Главная цель Уолли в 1965 году состояла в том, чтобы выделить лактозный репрессор. Поскольку в каждой бактериальной клетке было, судя по всему, лишь несколько молекул этого вещества, эта задача была не для малодушных. Двумя годами раньше Уолли провел несколько месяцев в безуспешных поисках лактозного репрессора, исходя из того, что он должен специфически связываться с веществами-индукторами, стимулирующими синтез β-галактозидазы. Почувствовав, что ничего не получается, он переключился на совместные эксперименты с Джулианом Дэвисом и Луиджи Горини, позволившие показать, что стрептомицин вызывает ошибки считывания генетического кода, чем, возможно, и объяснялось губительное воздействие этого сильного антибиотика на бактерии. Найти лактозный репрессор стремился также немецкий биохимик Бенно Мюллер-Хилл, который был на год младше Уолли. Бенно вырос в семье с либеральными политическими взглядами и «полевел», когда был студентом-химиком и попал в среду немецких студентов-социалистов, открыв для себя, что многие из преподавателей Мюнхенского университета были некогда сторонниками нацистов, причем никого из руководства это, казалось, не беспокоило. Впоследствии Бенно работал над диссертацией в своем родном городе Фрайбурге в лаборатории специалиста по углеводам Курта Валленфельса. Там он освоил основы химии белка, изучая β-галактозидазу. Впоследствии, осенью 1963 года, Бенно получил ставку постдока в лаборатории Говарда Рикенберга в Индианском университете, куда он привез из лаборатории Валленфельса образцы гликозидов, чтобы изучать их способность специфически индуцировать синтез β-галактозидазы. В Блумингтоне Бенно никогда не чувствовал себя уютно — ни как немец среди многочисленных работавших там биохимиков-евреев, ни как левый среди американцев, удивлявших его своими параноидальными идеями о коммунистах в их среде. Но проведенные там эксперименты, результаты которых дали ему достаточно материала для доклада на Международном биохимическом конгрессе в Нью-Йорке в августе 1964 года, вполне вознаградили его за эти трудности с общением. К тому времени он хотел обратиться к изучению лактозного репрессора и подошел ко мне после моего доклада, чтобы узнать, не возьму ли я его в свою гарвардскую лабораторию. Объяснив, что ему нужно обратиться не ко мне, а к Гилберту, я убедил его посетить Гарвард, как только Уолли вернется из своей продолжительной поездки в Англию. Когда они встретились, Уолли сразу увидел в Бенно как раз того сотрудника, что был ему нужен, и предложил ему исследовательскую ставку, которую тот мог получить, как только, не нарушая приличий, покинет лабораторию Говарда Рикенберга. В Блумингтоне Бенно научился генетическим манипуляциям с Е. coli. Вскоре после прихода в Гарвард он умело применил эти недавно приобретенные навыки, чтобы показать, что лактозный репрессор действительно представляет собой белок, а не молекулу РНК. Используя химические мутагены, он получил почти двести мутантов Е. coli, синтезировавших β-галактозидазу в отсутствие каких бы то ни было индукторов. У двух из этих двухсот мутация представляла собой изменение исходного кодона на "нонсенс-кодон", что приводило к преждевременной терминации синтеза полипептидной цепочки. Если бы репрессор представлял собой РНК, такого класса мутантов не должно было существовать. Первый черновой вариант рукописи Бенно не открывал всей простоты и изящества поставленного им эксперимента. Сказав ему, что его рукопись написана в тяжелом тевтонском стиле, я переписал ее, и в октябре она была отдана в Journal of Molecular Biology. Как один из редакторов этого журнала, я знал, что она будет быстро опубликована. Хотя и Бенно, и Уолли в своих предшествующих независимых исследованиях не смогли выделить лак-репрессор через его связывание с сильными индукторами β-галактозидазы, по-прежнему единственный подход у них в распоряжении был основан на этом свойстве peripeccopa. Чтобы увеличить шансы на успех, Бенно вновь обратился к генетике бактерий, получив мутантный репрессор, обладавший повышенным сродством к веществу-индуктору изопропил-(3-0-1-тиогалак-топиранозиду (ИПТГ). Выращивая мутантные клетки Е. coli при очень низких концентрациях ИПТГ, можно было получить намного более эффективный репрессор. Чтобы удвоить количество репрессора в бактериях, Бенно получил из исходного мутанта нового, диплоидного, содержавшего соответствующий ген в двух экземплярах. Однако сами по себе эти генетические уловки еще не позволяли засечь лак-репрессор в бесклеточном экстракте. Успех пришел только благодаря разработке методики разделения веществ, которая давала образцы белков, богатые лак-репрессором. Первые положительные результаты были получены в мае 1966 года, но они были весьма ненадежны. В бактериальных экстрактах, содержащих репрессор, оказывалось лишь на 4% больше помеченного радиоактивной меткой ИПТГ, чем в окружающем, лишенном репрессора растворе. Вскоре более совершенные методы фракционирования позволили получить частично очищенный образец, собиравший ИПТГ в полупроницаемом диализном мешке в концентрации, почти вдвое превышавшей ту, что наблюдалась снаружи. На эти обогащенные экстракты не действовали ферменты, расщепляющие ДНК и РНК. Ферменты протеиназы, расщепляющие белок, напротив, полностью останавливали связывание ИПТГ, подтверждая вывод генетических исследований Бенно, что репрессор представляет собой белок. До этого у Уолли и Бенно была вполне реальная перспектива оказаться не первыми, кто опишет молекулярную природу одного из репрессоров. На пятом этаже работал двадцатишестилетний Марк Пташне, который лихорадочно пытался выделить репрессор фага λ. Когда фаг пребывает в виде неактивного профага на хромосоме Е. coli, этот репрессор блокирует работу всех генов фага λ, кроме одного. Единственный ген фага λ, который при этом работает, есть ген, кодирующий сам репрессор. Хотя о его существовании стало известно благодаря изящным генетическим экспериментам, постаатенным в Институте Пастера, никто в Париже не смог предложить какого-либо реального подхода для выяснения его молекулярных свойств. Марк пришел в Гарвард осенью 1960 года, чтобы работать над диссертацией доктора философии под руководством Мэтта Мезельсона. Такими же неотъемлемыми составляющими его натуры, как стремление заниматься передовыми научными исследованиями, были его кожаная мотоциклетная куртка, скрипка и клюшки для гольфа. Когда Марк учился в средней школе, он проводил летние каникулы в Миннесотском университете, где работал в лаборатории нейрофизиологии, которой руководил друг его семьи, человек левых убеждений. Он предпочел Гарварду Рид-колледж, где большое внимание уделялось проблемам образования, перешел с философии на биологию, а в течение лета перед последним годом в колледже работал в Орегонском университете. Там Фрэнк Сталь посоветовал ему пойти учиться дальше в Гарвард, чтобы работать под руководством Мэтта Мезельсона. Марк уже знал, что следующей большой задачей в мире изучения бактериофагов было выделение репрессора фага λ. Но эта цель была слишком рискованной для ранней диссертации доктора философии, поэтому Марк взялся за довольно рутинный генетический анализ фага λ. Когда его экспериментальная работа по теме диссертации подходила к концу, Пол Доути и я приложили все усилия, чтобы Марка взяли на три года в Гарвардское общество стипендиатов. Это дало бы ему шанс разобраться с репрессором фага λ. Его кандидатура прошла на ура, поскольку Василий Леонтьев, новый глава Общества стипендиатов, видел в Марке подходящего человека для участия в разговорах за ужинами общества по понедельникам. Он стал младшим стипендиатом в июле 1965 года. В августе того же года я подал в Национальный научный фонд заявку на грант в размере 55 000 долларов, чтобы из этих денег выплачивать Марку зарплату и оплачивать расходы на его лабораторные исследования в течение трех лет, в том числе зарплату лаборанту в размере 5000 в год. Это финансирование позволило бы ему работать независимо от его руководителя, Мэтта Мезельсона, который к тому времени совершенно отчаялся от стиля работы Марка, нередко небрежного. При этом в моей заявке отмечалось, что Марк будет использовать для выявления репрессора фага λ технологию ДНК-РНК-гибридизации, которая начала давать сумбурные результаты еще до того, как грант был получен. О том, как РНК-полимераза считывает гены в бесклеточных экстрактах, известно было недостаточно. Марк вскоре изменил свою стратегию. Он начал искать различия между белками, синтезируемыми после того, как сильно облученных бактерий заражают разными типами фага λ. По оценке Марка, синтез репрессора должен был составлять только 0,01% от всего синтеза белка в клетках, являющихся носителями профагов X. Чтобы сделать редкие молекулы репрессора заметными, ему нужно было радикально сократить синтез большинства бактериальных белков, а также ингибировать синтез всех специфических белков фага λ, кроме репрессора. Он решил попробовать урезать постоянный синтез клеточных белков, облучив бактериальные клетки, предназначенные для заражения вирусом, сильными дозами ультрафиолетового света. Эксперименты Марка были спланированы изящно, но добиться, чтобы они сработали, было не так-то просто. Хотя на ранних этапах казалось, что все идет успешно, затем последовали жестокие неудачи с попытками выявить помеченный радиоактивной меткойбелок. Летом 1966 года почти все эксперименты Марка проваливались, в то время как Уолли и Бенно получали новые и новые подтверждения того, что обнаруженный ими белок действительно был лак-репрессором. Марк Пташне бросает мяч в ходе игры в софтбол на симпозиуме в Колп-Спринг-Харбор 1968 года.
Марк Пташне бросает мяч в ходе игры в софтбол на симпозиуме в Колп-Спринг-Харбор 1968 года.
 С Уолли Гилбертом и моими студентами, аспирантами и постдоками на носороге перед отделением биологии.
С Уолли Гилбертом и моими студентами, аспирантами и постдоками на носороге перед отделением биологии.
По счастью, жизнь Марка стала неизмеримо лучше благодаря непредвиденному появлению у нас моей бывшей ученицы из Рэдклиффа, Нэнси Хейвен Доу. Нэнси интересовалась репрессорами с тех самых пор, когда узнала о них на моих лекциях по углубленному курсу биологии весной 1963 года. До того времени она представляла себе свою будущую жизнь в роли жены какого-нибудь светского человека, с большой вероятностью — Брука Хопкинса, выпускника Гарварда 1963 года, с которым она познакомилась, когда он учился на первом курсе, и "условную помолвку" с которым сохранила в течение пяти лет. Когда Нэнси училась на последнем курсе колледжа, я обратил внимание на живость ее интеллекта и всячески советовал ей продолжить обучение. Ставя для нее высокую планку, я написал президенту Рокфеллеровского университета, Детлеву Бронку, рекомендуя принять ее в магистратуру. Но Бронк, вероятно в связи с тем, что Нэнси так недавно пришла в науку, не клюнул на это. Вместо Рокфеллеровского университета Нэнси попала в Иель, в чем ей, возможно, помогло мое рекомендательное письмо — в нем я характеризовал ее как способную ученицу, которой к тому же повезло быть жизнерадостной и симпатичной. В свой первый год в Нью-Хейвене Нэнси взяла на себя обычную полную нагрузку из четырех курсов и на осенний, и на весенний семестр. Она освоила волновое уравнение Шрёдингера, а также множество фактов из области химии, знанием которых ей, если повезет, никогда не предстояло воспользоваться. Пять твердых отличных оценок не оставляли Алану Гарену иного выбора, кроме как взять ее в свою молекулярно-генетическую лабораторию, где она хотела приступить к изучению репрессора. Однако, лучше познакомившись с Аланом, она узнала, что он немногословен, чрезмерно осторожен и не может уделять много времени своим подопечным. Он сказал ей, что не годится для исследований репрессора, что это слишком сложная проблема для человека старше тридцати пяти. Предложенная ей скучная альтернатива не смогла бы увлечь и поддержать Нэнси в ее занятии наукой. Она осталась тверда в своем стремлении не сопротивляться посредственности, о чем в начале марта 1966 года написала мне письмо. К концу весны жизнь в Нью-Хейвене стала невыносимой, и Нэнси сбежала оттуда вместе с другой такой же разочарованной начинающей исследовательницей на остров Миконос. Вернувшись в Штаты, она опасалась, что, оставшись в Йеле, обречет себя на работу в лаборатории Билла Конигсберга со скучным-скучным гемоглобином. В августе она написала мне письмо, предлагая свои услуги в лаборатории Марка Пташне в качестве лаборантки. Там ее одержимость идеей работать с репрессорами, начавшаяся три с половиной года назад, реализовалась. Всего за несколько дней до этого она посетила Гарвард, где обнаружила, что Марк так сильно нуждается в разумном помощнике, что готов простить ей даже то, что Нэнси на шесть дюймов его выше. Нэнси же находила, что изучать репрессор в качестве лаборантки намного лучше, чем быть студенткой и не изучать репрессор. Желая узнать мое мнение о возможности для нее этой новой карьеры, она ясно дала мне понять, что никогда не была и никогда не будет влюблена в Марка Пташне. Успокоенный этим, я дал ей свое благословение. И все же оказалось, что Нэнси была тем самым тонизирующим средством, в котором нуждался Марк. В присутствии такого методичного и дотошного человека, как она, гарантировавшего, что Марк не забудет ни об одном существенном для эксперимента реагенте, он смог последовательно выделить репрессор фага λ, и начать исследовать его молекулярные свойства. Марк и Нэнси вскоре показали, что репрессор представляет собой белок с молекулярной массой около 30 000. Хотя Нэнси поначалу верила, что Марк сможет выиграть гонку за репрессором, ему было известно обратное. Уолли и Бенно уже готовили статью, в то время как Марку, судя по всему, требовалось еще по крайней мере шесть недель лабораторной работы, прежде чем начать писать. Бенно регулярно поднимался на пятый этаж, чтобы проверить, как там идут дела, что немало раздражало Нэнси. Она думала, что он приходит, прежде всего, чтобы позлорадствовать. Но, видя, как Марк всегда вежливо принимает Бенно, Нэнси научилась вести себя столь же уверенно и учтиво. Что же касается Уолли, то Марк относился к нему с таким пиететом, что проиграть ему не было обидно. Уважение, с которым Нэнси относилась к Марку, было не менее очевидным: каждый день она ходила на Дивинити-авеню к машине, из которой продавали сэндвичи, чтобы купить ему обед — яичный салат и сэндвич, а иногда и шоколадный эклер для подкрепления его душевных сил. Статья Уолли и Бенно "Выделение лак-репрессора" была отдана в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 24 октября 1966 года, как раз вовремя, чтобы выйти в декабрьском номере. Если бы я задержал предстаатение этой работы в журнал, чтобы дать Марку возможность завершить эксперименты, нужные для его собственной статьи, то дата публикации открытия Уолли и Бенно относилась бы уже к следующему году. Марк предпочел бы, чтобы я так и сделал, но я убеждал его, что никто не станет считать его работу менее важной из-за того, что она будет опубликована второй. 27 декабря статья "Выделение репрессора фага λ" ушла в PNAS и была опубликована в февральском номере 1967 года. Марк торжественно объявил о выделенном им репрессоре фага X на семинаре в чайной комнате нашей лаборатории за месяц до выхода его статьи. Комната была набита до отказа, и Марк в момент своего торжества ("Я все это сделал сам!") так и не поблагодарил Нэнси за ее ключевую роль в своем успехе. После семинара я строго отчитал его за это. Он сразу понял, что был чрезмерно поглощен самим собой, и в тот же вечер позвал Нэнси, чтобы извиниться, а позже прислал ей цветы. Далее Марк и Нэнси стали проверять, работает ли их репрессор за счет связывания со специфическими последовательностями ДНК. Когда смеси радиоактивного репрессора фага λ, и ДНК этого фага центрифугировали вместе в градиенте сахарозы, они оседали вместе.
 Полуденные семинары за сентябрь 1967.
Полуденные семинары за сентябрь 1967.
Смеси репрессора фага λ с ДНК фага λ imm434, напротив, не оседали вместе. Этот результат, на который они очень надеялись, не удавалось воспроизвести в течение одной ужасной недели, пока Марк не догадался, что Нэнси случайно повысила уровень соли в их смесях. Она в волнении повторила эксперимент, используя исходный уровень соли. Новые результаты как раз поступали из счетчика изотопов, когда Нэнси и Марку надо было идти на семинар, проходивший этажом ниже. В середине доклада Нэнси не выдержала напряжения и вернулась в лабораторию, где сразу поняла, что все снова в порядке. Они с Марком впервые обошли Уолли и Бенно. Вернувшись с семинара, Марк закричал от радости, и они отправились повсюду разносить эту благую весть. Спустившись вниз, они застали Уолли и меня, уже уходивших из Биолабораторий. Когда Уолли узнал, что результат оказался воспроизводимым, он побледнел как полотно. Он не мог смириться с тем, что Марк обошел его. В выходные Уолли приступил к аналогичному эксперименту, используя ДНК фага, полученного Бенно от Джона Бекуита из Гарвардской школы медицины. На этой ДНК был ген β-галактозидазы и участок, управляющий его считыванием. К утру понедельника Уолли сообщил, что получил предварительные положительные результаты и собирается быстро их проверить, тем самым снова оказавшись вровень с Марком и Нэнси. Наблюдая охвативший Уолли дух жестокого соперничества, Нэнси чувствовала, что может не выжить в беспощадной и преимущественно мужской борьбе, которую подразумевает работа ученого. А Марку этот эпизод во многом открыл глаза. Его пиетет по отношению к Уолли изрядно пошатнулся. Но Уолли, ожидавшего, что он вот-вот догонит Марка и Нэнси, стало заносить. Его держали трудности с очисткой помеченного радиоактивной меткой лак-репрессора. Хотя Марк благородно задержал отправку своей статьи в Nature, собираясь позволить Уолли и Бенно опубликоваться одновременно с ним, после двух месяцев экспериментов они не были готовы даже начать писать, поэтому он послал свою статью раньше. Редактор Nature Джон Мэддокс был заранее предупрежден об этой работе и отправил ее в печать в тот же день, что получил.
 Фрэнк Сталь (со спины), Джеральд Зсльцер, Марк Пташне, Уолли Гилберт и Селия Гилберт на Симпозиуме 1968 года в Колд-Спринг-Харбор.
Фрэнк Сталь (со спины), Джеральд Зсльцер, Марк Пташне, Уолли Гилберт и Селия Гилберт на Симпозиуме 1968 года в Колд-Спринг-Харбор.
 Уолли Гилберт и Макс Готтесман в Колд-Спринг-Харбор в 1968 году.
Уолли Гилберт и Макс Готтесман в Колд-Спринг-Харбор в 1968 году.
Статья "Специфическое связывание репрессором фага λ ДНК этого фага" вышла 15 апреля 1967 года, всего через четыре дня после того, как ее получили в редакции Nature в Лондоне. Статья Уолли и Бенно "Лак-оператором служит ДНК" была передана в PNAS 28 октября — по крайней мере, вовремя, чтобы ее опубликовали в тот же календарный год. Нэнси снова стала студенткой магистратуры осенью 1967 года и продолжила работать в лаборатории Марка. Я посоветовал ей подать заявление в Гарвард, и уже через неделю ее официально приняли. Марк тоже ободрял ее, говоря, что она умнее всех сравнительно немногочисленных женщин и большинства мужчин в Гарварде. Нэнси сияла от сознания одобрения со стороны человека, к которому она относилась с таким уважением. После всех несчастий Иеля все, похоже, устроилось наилучшим образом, включая ее помолвку с Бруком: вскоре после того, как она стала лаборанткой Марка, она также стала Нэнси Хопкинс. Они переехали на Троубридж-стрит, где их квартиру украсил мой свадебный подарок — свинья из кожи в натуральную величину, похожая на ту, которой Брук давно любовался в своем эксклюзивном студенческом клубе на Массачусетс-авеню. После выхода своей второй статьи Марк стал больше демонстрировать свои левые убеждения и отправился на встречу с несколькими южноамериканским нейрофизиологами в Гавану, где он также встретился с карикатуристом Жюлем Файфером. После этого он отправился в Ханой и Сайгон в поездку, которую организовал бывший младший стипендиат, лингвист из Массачусетского технологического Ноам Хомский. В последний год у нас в чайной комнате больше говорили о Вьетнаме, чем о науке, а на протяжении всего доклада Этана Сингера из Массачусетского технологического о фагах λ, несущих бактериальные гены, я не мог оторваться от номера New York Times, посвященного Тетскому наступлению. За некоторое время до этого Бенно и Джон Бекуит прошагали по Массачусетс-авеню от Кембриджа до Бостона в составе демонстрации против американской политики в Юго-Восточной Азии, обсуждая по дороге фагов X. Сразу после Тетского наступления Бенно отправился вместе со своей будущей женой Барбарой в Нью-Йорк на большой антивоенный митинг в Центральном парке. Барбара придерживалась таких же леворадикальных взглядов, как Бенно. Они познакомились на одной из вечеринок у Марка, в его квартире на Сакраменто-стрит, к северу от Биолабораторий. Светловолосая Микки, девушка Марка, жившая вместе с ним, происходила из еще более левой, если не сталинистской среды. На выходные Марк нередко сбегал вместе со скрипкой в загородный дом на Кейп-Код, где много общался со своими политическими единомышленниками. Летом 1967 года у Эльсбет, трехлетней дочери Уолли и Селии Гилберт, диагностировали неизлечимую метастатическую саркому. Они постоянно ходили в детскую больницу, и Уолли который допоздна засиживался в лаборатории, еще больше уставал. Двое других его детей, Джон и Кейт, прежде были в восторге от замечательного открытия репрессора, сделанного их отцом. Теперь настроение в доме на Апланд-авеню было мрачным. В надежде отвлечь их от этого несчастья я убедил Эрни Пендрелла, телепродюсера с ABC, пригласить Уолли и Марка на запланированную на ближайшее время передачу о науке. Первоначально он хотел посвятить часовой главный сюжет, спонсированный компанией North American Rockwell, моей работе. Но я сказал ему, что сюжет о гонке за репрессором покажет науку в самых ярких ее проявлениях и поможет людям осознать, что амбициозные молодые ученые, как и молодые поэты, больше способны к творчеству, пока их еще не сдерживает тормозящая сила зрелости, которая, как я чувствовал, уже кусала меня за пятки. С разрешения гарвардского начальства команда АБС приехала к нам во время второй недели февраля 1968 года и следовала за мной и Уолли, прогуливавшимся по Гарвард-Ярду, в то время как дети Уолли по сигналу увлеченно спрашивали: "Ты уже нашел его, папочка?" Через неделю телевизионная команда вернулась на буйную вечеринку, которую я устроил в день рождения Линкольна в своей квартире на Эппиан-Уэй. К тому времени Марк уже твердо знал, что с i июля станет сотрудником Гарварда. Назначив его лектором по биохимии, а не старшим преподавателем, университет мог предложить ему зарплату, сравнимую с той, которую ему готовы были платить в Беркли — там ему предлагали ставку адъюнкт-профессора. Франсуа Жакоб писал Полу Доути в поддержку этого назначения: "Марк — самый одаренный молодой человек своего поколения биологов". Франклин Форд устроил быстрое решение этого вопроса администрацией. На следующий день после Рождества он написал мне, что решение Пташне остаться в Гарварде утверждено. Через несколько месяцев, когда Марк официально занял новую должность, гарвардский совет деканов присудил ему и Уолли престижную премию Ледли за 1968 год, включавшую денежный приз в размере 1600 долларов. К тому времени Бенно вернулся в Германию, где стал профессором в Институте генетики Кельнского университета. За некоторое время до отъезда он еще раз изящно воспользовался генетическими методами, чтобы получить мутантных Е. coli, синтезировавших лак-репрессор в избыточном количестве. Внедрение их мутантного гена лак-репрессора в фага типа λ, позволило получить выход лак-репрессора в сотню раз больший, чем обычно. Перед самым отъездом Бенно из Гарварда Жак Моно, приехавший с визитом, заглянул, чтобы поздороваться и прокомментировать сделанное Бенно открытие лак-репрессора: "И все же, Бенно, это было прозаично". Затем он развернулся и ушел. Таким образом Жак, для которого этот виноград был зелен, признал, что удачные эксперименты, а не удачная идея позволили обойти его и его друзей из Института Пастера. Благодаря успехам Бенно, Уолли и Марка главным центром изучения регуляции генов был теперь не Париж, а Гарвард. Непредвиденным побочным продуктом работ Уолли по очистке лак-реПрессора стало то, что они помогли моему аспиранту Дику Бёрджессу в оптимизации его методов очистки РНК-полимеразы. Нашей лаборатории как никогда хотелось лучше разобраться в механизме синтеза РНК на матрице ДНК. В 1963 году я дал своему аспиранту Джону Ричардсону в качестве темы для диссертации исследование РНК-полимеразы, фермента, синтезирующего РНК на матрице ДНК. РНК-полимераза была открыта в 1959 году, но установить ее молекулярную форму оказалось непросто. Джон обнаружил, что молекулярная масса РНК-полимеразы уменьшается вдвое, когда ее молекулы взвешены в высокоионизированном растворе. Но даже эта малая форма была больше, чем любая известная отдельная полипептидная цепочка, поэтому представлялось вероятным, что молекула РНК-полимеразы составлена из нескольких полипептидов меньшего размера. Однако электронно-микроскопические исследования, проведенные в Массачусетском технологическом, не позволили намного глубже разобраться в строении этой молекулы. Эти исследования показали, что молекулы РНК-полимеразы представляют собой более или менее сферические частицы диаметром 120, что соответствовало молекулярной массе почти в миллион атомных единиц массы. Джон перед самым отъездом в Париж, где он стал постдоком в Институте Пастера, воспользовался матрицами фага Т7 и показал, что синтезируемые на них молекулы РНК содержат до десяти тысяч нуклеотидов. Это заставляло предположить, что их большая длина была связана с тем, что очищенный фермент не узнает нормальные стоп-сигналы фага Т7 для синтеза РНК. После отъезда Джона во Францию Дик Бёрджесс, который только что перешел к нам из Калтеха, продолжил работу над проблемой, связанной с большими размерами РНК-полимеразы. Каждую неделю Крис Вайсс, лаборант Уолли, разделял белки из тридцати литров клеток Е. coli на несколько фракций. Фракция, содержащая репрессор лактозы, шла Уолли и Бенно, а Дик забирал фракцию, содержащую РНК-полимеразу. В этой фракции по-прежнему содержалось очень много других белков, поэтому Дику пришлось разработать методику центрифугирования в градиенте глицерина, дававшую высокоактивный препарат РНК-полимеразы, который Дик назвал GG. В конце 1967 года он добавил в свой рецепт этап очистки на фосфоцеллюлозной колонке, что дало еще более чистую РНК-полимеразу, названную им PC. В апреле 1968 года Дик выступил на конференции Федерации американских обществ экспериментальной биологии в Атлантик-Сити и доложил, что частицы РНК-полимеразы PC состоят из малых и больших субъединиц, которые он назвал α- и β-субъединицами соответственно. Через два месяца, на Гордоновской конференции по нуклеиновым кислотам в Нью-Гемпшире, он подробно изложил свои методы очистки препаратов РНК-полимеразы GG и PC, а позже разослал письменные протоколы в десяток заинтересовавшихся лабораторий, в том числе в лабораторию Экке Баутца в Университете Ныо-Джерси. К тому времени РНК-полимеразу изучал также аспирант Уолли Гилберта Джефф Роберте. Вначале, используя полученный Диком препарат GG, Джефф обнаружил, что он весьма активно транскрибирует ДНК фага λ. Но затем, когда Джефф воспользовался еще более очищенным препаратом PC, непостижимым образом ему не удалось обнаружить транскрипции этой ДНК. Неожиданные отрицательные результаты, полученные Джеффом, заставили Дика задуматься о том, не удаляется ли в процессе очистки препарата PC какой-либо компонент РНК-полимеразы, необходимый для транскрипции ДНК фага X. Для выяснения этого он пропустил свежую порцию препарата GG через колонку для очистки препарата PC, чтобы проверить, приведет ли это снова к потере способности транскрибировать фаговую ДНК. После того как у него получился тот же отрицательный результат, что и у Джеффа, Дик показал, что фермент PC можно активировать, если снова добавить к нему белок, удаленный в процессе очистки. Эксперименты, проведенные на следующей неделе нашим постдоком, англичанином Эдрю Трэверсом, показали, что ингредиент, входящий в состав препарата GG и отсутствующий в препарате PC, представляет собой одну полипептидную цепочку, которую вскоре назвали α-фактором. Прошло меньше недели, и Дик узнал, что Экке Баутц из Университета Нью-Джерси и его аспирант Джон Данн добились тех же результатов, используя препараты GG и PC, полученные согласно протоколу, который он послал им в июле. Дик, по моему совету, немедленно связался с Баутцем и Данном, чтобы предложить им включить их работу в совместную статью двух лабораторий о σ-факторе для Nature. Им понравилась эта идея, и 6 ноября они приехали в Гарвард. Их присутствие помогло мне отвлечься от проходивших в тот день президентских выборов. Только поздним вечером стало ясно, что Ричард Никсон одержал победу над Хьюбертом Хамфри. Даже открытие σ-фактора не помогало против уныния, которое я испытывал в оставшиеся дни той недели в связи с перспективой президентства Никсона. Утром в понедельник, 11 ноября, мне на короткое время, казалось, открылась светлая сторона этого политического события. В номере Crimson за этот день я увидел напечатанный огромными буквами заголовок: "Пьюзи уходит из Гарварда". Статья под этим заголовком сообщала, что избранный президент Никсон совершил в Гарвард необъявленный визит. Приехав инкогнито в 21:00 предыдущего дня, он предложил Пьюзи должность министра почт в его администрации. После откровенной дружеской беседы за чаем с ванильными вафлями Пьюзи принял это предложение и позже назвал это событие "величайшим моментом" своей жизни. Однако очень скоро чувство радости, охватившее меня, рассеялось. Внизу той же страницы была другая статья, в которой сообщалось, что планируемая Библиотека Кеннеди будет перенесена из Кембриджа в Байонн в штате Нью-Джерси, и я осознал, что читаю один из шуточных номеров Crimson, которые время от времени готовили его редакторы, вероятно чтобы убедить самих себя, что они попали в Crimson, а не в Lampoon вовсе не от недостатка чувства юмора. После этого монументального разочарования уже ничто в Crimson не казалось мне смешным. Поданная г декабря в Nature рукопись статьи об открытии α-фактора содержала только данные, полученные в Гарварде. Аналогичные эксперименты лаборатории Университета Нью-Джерси были сделаны меньшее число раз и не вполне доделаны. Работа Бёрджесса, Трэверса, Дана и Баутца "Фактор, стимулирующий транскрипцию РНК-полимеразой" была быстро опубликована в январе 1969 года в виде большой статьи[28]. Незадолго до публикации я объявил о прорыве, сделанном в нашей лаборатории, на лекции, прочитанной для поглощенного собственными успехами отделения биохимии Артура Корнберга в Стэнфорде. Это был момент, о котором раньше я не мог и мечтать: наши гарвардские Биолаборатории показали уровень биохимической компетенции, позволивший догнать и перегнать могущественный Стэнфорд. В середине декабря Дик и Эндрю узнали от Экке Баутца и Джона Данна, что молекулы о-фактора исчезают в клетках, зараженных фагом Т4, что позволяло объяснить, почему синтез собственной РНК бактерии прекращается вскоре после ее заражения фагом. Фаговая ДНК, судя по всему, кодировала фагоспецифические α-факторы, обеспечивавшие связывание молекул РНК-полимеразы со специфическими сигналами на самой фаговой ДНК. В течение последующих шести месяцев Эндрю Трэверс подтвердил эту гипотезу и в августе отправил в Nature статью "Фаговые сигма-факторы для РНК-полимеразы". В заключении этой статьи он высказал предположение, что подобные а-фактору факторы транскрипции могут отвечать за серьезные изменения схемы синтеза РНК, лежащие в основе механизмов развития высших организмов. Редакторы Nature вновь почувствовали, что у них на руках важная статья, и поспешили опубликовать ее всего через месяц с небольшим. К началу февраля Дик защитил диссертацию и получил от Фонда Хелен Хей Уитни стипендию постдока, которая позволяла ему остаться в Гарварде, пока его умная светловолосая жена Энн не доделает собственную диссертацию доктора философии. Энн, происходившая из успешной и трудолюбивой висконсинской семьи, экспериментировала с бактериофагом φX174 в лаборатории Дейва Денхардта, дальше по коридору. К тому времени Дик выяснил, что не одна, а две β-спирали входят в состав основы РНК-полимеразы (препарата PC), имеющей, таким образом, структуру α2ββ1. Кроме того, Дик и Эндрю получили предварительные данные о механизме работы σ-фактора при запуске синтеза РНК. Его роль, судя по всему, состояла в том, чтобы обеспечивать связывание основы РНК-полимеразы — комплекса α2ββ1 — с определенными участками на ДНК, с которых должен начинаться синтез РНК. В свою очередь, ферментативные свойства РНК-полимеразы связаны исключительно с ее основной составляющей, комплексом α2ββ1. По-прежнему оставалось неясно, насколько важна роль G-фактора в управлении регуляцией генов по сравнению с ролью репрессоров и операторов. Берни Дэвис из Гарвардской школы медицины поспорил со мной на ящик вина, что моя группа в ближайшие два года не сможет открыть еще один бактериальный σ-фактор. Вскоре Эндрю сообщил Берни о полученных им предварительных данных о σ-факторе, контролирующем синтез рибосомальной РНК. Но время оказалось не на его стороне, и это стоило мне ящика вина. Однако Ричард Лосик, новый младший стипендиат, начал в Биолабораториях эксперименты, посвященные механизму образования спор у сенной палочки (Bacillus subtilits), и вскоре получил данные, наводящие на мысль о существовании специфического σ-фактора спорообразования у бактерий.

 На симпозиуме в Колд-Спринг-Харбор в 1970 году: Джефф Роберте и Энн Бёрджесс (слева) и Джон Ричардсон и Дик Бёрджесс (справа).
На симпозиуме в Колд-Спринг-Харбор в 1970 году: Джефф Роберте и Энн Бёрджесс (слева) и Джон Ричардсон и Дик Бёрджесс (справа).
Важность α-фактора впервые получила ощутимое признание в ноябре 1969 года, на конференции во Флоренции, посвященной РНК-полимеразе и транскрипции. С первым докладом выступил Дик Бёрджесс, приехавший из Женевы, где он работал теперь постдоком в лаборатории Альфреда Тиссьера. Спонсором конференции была миланская фармацевтическая компания Lepetit, производившая антибиотики рифамицин и рифампицин, которые, как выяснилось, убивали бактерии за счет связывания с β-субъединицей РНК-полимеразы. Джефф Роберте доложил на этой конференции о своем недавнем открытии так называемого с-белка, останавливающего синтез РНК в месте специфического стоп-сигнала на молекуле ДНК. Перед самой поездкой в Италию он отослал рукопись своей статьи "Факторы терминации для РНК-полимеразы" в Nature, где она была опубликована в декабре 1969 года. Низкое солнце создавало не самое лучшее освещение в галерее Уффици, но Палаццо Веккьо, где проходил прием участников, доставил мне удовольствие, сравнимое с удовлетворением от научной части этой трехдневной конференции. Даже необходимость слушать приехавшего из Рима министра не могла умалить радость от сознания того, что Биолаборатории по-прежнему находятся в центре исследований, посвященных механизму регуляции генов. Усвоенные уроки 1. ДВА СЕРЬЕЗНЫХ УВЛЕЧЕНИЯ — ЭТО СЛИШКОМ МНОГО Эксперименты, как и многие чисто теоретические замыслы, обычно требуют вложения усилий по меньшей мере впятеро больших, чем вы предполагаете поначалу. Чтобы быть профессионалом в любой области, будь то президентом университета, скрипачом, специалистом по ценным бумагам или ученым, нужны преданность своим задачам и увлеченность ими. Разделяя свое внимание между разными предметами, вы играете на руку своим соперникам, имеющим те же способности, но большую целеустремленность. Успешный банкир, который называет себя профессиональным виолончелистом, чаще всего не является ни тем ни другим. Его репутация банкира вполне могла сложиться трудами способных компаньонов, работающих круглые сутки, а игра на виолончели, в свою очередь, вполне может проигрывать из-за времени, потраченного на то, чтобы хотя бы изображать из себя банкира. 2. НЕ УВЛЕКАЙТЕСЬ ГОЛЬФОМ Как только у вас в багажнике впервые будут замечены клюшки для гольфа, вы сразу станете предметом постоянных насмешек. Лишь немногим избранным, готовым ограничиться игрой время от времени и не мечтающим о счете меньше 90, стоит думать: "А не сыграть ли в гольф?" Как только вы всерьез увлечетесь идеей побить свой собственный рекорд (в настоящий момент, скажем, 94), вашим научным экспериментам по выходным придет конец. Вы станете одним из тех ученых, чей девиз: "Слава богу, сегодня пятница!", и будете изо всех сил бороться, чтобы не отстать от коллег, благоразумно выбравших менее просветленное, но более оживленное увлечение большим теннисом. 3. ГОНКИ В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО ЗДАНИЯ ВРЕДНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ Наличие серьезного конкурента, стремящегося к той же цели, — всегда источник волнений. Желание зла человеку, который все время находится рядом, истощает душевные силы, но не многие — если такие вообще есть — способны отключить в себе чувство, заставляющее желать сопернику провала. В науке дорога не есть цель, цель — это цель. И поэтому лучше, когда соперники находятся где-нибудь в другом городе, если не в другой стране. Когда они в том же здании, это ад в миниатюре, к тому же ад с пониженной производительностью. Однажды Жак Моно дал двум исследовательским группам, работавшим в соседних лабораториях, задание научиться синтезировать в пробирке β-галактозидазу. Возможно, он знал, что руководители этих групп и без того уже не любили друг друга. В любом случае в той гонке весной 1962 года никто так и не пришел к финишу. 4. СОПЕРНИКАМ, ПРИШЕДШИМ НОЗДРЯ В НОЗДРЮ, СЛЕДУЕТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ ОДНОВРЕМЕННО В интересах науки лучше, чтобы проигравший платил не все. Горечь проигранной на волосок от финиша гонки может сломить дух соперника, который в противном случае мог бы сподвигнуть вас на новые успехи. Поэтому, если вы выиграли у коллеги, который шел с вами ноздря в ноздрю, предложите ему опубликоваться одновременно в одном и том же журнале, а то и совместно. Посвященные из числа тех, кто ведет счет, в таких случаях обычно знают, что произошло, и это поставит вас выше в их глазах. Поступая с другими так же, как вы хотите, чтобы поступали с вами, можно надеяться на ответное великодушие в случае, когда в следующий раз уже вас обойдут у самого финиша. 5. ДЕЛИТЕСЬ ЦЕННЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ Не пытайтесь монополизировать эффективные новые инструменты исследования или реагенты. Если бы Дик Бёрджесс не поделился своими препаратами РНК-полимеразы GG и PC со своим соседом по лаборатории Джеффом Робертсом, ему бы, скорее всего, не удалось первому открыть σ-фактор. Рука руку моет. Хотя, поделившись с Экке Баутцем и Джоном Данном своими протоколами по РНК-полимеразе, Дик и позволил им вступить в игру, впоследствии они немедленно поделились с ним своим открытием, что σ-фактор исчезает после заражения фагом Т4. Эта взаимная открытость впоследствии помогла Эндрю Трэверсу рано включиться в охоту за фагоспецифическими а-факторами. (обратно)
Глава 14. Навыки, дающие возможность удержаться на двух работах
Осенью 1967 года Гарвард разрешил мне стать директором Лаборатории в Колд-Спринг-Харбор, сохраняя при этом полную ставку профессора. В Гарварде осознали, что драгоценные научные и образовательные ресурсы Колд-Спринг-Харбора находятся на грани катастрофы и пропадут, если лабораторию не возглавит тот, кто сможет сделать это уникальное лонг-айлендское учреждение финансово жизнеспособным. Я входил тогда в попечительский совет Лаборатории и знал о ее шатком финансовом положении от директора, Джона Кэрнса, человека весьма острого ума. Джон родился и вырос в Северном Оксфорде и отличался иронией, интеллектом, а также неспособностью обращаться за помощью к людям, обладавшим властью большей, чем заслуживали их умственные способности. Приехав из Австралии в июле 1963 года, Джон с каждым годом все больше относился к биохимику Эду Тейтуму, председателю попечительского совета его Лаборатории, как к своему личному проклятию. При этом теоретически Эд был, казалось бы, ценнейшим кадром. Тейтум работал тогда профессором в Рокфеллеровском университете, а в 1940-е годы занимался в Стэнфорде исследованиями работы генов, результаты которых принесли ему Нобелевскую премию по физиологии и медицине 1958 года, которую с ним разделил родившийся в Небраске генетик Джордж Бидл. Но Тейтум был всего лишь неспешным вежливым тружеником, без Бидла он ничего бы не добился, как и позже в Иеле — без поддержки своего аспиранта и протеже Джошуа Ледерберга. Интеллектуальные поединки генетиков и молекулярных биологов, проводивших лето в Колд-Спринг-Харбор, были не в его вкусе. Прежде чем стать председателем, он посетил только один летний симпозиум. К глубокому раздражению Джона Кэрнса, Тейтум договорился о том, чтобы заседания совета попечителей проводились в Нью-Йорке, в Рокфеллеровском университете. Избавив себя от необходимости ехать за тридцать миль на восток, председатель также оградил себя и других попечителей от печального зрелища того состояния, в которое пришли два десятка зданий лаборатории. Манера поведения Тейтума на заседаниях совета напоминала мне манеру Натана Пьюзи. Оба они просто не знали, что делать с людьми, которые сообщают им нежелательные факты. Джон Кэрнс (в центре) на симпозиуме 1968 года.
Джон Кэрнс (в центре) на симпозиуме 1968 года.
К тому времени, когда я вошел в совет попечителей, Джон изо дня в день работал в полной неопределенности, хотя он и ликвидировал дефицит в пятьдесят тысяч долларов на счету лаборатории и довел положительный баланс до ста тысяч. На это потребовалось три года тяжелого умственного и физического труда — нередко он даже сам подстригал траву на газонах. В то же время пожертвования оставались почти на нуле, и выживание лаборатории зависело от того, удастся ли немногочисленным работавшим в ней ученым получать крупные гранты, за счет которых финансировались не только их исследования, но и бюджет администрации, ремонт зданий и тому подобное. Кроме доходов от этих грантов лабораторию удерживали от банкротства только спонсорские деньги нескольких компаний и неизменно растущие продажи ежегодных сборников, в которых публиковались материалы симпозиума. Этот сборник был просто необходим для любого, кто занимался молекулярной биологией. К середине 1966 года Джон заговорил о своей отставке, и чем холоднее относился к этим разговорам Тейтум, тем настойчивее становился Джон. На это обратили внимание несколько ключевых младших сотрудников и стали, в свою очередь, искать себе другую работу. В начале 1967 года Джон подал заявление об отставке, вступавшее в действие с момента назначения его преемника. То, что Эд Тейтум уйдет еще раньше, Джона не очень утешало. В должности председателя Тейтума сменил Бентли Гласс, генетик из Техаса, ученик Мёллера, связанный с лабораторией еще с конца 1930-х годов. Он недавно ушел из Университета Джонса Хопкинса, чтобы стать проректором нового лонг-айлендского филиала Университета штата Нью-Йорк, учрежденного в Стони-Брук. Бентли знал, что в одиночку не сможет радикально улучшить шансы лаборатории на выживание. Хотя он и был связан с неисчислимыми источниками государственного финансирования, новые средства не пришли бы в Колд-Спринг-Харбор, пока не нашелся подходящий новый директор. Когда я в конце октября летел в Нью-Йорк на заседание попечительского совета, то опасался, что новым директором может быть выбран специалист по генетике фагов немец Карстен Бреш, который искал, куда бы сбежать с ненадежной работы в Далласе. Если бы Бреш стал директором, он сохранил бы давнюю и успешную специализацию Лаборатории на молекулярной генетике. Но я боялся, что он будет относиться к этой должности как к перевалочной станции на то время, пока для него создадут постоянную, хорошо оплачиваемую должность в Германии. И все же это соображение едва ли повлияло бы на решение совета. Другие попечители возразили бы на это, что лучше временный лидер, чем никакого. Поэтому я предложил собственную кандидатуру, сказав, что соглашусь стать директором, если смогу одновременно остаться на своей постоянной ставке в Гарварде. Это избавило бы попечителей лаборатории от необходимости искать источник зарплаты для нового директора. Джону Кэрнсу с самого его прихода в лабораторию зарплату в размере 15 000 долларов в год платили из средств пятилетнего гранта Фонда Рокфеллера. Но на продление этого гранта рассчитывать было нельзя. Как только я заявил о возможности самому возглавить Колд-Спринг-Харбор, дальнейшее обсуждение кандидатуры Бреша прекратилось. Я чувствовал, что если Гарвард скажет "да", то эта работа мне обеспечена. Перед отъездом в Нью-Йорк я ни с кем не посоветовался о вероятности того, разрешит ли мне руководство Гарварда работать одновременно на двух академических работах. Поэтому сразу по возвращении в Кембридж я связался с Полом Доути, который к тому времени давно стал первым председателем отделения биохимии и молекулярной биологии. Заручившись поддержкой сотрудников отделения, он 22 ноября написал Франклину Форду письмо, в котором предлагал разрешить мне стать директором Лаборатории в Колд-Спринг-Харбор на пятилетний срок. В течение этого времени за мной сохранялись бы мои преподавательские и административные обязанности, а в Колд-Спринг-Харбор я проводил бы в среднем по три дня каждые две недели. Всего через пять дней Форд написал о своем согласии, отмечая, что должен будет передать мою просьбу в Гарвардскую корпорацию для официального утверждения. Я написал об этом Бентли, а он, в свою очередь, обратился к другим членам попечительского совета с предложением утвердить меня в качестве директора. i февраля 1968 года я вступил в свою новую должность. Мое решение взвалить на себя бремя проблем лаборатории в Колд-Спринг-Харбор в значительной степени было продиктовано чувствами. Быть там для меня значило быть дома. Лаборатория была для меня воплощением науки в лучших ее проявлениях, науки, для которой поиск высоких истин значит больше, чем личный успех. Я никогда не видел, чтобы кто-то в лаборатории злоупотреблял своим положением или чрезмерно задирал нос. Мысль о ее гибели была для меня невыносима. Кроме того, став директором, я мог проверить мою гипотезу 1958 года о том, что способность опухолеродных ДНК-содержащих вирусов вызывать рак связана с наличием у них в геноме генов, кодирующих ферменты, которые включают синтез ДНК. Эта идея была слишком хороша, чтобы быть ошибочной, но недостаток помещений и финансирования не позволял мне проверить ее в Гарварде. То печальное обстоятельство, что лабораторное пространство в Колд-Спринг-Харбор использовалось не в полную силу, могло оказаться для меня удачей. Направление научной деятельности лаборатории можно было быстро изменить без конфликтов с уже работавшими там учеными. В Массачусетсом технологическом институте в середине 1950-х, чтобы быстро переориентироваться на молекулярную биологию, пришлось по сути уволить все биологическое отделение, и это породило немало проблем. В Колд-Спринг-Харбор такого можно было бы избежать. Мое первое публичное появление в роли директора состоялось 4 февраля, в воскресенье. Это произошло на ежегодной встрече Лонг-Айлендской биологической ассоциации, членов которой первоначально выбирали из числа владельцев больших имений, некогда преобладавших на большей части ландшафтов Северного берега. Хотя за двадцать лет, прошедших с войны, многие крупные владения были разделены на части, в радиусе нескольких миль от Лаборатории по-прежнему сохранились роскошные дома многих самых верных и щедрых благодетелей Гарварда с Уолл-стрит. Поэтому в деле мобилизации местного высшего общества на поддержку наших новых исследований рака, как я полагал, мое звание гарвардского профессора могло оказаться не менее уместным, чем Нобелевская премия. Столь же важен был тот почет, в котором были у местных жителей Джон Кэрнс и его семья. В тот день я публично объявил, что надеюсь на то, что Джон согласится остаться сотрудником лаборатории и по-прежнему будет жить в Эрсли — большом деревянном здании усадьбы, построенном в 1806 году для майора Уильяма Джонса. Долгое время эта усадьба входила в состав владений Генри де Фореста, прилегавших к Лаборатории с севера, а в 1942 году стала домом директора. Я был холост и планировал проводить на месте не больше шести-восьми дней в месяц, поэтому у меня не было нужды в Эрсли с его многочисленными комнатами. Еще до начала встречи ассоциации я попросил выделить мне в качестве жилья еще более старый Остерхаут-коттедж. В нем несколько лет жили Альфред и Джилл Херши, пока не построили для себя дом с преимущественно стеклянными стенами на земле к западу от Лаборатории. Мой отец жил в то время вдали от зимних холодов на старомодном курорте на западном берегу Флориды под Сарасотой. Он проводил там уже пятую зиму, поехав туда впервые после перенесенного им в ноябре 1963 года слабого инсульта. После того как папа оправился от ужасного шока, вызванного внезапной смертью моей матери в 1957 году, его широкая дружелюбная улыбка помогла завоевать новых друзей из числа родственных душ, ценивших книги и рузвельтовские идеалы. Он познакомился, в частности, с несколькими тихими интеллектуалами, связанными с экспериментальным Новым колледжем, стоявшим на землях некогда обширного имения Ринглингов в окрестностях Сарасоты. Двумя годами раньше папа с гордостью посетил лекцию, которую я читал для студентов Нового колледжа. Особое внимание, которое в этом колледже уделялось великим книгам западной цивилизации, напомнило о дорогих для меня студенческих годах, проведенных в Чикагском университете. Однако последняя поездка папы во Флориду прошла не так хорошо, поскольку у него вновь открылась давно не напоминавшая о себе язва желудка. К счастью, язва вскоре зажила, и он почувствовал себя достаточно уверенным, чтобы весной провести несколько недель в круизе по Средиземному морю, прежде чем отправиться на большую часть лета в старинный отель Harbor View в Эдгартауне на острове Мартас-Виньярд. И все же его здоровье ухудшилось, когда он после Рождества, в тот год, когда я стал директором, уехал из Вашингтона, от моей сестры, чтобы снова пожить во Флориде. Постоянный сильный кашель, который начался у него во время праздников, не отступил на теплом Юге. Но врач, лечивший его в Сарасоте, несколько раз заверял по телефону мою сестру Бетти, что у папы нет опасного воспаления легких. И папа пребывал в хорошем настроении, особенно когда он прочитал "Двойную спираль", опубликованную в двух номерах Atlantic Monthly и не вызвавшую сколько-нибудь бурной критики. Он был горд, когда его друзья из Нового колледжа с удовольствием посмотрели "Шоу Мерва Гриффина" с моим участием. Но однажды ближе к вечеру моя сестра неожиданно позвонила, чтобы сообщить, что папин кашель не пройдет никогда. Он был вызван неоперабельным раком легких, и, согласно прогнозу, жить папе оставалось всего несколько месяцев. Две пачки "Кэмела", которые он выкуривал каждый день еще с колледжа, в конечном итоге дали о себе знать. Бетти узнала эту ужасную новость в то время, когда я возвращался в Кембридж из Нью-Йорка после обеда по случаю дня публикации "Двойной спирали".
 На свадьбе моей двоюродной сестры Элис и Джеймса Хьюстона в 1967 году: я справа от невесты, а дальше рядом со мной Боб Майерс, муж моей сестры, сестра Бетти, мой отец и Уильям Уэлдон Уотсон.
На свадьбе моей двоюродной сестры Элис и Джеймса Хьюстона в 1967 году: я справа от невесты, а дальше рядом со мной Боб Майерс, муж моей сестры, сестра Бетти, мой отец и Уильям Уэлдон Уотсон.
Я был у себя в кабинете, когда ей наконец удалось до меня дозвониться. Со мной была тогда очень симпатичная Элизабет Льюис, студентка третьего курса Рэдклиффа, которая днем нередко помогала моей секретарше Сыози, золовке Либби Олдрич. Я всегда приходил в отличное настроение, когда Лиз несколькораз в неделю появлялась в Биолабораториях, чтобы разложить по папкам оттиски или помочь мне привести в порядок черновики "Двойной спирали". Когда же она возвращалась к своей студенческой жизни, мне, напротив, всегда было одиноко. Когда Лиз поступила в Гарвард, она думала специализироваться на математике — предмете, который ей особенно нравился, когда она училась в Школе Линкольна в Провиденс, где ее отец, Роберт Викери Лыоис, потомок валлийцев и янки, работал врачом. Он окончил колледж Брауновского университета, а затем учился медицине в Пенсильванском университете, где и познакомился со своей будущей женой, медсестрой Эдит Мей Белль Айри, происходившей от шотландцев, ирландцев и пенсильванских голландцев. Обучение в небольшой квакерской школе никак не могло подготовить Лиз к математике в объеме Гарварда, поэтому она переключилась на естественные науки как на возможный путь в школу медицины. Наше первое свидание было незапланированным: она в последний момент пошла со мной на раннюю вечеринку у Карла и Энн Кори недалеко от Брэттл-стрит. После этого мы поехали вдоль реки Чарльз в Бостон, где посмотрели английский фильм в кинотеатре Exeter. Ее экзамены уже закончились, и она собиралась поехать на летнюю работу в Монтану, на ранчо-курорт над Иеллоустунским парком. Мне казалось, что лето длится уже очень долго, когда в начале августа от нее пришло короткое письмо, получив которое я осознал, с каким нетерпением жду ее возвращения в мой кабинет осенью. Вскоре после того, как она вернулась в Рэдклифф, мы столкнулись друг с другом на Брэттл-стрит возле магазина Sage's Market, и эта случайная встреча дала мне еще одну возможность съездить вместе с ней в Бостон. После обеда на Ныобери-стрит мы зашли в Bonwit Teller, изысканный магазин, занимающий несколько просторных этажей здания, бывшего красивого городского особняка. За осенние месяцы она стала все чаще пропускать ужины в Мурс-холле и ужинать вместе со мной и моим отцом в отеле Continental. Вернувшись с Мартас-Винярда в августе, папа решил переселиться в этот отель из своей квартиры на Эппиан-Уэй 101/2. Это избавляло его от необходимости ходить по магазинам, готовить еду и делать уборку. Я не говорил папе о том, как усилилась моя привязанность к Лиз за последние восемнадцать месяцев. Я знал, что он будет беспокоиться, что она в свои девятнадцать лет, вероятно, прибережет настоящее чувство для сверстника. Повесив трубку после звонка Бетти, я сразу попросил Лиз остаться и поужинать вместе со мной в отеле Continental. Это был наш первый ужин вдвоем. После ужина она не пошла к себе в общежитие, сказав, что не больше меня хочет, чтобы я оставался в этот вечер один. На следующий день она рано ушла из моего кабинета, чтобы пойти в продуктовый магазин на Брэттл-стрит, собираясь приготовить в тот вечер ужин на старинной плите в моей квартире на Эппиан-Уэй. Она принесла с собой учебники, чтобы читать их после ужина в неотапливаемой нише рядом с гостиной. На следующий вечер, когда мы снова пошли на ужин к Карлу и Энн Кори, Энн поняла, что ей больше не нужно выбирать незамужних девушек, чтобы сажать их рядом со мной. Ранним утром следующего дня я покинул Лиз и полетел в Сарасоту, чтобы забрать напуганного папу и привезти его на самолете к моей сестре в Вашингтон. В 1964 году ее муж, Боб Майерс, ушел из ЦРУ и основал журнал Washingtonian вместе с Локлином Филлипсом, своим соседом по комнате во время учебы в Чикагском университете. Боб был его первым издателем, а Локлин — главным редактором. Совсем недавно Боб стал издателем The New Republic, но папа, давний и верный его читатель, уже недолго мог радоваться тому, что его зять участвует в выпуске папиного любимого либерально-политического журнала. Когда я вернулся в Кембридж, оказалось, что по плану я должен уже очень скоро снова покинуть Лиз, чтобы поехать на ежегодную встречу ученых и научных журналистов, организуемую Американским онкологическим обществом, на этот раз в Ла-Хойе, к северу от Сан-Диего. Организаторы надеялись, что результатом этой конференции будет оптимистичное освещение в прессе, которое поможет развернуть кампанию по добыванию денежных средств на предстоящий год. Несколько месяцев назад я с нетерпением ожидал приглашения на эту конференцию, полагая, что она поможет мне разобраться, как начинать исследования опухолеродных вирусов в Колд-Спринг-Харбор. Поскольку она должна была проходить перед самыми недельными весенними каникулами в Гарварде, была возможность, что Лиз присоединится ко мне в Ла-Хойе после конференции. Но чтобы наше путешествие в качестве пары не вызвало скандала, нам нужно было пожениться немедленно после прибытия Лиз в Калифорнию. К счастью, Лиз без всяких колебаний сразу приняла мое предложение сбежать вместе со мной из Гарварда и пожениться. Мы решили никому об этом не сообщать, кроме ее родителей, живших в Провиденс. В итоге единственным человеком в Гарварде, знавшим о наших планах, была моя секретарша. Она все узнала, когда Лиз вошла и сообщила, что сегодня • работает последний день. Сьюзи сказала, что доктор Уотсон будет очень огорчен. На это Лиз ответила, что доктор Уотсон вовсе не будет огорчен. Перед отлетом на запад я позвонил Сильвии Бейли, англичанке, работавшей секретаршей у Джейкоба Броновского, ученого широкого профиля из Англии, нанятого Институтом Солка после смерти Лео Силарда. Я попросил у Сильвии совета, как нам с Лиз лучше всего пожениться в Калифорнии. К моему удивлению, она перезвонила на следующий день и сообщила, что будет быстрее организовать свадьбу по церковному обряду, чем по гражданскому. Она готова была, если я дам добро, связаться со своим другом, преподобным Форшоу, чья церковь в неомиссионерском стиле была расположена в центре Ла-Хойи. Лиз, в свою очередь, отправилась вместе со своей матерью снова в Bonwit Teller, на этот раз не чтобы просто посмотреть, а чтобы купить несколько нарядов, приличествующих случаю и подходящих для того, чтобы сделать фотографии и разослать их родственникам и друзьям для объявления о нашей свадьбе. На встрече с научными журналистами, организованной Американским онкологическим обществом, я долго говорил с Бобом Райнхольдом, бывшим редактором газеты Crimson, который теперь писал статьи о науке для New York Times.
 Мы с Лиз в день нашей свадьбы, 28 марта 1968 года, в Ла-Хойя (Калифорния).
Мы с Лиз в день нашей свадьбы, 28 марта 1968 года, в Ла-Хойя (Калифорния).
В статье, которую он вскоре написал о моих планах ориентировать Колд-Спринг-Харбор на изучение рака, он отметил, как нервно я держал свою банку "кока-колы", конечно, не зная, что это не какой-нибудь банальный тик, а проявление беспокойства по поводу моей свадьбы следующим вечером. Как только Лиз сошла с самолета, я сразу перестал нервничать. Ее улыбка всегда приводила меня в отличное настроение. Вскоре мы поехали на север от Ла-Хойи, чтобы получить разрешение на брак, которое позволило нам 28 марта в 21:00 пожениться в конгрегационалистской церкви Ла-Хойи. Преподобному Форшоу, в библиотеке которого на видном месте стоял один из толстых томов Бертрана Рассела, не было дела до того, что я не из тех, кто ходит в церковь. Вернувшись в отель La Valencia, мы рано поужинали в его Whaler's Bar, а затем отправились в одноэтажный застекленный дом Джейкоба и Риты Броновских в Ла-Хойя-Фармс неподалеку от Института Солка. Стильная обстановка этого дома намного лучше подходила для свадебных фотографий после заката, чем та церковь. Затем Лиз познакомилась с узким кругом моих друзей из Ла-Хойи, которые пришли на празднование, не зная, по какому поводу их пригласили. Свою первую ночь после свадьбы мы провели в одной из комнат с видом на Тихий океан. На следующее утро мы позвонили моей сестре, чтобы сообщить новость ей и папе и сказать, что заедем к ним в Вашингтон по дороге обратно в Гарвард. Я отправился искать открытки, чтобы сообщить друзьям вроде Сеймура Бензера и Пола Доути, что "одна девятнадцатилетняя стала моей". После неспешного обеда мы поехали на восток, чтобы посмотреть на пустынные растения, цветущие вокруг Боррего-Спрингс. Мы провели ночь на курорте Casa del Zorro, затем поехали через пустыню Анса в долину Империал, а оттуда в деревню Сан-Фелипе, милях в семидесяти к югу от мексиканской границы. Там мы провели две ночи в гостинице для рыбаков, а большую часть дня в воскресенье плавали в уже теплых водах Калифорнийского залива, стараясь при этом не обгореть. Нам не было известно о внезапном решении Линдона Джонсона обратиться в этот вечер к народу с важной речью. Только после того, как мы вновь оказались по американскую сторону границы, мы узнали, пока ехали на автомобиле в сторону Аризоны, о том, что прошлым вечером Джонсон объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах. Мы надеялись, что он до окончания своего срока выведет нас из болота в Юго-Восточной Азии, но это была, похоже, напрасная надежда. Хотя Джонсон и представил тогда Тетское наступление как большое поражение Вьетконга, сам он, должно быть, был уверен в обратном, иначе не стал бы уходить с поста президента. К ночи мы были в окрестностях Тусона. Рано утром следующего дня мы совершили прогулку по национальному парку Saguaro и полюбовались тысячами высоких кактусов. Сдав в аэропорту взятый напрокат "форд мустанг", мы сели на самолет до Вашингтона. Весна была в полном разгаре, и все, кто был в доме у Бетти рядом с Гловер-Арчибальд-парком, смогли на какое-то время забыть о папином ужасном диагнозе, пока мы с Лиз делились подробностями нашей свадьбы и следующих дней.
 Мы с Лиз украсили собой обложку номера Scientific Research за 29 апреля 1968 года.
Мы с Лиз украсили собой обложку номера Scientific Research за 29 апреля 1968 года.
Неожиданно возник фотограф, присланный новым журналом Scientific Research издательства McGraw-Hill. Этому журналу особенно удавались быстро публикуемые статьи — не только о науке, но и об ученых. Вести о моей женитьбе уже широко разнеслись, и нас с Лиз хотели сфотографировать для этого журнала. Из получившихся фотографий стало ясно, что Лиз — настоящая мечта фотографа, и мы с ней вместе попали на обложку номера за 29 апреля. На следующее утро мы отправились на север и через четыре часа приехали в Колд-Спринг-Харбор, чтобы посмотреть на свой будущий дом. Из Вашингтона я сообщил Джону Кэрнсу о предстоящем однодневном визите, и в лаборатории устроили в нашу честь ужин, организованный Франсуазой Спар. Ее муж, Пьер-Франсуа, приехал на шесть месяцев из Женевы, чтобы поработать вместе с Реем Гестеландом, моим бывшим студентом из Гарварда, которого Джон Кэрнс годом раньше взял на работу в лабораторию. Но к тому времени, как мы собрались в гостиной большого викторианского дома у въезда в лабораторию, новость о нашей свадьбе отошла на второй план. Все были потрясены известием об ужасном событии, случившемся в другом месте. Только что в Мемфисе неизвестный убил Мартина Лютера Кинга. На следующий день, перед нашим отъездом в Провиденс, репортер из Newsday, ведущей лонг-айлендской газеты, взял интервью у Лиз и у меня по отдельности. В итоге он, к ужасу Лиз, намекнул в посвященной нам статье, что все рэдклиффское образование понадобится ей лишь для того, чтобы весь остаток жизни штопать мне носки. Дома у Лиз я познакомился с ее отцом, врачом, который, как я вскоре обнаружил, был, как и мой отец, увлеченным читателем и скептиком. В этом отношении мы с Лиз получили похожее воспитание. Хотя ее родители и водили ее в Центральную баптистскую церковь, их там привлекала прежде всего музыка — лучшая во всем штате Провиденс. В тот вечер я все время отвлекался на телевизор, по которому показывали съемки расовых беспорядков, начавшихся после убийства Кинга. Убийца был по-прежнему неизвестен. На следующее утро, 6 апреля, мне исполнялось сорок лет, и если бы со мной рядом не было Лиз, то я бы грустил и чувствовал себя старым.
 Статья в газете Newsday от 6 апреля 1968 года.
Статья в газете Newsday от 6 апреля 1968 года.
Перед самым полуднем мы поспешили в Кембридж, чтобы дать Лиз возможность посвятить субботний день покупке посуды на Гарвард-сквер. Ее первым большим приобретением была гладильная доска, которую я принес из хозяйственного магазина Dixon's. Следующим предметом, украсившим нашу квартиру на Эппиан-Уэй, был второй серебряный подсвечник, подаренный Обществом стипендиатов в дополнение к первому, который мне вручили, когда я стал старшим стипендиатом. Еще одним ранним приобретением была большая поваренная книга Джулии Чайлд, местной жительницы, купленная Лиз по совету женщины из отдела регистрации Рэдклиффа, которая записывала изменение фамилии Лиз с Льюис на Уотсон. Лиз, как оказалось, с куда большим удовольствием осваивала рецепты из этой книги, чем из своего практикума по органической химии. Дни моей худобы были сочтены. Как только Лиз сдала свои заключительные экзамены, мы сразу совершили с ней пятичасовую поездку на машине в Колд-Спринг-Харбор, где лаборатория сняла на лето дом на Шор-роуд, чтобы папа мог жить там вместе с нами. Пока он жил у Бетти, его госпитализировали несколько раз, но теперь его состояние позволяло безболезненно садиться во взятый нами напрокат "додж" с четырьмя дверями и безболезненно выходить из него. Новая машина избавила Лиз от необходимости учиться водить мой резко срывающийся с места MG TF. На следующий день после нашего прибытия Франсуаза приготовила еще один пир из многих блюд, главным из которых были на этот раз омары по-американски. Во время еды мы с ужасом узнали, что Роберт Кеннеди был только что застрелен в Лос-Анджелесе. Я возлагал надежды на то, что он будет кандидатом от Демократической партии на пост президента. Никогда еще со времен Второй мировой войны повседневная жизнь не была омрачена такой чередой горестных событий. Нэнси и Брук Хогжинс стали заходить в наш дом на Шор-роуд, чтобы составить компанию папе. Нэнси приехала на лето вместе со студентами из Массачусетского технологического и из Гарварда, которых было больше дюжины и которые все занимались фагом X, работая вместе в свободном лабораторном помещении под лабораторией Эла Херши. Приехали Колд-Спринг-Харбор также Макс и Мэнни Дельбрюк. Макс собирался вот уже четвертый год подряд читать в Энимал-хаусе курс по светочувствительности плесени Phycomyces. Когда я познакомил всех с Лиз, я сразу почувствовал их одобрение и испытал облегчение — мне больше не придется страдать от хронической неустроенности. За июль состояние папы ухудшилось настолько, что ему потребовалась круглосуточная сиделка. Химиотерапия, которую проводил местный врач из лаборатории, Риз Олсоп, была в основном симптоматическим лечением. Так или иначе, к концу месяца боль оказалась слишком сильной, чтобы бороться с ней в домашних условиях, и папу положили в госпиталь Хантингтона, а затем перевели в расположенный неподалеку дом престарелых. Он провел там всего одну ночь, после чего воспаление легких милосердно оборвало его мучения. Через два дня Бетти встретилась со мной в Индианаполисе, откуда мы вместе поехали в расположенный в ста милях к северу от озера Мичиган небольшой городок Честертон, где одиннадцатью годами раньше похоронили нашу мать. Мы встретились бы в чикагском аэропорту, но в Чикаго тогда проходил съезд Демократической партии, и в городе было полно столкновений протестующих против войны с беспощадными полицейскими. В тот день мы хотели думать об отце и матери, а не о Вьетнаме. На следующее утро мы встретились на кладбище с живущими неподалеку Олвэйни, мамиными родственниками, с которыми мы много общались в Мичиган-Сити, до того как поступили в университет. После обеда мы отправились посмотреть на небольшое бунгало на Южном берегу Чикаго, в котором прошло наше детство. В Грант-парке, через который мы проезжали после этого, царила зловещая тишина. Прошлым вечером полиция по приказу мэра Дейли жестоко разогнала протестующих, пытавшихся поставить палатки на открытых участках парка, на которые выходили окна номеров высоких отелей, где остановились делегаты съезда. После моего возвращения на Лонг-Айленд начался трехнедельный курс по клеткам и вирусам животных. Там я впервые познакомился с двадцатидевятилетним Джо Сэмбруком, родившимся в Ливерпуле и работавшим в Институте Солка. Он прилетел на восток, чтобы прочитать лекции о поксвирусах, по которым защитил диссертацию доктора философии в Австралийском национальном университете. За последние два года в Институте Солка он показал, что ДНК вируса SV40 встраивается в хромосомы раковых клеток, преобразованных этим вирусом. Работа Сэмбрука занимала центральное место в недавнем докладе Дульбекко, с которым он выступил в июне на симпозиуме. Поэтому Джон Кэрнс посоветовал мне предложить Джо возглавить нашу программу по опухолеродным ДНК-содержашим вирусам. Я сразу почувствовал глубокий ум и серьезные амбиции Джо и предложил ему должность начиная со следующего лета. Он быстро согласился и подготовил большую заявку на грант Национального онкологического института, который должен был обеспечить лаборатории поступление полутора миллионов долларов на предложенный в заявке пятилетний срок. Получение этих денег было нам почти гарантировано, потому что в то время на исследования рака было больше денег, чем достойных претендентов. И действительно, единственным рецензентом, высказавшим какие-то опасения по поводу получения нами гранта от Национального онкологического института, был Чарли Томас из Гарварда. Его интересовало, не будут ли подвергать себя риску люди, работающие с опухолеродными вирусами на молекулярном уровне. Не мог ли обезьяний вирус SV40 вызывать рак у людей? Мы ответили на это, что будем следовать тем же методикам, что используют в лаборатории Ренато Дульбекко в Институте Солка, где, судя по всему, работа с вирусом SV40 была безопасна. Кроме того, мы знали, что пятнадцатью годами раньше вирус SV40 непреднамеренно оказался примесью в составе ранних порций вакцины от полиомиелита, которой привили несколько миллионов людей, и у них не было отмечено повышенной частоты заболевания раком. В феврале 1969 года мы провели выходные перед Днем рождения Вашингтона[29] в Редкоуте — доме Эдварда Пуллинга, новоизбранного президента Лонг-Айлендской биологической ассоциации. Эд вырос в Балтиморе, а образование получил в Принстоне, но родился в Англии и в Первую мировую войну служил офицером британского флота. Он ушел недавно на пенсию с поста директора основанной им Школы Милбрука, расположенной к северу от Нью-Йорка, и вместе с женой Люси переехал в имение, унаследованное ею от отца, банкира Расселла Леффингуэлла, работавшего на банкирский дом Моргана. Когда прошлым летом мы с Лиз впервые посетили принадлежавшие им восемьдесят акров полей и лесов, Эд обратил наше внимание на скрытый ров, который называли "ха-ха". Он не позволял лошадям Люси подходить слишком близко к патио, где мы пили коктейли перед ужином. Кроме нас, там были также почти восьмидесятилетний Франц Шнайдер, бывший журналист, ставший затем умелым инвестором, и его жена Бетти, которая была на двадцать пять лет его младше. В былые времена Бетти регулярно водила их личный гидросамолет от причала возле их дома до Нью-Йорка и обратно. Впоследствии они познакомили нас с Фердинандом Эберштадтом, владевшим на перешейке Ллойд-Нек обширным имением, которое он вскоре отдал Службе рыбного и охотничьего хозяйства под заповедник, чтобы предотвратить постройку атомной электростанции на соседней земле. В каждый такой приезд из Гарварда мы увлеченно следили за постройкой нового дома, в который мы должны были переехать, как только Лиз окончит Рэдклифф. Поначалу мы планировали отремонтировать расположенный рядом с Блэкфорд-холлом в самом центре кампуса Остерхаут-коттедж, которому было 175 лет. Необходимая перестройка требовала вложения 30 000 долларов. Столько в то время стоили мои акции быстро растущей фармацевтической компании Syntex, приобретенные после встречи с ее основателем Карлом Джерасси, химиком и изобретателем противозачаточных таблеток. На собрании Американского химического общества в Кливленде в мае 1960 года мы оба получили премии в размере 1000 долларов. Вернувшись в Гарвард, я вложил эти деньги в акции компании Syntex, а впоследствии купил еще акций на другие 1000 долларов. Но вскоре после того, как начался ремонт Остерхаута, местный подрядчик сказал нам, что дом обветшал настолько, что не поддается ремонту. Он предложил построить за те же деньги новый дом, почти идентичный тому, который должен был получиться из Остерхаута после капитального ремонта, но с более высокими потолками и кондиционерами. Наш архитектор, Гарольд Эдельман, считал стоящим только строительство совершенно нового дома, и нам никогда не пришлось пожалеть об этом решении. На время весенних каникул мы с Лиз сбежали от охвативших всю страну студенческих волнений, связанных с Вьетнамом, отправившись на Карибы, где моя мировая известность сослужила нам хорошую службу. Лет за десять до этого богатый европейский промышленник Аксель Фабер учредил фонд в пользу нобелевских лауреатов, выделявший деньги на их проживание в престижных отелях и на престижных курортах. Всего за 10 долларов за ночь мне доводилось останавливаться в Le Richemond и Hotel de Bergues в Женеве. Обнаружив, что Dorado Beach возле Сан-Хуана лучше приспособлен для гольфа, чем для плавания, мы перебрались вначале на остров Сент-Томас, а затем на Сент-Джон, где остановились на курорте Caneel Bay, и там потягивали персиковый дайкири вместе с братом Эбби Рокфеллер Дэвидом и его новой женой Сидни. Последние два месяца обучения Лиз в Рэдклиффе приняли оборот, которого мы никак не ожидали. Меньше чем через неделю после нашего возвращения Юниверсити-холл был захвачен тремя сотнями студентов, протестовавших против войны. Многие из них были членами радикальной группы "Студенты за демократическое общество" (SDS). Днем в среду 9 апреля из окон второго этажа Юниверсити-холла были вывешены красно-черные флаги[30], после того как тех, кто его занимал, в основном представителей администрации, в том числе Франклина Форда, поколотили протестующие студенты, ранее незаконно исключенные из университета. SDS уже некоторое время угрожало перейти к насильственным мерам, вдохновляясь, несомненно, эффектом, произведенным студенческими бунтами в других местах. Хотя они и требовали остановить войну, захватившие Юниверсити-холл не собирались вести себя в соответствии с законами мирного времени. В тот день они объявили, что освободят здание только в том случае, если руководство университета выполнит ряд их требований, главным из которых было изгнание из Гарварда учебного корпуса офицеров запаса. При этом факультет искусств и наук еще за два месяца до того проголосовал за то, чтобы не засчитывать в качестве университетских учебных курсов курсы офицеров запаса и не давать университетских ставок офицерам, ведущим эти курсы. Наличие в Гарварде учебного корпуса офицеров запаса, которое все считали первопричиной этих беспорядков, само по себе никогда бы не привело к захвату Юниверсити-холла. Неостановимая цепная реакция началась, когда Ричард Никсон стал президентом и Гарвард одолжил ему Генри Киссинджера в качестве советника по национальной безопасности. Протестующие студенты не могли больше терпеть позицию Натана Пьюзи, который не справлялся со сложившейся в университете сложной в моральном плане ситуацией, а два года назад окрестил самопровозглашенных университетских революционеров "Уолтерами Митти[31] из левых". Несмотря на неоднократные предупреждения и требования покинуть Юниверсити-холл и на то, что Франклин Форд велел закрыть доступ в Гарвард-Ярд для всех, кроме живших там первокурсников, студенты, предводительствуемые SDS, сдаваться не собирались. Хотя к тому времени и поговаривали о молниеносном полицейском рейде как о лучшем способе разобраться с захватчиками здания, никто не был готов к тому, что случилось потом. На следующее утро, в пять часов, четыреста кембриджских полицейских со щитами вошли в Гарвард-Ярд и слезоточивым газом и дубинками выгнали из здания едва проснувшихся студентов, многие из которых держались за руки. Это побоище продлилось меньше пятнадцати минут, и Юниверсити-холл был очищен. Большинство студентов затолкали в полицейские машины и увезли в кембриджскую городскую тюрьму, чтобы предъявить им обвинение в нарушении прав владения. Остальные гарвардские студенты, до этого по большей части не сочувствовавшие SDS, сразу исполнились негодования в адрес университетского руководства, и в особенности президента Пьюзи. Жестокость полиции сделала мучениками тех, кто протестовал. Полторы тысячи студентов собрались в тот день в Мемориал-холле и призвали на три дня бойкотировать занятия. Еще более разгневанные толпы сошлись позже на Солдатских полях по другую сторону реки Чарльз. Более пятисот студентов Школы права, никогда ранее не славившейся радикализмом, проголосовали за отставку Пьюзи. Когда я шел в тот день в профессорский клуб на обед, Лиз была в числе студентов, выстроившихся вдоль дороги, ведущей к его входу, в знак протеста против полицейского рейда. Никогда до этого я не видел, чтобы она демонстрировала политические взгляды. Хотя воздействие, оказанное полицейским рейдом на студентов, давало о себе знать только до церемонии вручения дипломов, среди сотрудников возник раскол, которому предстояло продлиться не один год. Вскоре после этого события в Гарварде сформировалась либеральная фракция. Ее участники верили, что если бы президентом был не Натан Пьюзи, всей этой отвратительной истории могло бы не быть. Своей резкой реакцией на обеспокоенность студентов по поводу Вьетнама он проявил себя как открытый сторонник вьетнамской политики вначале Линдона Джонсона, а затем Ричарда Никсона. В свою очередь, консервативная фракция приблизительно такого же размера винила во всем активистов из студенческой среды. Каким дисциплинарным взысканиям подвергнуть студентов-нарушителей, было поначалу неясно. Либеральная фракция праздновала маленькую победу, когда комиссия, в которой были представлены люди разных взглядов, в том числе несколько студентов, проголосовала за временное исключение лишь десяти участников беспорядков, применивших физическое насилие к представителям университетского руководства во время захвата Юниверсити-холла 9 апреля. Члены консервативной фракции добивались того, чтобы ответственность понесло намного больше студентов и чтобы мера взыскания была суровой, в идеале — исключение навсегда. Напряженная обстановка той весны усугублялась растущей политической активностью многих чернокожих студентов Гарварда. Двумя месяцами раньше сотрудники факультета искусств и наук проголосовали за введение для студентов колледжа специализации по истории и культуре афроамериканцев. Хаос, последовавший за полицейским рейдом, подвиг наиболее воинственных чернокожих студентов на то, чтобы потребовать от Гарварда пойти дальше и создать особое отделение, в выборе сотрудников которого они могли бы принимать участие. Перед драматическим центром Лёба, где 22 апреля проходило совещание сотрудников, посвященное этому вопросу, собрались чернокожие студенты, один из которых держал в руках мясницкий нож. Тем временем внутри я присоединился к тем многим членам либеральной фракции, кто выступал за участие студентов в выборе сотрудников. Впоследствии я пожалел об этом своем решении, осознав, что давать гарвардским студентам, изучающим естественные науки, выбирать будущих научных сотрудников было просто глупо. На подсознательном уровне я, должно быть, не верил, что задуманное отделение истории и культуры афроамериканцев выдержит долгую проверку временем. Чернокожих студентов на таком отделении не станут только знакомить с фактами, которые помогли бы им преуспеть в соревновании со студентами других цветов кожи. К тому времени война непосредственно влияла на жизни гарвардских магистрантов, специализировавшихся на естественных науках. У них больше не было автоматической отсрочки от военной службы. Если кому-то из них не везло с очередностью призыва, его вскоре могли призвать и отправить во Вьетнам. Чтобы избежать такой судьбы, несколько студентов первого года магистратуры поехали вместе со мной в Колд-Спринг-Харбор на лето 1969 года. Там у них была возможность получить отсрочку на том основании, что они занимаются онкологическими исследованиями. Два студента остались там на два года, помогая Джо Сэмбруку начать его работу с вирусом SV40 в хорошем темпе. Стремясь к тому, чтобы Лаборатория заняла достойное место в изучении опухолеродных вирусов, Джо и Лайонел Кроуфорд из Лондона организовали в августе двухнедельный цикл семинаров, на который приехали в числе прочих Арни Левин, Чак Шерр и Алекс ван дер Эб. Все они стали впоследствии ведущими исследователями опухолеродных вирусов. Главным мероприятием этого цикла стал небольшой симпозиум по опухолеродным вирусам, в котором участвовало около восьмидесяти человек. В более поздних числах того же месяца Жак Моно привез на нашу конференцию по лактозному оперону большую группу из Института Пастера. Результатом этого мероприятия стала первая изданная лабораторией Колд-Спринг-Харбор монография — надолго сохранивший свое значение том, главы которого редактировали Джон Бекуит и мой бывший студент Дэвид (Зип) Зиспер. Вскоре после этого Зип оставил недавно полученную постоянную ставку в Колумбийском университете и перешел в Колд-Спринг-Харбор, где основал группу по генетике бактерий, занявшую помещения под лабораторией Эла Херши. Однажды во время этой конференции мы воспользовались своей новой плоскодонкой, чтобы прокатить Жака по волнам пролива Лонг-Айленд. Жаку хотелось, чтобы я греб быстрее, но я был против. Наши гости об этом не знали, но Лиз уже третий месяц ждала нашего первого ребенка. В то лето в лаборатории работал Джулиан Дэвис, уроженец Уэльса, изучавший синтез белка у дрожжей. Джулиан радовался своему недавнему переходу из Гарвардской школы медицины в Висконсинский университет, где ему больше не приходилось выслушивать стенания председателя его отделения, Берни Дэвиса, по поводу левых убеждений его сотрудников. Однажды летом Джулиан распространил по лаборатории листовки, призывающие к демонстрации против церемонии инвеституры Чарльза Виндзора как принца Уэльского в Карнарвоне. Работавшая у Джулиана в то лето лаборанткой дочь нашего местного поселкового шефа полиции увидела эти листовки и сообщила о готовящейся акции своему отцу. В такие времена шеф Маккензи не мог допустить выхода студенческой демонстрации из-под контроля. Ровно в то время, когда должно было произойти миропомазание принца Чарльза, он явился и остановил несанкционированное шествие по Бангтаун-роуд, главной дороге лаборатории. К счастью, оказалось, что у шефа Маккензи не было надежных сведений о том, что в лаборатории в то лето свободно распространяли марихуану. После того как я попробовал ее сам на первой за лето вечеринке в Лаборатории Джонса, я решил воздерживаться от участия в подобных мероприятиях. Мне лучше было не знать о вещах, которые мое нынешнее положение обязывало меня пресекать. Еще до перехода к нам Джо Сэмбрука я знал, что для успеха нашей группы по опухолеродным вирусам требуется строительство новых лабораторных помещений в дополнение к тому пространству, что было выделено ему в лаборатории Джеймса. Поначалу я думал, что 60 000 долларов покроют расходы на новую пристройку с южной стороны здания этой лаборатории. И вот мы с Лиз отправились на самолете из Кембриджа на Лонг-Айленд, чтобы просить об этой сумме наследника фармацевтической компании Карлтона Палмера, чей роскошный дом в стиле Тюдоров стоял на соседнем Центральном острове. В конце воскресного обеда с Палмером у нашего соседа, одного из попечителей лаборатории и специалиста по лимфоме Бейарда Кларксона, мне сказали, что мне придется найти еще пятьдесят девять таких дарителей. Лаборатория по-прежнему остро нуждалась в ангеле-хранителе, как я сказал вскоре репортеру из местной газеты Long Islander, основанной Уолтом Уитменом и еженедельно издающейся в Хантингтоне. Выход получившейся в итоге статьи, к моей радости, привел к тому, что мне позвонил бывший член правления фармацевтической компании Pfizer Джон Дэвенпорт, у которого был летний дом неподалеку от Л идо-Бич на Южном берегу. Когда он еще работал в компании Pfizer, он руководил там проектом по исследованию РНК-содержащих опухолеродных вирусов, и ему понравилось то, чем я планировал заниматься в Колд-Спринг-Харбор. Вскоре он и Эд Пуллинг пришли к нам с Лиз в Остерхаут на домашний обед, после которого я провел для Джона экскурсию, показав ему, какая научная работа велась тогда в лаборатории. Меньше чем через неделю Дэвенпорт пригласил меня на обед в Университетский клуб в Нью-Йорке, где сообщил мне, что переводит на счет лаборатории акции компании Pfizer на сумму 100 000 долларов. Хотя стоимость нашего нового здания к тому времени выросла до 200 000, остальные 100 000 я к тому времени уже добыл. Строительство должно было начаться сразу после того, как сойдет снег. Почти весь следующий учебный год мы с Лиз прожили в Колд-Спринг-Харбор, наслаждаясь видом на внутреннюю гавань, открывавшимся из больших восточных окон нашего нового дома из мексиканского кипариса. После Флоренции, куда мы полетели в ноябре 1969 года на конференцию по РНК-полимеразе, мы поехали на автомобиле в Венецию, а оттуда на поезде — в большой курортный отель на Боденском озере. Там проходило совещание, целью которого было дальнейшее продвижение проекта Лео Силарда по созданию европейского молекулярно-биологического научно-образовательного института. Из Цюриха, до которого было недалеко, мы полетели в Лондон, а потом отправились в Кембридж, чтобы познакомить Фрэнсиса и Лиз. Когда он понял, что "Двойная спираль" не вредит его репутации, книга перестала его раздражать. Вернувшись в Колд-Спринг-Харбор на праздники, мы с нетерпением ожидали появления Руфуса Роберта Уотсона в конце февраля 1970 года. В мае Натан Пьюзи объявил, что в июне следующего года, после восемнадцати лет президентства в Гарварде, уйдет в отставку. Это никого не удивило. Его решения, связанные с захватом Юниверсити-холла, были законны, но неблагоразумны и привели к тому, что сотрудники разделились на два враждующих лагеря, на примирение которых без его отставки надежды не было. Через некоторое время он переехал в Нью-Йорк и стал президентом Фонда Эндрю Меллона. Добыв кучу денег для развития Гарварда, он теперь занимался куда более легким делом — раздавал их. Пол Доути и я не могли не отметить, что его единственная очевидная неудача в фандрайзинге состояла в том, что он так и не нашел никого, кто пожертвовал бы крупную сумму на строительство планировавшегося здания для нового отделения его университета — отделения биохимии и молекулярной биологии. Летом 1970 года, впервые в своей истории, лаборатория в Колд-Спринг-Харбор не принимала гостей, проводивших исследования по своему собственному выбору. Для их размещения и для проведения ими осмысленных исследований не оставалось места. Вместо этого мы использовали свои ресурсы для проведения нового курса по молекулярной биологии и генетике дрожжей. Этот курс должен был позволить ученым, интересующимся природой эукариотических клеток, узнать о потенциале методов генетики дрожжей. Осенью мы потратили 30 000 долларов, пожертвованных Мэнни Дельбрюк, на переоборудование бесхозной деревянной лаборатории Уопекс в общежитие для шестнадцати слушателей летних курсов.
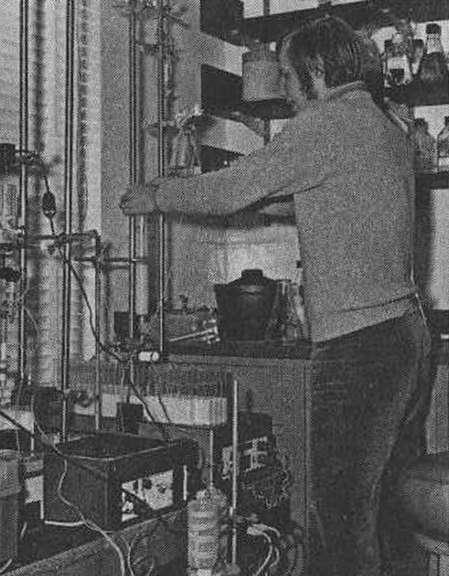 Ульф Петтерссон в лаборатории в Колд-Спринг-Харбор в декабре 1971 года.
Ульф Петтерссон в лаборатории в Колд-Спринг-Харбор в декабре 1971 года.
Это жилье должно было позволить нам начать программу летних курсов по нейробиологии. Часть денег, полученных по новому гранту почти на 500 000 долларов от Фонда Альфреда Слоуна, была использована на переоборудование верхнего этажа построенного в 1912 году Энимал-хауса в лаборатории и лекционные аудитории для нейробиологии.
 Джо Сэмбрук в Колд-Спринг-Харбор в 1973 году.
Джо Сэмбрук в Колд-Спринг-Харбор в 1973 году.
После возведения в 1971 году пристройки к лаборатории Джеймса наша группа по опухолеродным вирусам вступила в свои права. Нам больше не приходилось играть вторую скрипку по отношению к соответствующим проектам Института Солка. У Джо Сэмбрука теперь работали Фил Шарп, выпускник Калтеха, и Ульф Петерссон из Уппсалы, с приходом которого у нас начались исследования опухолей, вызываемых аденовирусами. Оба они пришли к нам на временные ставки после работы постдоками и вскоре стали постоянными сотрудниками в штате лаборатории Джеймса.
 Джейн Флинт, Терри Гродзике, Фил Шарп и Джо Сэмбрук в Колд-Спринг-Харбор в 1973 году.
Джейн Флинт, Терри Гродзике, Фил Шарп и Джо Сэмбрук в Колд-Спринг-Харбор в 1973 году.
Для содействия их независимой деятельности, а также для того, чтобы начать новые онкологические исследования в лаборатории, которую должен был освободить уходящий на пенсию Эл Херши, Джо написал заявку на большой грант, который вместе с грантом Национального онкологического института давал бы нам миллион долларов в год. Приезжавшие в Колд-Спринг-Харбор люди помогли выделить этот грант вне очереди, что позволило нам 1 января 1972 года учредить наш Онкологический центр. Вскоре для таких исследований стали выделять еще большие суммы. Ричард Никсон по рекомендации Гражданского комитета за победу над раком, учрежденного благотворительницей Мэри Ласкер, только что с энтузиазмом подписал Национальный закон о раке. Было решительно объявлено, что если мы можем посылать людей на Луну, то мы должны уметь излечивать рак. Хотя в том, что эти два факта сопоставлялись, и не было безупречной логики, я чувствовал, что больший приток государственных средств необходим для того, чтобы системы с опухолеродными вирусами указали нам на мутантные гены, которые, как мы знали, вызывают рак. Поэтому я выступил перед Гражданским комитетом за победу над раком на одном из его первых собраний летом 1970 года. Согласно закону "за победу над раком" президент назначил не только нового директора Национального онкологического института, но и членов нового Национального консультативного совета по раку, в число которых меня включили на двухлетний срок, начинавшийся с марта 1972 года. До этого я консультировал институт в качестве члена его секции онкологических исследований. Директором Национального онкологического института был тогда бюрократ Карл Меррилл, который неразумно организовывал комплексную программу по борьбе с раком по образцу успешной программы адмирала Риковера по разработке баллистических ракет Polaris. То единственное из собраний в Вашингтоне по планированию этой программы, на котором я присутствовал, не дало совершенно ничего. Я надеялся, что от будущих совещаний моего Национального консультативного совета по раку будет больше пользы. Еще несколько членов совета, как и я, занимавшихся чистой наукой, тоже умели видеть в глупостях глупости. Однако входившие в комитет врачи-онкологи хотели создания новых многофункциональных онкологических центров. При этом опыт показывал, что в таких центрах, которые уже работали в Нью-Йорке, Буффало и Хьюстоне, не были способны излечивать большинство форм рака, которым болеют взрослые, и создавать новые не было смысла, если мы не стремились только к тому, чтобы люди могли умирать в более приятных условиях. Не реклама, а вдохновенная научная работа могла дать нам знания, которые позволили бы рано или поздно научиться излечивать большинство форм рака. Настоящая работа для нашей лаборатории. Усвоенные уроки 1. БЕРИТЕСЬ ЗА РУКОВОДЯЩИЕ РОЛИ, НЕ ДОЖИДАЯСЬ ПИКА НАУЧНОЙ КАРЬЕРЫ К сорока годам я был готов возглавить крупное научно-исследовательское учреждение. Мой постоянно растущий интерес к раку лучше всего было удовлетворять, руководя опытными профессионалами, а не аспирантами и начинающими постдоками. Поэтому я сознательно принял решение не возглавлять в Колд-Спринг-Харбор собственную исследовательскую группу. Это позволило мне сосредоточить свои усилия вначале на поиске и найме ученых, не меньше меня увлеченных биологией рака, а затем на поиске денежных средств, в которых они нуждались, чтобы их идеи могли заработать. 2. УСТАНОВИТЕ РЕЖИМ ПРОСВЕЩЕННОГО АБСОЛЮТИЗМА Меня назначили директором для того, чтобы я обеспечил будущее лаборатории в Колд-Спринг-Хабор, а не для того, чтобы я убеждал действующих сотрудников разделить мое видение этого будущего. По большому счету, исследовательское учреждение не может быть демократическим. И все же мудрый самодержец заботится о том, чтобы его планы ценились. Я никогда не назначал новых сотрудников, не спросив неофициального совета у специалистов в соответствующей области, уже работающих в Колд-Спринг-Харбор. И новыми сотрудниками становились в основном те, кого поддерживал кто-то из уже работающих в нашем штате ученых. Насколько мне известно, я ни разу не взял на работу человека, против которого были бы настроены другие наши сотрудники. 3. РУКОВОДИТЕ СВОИМИ УЧЕНЫМИ, КАК МЕНЕДЖЕР РУКОВОДИТ БЕЙСБОЛЬНОЙ КОМАНДОЙ Между спортом и передовыми научными исследованиями есть немало общего. Настоящие звезды того и другого — люди молодые, а не средних лет, хотя иногда и случается, что человек старше сорока способен по-прежнему быть грозной силой с ракеткой перед сеткой или с мелом у доски. Долго работать научным менеджером может только тот, кто находится в постоянном поиске талантливых новичков, способных вывести игру на новый уровень. В научных учреждениях, где среднему возрасту сотрудников позволяют постепенно ползти вверх, неизбежно становится скучно. Однако понижать средний возраст сотрудников за счет строительства новых зданий и создания новых мест — это не то, что вам нужно. Если в тех зданиях, что постарше, не кипит жизнь, в них как в трубу начинают вылетать денежные средства. Так же важно для хорошего менеджера понимать необходимость отправлять на пенсию тех ученых, которые перестали попадать по мячу. Только те, кто постоянно обновляет себя, принимая новый образ мышления, могут достичь среднего возраста, по-прежнему работая с вами. 4. НЕ МЕНЯЙТЕ ИГРОКОВ ПОСРЕДИ СЕЗОНА После того как вы взяли на работу ученого, дайте ему (или ей) полноценную возможность перебросить мяч через сетку. Сильные удары обычно начинают получаться только после того, как человек отыграет от трех до пяти сезонов. Если вы будете ценить ваших игроков в зависимости от того, кто в лучшей форме на этой неделе, это только подорвет командный дух. Последовательность и постоянство — вот способ добиться от ваших игроков наилучших результатов. В этом отношении управление научнойработой других радикально отличается от выполнения собственной научной работы. Как ученый, вы вполне можете извлечь пользу из быстрых перемен курса, пока не определится ваш правильный путь. 5. ПРОСИТЕ СОВЕТА ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ЕМУ ПОСЛЕДУЕТЕ Не отвергайте задним числом совета, полученного от коллеги, которого вы глубоко уважаете. Если проницательный друг советует вам нанять одного из лучших своих студентов или постдоков, считайте, что вам повезло, и просто сделайте это. И напротив, никогда не просите совета у человека, чьи взгляды на науку чужды вашим собственным. Те, кого рекомендуют такие люди, разделяют их ценности, а не ваши. 6. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУКИ, А НЕ ЗАРПЛАТ Общее правило таково: лишь самая минимальная часть бюджета любого исследовательского учреждения должна идти на зарплаты старшим сотрудникам. В условиях нормального финансирования те, кто остался успешными учеными, неизменно получают гранты, с избытком покрывающие их собственные нужды. Доходы от пожертвований лучше использовать для поддержки ученых в начале их карьеры, когда получаемые ими гранты обычно не соответствуют их научным потребностям. Наука — не государство всеобщего благоденствия: подкармливания молодых до тех пор, пока они не научатся кормиться сами, служит общей пользе, а неспособность отбирать лучших в свое стадо — нет. 7. ДАВАЙТЕ ВЕДУЩИМ УЧЕНЫМ ПОВЫШЕНИЕ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ОНИ ЭТОГО ОЖИДАЮТ Быстро повышая лучших работников, вы неизбежно сокращаете ту часть бюджета, которая могла быть потрачена на не самых ценных сотрудников. Будьте щедры к тем, кого вы цените: прибавка к зарплате, не покрывающая скорость инфляции, повсюду служит знаком, что пора искать работу в другом месте. 8. НАЗНАЧАЙТЕ КАК МОЖНО МЕНЬШЕ ПРИЕМОВ Когда кто-то из сотрудников заглядывает к вам в кабинет или звонит, чтобы записаться к вам на прием, узнайте сразу, что ему или ей нужно. Вы сможете избежать траты как своего, так и их времени, если немедленно ответите "да" на просьбу о каком-то оборудовании или какой-то ставке, если они в этом действительно нуждаются. Даже если вам придется пообещать деньги, которых у вас нет, сделайте это. В ваших интересах, чтобы сотрудники заботились исключительно о своей работе, а не о том, как понравиться вам. Любой из моих сотрудников ясно представлял себе, на каком он у меня счету — я поддерживал всех, кого хотел у себя оставить. 9. НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ПОКАЗАТЬ СВОЕ НЕДОВОЛЬСТВО Когда кто-либо из ваших работников говорит какую-нибудь глупость или как-то иначе заставляет вашу кровь закипеть, выскажите свое возмущение немедленно. Не злитесь про себя, чтобы только самый близкий человек узнал о вашем недовольстве. Это вредно для вашего здоровья и на самом деле нечестно по отношению к тем, чье поведение вас оскорбило. Они, должно быть, уже опасаются, что у них большие неприятности, и, естественно, предпочли бы ответить на вашу критику сразу, а не когда-нибудь потом. Когда такие неприятные разговоры откладываются, у человека возникают терзания, которые начинают жить собственной жизнью и сеют семена раздора. Это непродуктивно. Может даже оказаться, что это вы были не правы. Если так, то извинитесь так же быстро, как рассердились. Способность время от времени делать глупости простительна, неспособность признавать их — нет. 10. ОБХОДИТЕ ТЕРРИТОРИЮ Ваши сотрудники будут редко приходить в ваш кабинет, чтобы сообщить вам о надвигающейся проблеме. Страшная правда откроется вам только тогда, когда сук уже сломается. Чтобы быть впереди, лучше всего посвящать часть каждого дня обходу территории. Это позволит вам встречать работников, занимающих невысокую ступень в иерархии лаборатории, и благодарить их за факт их существования улыбкой или словом одобрения. Столь же важно заглядывать в лаборатории по вечерам и по выходным. Лаборатории, в которых работают только в дневные часы по будням, вероятно, бесполезны, в то время как сотрудники, стоящие за лабораторными столами днем в субботу, обычно находятся там не затем, чтобы убить время. (обратно)
Глава 15. Навыки, сохраненные во время вынужденного ухода из Гарварда
В мои первые годы в должности директора лаборатории в Колд-Спринг-Харбор я вовсе не был ее главным добытчиком денег. Эдвард Пуллинг, президент Лонг-Айлендской биологической ассоциации, считал, что это его функция. Он жил на расстоянии не больше мили и часто заглядывал, чтобы провести для потенциального щедрого соседа экскурсию по лаборатории. В начале 1972 года Эд и другие руководители Лонг-Айлендской биологической ассоциации взяли на себя задачу добыть для лаборатории в наступающем году 250 000 долларов. Эти деньги позволили бы нам утеплить Блэкфорд-холл, чтобы он круглый год служил нам столовой, сделать вторую пристройку к лаборатории Джеймса для работ с культурами клеток и купить красивый викторианский дом на Бангтаун-роуд, по дороге к песчаной косе, чтобы использовать его как жилье для постдоков. Эд полагал, что нанимать для помощи в добывании денег профессионала было бы пустой тратой времени и средств. Его знакомые хотели от него только одной гарантии — что их деньги пойдут на хорошее дело. Моя миссия состояла в том, чтобы быть под рукой, когда Эд находил перспективного благотворителя. Эд нашел кого-то весьма многообещающего, когда счел нужным разыскать меня и Лиз, проводивших в конце июня небольшой отпуск к северу от Сан-Франциско. Из телефонной будки в Инвернессе по дороге в Пойнт-Рейес я подтвердил, что мы уже вернемся в следующую среду, когда он привезет на экскурсию по нашей лаборатории Чарльза Робертсона. Некоторое время назад жена Чарли умерла, и он искал, какой бы организации подарить свое имение, расположенное минутах в десяти езды, на Бэнбери-лейн в Ллойд-Харбор. Эд взволнованно сообщил мне, что несколько лет назад Робертсоны сделали самое большое на тот момент пожертвование в пользу Принстонского университета — 35 миллионов долларов. Источником их богатства была семья Мари, Хартфорды, — они начали с единственного магазина А&Р в нижней части Манхэттена, но в течение двух поколений число магазинов выросло примерно до четырнадцати тысяч по всем Соединенным Штатам и Канаде. В начале Второй мировой войны Хартфорды были пятыми в списке самых богатых семей Соединенных Штатов. Пожертвование Чарли и Мари в пользу Принстона было объявлено анонимным, но когда возникли слухи, что за новой общественных и международных дел школой Вудро Вильсона стоит ЦРУ, им пришлось публично признаться, чтобы у этого пожертвования не было дурной славы. Эдвард Пуллинг и я на ежегодной встрече Лонг-айлендской биологической ассоциации в декабре 1976 года.
Эдвард Пуллинг и я на ежегодной встрече Лонг-айлендской биологической ассоциации в декабре 1976 года.
Во время этого визита Чарли сопровождал Юджин Гудуилли, юрисконсульт из Нью-Йорка, которого Чарли давно знал и ценил. Гудуилли после внезапной смерти Мари посоветовал Чарли как можно скорее юридически оформить проживание во Флориде. Благодаря этому его недвижимость не должны были обложить жестокими налогами на наследство штата Нью-Йорк. Руководствуясь той же логикой, для Чарли лучше было не держаться за его имение на Лонг-Айленде, к которому он испытывал такую глубокую привязанность. Земля этого имения некогда принадлежала Сэммисам, семье его матери, и женитьба на очень богатой невесте позволила ему вернуть его себе. Чтобы эта земля навсегда осталась нетронутой, а не была разделена на строительные участки по два акра, Чарли решил подарить ее какой-нибудь некоммерческой организации. В тот день должно было решиться, была ли лаборатория в Колд-Спринг-Харбор самым достойным претендентом на это имение на Бэнбери-лейн. Визит начался хорошо: Чарли оценил бурный темп работы программы лаборатории Джеймса по опухолеродным вирусам, а также эффектный вид кабинетов с венецианскими окнами и аудиторий для семинаров в новой пристройке. Один мой роскошный кабинет уже говорил о том, что дела у лаборатории вновь пошли в гору. Перед обедом я повел шестидесятисемилетнего Чарли и Юджина Гудуилли, который был еще старше, в Пейдж-мотель, чтобы познакомить их с нашей живой историей в лице Макса и Мэнни Дельбрюк. Макс только что приехал из Пасадены на трехнедельный цикл семинаров по Phycomyces. Затем, довольно нахально, я повел моих не самых проворных гостей вниз по тропе длиной в сто футов, ведущей на Бангтаун-роуд. Ни один из них не споткнулся, но на их лицах были только полуулыбки, когда мы благополучно добрались до Остерхаут-коттеджа. Там они присоединились к Эду Пуллингу за обедом, на приготовление которого Лиз затратила массу усилий. Сама она почти ничего не съела, потому что ей пришлось неоднократно вскакивать из-за стола, подавая несколько блюд, первым из которых было консоме "белльвю" под взбитыми сливками с ароматом хрена. После обеда Гудуилли поехал обратно в Нью-Йорк, а я отправился вместе с Чарли в его шестидесятиакровые владения на склоне восточного берега гавани. Перед войной большая часть этой земли была по-прежнему сельхозугодьями, но в тот день об этом историческом факте напоминало только несколько пустых курятников. Главным домом последние тридцать пять лет было большое побеленное здание в георгианском стиле, построенное в 1936 году, и именно в нем Чарли и Мари вырастили своих пятерых детей. Под этим домом, на полпути вниз по крутому склону, находился большой бассейн с соленой водой, в который, как мне рассказал Чарли, дети часто съезжали с громкими криками по длинной стальной горке. Но дети уже выросли и, кроме того, были щедро наделены доверенностями на управление своими долями состояния, что позволяло Чарли свободно распоряжаться собственным имением без ущерба для них. Я чувствовал, что Чарли хотел бы, чтобы мы занимались на его землях настоящей наукой, и поэтому, чтобы быть с ним откровенным, вынужден был взволнованно признаться, что разделить наши исследовательские помещения на два участка было нереально. Вместо этого я видел наилучшее применение его земле и зданиям в превращении их в активно используемый конференц-центр вроде того, что был у фонда Ciba на Портленд-плейс в центре Лондона. Для этой цели высокий гараж с семью отсеками можно было без труда переделать в замечательный конференц-зал на тридцать-сорок человек. В тот вечер мы с Лиз ложились спать, отнюдь не уверенные в том, что получить в дар имение Робертсонов — это именно то, что нам нужно. Трата времени на поиск средств для проведения конференций на Банбери-лейн отвлекла бы нас от фандрайзинговых усилий для программ по изучению рака. К нашему облегчению, Чарли потребовалось меньше суток, чтобы принять решение, далеко превосходящее наши самые оптимистичные ожидания. Поздним утром следующего дня мы узнали, что он решил — ему не стоит дарить свое имение организации, с трудом сводящей концы с концами. Он собирался доверить Юджину Гудуилли подготовку документов для учреждения фонда в размере восьми миллионов долларов для финансирования исследований на территории нашей лаборатории. Мы, в свою очередь, должны были принять в дар его имение, на которое он выделял отдельный фонд размером в полтора миллиона. Этот фонд должен был давать достаточно денег на ежегодные расходы по содержанию его имения, включая немалую сумму, которую нужно было ежегодно выплачивать поселку Ллойд-Харбор в качестве налогов. Имение передавалось нам на условиях, за соблюдением которых должна была следить организация "Охрана природы": согласно которым, мы не могли ничего в нем менять, кроме строительства нового жилого корпуса в дополнение к гостевым комнатам в главном доме.
 Чарли Робертсои со мной и Лиз в Колд-Спринг-Харбор в сентябре 1974 года.
Чарли Робертсои со мной и Лиз в Колд-Спринг-Харбор в сентябре 1974 года.
Остаток дня мы пребывали в потрясении и беспокойстве — вдруг, разбогатев, мы утратим свойственный лаборатории уникальный подход к научной работе. Но мы быстро пришли в себя и приняли это щедрое предложение. Даже вместе с ожидаемыми деньгами от Робертсона у нас оставалось больше расходов, чем средств на их покрытие. Во многих важнейших зданиях лаборатории можно было жить только летом, и переоборудование их для круглогодичного использования могло без труда занять весь остаток семидесятых. За последние шесть месяцев мы использовали накопившиеся доходы от продажи сборника материалов симпозиума на то, чтобы приспособить для зимы и капитально отремонтировать Пожарный дом, бывший первоначально пожарным депо поселка Колд-Спринг-Харбор. Купив это здание в 1930 году за 50 долларов, лаборатория наняла баржу, чтобы перевезти его через внутреннюю гавань к лаборатории Дэвенпорта, где его разделили на три квартиры. Крайне необходимым ремонтом, проведенным в 1972 году, руководил местный строитель Джек Ричарде, который годом раньше был принят в штат, чтобы надзирать за строительством пристройки к лаборатории Джеймса.
 Робергсон-хаус в семидесятые годы.
Робергсон-хаус в семидесятые годы.
Были вставлены большие венецианские окна, чтобы из каждой из трех квартир открывался вид на внутреннюю гавань, который мог поспорить с видом из окон Остерхаута и пристройки Джеймса, — так эти квартиры из чисто утилитарных стали весьма впечатляющими. Химик Ричард Роберте, англичанин, собиравшийся вскоре перейти к нам из Гарварда, чтобы обогатить лабораторию специалистом по химии нуклеиновых кислот, должен быть занять квартиру на верхнем этаже вместе со своей женой и двумя детьми. Под ними должны были разместиться Ульф Петерссон и его семья, переселившись из своей тесной квартирки в подсобном помещении на Ридж-роуд. В полуподвальной квартире собирались поселиться Клаус Вебер и его жена Мэри Осборн, которые планировали вскоре приехать из Гарварда, чтобы научиться работать с белками животных клеток, выращиваемых в культуре. Клаус Вебер быстро сделал карьеру в Гарварде, после того как весной 1965 года пришел ко мне постдоком, чтобы заниматься химией белков РНК-содержащих фагов. Он недавно получил повышение до профессора, но у него еще не было лаборатории и оборудования, обычно прилагающихся к этому званию. Он добился всех своих прошлых научных успехов, работая с системами микроорганизмов, но видел для себя еще большее будущее в переходе к клеткам животных и заражающим их вирусам. Чтобы научиться их выращивать и использовать, он только что получил годичный отпуск для работы в Колд-Спринг-Харбор. Возвращаться впоследствии в Гарвард для него имело смысл только в том случае, если его могли обеспечить там лабораторией, специально оборудованной для работы с вирусами животных. Для этой цели весной 1972 года я помог ему подготовить заявку на большой грант Национального онкологического института, который позволил бы сделать пристройку к гарвардским Биолабораториям. Вместе с Кааусом это новое пространство мог занять Марк Пташне. Он тоже хотел работать с вызывающими рак ретровирусами, с тех пор как летом 1971 года принял участие в цикле семинаров по опухолеродным вирусам. Идея витала в воздухе: в Массачусетском технологическом собирались предложить использовать средства, выделенные на "войну с раком", для создания похожего лабораторного центра, переоборудовав под него здание бывшей кондитерской фабрики, расположенное почти рядом с их главным кампусом. Следующим по плану переоборудования лаборатории Колд-Спринг-Харбор делом было утепление Блэкфорд-холла, осуществленное благодаря сумме в 250 000 долларов, поразительно быстро добытой Лонг-Айлендской биологической ассоциацией. К сожалению, Джеку Ричардсу оказалось тяжело работать под руководством Гарольда Баттрика, нью-йоркского архитектора с хорошими связями, которого спонсор выбрал для этого проекта. Прямой потомок Стэнфорда Уайта, Баттрик считал себя принадлежащим к более высокой касте, чем строители, которые должны были выполнять его приказания. После завершения проекта я приватно сообщил Эду Пуллингу, что между Баттриком и Джеком возникли неразрешимые противоречия. В середине июля мы с Лиз ненадолго поехали в Англию, чтобы я принял участие в планируемой часовой передаче ВВС из серии "Горизонт", посвященной ДНК. Нашему второму сыну, Дункану, было всего пять месяцев, поэтому поначалу я хотел отказаться от участия. Но Фрэнсис, у которого обычно была аллергия на телевидение, очень увлекся этим проектом. И вот в течение нескольких дней нас снимали гуляющими среди главных колледжей Кембриджа или стоящими у стойки бара в Eagle — том самом пабе, где двадцатью годами раньше мы регулярно обедали и где Фрэнсис впервые дерзко объявил, что мы открыли тайну жизни. Необычным ингредиентом этой съемки было постоянное присутствие девушки продюсера, Евы. За несколько лет до этого она завоевала корону мисс Мира и по-прежнему сохраняла пропорции мирового уровня. Однако ей приходилось дорого платить за идеальную для фотосъемок фигуру, вызывая у себя рвоту после приемов пищи — занятие, за которым однажды вечером случайно застала ее Лиз в туалете этого заведения. В то лето лаборатория Колд-Спринг-Харбор опубликовала книгу "Молекулярно-генетические эксперименты" — сильно расширенную версию материалов лекций, прочитанных Джеффри Миллером двумя годами раньше на нашем ежегодном курсе по генетике бактерий. Ее интеллектуальный блеск и изящное оформление, вероятно, должны были обеспечить ей широкое признание, а значит, и реальные деньги для Лаборатории. Эта книга была выгодным приобретением — может быть, даже слишком выгодным: больше 450 страниц всего за 11 долларов 95 центов. Как и Джеффри и все другие наши авторы, я тоже писал тогда для лаборатории без гонорара. Примерно в то же время я уже почти завершил две объемные вводные главы для книги "Молекулярная биология опухолеродных вирусов". По первоначальному замыслу она должна была получиться небольшой. Но ее объем неуклонно рос и достиг более 750 страниц в тринадцати главах, подготовленных двадцатью двумя авторами, в числе которых были Дэвид Балтимор и Говард Темин, которым предстояло разделить Нобелевскую премию 1975 года за их исследования ретровирусов. Значительную часть книги написал также Джо Сэмбрук, чьи огромные способности как ученого были сравнимы с его умением производить лаконичную, легко читаемую прозу, а также редактировать менее удачные предложения других авторов, в том числе мои собственные. Однако он отказался от того, чтобы его указали как одного из редакторов книги. На корешке был указан только один редактор — Джон Туз, мой бывший гарвардский постдок, в то время работавший в центре Лондона, где он помогал Майклу Стокеру руководить лабораторией Имперского фонда исследования рака на площади Линкольнс-Инн-Филдс. Следующей книгой лаборатории стал небольшой том "Источники биологической опасности", составленный по материалам совещания, проведенного в январе 1973 года в конференц-центре "Асиломар" недалеко от Монтерея в Калифорнии. Это трехдневное совещание было организовано с целью договориться о лабораторных методах, подходящих для работы с опухолеродными вирусами. Однако сотне участников не удалось прийти к консенсусу по вопросу, следует ли принимать какие-либо меры предосторожности, и если да, то какие. Организовать это совещание и редактировать книгу помогал наш новый сотрудник Боб Поллак, продолжавший у нас свои исследования преобразованных вирусом SV40 клеток, начатые им в Школе медицины Нью-Йоркского университета. Боб, начинавший как физик, имел примерно те же опасения, что и Чарли Томас, относительно безопасности исследований опухолеродных вирусов. Я временами тоже разделял их обеспокоенность и в качестве меры предосторожности прекратил использование положительного давления в наших вирусологических лабораториях в корпусе Джеймса. Положительное — повышенное по отношению к атмосферному — давление в лабораторном помещении широко использовалось в микробиологических исследованиях для предотвращения проникновения в лабораторию микроорганизмов-загрязнителей извне. Ко времени проведения совещания мы установили в этих помещениях отрицательное давление, пропуская воздух через высокоэффективные сухие воздушные фильтры, не позволявшие вирусам из лабораторий попадать во внешнюю среду. Меня все больше заботило возможное увеличение вдвое размеров пристани для яхт на восточном берегу внутренней гавани. В своем нынешнем виде она не представляла серьезной эстетической угрозы для мирных пейзажей нашего берега. Но за два года до того ее приобрел Артур Кнутсон, главный владелец марины в расположенной неподалеку Хантингтонской гавани, и вскоре он предложил использовать соседний дом капитана Уайта для расширения своего местного яхт-клуба. Это неминуемо превратило бы Колд-Спринг-Харбор в весьма оживленный порт. Хотя соседи и попытались оспорить планы Кнутсона в суде, сведущие люди сказали нам, что они, скорее всего, проиграют. Единственный способ спасти нашу гавань состоял в том, чтобы лаборатория каким-то образом приобрела эту пристань. Наш умелый административный директор, Билл Адри, привлек для помощи Джерома Амбро, главу города Хантингтон. Его вмешательство имело решающее значение, поскольку город Колд-Спринг-Харбор не существовал как административная единица: восточное побережье внутренней гавани было в действительности частью Хантингтона. Билл и Джерри пришли на обед в Остерхаут, где мы смотрели из окна на пристань для яхт, в то же время наслаждаясь приготовленными Лиз вареными устрицами. Я так никогда и не узнал, как Амбро впоследствии удалось убедить Артура Кнутсона продать нам марину. Жаль только, думалось мне, что у лаборатории не было средств на то, чтобы купить и красивый капитанский дом. Попечительский совет одобрил совершение этой покупки в начале июня, всего через неделю после того, как был официально учрежден Исследовательский фонд Робертсона. Но получение согласия совета оказалось не таким рутинным делом, как я ожидал. Против покупки выступал наш сосед Уолтер Пейдж. Он давно стал одним из влиятельных друзей лаборатории и входил в состав попечительского совета в первые годы директорства Джона Кэрнса, но затем вышел из совета, когда банк Моргана направил его на несколько лет в Лондон для руководства операциями в Европе. По его возвращении мы пригласили его снова стать членом совета, но он отказался, ссылаясь на большую занятость, связанную с его успешной карьерой у Моргана. Но когда нашим спонсором стал Чарли Робертсон, Уолтер понял, что должен вернуться в совет, чтобы проследить за тем, чтобы наши богатства не расточались. Покупка пристани для яхт за 300 000 долларов не была тем, что Уолтер мог признать благоразумной первой тратой. Однако я был уверен, что не совершить эту покупку значило бы упустить единственный шанс навсегда сохранить нашу внутреннюю гавань в нетронутом виде. Устройство идеального места для занятия наукой не относится к сфере исключительно утилитарных соображений. Но я чувствовал, что другие попечители склоняются на сторону Уолтера, и пошел на отчаянный шаг, пригрозив, что подам в отставку, если пристань не будет куплена. После того как я объявил об этом, я покинул аудиторию лаборатории Джеймса и вернулся в Остерхаут-коттедж, до которого было около минуты ходу. Тем временем Лиз принимала там Мэрилин Зиндер, муж которой, Нортон, участвовал в заседании попечительского совета. Я объявил о своем решительном ходе, и мы в волнении прождали сорок пять минут, пока не вошел Бентли Гласс, чтобы сообщить нам, что попечители только что проголосовали за приобретение марины. Я вернулся вместе с ним на заседание, несколько смущенный тем, что мне пришлось прибегнуть к шантажу. После этого я уже никогда не спорил с Уолтером, единственная публичная победа над которым и то была вещью непозволительной. Как самого уважаемого из жителей Колд-Спринг-Харбор и старого друга лаборатории, мне следовало задолго до заседаний совета известить его о том, насколько важна для меня эта сделка. Однако моя работа в Гарварде большую часть той весны продержала нас с Лиз в Кембридже. Там нас с комфортом устроили в принадлежавшем Гарварду доме на Киркланд-плейс, меньше чем в трехстах футах от намного большего дома с мансардой, где жил Пол Доути. Дом на Киркланд-плейс стал нашим кембриджским жилищем осенью 1971 года, благодаря чему у нас было достаточно места, чтобы подготовиться к рождению нашего сына Дункана в начале 1972 года. Джон Кэрнс больше не мог помогать мне в обсуждении всех "за" и "против" решений, связанных с руководством лабораторией. В начале марта он вернулся в Англию, чтобы стать директором лаборатории в Милл-Хилл Имперского фонда исследования рака. В последние четыре года его положение в Колд-Спринг-Харбор благополучно стабилизировалось благодаря получению профессорской ставки, оплачиваемой Американским онкологическим обществом. Вскоре после получения этой ставки Джон вставил изрядную палку в колесо исследований Артура Корнберга, обнаружив мутанта Е. coli, способного жить без знаменитого фермента ДНК-полимеразы. Открытие этого мутанта вскоре привело к серии поисков альтернативных ДНК-полимераз. Без Джона с его генетическим подходом сложность, присущая механизму репликации ДНК, еще долго оставалась бы неизвестной. Отъезд семьи Кэрнсов давал возможность моей семье занять Эрсли, большое и несуразное деревянное строение, служившее домом директорам лаборатории в течение почти тридцати лет. Построенный в 1806 году для майора Уильяма Джонса, Эрсли перешел в собственность лаборатории после того, как во время войны распались обширные владения Генри де Фореста, прилегавшие с северной стороны по Бангтаун-роуд. Однако прежде, чем мы с Лиз и наши дети переехали туда, мы сделали остро необходимый основательный ремонт. До этого у лаборатории ни на что не находилось денег, кроме нескольких новых слоев краски и однажды сделанной новой крыши. Холодные зимние ветра продували Эрсли насквозь во все те годы, что там прожили Демерец и Кэрнсы. Первоначальный план, подготовленный одним нью-йоркским архитектором, сразу показался мне неудачным. Он сделал бы Эрсли зданием в федеральном стиле, подходящем для богатых торговцев из Новой Англии. Нам надо было где-то отыскать архитектора с богатым воображением, который придал бы этому дому его собственный характерный облик. К счастью, я только что прочитал, что знаменитый архитектор из Иеля Чарльз Мур работает над строительством недорогого жилого комплекса невдалеке от нас на станции Хантингтон. Годом раньше, когда мы с Лиз останавливались в номере для новобрачных курорта Sea Ranch, созданного по его проекту к северу от Сан-Франциско, мы высоко оценили дерзость замысла его многочисленных наклонных крыш. Я договорился о том, чтобы Мур в свой следующий приезд на Лонг-Айленд ненадолго заехал к нам. Через неделю мы с Лиз непосредственно наблюдали работу его творческого ума по созданию нового облика для Эрсли. По счастью, план Мура был в пределах финансовых возможностей лаборатории. Меньше месяца прошло перед тем, как мы увидели его окончательный проект, когда он приехал в Гарвард, чтобы читать лекции студентам-архитекторам. Нас сразу очаровало то, как он превратил часть дома со стороны фасада в зал высотой в три этажа, позволявший впервые сделать в Эрсли большую центральную лестницу. В наш следующий приезд в Колд-Спринг-Харбор я познакомил с этим планом попечителей, несколько обеспокоенный тем, как они примут идею Мура создать обширные открытые пространства вместо тесных маленьких комнат. В особенности я беспокоился о том, что подумает наш сосед и новый председатель совета Боб Олни. К счастью, Боб одобрил этот проект при условии, что он не вызовет возражений у местного общества охраны архитектурных памятников. В ходе своего последовавшего визита президент общества охраны заявил, что Эрсли не обладает никакими архитектурными достоинствами, заслуживающими охраны. Единственным, что его беспокоило, было сохранение нескольких старинных оконных стекол. Хотя это и было довольно непрактично, мы решили оставить идущие вдоль обеих сторон входной двери маленькие стекла возрастом в 150 лет. И вот, в начале осени 1973 года, когда Эрсли больше не требовался в качестве дополнительного летнего жилья, началась реализация плана его перестройки за четырнадцать месяцев. Окончательная стоимость в 200 000 долларов была экстравагантной и смущала меня. Переселившись в Эрсли, мы обнаружили, что уникальный дизайн Мура давал мне и Лиз возможность образа жизни, обычно свойственного лишь очень богатым. Но мне пришло в голову, что однажды это поможет нам заманить в Колд-Спринг-Харбор моего преемника: вопреки общепринятым представлениям, большинство ученых далеко не равнодушны к материальной стороне жизни. На следующий год деньги Исследовательского фонда Робертсона позволили нам переделать лабораторию Джонса в круглогодичный нейробиологический корпус. Чарльз Мур и его талантливый молодой коллега Билл Гровер, творчески подойдя к делу, спроектировали четыре нейробиологических модуля в виде отдельных покрытых алюминием блоков, оттененных ярко окрашенными деревянными планками. Чарльз Робертсон и его новая жена Джейн приехали на торжественное открытие. В начале того же лета Робертсоны пригласили всех докладчиков июньского симпозиума по синапсам к себе на раннюю вечеринку. Так наш радушный хозяин отметил свой последний год в доме, который он так любил и в котором прожил почти сорок лет. К тому времени он отказался от планов построить скромный летний домик по соседству с нашим будущим конференц-центром, смирившись с тем, что в будущем они с Джейн будут проводить время в основном в его большом имении на побережье Флориды в Делрей-Бич. Еще до того, как в Эрсли отключили электричество и разобрали внутренние перекрытия, мы с Лиз задумались о том, не станет ли он вскоре нашим домом на весь год. Как долго в Гарварде готовы были позволять проводить мне так много времени в другом месте, было пока неясно. Кроме того, жизнь в двух разных домах должна была стать менее удобной, как только Руфус достигнет детсадовского возраста[32]. В начале 1973-1974 учебного года я известил Гарвард о том, что могу выехать из дома на Киркланд-плейс после окончания своей работы в весеннем семестре. Большую часть мебели оттуда мы собирались перевести в Эрсли, а что-то — в дом, только что купленный нами на острове Мартас-Винъярд. Мне хотелось купить летний дом на ферме Севен-Гейтс на Мартас-Винъярд с тех самых пор, как около десяти лет назад впервые увидел ее просторные поля площадью в тысячу акров, на которых по-прежнему выращивали кукурузу. Я был хорошо знаком с несколькими образованными летними жителями фермы, в числе которых был Эмиас Амес, наш сосед по Колд-Спринг-Харбор, бывший председатель Линкольн-центра, который был также президентом Лонг-Айлендской биологической ассоциации в последний год директорства Милислава Демереца. Однако владение одним всего из тридцати домов фермы Севен-Гейтс, казалось, мне не по карману — до конца августа, когда агент по продаже недвижимости из Винъярд-Хейвен показал нам простой фермерский дом начала XIX века, только что выставленный на продажу человеком, который собирался перебраться в Нью-Гемпшир с его низкими налогами. Продав дом на Браун-стрит в Кембридже, купленный на деньги от моей Нобелевской премии, мы как раз могли выручить сумму, соответствующую стоимости этого дома. Мы уже никак не могли отказаться от этой идеи после того, как представили, как будем отдыхать в тени двух великолепных американских вязов, кроны которых нависали над просторной лужайкой перед этим домом. Столь же важно было то, что всего в пяти милях от него, возле пляжа в Уэст-Чоп, располагался летний дом Эда и Люси Пуллинг. С 1971 по 1973 год моей основной преподавательской работой был годичный вводный курс для студентов колледжа по биохимии и молекулярной биологии. Готовясь весной 1972 года к лекции о репликации ДНК, я счел нужным отметить, что общепризнанный механизм синтеза новой цепочки ДНК от 5'-конца к 3'-концу приводил бы к образованию неполных двойных спиралей с одноцепочечными концами. Какие-то молекулярные механизмы должны были не давать молекулам ДНК постепенно укорачиваться после каждого цикла репликации. До этого никто не понимал, почему на обоих концах всех незамкнутых молекул ДНК у бактериофагов находились одинаковые избыточные последовательности нуклеотидов. Внезапно я понял, в чем тут дело. Избыточные концы позволяли правым и левым одноцепочечным хвостам ДНК связываться друг с другом водородными связями, образуя димеры. Дальнейшие циклы репликации ДНК приводили к образованию все более длинных молекул фаговой ДНК. Для меня больше не было загадкой, почему реплицирующиеся молекулы фаговой ДНК во много раз длиннее, чем молекулы ДНК, которыми фаговая частица заражает бактериальную клетку. В восторге от осенившей меня идеи я изложил ее на лекции своим студентам, а вскоре написал об этом статью, которая в октябре 1972 года была опубликована в Nature. Моей главной заботой в Гарварде вскоре стало превращение биологических лабораторий в еще один ведущий центр исследований опухолеродных вирусов: после решительного вступления в молекулярный век Гарвард вновь рисковал остаться за поворотом. Однако в апреле 1973 года Национальный онкологический институт отказал нам в финансировании строительства помещений для работ с животными клетками. Рецензенты нашей заявки не были уверены, что новые постройки будут использованы в целях, хорошо соответствующих предназначению института. Надо было Признать, что, учитывая мою работу в Колд-Спринг-Харбор, у меня едва ли была бы возможность лично надзирать за работой лаборатории по опухолеродным вирусам в Кембридже. Кроме того, было неясно, согласится ли Марк Пташне оставить свои исследования регуляции генов у бактерий, чтобы заняться ретровирусами. А Клаус Вебер вполне мог вернуться в Германию, если бы ему предложили там достаточно хорошую должность. Заявка Массачусетского технологического на средства, выделяемые Национальным онкологическим институтом для строительства, была, напротив, без проблем удовлетворена. На самом деле успех этой заявке был гарантирован уже тем, что главными организаторами этого проекта были Дэвид Балтимор и Сальвадор Лурия. Вскоре они призвали к себе двух молодых сотрудников из Колд-Спринг-Харбор — Нэнси Хопкинс, проработавшую два года в лаборатории Боба Поллока, и Фила Шарпа, который в течение трех лет весьма продуктивно работал в лаборатории Джеймса. Намного медленнее шло дело с совместными поисками отделениями биологии и биохимии и молекулярной биологии специалиста по РНК-содержащим ретровирусам на постоянную ставку. Обсуждения такой кандидатуры начались еще осенью 1972 года, но только через шесть месяцев, в феврале, одиннадцати рецензентам были направлены письменные обращения за советом. Рецензентов просили сравнить кандидатуры таких ученых, как Майк Бишоп, Питер Дюсберг, Говард Темин, Питер Фогт и Робин Вейсс. Темин был указан в начале большинства списков, хотя и с предупреждением, что как лектор он не всегда хорош. Двое консультантов посоветовали также рассмотреть кандидатуру Гарольда Вармуса. Майк Бишоп значился первым номером только в списке Боба Хюбнера, который называл его высокоинтеллектуальным биохимиком, а также способным преподавателем.
 Сальвадор Лурия, Нэнси Хопкинс и Дэвид Балтимор в Онкологическом центре Массачусетского технологического института в 1973 году.
Сальвадор Лурия, Нэнси Хопкинс и Дэвид Балтимор в Онкологическом центре Массачусетского технологического института в 1973 году.
10 июля 1973 года я пришел в Юниверсити-холл, чтобы встретиться с экономистом Генри Розовски, который только что сменил другого экономиста, Джона Данлопа, на посту декана факультета искусств и наук. Данлоп поспешно взял на себя эту роль во время захвата Юниверсити-холла в апреле 1969 года, когда у Франклина Форда случился слабый инсульт. Я был тогда новым председателем отделения биохимии и молекулярной биологии, руководить которым мне предстояло только до февраля 1975 года, когда меня сменил Мэтт Мезельсон. За свое недолгое пребывание в этой должности я хотел проследить за тем, чтобы Гарварду так или иначе удалось обзавестись для работы с животными клетками лабораториями, сравнимыми с теми, которые Массачусетский технологический должен был получить уже через полтора года. В то утро в своем разговоре с Розовски я напирал на то, как важно, чтобы он добился возвращения в Гарвард Клауса Вебера, на что Клаус не мог пойти, пока ему не предоставят современное оборудование для работы с животными клетками в Биолабораториях или, еще лучше, в планировавшейся специально для этой цели пристройке. Через шесть недель я привел Клауса в кабинет Генри, чтобы тот лично заверил его, что вернется в Кембридж, если сможет продолжить эксперименты, начатые им и Мэри Осборн в Колд-Спринг-Харбор. К тому времени в Гарварде было решено вновь подать заявку на грант для строительства в Национальный онкологический институт, чтобы построить новое здание приблизительно на том же месте, где планировалось сделать пристройку. Несколько сотрудников отделения биологии стали привередничать по поводу работы в одном здании с потенциальным источником биологической опасности. Президент Гарварда, Дерек Бок, активно включился в эту проблему 11 ноября, когда состоялось заседание специальной комиссии, на котором должны были решить, достоин ли Говард Темин постоянной ставки. Я сразу высказался в поддержку этой кандидатуры и чувствовал, что возражений быть не должно. Вскоре вопрос состоял уже в том, согласится ли он перейти к нам. Чтобы дать ответ, он и его жена посетили Гарвард в середине декабря. Принимал их в основном Мэтт Мезельсон, близкий друг Говарда еще с тех пор, как они вместе работали в Калтехе в конце пятидесятых. Я боялся, что его жена, Рейла, специалист по популяционной генетике, не захочет уходить из Висконсинского университета в Мэдисоне. Однако Мэтт считал, что у нас есть неплохой шанс заполучить Говарда. В январе 1974 года Генри Розовски назначил дату, чтобы выслушать мнение разных сотрудников по поводу планируемой повторной подачи заявки на грант Национального онкологического института. Кэрролл Уильяме высказал свою обеспокоенность по поводу того, что получение этих денег заставит Гарвард использовать все финансируемое государством лабораторное пространство для работ с культурами животных клеток и их вирусами. Он считал, что в случае получения этих федеральных средств отделению биохимии и молекулярной биологии следует уступить часть своей территории в Биолабораториях, чтобы позволить подотделам клеточной биологии и биологии развития увеличить число сотрудников. Я, напротив, выступал за то, чтобы Гарвард быстро нанял несколько крупных специалистов по животным клеткам, которые создали бы ведущий онкологический центр, подобный тому, что создавали в Массачусетском технологическом. Я полагал, что все выдающиеся исследования животных клеток вполне можно было отнести к сфере интересов Национального онкологического института. Пока мы не понимали, как клетки посылают и принимают химические сигналы, мы не могли разобраться в природе рака, а работы над изучением этих механизмов более чем хватало, чтобы группе по животным клеткам было чем заняться. Затем я сказал Генри, что для успешной работы нового здания будет лучше всего, если его директор будет подотчетен непосредственно декану, чему противостоял Кэрролл Уильяме, понимая, что это уменьшит власть председателя отделения. Но, по моим ощущениям, обычный трехлетний срок работы председателя отделения не позволил бы ему или ей взять на себя необходимую задачу обеспечить многолетнее финансирование нового центра. Проект здания для работы с животными клетками был направлен в Национальный онкологический институт в январе перед самым дедлайном. В сопроводительном письме, которое подписал Дерек Бок, а подготовил в основном я, мы просили на строительство сумму в 5 760 000 долларов, подсчитанную с учетом предсказаний нашего архитектора о дальнейшей инфляции, терзавшей в то время американскую экономику. Окончательный проект отражал мое, а не Кэрролла Уильямса видение того, как в Гарварде должны развиваться исследования животных клеток. Но реализация этого проекта во многом зависела от того, перейдет ли к нам Говард Темин. После месяца с лишним неопределенности Говард в итоге отверг наше предложение, ссылаясь на то, что, на взгляд его жены, ее жизнь пострадает от переезда в Гарвард. Ни одну работу, которую она могла бы найти в Бостоне, нельзя было сравнить с ее нынешней работой в Мэдисоне под руководством специалиста по популяционной генетике Джима Кроу. Чтобы поданная заявка имела шансы на успех, ставка была предложена Робину Вейссу, специалисту по ретровирусам из Англии. Но и он вскоре отверг наше предложение, так как его еще за год до этого пригласили в Массачусетский технологический. Падение костяшек моего домино продолжилось, когда в начале апреля Клаус Вебер официально принял предложение возглавить в Германии Институт Макса Планка в Гёттингене. Этот институт мог предоставить ему еще лучшее оборудование, чем он мог бы получить в Биолабораториях. В итоге у Гарварда не оставалось иного выбора, кроме как известить Национальный онкологический институт, что мы больше не претендуем на большое будущее в изучении опухолеродных вирусов. Клаус уже на 90% принял свое решение в конце марта, когда Дерек и Сиссела Бок пригласили нас с Лиз поздним вечером в пятницу на ужин в Элмвуд, изысканный старый деревянный дом у самого парка Фреш-Понд, где они жили со своими четырьмя детьми. После того как Дерек стал президентом, они решили не переезжать в строгий дом на Куинси-стрит, который последовательно занимали Лоуэлл, Конант и Пьюзи и в котором их жизнь была бы у всех на виду. Дерек был на два года меня младше и три года весьма успешно отработал деканом Гарвардской школы права. Выпускник Стэнфорда, он был первым президентом Гарварда, не окончившим Гарвардский колледж. В тот вечер я попытался забыть о провале проекта по биологии животных клеток и о том, что у Гарварда нет будущего в изучении опухолеродных вирусов. Я сознавал, что для тесной связи Колд-Спринг-Харбор и Гарварда больше не было серьезных оснований. Дерек любезно воздерживался от разговоров на эти темы, прекрасно понимая, что мое сердце теперь принадлежит в основном лаборатории Колд-Спринг-Харбор. В Гарварде не было человека, который повел бы гарвардскую биологию в будущее так же блистательно, как это делал Дэвид Балтимор в Массачусетсом технологическом институте. Через две недели я приехал к стеклянному фасаду биологического корпусаМассачусетского технологического на совещание, которое организовал Пол Берг. На этом совещании он при содействии Дэвида Балтимора собрал небольшую группу, которая должна была обсудить вопросы, связанные с эффективной новой технологией рекомбинантной ДНК, разработанной в Стэнфорде. Фил Хэндлер, президент Национальной академии наук, попросил Пола подготовить подходящий ответ на письмо, опубликованное в номере Science от 21 сентября 1973 года. В этом письме Академию призывали подготовить свод правил для экспериментов с рекомбинантной ДНК, которые могли быть источником биологической опасности не только для экспериментаторов, но и для других людей. В то утро наша маленькая группа, в которую входили также Дэн Натане и Нортон Зиндер, пришла к выводу, что этот вопрос лучше обсудить в составе намного большей группы, которую решили собрать в том же конференц-центре Asilomar в Калифорнии, где годом раньше обсуждали потенциальную биологическую опасность, связанную с исследованиями опухолеродных вирусов. В письме, направленном в журналы Nature и Science, мы предложили ввести всемирный мораторий на эксперименты с рекомбинантной ДНК до тех пор, пока не получится устроить вторую конференцию, то есть, вероятно, до начала следующего года. Я предполагал, что впоследствии наша лаборатория сможет издать сборник материалов второй конференции, и ожидал, что этот сборник в отличие от нашей первой книги по источникам биологической опасности принесет нам ощутимые деньги. Через три месяца ведущие специалисты по опухолеродным вирусам со всего мира собрались на ежегодный симпозиум, проводившийся в Колд-Спринг-Харбор в начале июня. Джо Сэмбрук организовал работу секции по ДНК-содержащим опухолеродным вирусам, а Дэвид Балтимор — по РНК-содержащим ретровирусам. Между вступительным словом Ренато Дульбекко и выступлением Дэвида, который подвел итоги, прозвучало 116 докладов, из которых получилась 101 рукопись. Им предстояло заполнить наш первый двухтомный сборник материалов симпозиума общим объемом под тысячу двести страниц. Хотя ничего сногсшибательного на этом симпозиуме и не прозвучало, его предгрозовая атмосфера говорила о том, что в любой момент может раскрыться какая-нибудь глубокая тайна. Ученые из Колд-Спринг-Харбор представили больше докладов, чем сотрудники какого-либо другого учреждения, даже лучше финансируемой лондонской лаборатории Имперского фонда исследования рака на Линкольнс-Инн-Филдс. Клаус Вебер и Мэри Осборн сделали особенно важный доклад о выделенном ими антигене вируса SV40. В своем выступлении они представили факты, отчетливо указывавшие то, что антиген Т должен быть продуктом гена А этого вируса, работающего на раннем этапе его жизненного цикла, а также в преобразованных вирусом (раковых) клетках. Дальнейшие исследования вполне могли уже вскоре убедительно показать, что этот ген и есть главный вызывающий рак генетический фактор в составе небольшой кольцевой хромосомы вируса SV40. Значительную часть остатка лета я провел на острове Мартас-Винъярд за подготовкой третьего издания "Молекулярной биологии гена". Рядом с нашим фермерским домом было небольшое подсобное помещение, просторный центральный отсек которого был идеальным местом для работы за письменным столом. Неоценимую помощь мне оказывали несколько занимавшихся по этому учебнику студентов и студенток естественнонаучных специальностей Гарварда и Рэдклиффа, которые впоследствии дополнили словарь терминов и выправили текст. Множество потребовавшихся новых иллюстраций сделал Кит Роберте, к тому времени заведовавший собственной лабораторией цитологии растений в Англии, в Институте Джона Иннеса в Норидже. Пятью годами раньше, работая постдоком в Кембридже, он подготовил новые иллюстрации также и для второго издания. На следующий учебный год я снова ушел в отпуск, работая все время в Колд-Спринг-Харбор, где я получал такую же зарплату, какую платили бы мне в Гарварде за преподавание. Лиз дважды в неделю ездила в Нью-Йорк на занятия в Школе дизайна интерьера. Рядом с ней на этих занятиях нередко сидела маленькая светловолосая Барбара Лиш, жена писателя Гордона Лиша, тогда самого влиятельного литературного критика Америки, с которым мы вскоре подружились. Совершенно неожиданно мы столкнулись с Лишами в начале декабря на собрании интеллектуалов на побережье Флориды к северу от Дейтон-Бич. На это мероприятие были приглашены в числе прочих Артур Шлезингер, Гуннар Мюрдаль, Сол Беллоу, Верной Джордан и я — с необычной целью привлечь внимание к проекту корпорации ITT по крупномасштабной застройке участка побережья, получившего название Палм-Кост. В те времена известные интеллектуалы еще могли помочь продаже недвижимости. На это невероятное собрание нас привлек щедрый гонорар в 4000 долларов — намного более солидное вознаграждение, чем обычно дают за интеллектуальный треп. Барбара и Гордон охотились там за ТрумэномКапоте. На этой встрече Гордон убедил Капоте разрешить журналу Esquire, где Гордон правил в звании "капитана Литературы", издавать по частям его последний опус — "Услышанные молитвы". Перед поездкой в Палм-Кост мы посетили Диснейленд, где Дункан, которому вот-вот должно было исполниться три, провизжал весь путь на лодке через джунгли. Мы всего месяц как переселились в Эрсли, и на его новых венецианских окнах уже висели очаровательные шведские занавески, которые мы нашли в здании Decoration & Design на Третьей авеню. Многокомнатный Эрсли позволил Лиз пригласить своих родителей, двух братьев и сестру, а также тетю из Калифорнии и бабушку из Филадельфии встретить с нами Рождество. Но большой рождественский пир, подготовка к которому включала многочасовое поливание жиром двух запекающихся гусей, вышел не таким, как мы планировали. К тому времени, когда гуси оказались на обеденном стоЛе, все, кроме тети-учительницы и папы-врача, слегли с гриппом, вызывавшим круглосуточную рвоту. Предыдущим вечером мы приглашали все семьи, живущие в лаборатории, на теплый рождественский грог. Не знаю, они ли принесли с собой инфекцию или ее источником был кто-то из членов семьи Лиз. Зато, к счастью, на следующее утро ни у кого не было признаков эпидемии второго дня Рождества. В тот год в недавно утепленной лаборатории Дэвенпорта работали три в высшей степени увлеченных специалиста по генетике дрожжей, каждый из которых находился в годичном отпуске: Дэвид Ботштейн из Массачусетского технологического, Джерри Финк из Корнелла и Джон Рот из Калифорнийского университета в Беркли. После Рождества наша дрожжевая троица и вирусологи-онкологи начали обсуждать, что должно произойти на втором мероприятии в конференц-центре Asilomar, которое было назначено на февраль 1975 года. Меня все больше беспокоили ограничения, которые могли быть наложены на использование технологии рекомбинантной ДНК для клонирования предполагаемых генов, вызывающих рак.
 Я с Руфусом (справа) и Дунканом в 1973 году.
Я с Руфусом (справа) и Дунканом в 1973 году.
В действительности этот метод позволил бы существенно сократить риск, каким бы он ни был, которому мы могли подвергать себя, используя живых вирусов SV40 или аденовирусов-2. Однако наш призыв к мораторию создал ошибочное впечатление, усиливаемое каждой следующей пресс-конференцией, что работа с рекомбинантной ДНК представляла серьезную потенциальную угрозу здоровью людей, возможно даже сравнимую с угрозой, исходящей от ядерного оружия. Еще до начала конференции Джо Сэмбрука попросили вместе с другими специалистами по опухолеродным вирусам подготовить свод правил, который мог только затормозить развитие технологии рекомбинантной ДНК. Когда я приехал в Asilomar, я обнаружил, что почти все из 140 участников склонялись к тому, чтобы принять те или иные ограничения. Только Стэнли Коэн, Джошуа Ледерберг и я считали этот путь ошибочным. Но тщетно пытались мы убедить других, что невозможно регулировать степень риска, если ее нельзя оценить. Вред, который мог быть нанесен кому-то или чему-то, следовало вначале продемонстрировать, чтобы такое ограничение было рациональным. Но, насколько нам было известно, ни один вирусолог, работавший с опухолеродными вирусами, не заболевал раком, который с большой вероятностью был бы вызван этой работой. Но Полу Бергу и другим организаторам второй конференции представлялось, что принятие в какой-либо форме свода правил, которые будут введены Национальными институтами здравоохранения, неизбежно. Если мы, участники конференции, не примем таких правил, на всех нас неминуемо обрушится гнев общественного мнения. И если мы сами не предложим этих правил, то их введут для нас в более драконовской форме. В конце конференции почти все ее участники, проявив осторожность, проголосовали за умеренно ограничительные правила, подготовленные несколькими рабочими группами. Если общественность найдет их удовлетворительными, они не смогут сильно замедлить развитие экспериментов с рекомбинантной ДНК. Однако, летя на небольшом самолете местных авиалиний, доставлявшем участников обратно в аэропорт Сан-Франциско, я был полон плохих предчувствий. Я полагал, что попытки выглядеть хорошо, вместо того чтобы делать что-то хорошее, до добра не доведут. Через неделю после конференции я полетел в Бостон, чтобы выступить на открытии Онкологического центра Массачусетского технологического института. В своем выступлении я изложил мой собственный взгляд на то, как лучше вести "войну с раком", эскалация которой продолжалась. Я считал, что поначалу деньги лучше тратить на создание центров, которые будут заполнены докторами философии, а не медицины. В то время я не видел у больших клинических центров потенциала для привлечения высокоодаренных молодых ученых, которые могли бы разобраться в молекулярной природе рака. А без разгадки этих молекулярных механизмов все деньги мира могли лишь немного улучшить возможности врачей. Только после своей речи я узнал, что в числе слушателей был неопытный внештатный корреспондент Washington Post. На следующий день, к моему ужасу, Post опубликовал его статью под заголовком "Нобелевский лауреат назвал войну с раком провальной". Я немедленно написал Дику Раушеру, специалисту по опухолеродным РНК-содержащим вирусам, возглавлявшему в то время Национальный онкологический институт, о том, что мои слова сильно переврали. К счастью, один из его сотрудников, Фил Стэнсли, тоже слышал мое выступление, и поддержал меня. На полученный от Массачусетского технологического гонорар в 1000 долларов я вскоре приобрел для лаборатории абстрактную картину в духе Мильтона Эвери, написанную талантливым лонг-айлендским художником Стэном Бродским. Она придавала настоящий стиль каминному залу Блэкфорд-холла, пока ее не повредила большая ложка, брошенная во время одного летнего банкета, на котором кидались едой. После реставрации, обошедшейся почти в половину стоимости картины, она вернулась на ту же стену, где провисела до тех пор, пока в нее снова не кинули едой. На этот раз повреждение было небольшим, и всего через несколько дней ее утонченным красно-розово-голубым колоритом снова можно было любоваться. Осенью 1975 года я вернулся к преподавательской работе в Гарварде. Я летал в Бостон на самолете и проводил вечера воскресенья и понедельника в гарвардском профессорском клубе. Мои лекции по опухолеродным вирусам и животным клеткам были обновленными версиями тех, что я читал три года назад, используя в качестве учебника изданную лабораторией монографию "Молекулярная биология опухолеродных вирусов". Этот курс должен был стать последним, прочитанным мною в Гарварде. Мэтт Мезельсон не хотел просить декана сделать исключение из давнего гарвардского правила, запрещавшего сотрудникам одновременно работать в каком-либо другом академическом учреждении. В связи с этим мне сообщили, что с i июля 1976 года я больше не буду гарвардским профессором. Хотя эта ситуация сложилась по моей собственной вине, я был весьма раздосадован, если не оскорблен, поскольку Джек Строминджер недавно стал руководителем исследовательской группы в Онкологическом институте Дейны и Фарбера на другой стороне реки, в то же время сохраняя профессорскую ставку на нашем отделении. Более того, Джеку теперь платили зарплату в обоих учреждениях, в то время как я должен был довольствоваться только одной зарплатой, если хотел сохранить обе работы. Я знал, что мне будет не хватать многого из того, что было у меня в Гарварде, но намного больше, чем чего-либо другого, мне будет не хватать его студентов. Обязанность читать им лекции заставляла разворачиваться мои мысли, и время от времени наиболее выдающиеся из них подпитывали научную работу в Колд-Спринг-Харбор, служа обогащению сложившегося там интеллектуального братства. Вскоре после Рождества я полетел на Западное побережье вместе с Лиз, Руфусом и Дунканом в двухнедельную поездку, которая началась на юге Калифорнии, где мы на неделю остановились в квартире на Калифорния-авеню поблизости от Калтеха. Макс Дельбрюк организовал для меня там лекцию в память о недавно скончавшемся Жан-Жаке Вайгле. Мне всегда было приятно иметь дело с гибким умом Жана, как в Калтехе, так и у него в гостях, в его родной Женеве, где он летом проводил эксперименты с фагами. После этого мы поехали в Сан-Франциско, где издательство W A. Benjamin устроило празднование в честь выхода третьего издания "Молекулярной биологии гена". Впоследствии, как и в случае первых двух, за пять лет было продано почти сто тысяч экземпляров этого издания. В Колд-Спринг-Харбор в то время тридцатидвухлетний Том Маниатис разрабатывал эффективный новый способ клонирования генов. Глубоко новаторские эксперименты, проведенные им в Гарварде, когда он был там постдоком у Марка Пташне, недавно обеспечили ему ставку старшего преподавателя. Первоначально он должен был приехать для работы в Колд-Спринг-Харбор только на год, чтобы вернуться в Гарвард, когда там будут построены лабораторные помещения для экспериментов с животными клетками. Вместе с Аргирисом Эфстратиадисом из гарвардской лаборатории Фотиса Кафатоса Том использовал молекулы информационной РНК из красных ретикулярных клеток крови в качестве матриц для синтеза полных двухцепочечных ДНК-копий гена Р-глобина. Эти эксперименты никак не могли быть источником биологической опасности, поэтому, несмотря на мораторий на работы с рекомбинантной ДНК, Том и четверо его молодых коллег могли на всех парах двигаться вперед в своей лаборатории в корпусе Демереца. К тому времени его интеллект и целеустремленность привлекли также внимание биологического отделения Калтеха. Из Калтеха Тому сообщили, что готовы сделать его постоянным сотрудником. Узнав об этом, Марк Пташне добился того, чтобы отделение биохимии и молекулярной биологии попросило Генри Розовски поторопиться с формированием специальной комиссии, которая должны была одобрить предложение Тому ставки адъюнкт-профессора. В феврале я поехал в Гарвард, чтобы засвидетельствовать научные достижения Тома перед Дереком Боком. Как и ожидалось, кандидатура Тома была одобрена. Но вскоре в Гарварде стали беспокоиться о том, что Том все равно может принять предложение Калтеха. Все более открытая внутренняя оппозиция сотрудников Биолабораторий экспериментам с рекомбинантной ДНК едва ли способствовала тому, чтобы Том предпочел Гарвард. Недавно назначенная старшим преподавателем Урсула Гудинаф и жена Джорджа Уолда Рут Хаббард, тоже научный работник, настаивали на том, что эксперименты по технологии рекомбинантной ДНК с использованием Е. coli могли подвергнуть женщин, работающих в Биолабораториях, риску заболевания циститом. Им обеим следовало бы знать, что за последние десять лет многие фунты живых клеток Е. coli регулярно перемалывались как мужчинами, так и женщинами, и при этом ни одного случая заболевания отмечено не было. Поначалу Марк и Том не беспокоились, зная, что Генри Розовски — это не тот человек, которого можно запугать подобными нелепостями, исходившими преимущественно от элементов левого толка, которые постепенно набирали силу со дня захвата Юниверсити-холла и которые после Вьетнама еще больше активизировались в связи с Уотергейтом. Для Розовски не имело значения, что на публичном собрании в конце июня на студентов произвела большее впечатление риторика Ричарда Левонтина, гарвардского специалиста по популяционной генетике, порицавшего грядущую капиталистическую эксплуатацию молекулярно-генетических исследований, чем мои призывы продолжать изучение рака с использованием рекомбинантной ДНК. Генри Розовски стоял на стороне научного прогресса и дал гарвардским ученым добро на продолжение этих вызвавших разногласия исследований. В связи с этим гарвардские вожди движения "за науку для народа" обратились в городскую администрацию, к мэру Кембриджа, популисту Альфреду Велуччи, который всегда стремился поставить гарвардскую элиту на место. Джордж Уолд убедил мэра и членов муниципального совета провести слушания по этому вопросу 27 июня и 7 июля 1976 года, после которых они проголосовали за трехмесячный мораторий на работы с рекомбинантной ДНК на территории города Кембриджа. Том почувствовал, что вернуться в Гарвард значило бы погрузиться во весь этот хаос, и сделал то, чего в Гарварде боялись: принял предложение Калтеха. Еще до прихода к этому решению Том видел меня сильно рассерженным на Гарвард по совершенно другим причинам, когда я поздним вечером появился в его лаборатории в Колд-Спринг-Харбор сразу после того, как вернулся из Кембриджа, куда я ездил на несколько дней. Дерек Бок пригласил меня в свой кабинет в Массачусетс-холле, и я ожидал, что Гарвард собирается попрощаться со мной каким-то подобающим образом.
 Заявление об отставке...
Заявление об отставке...
Без моего присутствия в Биолабораториях в течение последних двадцати лет гарвардская наука привлекла бы к себе намного меньше внимания со стороны внешнего мира. Уолли Гилберт мог вполне остаться физиком, в то время как Мэтт Мезельсон, а также, вероятно, и Марк Пташне работали бы вКалифорнии. К моему глубокому смущению, Дерек попрощался со мной совершенно формально, ничем не намекнув на то, что мой уход был потерей для Гарварда или наносил какой-либо урон его будущему. В начале июня я полетел обратно в Бостон, чтобы в последний раз посетить Юниверсити-холл в качестве сотрудника Гарварда. В тот день мы с Генри Розовски очень старались не говорить о моем скором уходе.
 ... и ответ на него.
... и ответ на него.
Нам было легче говорить о надменной безответственности Джорджа Уолда с его борьбой против рекомбинантной ДНК. После двадцати минут нежелания прощаться я поблагодарил Генри за то, как усердно он работал над приобщением Гарварда к успехам исследований животных клеток. Если бы я не посвятил себя необратимо лаборатории Колд-Спринг-Харбор, вместе мы бы победили. Понимая, что почти настало время брать нового сотрудника, Генри, к моему удивлению, сообщил мне, что, тщательно изучив историю моей ставки, он заметил, что мне всегда платили слишком мало. Это был его способ сказать, что я ему нравлюсь. Мы оба знали, что мне будет грустно уходить в тот день из Гарвард-Ярда. Даже у меня не было полного иммунитета к избитому тезису "жизнь после Гарварда — уже не жизнь". Усвоенные уроки 1. ИЗБЕГАЙТЕ ЗАНУДСТВА Никогда не произносите скучных речей, с которыми вполне мог бы выступить кто-нибудь другой. Предсказуемые слова естественным образом заставляют аудиторию не слушать и не записывать. Не меньшее занудство — собирать занятых людей на заседания комиссий, где от их участия не будет никакой реальной пользы. То же относится к заседаниям, на которых за обсуждениями не следует принятие осмысленных решений. В обоих случаях члены комиссии, вероятно, скоро перестанут посещать собрания, которые, как им известно, будут только пустой тратой времени. Разумеется, чтобы не вызывать у людей скуку, необходимо постараться самому не стать занудой, что легко может случиться, если вы сами себе наскучите. Разум руководителя должен постоянно перенастраиваться за счет восприятия новых образов действий и мыслей. Чтениетех же газет и журналов, что читают все в вашем окружении, не сделает из вас интересного собеседника в гостях, не говоря уже об изменении вашего сознания. В моем случае подписка на литературное приложение к Times, которую организовал для нас мой тесть, сделала меня более интересным соседом за ужином, чем кто-то, чей рацион был ограничен журналами Time, Newsweek, Economist или, если уж на то пошло, Nature. 2. ДЕЛЕГИРУЙТЕ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ПОЛНОМОЧИЙ Администраторы, как и ученые, лучше всего делают свою работу, когда их оставляют в покое, избавив от досадного впечатления, что они всего лишь выполняют чужую волю. Я чем дальше, тем больше избегал микроменеджмента, благодаря чему ко мне всегда могли обратиться за советом по вопросам, не имеющим очевидного решения. Узнав, как мои сотрудники собираются действовать, я обычно давал им добро и не вмешивался в их работу. Более строгий надзор позволил бы избежать лишь немногих из допущенных ими ошибок. 3. ЛЮБОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДВИЖЕТСЯ ИЛИ ВПЕРЕД, ИЛИ НАЗАД Управление ведущим научным учреждением не допускает простоев. Новые идеи или технологии нужно быстрее использовать, пока ученые, работающие в других местах, не проделали экспериментов, которые могли бы первыми осуществить ваши работники. Успех автоматически создает нужду в новых сотрудниках и оборудовании, для чего нередко требуется строительство новых зданий. Если вы не всегда расторопно движетесь вперед, это приведет не только к тому, что другим достанется честь нового научного прорыва, но и к тому, что ваши ведущие сотрудники перейдут в другие места, где им предоставят ресурсы и поддержку, необходимые им для сохранения собственных передовых позиций в соответствующих дисциплинах. В науке, как и в спорте, в конце сезона не важно, кто был чемпионом год назад. Поэтому, выбирая себе место работы, не будьте сентиментальны и не ждите этого от других ученых. Тонуть вместе с кораблем — идиотизм. 4. ВСЕГДА ПОКУПАЙТЕ СОСЕДНИЕ ВЛАДЕНИЯ, ЕСЛИ ИХ ВЫСТАВЛЯЮТ НА ПРОДАЖУ Рост научного учреждения неизбежно требует расширения его территории. Поэтому всегда без колебаний покупайте земли, примыкающие к вашим, пусть даже им сложно сразу найти применение. Даже если продавец запросит у вас слишком высокую цену, зная, что хозяевам соседнего участка эта земля нужнее, у вас все же будет больше возможностей для торга, чем в тот момент, когда этот участок станет вам остро необходим. Выгоднее немного переплатить сейчас, чем ждать момента, когда ваш сосед сможет диктовать вам свои условия. 5. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ ПОМОГАЮТ НАУЧНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ВЫГЛЯДЕТЬ СИЛЬНЫМ Иногда кажется, что, если строить не столь шикарные здания, можно сэкономить деньги за счет более дешевых стройматериалов и услуг безвестных архитекторов. Однако в долгосрочной перспективе это невыгодно. Богатый человек, жертвующий деньги в пользу Гарварда, может не опасаться того, что здание, на котором значится его имя, будет однажды продано, чтобы закрыть кровоточащую финансовую рану. Строения, которые нельзя назвать основательными, говорят людям о том, что учреждение, которому они принадлежат, возможно, продержится не дольше, чем они сами. Напротив, солидные, стильные здания дают благотворителям уверенность, что и их потомкам доведется разделить славу этого учреждения. Соблазн долговечности способствует щедрости. 6. ПУСТЬ У ВАС БУДУТ БОГАТЫЕ СОСЕДИ Исследовательских грантов, какие бы расходы они с лихвой ни покрывали, никогда не хватает на все непосредственные нужды. В отличие от университетов, которые могут позволить себе зависеть от богатых выпускников, научно-исследовательским учреждениям нужны богатые соседи, склонные гордиться местными достижениями. Их энтузиазм обычно бывает пропорционален потенциалу научной программы в деле облегчения человеческих страданий. Ничто так не привлекает деньги, как поиски лекарства от ужасной болезни. 7. ДРУЖИТЕ СО СВОИМИ ПОПЕЧИТЕЛЯМИ Хороший способ перевести отношения с вашими попечителями на уровень личного общения состоит в том, чтобы входить в сферы, где они отдыхают от своих забот, например вступая в их клубы или проводя летний отпуск там, где они проводят его со своими семьями. Если они будут видеть в вас больше друга, чем просителя, в трудной ситуации они смогут сделать для вас больше. 8. ЕСЛИ ТОЛЬКО БРАТЬ, НО НИЧЕГО НЕ ДАВАТЬ ВЗАМЕН, СПОНСОРЫ БУДУТ РАЗОЧАРОВАНЫ Благотворительность требует взаимности. Людей, жертвующих деньги на ваше дело, следует благодарить за их доброту ответными жестами. Это ни в коей мере не означает, что нужно пытаться сравниться с ними в щедрости: важен не подарок, а внимание. С тех пор как я пришел в Колд-Спринг-Харбор, я всегда делал пожертвования, хотя бы скромные, в пользу других благотворительных предприятий наших попечителей. Тем самым я давал им понять, что ценю и другие дела, составляющие смысл их жизни. Столь же важно быть щедрым по отношению к собственному учреждению. Почему другие должны помогать вам в деле, которое вы не считаете стоящим какой-то части вашего личного дохода? Никогда не помешает показать тем, кто определяет размер вашей зарплаты, что вы готовы жертвовать ее частью для вашего общего дела. 9. НИКОГДА НЕ ВЫКАЗЫВАЙТЕ НЕДОВОЛЬСТВА, ЕСЛИ КТО-ТО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ДЕНЬГАМИ Благотворители, как и другие люди, не хотят, чтобы их помощь воспринимали как должное. Ваше научное учреждение — лишь одно из многих, стоящих с протянутой рукой. Вскоре после того, как я стал директором, я обратился с просьбой о финансировании в корпорацию Bell Laboratories. Мой посредник был одним из их ведущих научных сотрудников, на собственном опыте знавший цену нашим летним курсам. Когда он позвонил мне, чтобы сказать, что денег нам не выделят, я в грубой форме выразил свое недовольство. Уже через несколько минут я понял, каким дураком был, когда сам же уничтожил всякую возможность того, что к нам проявят лучшие чувства когда-нибудь в будущем. 10. ИЗБЕГАЙТЕ ФОТОГРАФОВ Вы можете добывать деньги, но ваш успех в конечном счете полностью зависит от тех, кто у вас работает, поэтому значение имеет их известность, а не ваша. Если они непрезентабельны, у вас будут серьезные проблемы. Фотографии, которые связывают их имена с их лицами, помогут им успешнее действовать в мире за пределами вашего учреждения. Они могут не считать себя фотогеничными, но им будет приятна гордость близких людей, особенно матерей, которые увидят эти фотографии. И самое важное — ваше лицо не должно появляться в изданиях, публикуемых вашим собственным учреждением, если только вас не могут сфотографировать рядом с какой-нибудь узнаваемой знаменитостью, такой как Мухаммед Али или Лэне Армстронг. Часть их притягательной силы мгновенно спроецируется на вас. 11. НИКОГДА НЕ КРАСЬТЕ ВОЛОСЫ И НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КОЛЛАГЕНОМ Удачно красить волосы можно лишь в том случае, если они еще не начали заметно редеть. Невозможно излучать нужную вам искренность, если из-под рассеянных черных как смоль волос у вас выглядывает старческий скальп. Образ бодрой моложавости, который некоторые мужчины пытаются поддерживать рыжими красителями, разумеется, еще пагубнее. Вы дойдете до того, что будете выглядеть как Стром Тэрмонд[33]. Седые волосы и морщины в пятьдесят лет свидетельствуют о вашей надежности. Вопреки нашему нынешнему национальному стереотипу лучше молодо вести себя, а не молодо выглядеть. У президента Гарварда Натана Пьюзи лицо было без морщин, что усиливало впечатление человека, прожившего жизнь без страданий и без радостей. 12. ПРИНИМАЙТЕ ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ВОВРЕМЯ Успех нередко приходит к тому, кто первым начинает действовать, а не к тому, кто способнее своих соперников. Когда что-то нужно сделать, делайте это немедленно. Если вы прождете слишком долго, кто-то другой непременно выскажет ту же идею, и вы окажетесь в положении человека, выполняющего чужую программу. В таких условиях ваши подчиненные будут иметь основания удивляться, почему именно вы получаете самую большую зарплату. (обратно)
Эпилог
Прошло тридцать лет, и я был бы рад сообщить, что положение естественных наук в Гарварде исправилось подобающим богатейшему и влиятельнейшему в мире университету образом. Однако сравнительно недолгое правление Ларри Саммерса в должности его двадцать седьмого президента говорит скорее о том, что Гарвард снова идет в неверном направлении. Саммерс, должно быть, ничем так не отличился во время своего президентства, как своей отставкой, но его планы на будущее естественных наук — которые должна еще видоизменить его преемница — сыграли более важную роль в создании напряженных отношений с сотрудниками, чем любые неудачные слова, предрешившие в итоге его падение. Тот факт, что катализатором должна была стать озвученная им непопулярная, хотя и ни в коем случае не безосновательная гипотеза, только увеличивает то сожаление, которое должен чувствовать любой мыслящий человек, задумываясь о будущем свободы научных исследований в Гарварде. Несмотря на заявленное Ларри Саммерсом стремление сделать развитие естественных наук приоритетной задачей Гарварда, по мере того как его видение этой задачи прояснялось, многие ведущие ученые факультета искусств и наук проявляли все большую озабоченность. Важное место в их рядах занял Том Маниатис, вернувшийся из Калтеха в 1981 году, чтобы стать профессором молекулярной биологии. Б свой гарвардский период Маниатис занимался передовыми исследованиями выделения и клонирования генов, а также активно участвовал в развитии промышленных биотехнологий. Поэтому заметным событием был его визит весной 2003 года в Массачусетс-холл, где он выразил свою обеспокоенность по поводу плана Саммерса сделать Гарвард двигателем "второй Силиконовой долины", центром которой должен был стать обширный новый биолого-медицинский филиал на принадлежащей Гарварду земле в Оллстоне, по другую сторону реки Чарльз. Оллстонский план предполагал преимущественное положение для "трансляционных исследований" — термин, обозначающий научную работу, направленную на непосредственное практическое использование и, можно также добавить, на продажи. Том прекрасно представлял себе, как на основе результатов передовых научных исследований развиваются новые достижения медицины. В конце концов он вместе с Марком Пташне основал успешную биотехнологическую фирму Genetics Institute, и в его лаборатории недавно велись исследования бокового амиотрофического склероза. Если кто и мог оценить научную утопию, то это был он. Однако, по мнению Тома, планы Саммерса должны были еще больше ослабить и так уже слабый пульс исторически продвинутых чисто биологических программ Гарварда, которыми по-прежнему занимались в лабораториях на Дивинити-авеню непосредственно к северу от Гарвард-Ярда. Маниатис едва начал озвучивать свою точку зрения, когда Саммерс, не обращая внимания на недовольство посетителя, взял разговор в свои руки и использовал остаток часа, назначенного для визита, на то, чтобы подробно изложить ему свое грандиозное видение того, как Гарвард должен двигаться вперед. Он задал чисто риторический вопрос: должен ли президент Гарварда прислушиваться к тем, кто уже много лет успешен в исследовательской игре, или к неудачникам? Под "успешными" Саммерс понимал Школу медицины, клинические исследования которой в последние десятилетия принесли Гарварду львиную долю премий и патентов, а "неудачниками" были занимавшиеся фундаментальной наукой сотрудники факультета искусств и наук, который, несмотря на то что там работали такие прославленные люди, как Том, отставал от своих соперников, особенно от расположенного поблизости Массачусетского технологического института. Саммерс впоследствии сообщил своему близкому помощнику, что встреча с Маниатисом прошла исключительно хорошо, в то время как Том ушел из Массачусетс-холла раздосадованным и более чем когда-либо встревоженным за будущее естественных наук в Гарварде. Прошло всего два года, и неспособность Саммерса видеть то, что есть, а не то, что ему хотелось, довела его до фатальных неприятностей. Надвигавшаяся гроза разразилась в середине января 2005 года, после его выступления на проходившей в Кембридже конференции, проспонсированной Национальным бюро экономических исследований и посвященной женщинам в науке. В своем выступлении Саммерс высказал предположение: тот факт, что число женщин на постоянных ставках в естественных науках сравнительно невелико может быть отчасти связано с тем, что врожденный потенциал, позволяющий заниматься наукой на самом высоком уровне, реже встречается среди женщин. Понимая, что многие женщины не воспримут эти слова благожелательно, он позаботился о том, чтобы оставить открытым альтернативное объяснение, что в прошлом многих талантливых женщин их учителя всячески отговаривали от освоения математики и естественных наук на продвинутом уровне. Высказывания Саммерса могли бы остаться незамеченными за пределами конференции, если бы там не присутствовала моя бывшая студентка, а теперь профессор биологии в Массачусетском технологическом Нэнси Хопкинс. В последнее десятилетие она неустанно и успешно трудилась над тем, чтобы улучшить условия работы женщин в этом учреждении. До предпринятых Нэнси усилий зарплаты и помещения, выделившиеся в ее институте женщинам, были существенно меньше, чем те, что выделялись мужчинам того же уровня. Но Нэнси не стала возражать Саммерсу на конференции. Вместо этого она пулей вылетела из аудитории, сказав впоследствии, что от слов Саммерса ей стало тошно, и вскоре выступила по национальному телевидению с нападками на него, которые вызвали настоящую бурю среди разгневанных феминисток. Признание того, что сама по себе гипотеза о существовании генетических различий между мужским и женским мозгом, а следовательно, различий в распределении одной из форм когнитивного потенциала, вызвала у нее тошноту, не делает большой чести Нэнси Хопкинс как ученому. Любой, кто искренне заинтересован в том, чтобы разобраться в причинах неравной представленности мужчин и женщин в науке, в любом случае обязан быть готовым хотя бы рассмотреть, в какой степени эти причины могут быть связаны с наследственностью, даже располагая явными свидетельствами того, что среда играет здесь важную роль. К моему сожалению, Саммерс, вместо того чтобы стоять на своем, в течение недели трижды публично извинился за открытое высказывание тезиса, который вполне может быть эволюционным фактом, с которым научному сообществу придется жить. За исключением психолога Стива Линкера, ни один ведущий гарвардский ученый не сказал ни слова в защиту Саммерса. Подозреваю, что большинство из них боялись попасть под ту же раздачу обвинений в неполиткорректности. Если бы я по-прежнему работал в Гарварде, число ученых с постоянной ставкой, открыто вставших на сторону президента в этом вопросе, в буквальном смысле удвоилось бы. Но этого было бы недостаточно, чтобы погасить разгоревшееся пламя. Вскоре Саммерс, вероятно от отчаяния, в раскаянии предложил выделить сумму в 50 миллионов долларов на то, чтобы нанять больше женщин на ведущие естественнонаучные должности в Гарварде. Но буря, вызванная словами Саммерса о женщинах в науке, не сама по себе привела к его отставке с поста президента Гарварда в феврале прошлого года. Это была лишь кульминация сотен более мелких проявлений его пренебрежения правилами общения, которые обычно позволяют людям работать вместе для общего блага. Хотя научная среда чуть ли не ожидает нахальства и эгоцентризма от своих юных представителей, более опытным ученым такие качества в высшей степени не подобают, а для руководителей обычно фатальны. Президенту никак нельзя не прочитать что-то на ту или иную тему прошлым вечером, а затем выступать на конференции, самонадеянно полагая, что знаешь больше, чем те, кто всю свою научную карьеру размышлял об этих вопросах. Кроме того, IQ Саммерса без поправки на возраст в пятьдесят один год, вероятно, на пять-десять пунктов ниже, чем когда он был двадцатилетним вундеркиндом. Давнее гарвардское правило, требовавшее от сотрудников уходить на пенсию в пятьдесят пять, было отнюдь не проявлением произвольной дискриминации по возрасту, а признанием факта, известного из опыта, что ученый по мере старения все больше живет старыми идеями и все меньше новыми. Саммерс, который по-прежнему вел себя так, будто он самый умный из присутствующих, неизбежно должен был раздражать тех, кто знал, что это не так. Однако вполне возможно, что в проблемах Саммерса в общении виноват не только он сам. Неоднократно проявленная им неспособность понять эмоциональное состояние подчиненных может отражать генетический расклад, доставшийся ему как специалисту по математической экономике: те самые карты, которые наделили его мощным математическим интеллектом, могли отключить у него нормальную способность читать по человеческим лицам и голосам. Трудности математиков в общении — не просто стереотип: среди самых блестящих из них есть много случаев, от слабых до ярко выраженных, синдрома Аспергера (формы аутизма с высоким интеллектом) — возможно, самой генетически предопределенной из известных у человека разновидностей поведенческой "инвалидности". Подобно исключительным математическим способностям, синдром Аспергера встречается у мужчин в пять раз чаще, чем у женщин. Причина этого останется загадкой до тех пор, пока дальнейшие исследования не покажут, как в сравнительном плане гены управляют развитием и работой мужского и женского мозга. Если бестактность Саммерса действительно имеет генетические основы, то немалая часть гнева в его адрес должна бы уступить место сочувствию. В этом случае уже нельзя винить его воспитание в том, что ему не удалось привить манеры культурного человека. Так или иначе, уже не стоит больше обсуждать, была ли его вынужденная отставка слишком поспешной: судя по всему, она скорее была запоздалой. Далеко не столь очевидно, должны ли те известные люди, кто поддерживал его кандидатуру, стыдливо склонить головы. В уходе Саммерса нужно видеть первую из многих мер, необходимых для возвращения Гарварду его некогда обоснованной претензии на первенство в науке, по крайней мере по сравнению с Массачусетским технологическим. С этой целью Том Маниатис, приехавший в Колд-Спринг-Харбор за почетной степенью доктора лаборатории, уговорил меня согласиться на встречу с Дереком Боком, бывшим президентом, которого Гарвардская корпорация призвала вновь возглавить университет до тех пор, пока не найдут нового человека на эту должность. Вскоре мне и Дереку была назначена встреча в бывшем доме многих его предшественников — впечатляющем особняке в георгианском стиле на Куинси-стрит напротив профессорского клуба, теперь называемого корпусом Лёба. За день до этой встречи, назначенной на 10:00, мы с Лиз приехали на машине в Кембридж, чтобы повидаться с Томом и его спутницей — Рейчел фон Рёшлауб, наделенной многими талантами уроженкой Лонг-Айленда. Проведя час за игрой в теннис в знаменитом клубе Longwood Cricket в Бруклине, мы все вместе поехали ужинать в отель Charles, где мы с Лиз собирались переночевать. Пока не принесли еду, Том рассказывал о том, как жестоко было урезано недавно финансирование естественнонаучных отделений Гарварда, когда Саммерс начал широкую кампанию по приему на работу специалистов по "трансляционным биологическим дисциплинам" и выделил крупные суммы на строительство в Оллстоне. Первая реакция Дерека на мое изрезанное морщинами лицо была, должно быть, такой же, как моя — на его поседевшие волосы. Ни один из нас уже не сошел бы за человека средних лет. Двадцать восемь лет прошло с тех пор, как мы в последний раз виделись лицом к лицу — в июне 1978 года на церемонии вручения дипломов, где я имел удовольствие получить почетную докторскую степень. На фотографии, сделанной в тот день, запечатлены сорокавосьмилетний Дерек и пятидесятилетний я, каждый доволен собой, каждому предстоит еще несколько лет успешной работы на благо Гарварда (в его случае) и научных исследований (в моем). Ни один из нас тогда и не подозревал, что почти тридцать лет спустя нам доведется вновь встретиться в служении тому и другому. Дерек Бок и я на гарвардской церемонии вручения дипломов в июне 1978 года.
Дерек Бок и я на гарвардской церемонии вручения дипломов в июне 1978 года.
Зная, что назначенный просителю час всегда проходит быстро, я сразу перешел к своей главной мысли: было бы ошибкой строить огромный биологический комплекс в Оллстоне только ради масштабности проекта. Не самый высокий уровень большей части гарвардских биологических наук, как в Кембридже, так и во всем обширном медицинском комплексе, останется таким же даже в идеальном, как в рекламном буклете, новом филиале. Огромные деньги, которые планировалось потратить, принесли бы очень мало отдачи. Не так, настаивал я, создаются великие научные учреждения. Я сказал Дереку, что ему и Гарвардской корпорации стоит задаться вопросом, почему биологические науки Массачусетского технологического по всем статьям так далеко превзошли гарвардские. Былая прижимистость гарвардских деканов сыграла немалую роль в создании проблемы, которую теперь нельзя было решить неразборчивой расточительностью. Слишком долго администрация вела себя так, будто Гарварду не требовалось тратить собственные деньги на то, чтобы держаться в высшей научной лиге. Руководители Гарварда исходили из того, что его золотое имя естественным образом обеспечит финансирование федеральным правительством не только университетской науки, но также и новых зданий и оборудования, необходимых, чтобы остаться на переднем крае. Но торговые марки очень недорого стоят в науке. И поэтому Гарвард глупо просидел сложа руки около двух десятилетий, пока Массачусетский технологический преспокойно присоединил к себе финансируемый частными средствами Институт Уайтхеда с его биологическими программами и, под руководством не знающего нерешительности Эрика Ландера, создал огромный центр по секвенированию ДНК. В итоге институт стал одним из главных участников проекта "Геном человека" — этого интеллектуального карданного вала значительной части самых захватывающих направлений современной биологии и медицины. Лишь запоздало Гарвард попытался вступить в геномный век, в начале XXI столетия поставив перед собой задачу занять передовые позиции в системной биологии —дисциплине столь разросшейся и неповоротливой, что она заслуживает сравнения с компанией Enron, которая неограниченно разрасталась, пока не рассыпалась в прах. В свою очередь, крупный Центр геномных исследований Массачусетского технологического благодаря щедрости филантропов из Калифорнии Илая и Эдиты Броудов смог воплотиться в 2003 году в еще более амбициозную реинкарнацию — Институт Броудов Массачусетского технологического института и Гарвардского университета. Лощеное здание его кембриджского центра, расположенное напротив биологического корпуса Коха Массачусетского технологического, смотрелось бы не менее уместно в районе бостонских банков. Направляя в другую сторону средства, которые можно было бы израсходовать на Дивинити-авеню, Гарвард под руководством Саммерса купил себе право голоса по вопросам о том, как и кому использовать обширные геномные ресурсы Института Броудов. Однако то, что происходит внутри Гарвард-Ярда, отстает уже, кажется, на световые годы. Из-за такого расточительства на совместные проекты те, кто работает на Дивинити-авеню, с горечью продолжали чувствовать себя обсчитанными. На факультете искусств и наук еще по-прежнему вздыхают о неудавшейся попытке переманить способного Родерика Маккиннона, которому тогда было под пятьдесят, из Рокфеллеровского университета. Многие годы верный Гарварду Стив Харрисон, мастер рентгеноструктурного анализа, убежденный, что кристаллографические исследования ионных каналов обеспечат Маккиннону Нобелевскую премию (он и в самом деле разделил премию по химии 2003 года), был столь же уверен, что достаточный стимул убедил бы Маккиннона вернуться в Гарвард, где он до перехода в Рокфеллеровский университет руководил лабораторией в Школе медицины. Однако сделанное ему тогдашним деканом Джереми Ноулсом предложение не могло и близко сравниться с тем, что он имел на своей нынешней работе. Увидев письмо декана, жена Маккиннона даже подумала, не было ли там опечатки в положении точки десятичной дроби. Самим Стивом, подавленным неспособностью Ноулса мыслить категориями реалистично крупных сумм, овладела охота к перемене мест, и он углядел для себя намного более светлое будущее в Гарвардской школе медицины. Не потратив время даром, он перевел свою высокопродуктивную ренггеноструктурную группу на другой берег реки Чарльз. За несколько лет до этих событий на ужине в эффектно перестроенном огромном доме Марка и Люси Пташне на Спаркс-стрит я вновь сошелся с Джереми, с которым познакомился в те времена, когда он был одной из звезд среди химиков Оксфорда. Учитывая его прошлое, я когда-то полагал, что он воспользуется своей новой властью второго человека в Гарварде, чтобы обеспечить лучшее будущее гарвардским естественным наукам. Поэтому у меня отвисла челюсть, когда Джереми сообщил собравшимся ученым и их супругам о предстоящем подспорье в их работе в виде миллиона долларов, выделенного на оборудование и материалы, которые он вскоре распределит среди всех естественнонаучных отделений. Я выпалил, что такие гроши едва ли покрыли бы расходы и малой доли ученых, работающих в Колд-Спринг-Харбор, и добавил, что путь скаредности, по которому Оксфорд ведут к упадку, — это не тот путь, который позволит Гарварду идти в ногу с Массачусетсом технологическим. Повисшее молчание заставило меня понять, что никто из присутствующих еще не сталкивался с такой бесстыдной непочтительностью по отношению к руководству факультета. Вернувшись в отель Charles, я лег спать, представляя себе Джереми героем рассказа Макса Бирбома. Когда я пишу эти строки, факультетом искусств и наук по-прежнему руководит исполняющий обязанности декана. Увольнение специалиста по истории и культуре Восточной Азии Билла Кирби с поста декана не только стало последней каплей, вызвавшей отставку Саммерса, но также парализовало Гарвард в административном плане. Назначение сотрудников — не то, что может ждать: небольшой перерыв в наборе новых людей может нанести урон на многие годы. Дерек правильно понимал, что это место должно быть занято немедленно, но также считал, что право выбора следующего декана должно остаться за следующим президентом. Поэтому перед самой нашей встречей он попросил Джереми временно вернуться за штурвал факультета искусств и наук. Теперь мы знаем, что следующим президентом Гарварда станет выдающийся историк Дрю Гилпин Фауст. Кого стоит назначить новым деканом? Ясно, что это должен быть человек, обладающий внушительным интеллектом и глубоким знанием гарвардской жизни. Но даже если он или она будет также обладать невероятным умением Генри Розовски чувствовать, когда не стоит говорить "нет", этот человек взвалит на себя ношу, непосильную для одного. Чтобы добиться передовых позиций во всех областях науки, Гарварду следует разделить факультет на три более управляемых группы: естественнонаучную, гуманитарную и социальных наук. Руководство каждой из них следует доверить крупному ученому, наделенному ощутимыми финансовыми возможностями. Только умение судить и способность платить по рыночным нормам могут обеспечить большую, чем пятьдесят на пятьдесят, вероятность, что первый из одобренных специальной комиссией кандидатов будет согласен принять предложение Гарварда. Для уверенности в общем успехе необходимо, чтобы зарплаты в Гарварде вновь стали намного выше, чем у серьезных конкурентов. Чтобы нанимать звезд, нужно предлагать звездные зарплаты. Лучшие ученые больше не пойдут в Гарвард только потому, что это Гарвард. Никто не идет в науку, чтобы разбогатеть, но люди решают заняться ею не затем, чтобы отказать себе во всех жизненных удобствах. Жить достаточно близко к Гарвард-Ярду, чтобы наслаждаться его обстановкой и радостями, теперь не по карману новым семейным сотрудникам Гарварда, если только в дополнение к гарвардской зарплате они не получают другую, такого же размера. Богатейший университет в мире вполне может позволить себе платить самые высокие зарплаты — если только откажется от своего фантастического замысла почти в советском стиле построить новый филиал в Оллстоне, который, по нынешнему плану, должен занять территорию двадцати пяти футбольных полей. Чтобы наука вела за горизонт, нужно собрать лучшие умы и дать им возможность делать то, что лучшие умы естественным образом стремятся делать — решать самые захватывающие вопросы своего времени. Такие умы неизбежно привлекают себе подобных, и все остальное выходит само собой. Однако дивиденды от такого размаха намного превышают сумму выигрыша каждой следующей научной гонки. Их хватает и на то, чтобы обогащать студентов, передавая им дорогостоящие интеллектуальные ценности. Новому президенту Гарварда стоит видеть свою важнейшую цель в том, чтобы дать студентам колледжа возможность добиться величия, обеспечив их лучшими идеями прошлого, честными оценками современности и реалистичными надеждами на будущее. Такое видение принес в Чикагский университет Роберт Хатчинс, когда в 1929 году, в возрасте тридцати одного года, стал его президентом. Его харизматическое влияние достигло апогея в сороковые годы, когда великие книги и идеи стали фундаментом образования для всего колледжа на Мидуэе[34]. Хотя его преемники, нуждаясь в поддержании неиссякающего притока новых студентов, сочли необходимым отчасти отступить от чистоты его видения, те, кто впитал с образованием уверенность в превосходстве великих мыслей, никогда уже не сомневались в своей избранности. И сегодня при упоминании Чикагского университета ведущие деятели образования, даже не знакомые на собственном опыте с Хатчинсом или его непосредственными преемниками, вынуждены с грустью признавать, что Хатчинс был во многом прав, когда заклеймил значительную часть американского высшего образования как неуклюжее сочетание банальности и невежества. Во время нашей встречи Дерек согласился, что несмотря на то что идеи Хатчинса не смогли прижиться ни в одном другом ведущем университете Соединенных Штатов, он остается единственным из американских университетских президентов прошлого, правление которого по-прежнему активно обсуждают теоретики образования. В то время как университеты Лиги плюща выпускают людей, которые до конца своих дней тянутся друг к другу, Чикагский университет по-прежнему борется за то, чтобы его выпускники покидали университет с идеями, которые останутся с ними на всю жизнь, и страстью видеть мир таким, какой он есть. "Основные течения американской мысли" Паррингтона и "Братья Карамазовы" оказали на мою жизнь намного больше влияния, чем кто-либо из моих однокурсников по Чикагскому университету. Университеты в их лучших проявлениях способствуют распространению за пределами своих стен духа и ценностей, обеспечивающих должное отношение к ведущейся в этих стенах работе. Обучение в колледже Чикагского университета завершило мое обращение к посвящению своей жизни самоценному открытию мира природы, первый порыв которого зародился, когда я наблюдал за птицами вместе со своим отцом. Однако, какие бы глубокие знания ни передал нам университет, он не выполнит своего наивысшего предназначения, если позволит заботам о таких вещах, как самореклама и удовлетворенность потребителей, — заботам учреждений индустрии обслуживания, в какие большинство университетов стремительно превращаются, — идти впереди чистого блага поиска истины. И это особенно важно для науки, где бег, даже если успех в нем достается не самым проворным[35], никогда не останавливается. Прежде чем покинуть временный кабинет Дерека, я заметил, что не за горами то время, когда у научного сообщества не будет иного выбора, кроме как оставить политкорректность политикам. С 1978 года, когда на Эдварда Уилсона вылили ведро воды за его утверждение, что гены влияют на поведение людей точно так же, как на поведение других животных, нападки на науку о поведении со стороны тех, кто склонен выдавать желаемое за действительное, нисколько не утихли. Но поскольку наука способна находить лучшие доказательства своих гипотез, этот иррациональный подход должен отступить или выдать свою иррациональность. Исследователи биологии поведения, показывающие, что человеческие гены действительно имеют значение, вскоре уже не будут ограничены в своей работе сравнением однояйцевых и разнояйцевых близнецов. Скоро стоимость прочтения всех А, Т, Г и Ц индивидуальных молекул ДНК упадет в тысячу с лишним раз, тем самым переведя наши исследования поведенческих отличий на молекулярный уровень, который может открыть нам намного больше. Записанную на ДНК информацию, взятую, скажем, у многих сотен психопатов, можно будет тогда сравнить с информацией, взятой у такого же числа людей, которым совесть не позволяет постоянно лгать, воровать или убивать. Специфические последовательности нуклеотидов, последовательно встречаемые только у психопатов, позволят нам выявить гены, ошибки в работе которых, вероятно, приводят к психопатии. Мысль о том, что некоторые люди могут рождаться, чтобы вырасти злыми, не может нас не шокировать. Но если мы откроем, что такое поведение бывает врожденным, научная честность не менее, чем честность этическая, потребует от нас не скрывать этой истины. Сравнительная степень, в которой генетические факторы определяют интеллектуальные способности человека, скоро тоже станет известна намного лучше. Причинная основа шизофрении и аутизма во многом состоит в дефектах способности к обучению, происходящих оттого, что ключевым клеткам мозга не удается должным образом связаться друг с другом. По мере того как мы будем открывать человеческие гены, ошибки в работе которых приводят к таким серьезным нарушениям развития, мы вполне можем обнаружить, что различия в последовательности многих из них определяют также значительную часть наблюдаемой у людей изменчивости значений IQ. Априори у нас нет надежных оснований ожидать, что интеллектуальный потенциал людей, географически разделенных в ходе эволюции, окажется совершенно одинаковым. Нашего желания, чтобы все были наделены одинаковой силой разума как неким всеобщим наследием человечества, будет недостаточно, чтобы это стало правдой. Вместо того чтобы смотреть в лицо фактам, которые могут изменить наши представления о самих себе, многие ревнители добра склонны видеть один лишь вред в том, чтобы слишком внимательно вглядываться в индивидуальную генетическую природу людей. Поэтому я не удивился, когда Дерек тревожно спросил меня, сколько лет пройдет до того, как будут открыты главные гены, влияющие на различия в человеческих интеллектуальных способностях. Моя грубая оценка — пятнадцать лет — означала, что тогда еще не назначенному преемнику Саммерса не обязательно придется иметь дело с этим щекотливым вопросом. Однако когда я вернулся в Гарвард-Ярд, я уже не был уверен, что пройдет хотя бы десять лет. (обратно)
Действующие лица
Джордж Бидл (George Beadle, 1903-1989). После работы на отделении биологии в Калтехе, которым он руководил с 1946 года, в 1961 стал президентом Чикагского университета и проработал в этой должности до шестидесятипятилетнего возраста. Затем на посту директора Института биомедицинских исследований Американской медицинской ассоциации вернулся к изучению происхождения современной кукурузы. В 1982 году переселился вместе со своей женой Мюриэль, писательницей, в поселок для пенсионеров в Помоне (Калифорния). Макджордж Банди (McGeorge Bundy, 1919-1996). В 1966 году ушел из президентской администрации Линдона Джонсона, после чего двенадцать лет руководил Фондом Форда. Следующие десять лет преподавал историю в Нью-Йоркском университете, а затем стал научным сотрудником при Carnegie Corporation, где был также председателем комиссии по предотвращению ядерной угрозы. Сеймур Бензер (Seymour Benzer, 1921-2007). В 1976 году перешел из Пердью в Калтех, где вместо фагов занялся дрозофилами, на которых успешно изучал генетические основы поведения и нейродегенерации. Ричард (Дик) Бёрджесс (Richard "Dick" Burgess, p. 1942). После двух лет работы постдоком в Женеве стал сотрудником Висконсинского университета в Мэдисоне, где в настоящее время работает профессором онкологии. Дерек Бок (Derek Bok, p. 1930). После ухода в отставку с поста президента Гарварда в 1991 году продолжал активно работать в сфере высшего образования, о котором написал шесть книг: "Колледжи ниже своих возможностей" (2005), "Университеты на рынке" (2003), "Форма реки" (1998), "Университеты и будущее Америки" (1990), "Высшее образование" (1986) и "За пределами башни из слоновой кости" (1982). Со шведским теннисистом-профессионалом Карлом Верме в клубе Piping Rock в Локаст-Вэлли (штат Нью-Йорк).
Со шведским теннисистом-профессионалом Карлом Верме в клубе Piping Rock в Локаст-Вэлли (штат Нью-Йорк).
Его исследования последних лет посвящены внутренней политике правительства США, о чем он написал две книги: "Положение государства" (1997) и "Проблема с правительством" (2001). После ухода в отставку Ларри Саммерса в июле 2006 года Дерек вернулся в Гарвард, где в течение года исполнял обязанности президента. Сидни Бреннер (Sydney Brenner, p. 1927). После ухода на пенсию Макса Перуца возглавил лабораторию молекулярной биологии в Кембридже, которой руководил до 1986 года. К тому времени он разрабатывал методики изучения человеческого генома и очень рано осознал важность использования ДНК-копий клеточных молекул информационной РНК. Все больше работал за пределами Великобритании — в Институте Скриппса в Ла-Хойе (Калифорния), в Институте молекулярных наук, который он сам основал в Беркли, и в Сингапуре в должности правительственного консультанта по биотехнологиям. В Великобритании он и его жена живут постоянно в городе или к северу от Кембриджа. Джейкоб (Бруно) Броновский (Jacob "Bruno" Bronowski, 1908-1974). Один из первых научных сотрудников Института биологических исследований Солка, впоследствии провел два года (1971-1972), работая над заслуженно прославленной серией фильмов Би-Би-Си "Восхождение человека", повествующей об истории науки и человечества с доисторических времен, которая вышла на экраны перед его преждевременной смертью от сердечной недостаточности. Лоуренс Брэгг (Sir Lawrence Bragg, 1890-1971). Оставил пост директора Кавендишской лаборатории Кембриджского университета в декабре 1954-го и возглавил лондонскую Королевскую ассоциацию, директором которой с 1930 по 1942 год был его отец, Уильям Генри Брэгг. Клаус Вебер (Klaus Weber, p. 1936). С 1975 года работал в Институте биофизической химии Макса Планка в Гёттингене, где остается в настоящее время заслуженным профессором. Вместе со своей женой, Мэри Осборн, стал новатором использования иммунофлуоресцентной микроскопии и внес значительный вклад в изучение цитоскелета. Джером Визнер (Jerome Wiesner, 1915-1994). Был президентом Массачусетского технологического института с 1971 по 1980 год, а после ухода с этого поста тратил большую часть своего времени на преподавание и политологические исследования, прежде всего посвященные контролю за ядерными вооружениями. Никколо Висконти ди Модроне (Niccolo Visconti di Modrone, 1920-2004). С 1950 по 1954 год Никколо занимался генетикой фагов у Эла Херши в Колд-Спринг-Харбор, после чего оставил науку ради бизнеса и основал фармацевтическую компанию Lepeti, а затем еще одну — Pierrel. Отойдя от дел, поселился в своем родном Милане и поддерживал близкие дружеские отношения с бывшими коллегами по лаборатории Колд-Спринг-Харбор, в том числе с Вацлавом Шибальским, Эвелин Уиткин и Барбарой Мак-Клинток. Карлтон Гайдузек (Carleton Gajdusek, 1923-2008). На протяжении большей части своей научной карьеры работал в Национальных институтах здравоохранения и в 1976 году получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за исследования инфекционной природы и эпидемиологии прионного заболевания куру, которое он с середины пятидесятых изучал у аборигенов племени форе в горах Новой Гвинеи. Джордж (Джо, Георгий Антонович) Гамов (George "Geo" Gamow, 1904-1968). Проработав двадцать два года профессором в Университете Джорджа Вашингтона, в 1956 году перешел в Колорадский университет в Боулдере, где трудился до своей смерти. Гэри Гассин (Gary Gussin, p. 1939). После работы постдоком в Женеве стал сотрудником Университета Айовы, где остается в настоящее время заслуженным профессором. Раймонд (Рей) Гестеланд (Raymond "Ray" Gesteland, p. 1938). После работы постдоком у Альфреда Тиссьера в Женеве в 1967 году пришел в лабораторию Колд-Спринг-Харбор, где стал заместителем директора. В 1978 году перешел в Университет Юты, где сейчас работает профессором генетики человека. Селия Гилберт (Celia Gilbert, p. 1932). В настоящее время занимается живописью, пишет стихи и радуется за своих детей и внуков. Уолтер (Уолли) Гилберт QWalter "Wally" Gilbert, p. 1932). В 1980 году вместе с Фредериком Сенгером получил Нобелевскую премию по химии за независимо разработанные ими методы секвенирования ДНК. В 1982 году ненадолго оставил Гарвард, чтобы возглавить Biogen — изначально швейцарскую биотехнологическую компанию, в основании которой он принял участие двумя годами раньше. Став заслуженным профессором, больше не руководит исследовательской группой, но остается старшим стипендиатом Гарвардского общества стипендиатов и по-прежнему тесно связан с биотехнологиями. Он также посвящает много времени фотографии и античному искусству. Дональд (Дон) Гриффин (Donald "Don" Griffin, 1915-2003). Покинув гарвардское отделение биологии в 1965 году, продолжил свои исследования поведения животных на биостанции Рокфеллеровского университета в Миллбруке к северу от Нью-Йорка. Макс Дельбрюк (Max Delbmck, 1906-1981). После 1957 года обратился к исследованиям в области физиологии органов чувств, в русле которой работал с плесенью Phycomyces до самой смерти от множественной миеломы. В 1969 году получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине вместе с Альфредом Херши и Сальвадором Лурия за работы по бактериофагам. Мэнни Дельбрюк (Manny Delbruck, 1917-1998). Жила в Калтехе до самой смерти от рака груди. Милислав Демерец (Milislav Demerec, 1895-1966). После ухода в 1960 году в возрасте шестидесяти пяти лет с поста директора лаборатории Колд-Спринг-Харбор до 1965 года продолжал свои работы по генетике сальмонеллы в Брукхейвенской национальной лаборатории. Август (Гас) ДёРМАНН (August "Gus" Doermann, 1918-1991). После исследовательской работы в Национальной лаборатории в Оук-Ридж был сотрудником университетов Рочестера и Вандербильта, а в 1964 году стал профессором генетики в Вашингтонском университете. После ухода на пенсию в 1982 году жил в канадской территории Юкон. Пол Доути (Paul Doty, p. 1920). В поздние годы своей карьеры занимался все больше вопросами международной безопасности и запустил в 1973 году проект, который теперь называется Центром Белфера по науке и международным делам в гарвардской Школе государственного управления Джона Кеннеди. Ренато Дульбекко (Renato Dulbecco, p. 1914). После перехода в 1949 году из Индианского университета в Калтех начал исследования вирусов животных и в итоге, когда стал одним из сотрудников-основателей Института Солка, сосредоточился на опухолеродных вирусах. Сделанное его лабораторией открытие, что ДНК-содержащие опухолеродные вирусы вызывают рак посредством внедрения своих генов в ДНК клеток-хозяев, принесло ему Нобелевскую премию по физиологии и медицине 1975 года, которую он разделил с Дэвидом Балтимором и Говардом Темином. Впоследствии стал одним из первых активных сторонников проекта "Геном человека" и говорил, что, пока нам не будет известен человеческий геном, мы не сможем узнать, как победить рак. Франсуа Жакоб (Francois Jacob, p. 1920). Разделив в 1965 году с Андре Львовым и Жаком Моно Нобелевскую премию по физиологии и медицине за их исследования регуляции генов у бактерий, продолжал работать в Институте Пастера, где с 1982 по 1988 год был председателем попечительского совета. Написал ряд влиятельных книг, к которым относятся его автобиография "Изваяние вргутри", "Логика жизни" и сравнительно недавняя "О мухах, мышах и людях". Нортон Зиндер (Norton Zinder, p. 1928). Продолжая свои исследования фага f1 и его взаимодействия с кишечной палочкой, работал на протяжении всей своей научной карьеры в Рокфеллеровском университете, где в настоящее время остается заслуженным профессором. Дэвид Зипсер (David Zipser, p. 1937). После работы постдоком у Сидни Бреннера и последовавшей за ней работы сотрудника Колумбийского университета перешел в 1970 году в лабораториюКолд-Спринг-Харбор, где возглавил группу по генетике бактерий. Впоследствии стал все больше интересоваться исследованиями мозга и в 1982 году перешел из Колд-Спринг-Харбор в Калифорнийский университет в Сан-Диего, где в настоящее время остается заслуженным профессором когнитивной нейробиологии. Герман Калькар (Herman Kalckar, 1908-1991). В 1952 году вернулся в Соединенные Штаты, где работал вначале в Национальном институте здравоохранения, затем в университете Джонса Хопкинса и, наконец, с 1961 года — в Гарвардской школе медицины, в которой он возглавил лабораторию биохимических исследований госпиталя штата Массачусетс. Марио Капекки (Mario Capecchi, p. 1937). После завершения диссертации доктора философии до 1973 года оставался в Гарварде, вначале старшим преподавателем, а затем адъюнкт-профессором биохимии, после чего перешел в Университет Юты, где работает до сих пор. Там он поставил новаторские эксперименты по прицельному выключению генов в стволовых клетках, взятых из эмбрионов мышей[36]. Джон Кендрю (John Kendrew, 1917-1997). В начале семидесятых принял участие в создании Европейской молекулярно-биологической лаборатории в Гейдельберге и в 1974 году, когда она открылась, стал ее первым директором. Впоследствии с 1981 по 1987 год был президентом Колледжа св. Иоанна в Оксфорде. Сеймур Коэн (Seymour Cohen, p. 1917). В 1971-м перешел из Пенсильванского университета в Колорадский университет в Денвере, где был профессором в Школе медицины до 1976 года, а затем перешел в Университет штата Нью-Йорк в Стони-Брук, где работал до ухода на пенсию в 1985 году. Фрэнсис Крик (Francis Crick, 1916-2004). В возрасте шестидесяти одного года перешел в Институт Солка, чтобы заняться новым делом — нейробиологией. В этой области он в итоге занялся исследованиями природы сознания вместе с Кристофом Кохом из Калтеха. Уже оцененная всеми биография "Фрэнсис Крик — первооткрыватель генетического кода", написанная английским ученым и писателем Мэттом Ридли, вышла в 2006 году. Принцесса Кристина (Christina, р. 1943). В 1974 году вышла замуж за Торда Магнусона и стала называться "принцесса Кристина, фру Магнусон". В настоящее время живет в Стокгольме. Чарльз (Чак) Курланд (Charles "Chuck" Kurland, p. 1936). Получив степень доктора философии в Гарварде, перешел на ставку постдока в Институт микробиологии Копенгагенского университета. Оттуда перешел в Висконсинский университет, а затем, в 1971 году, в Уппсальский университет. В настоящее время — заслуженный профессор отделения молекулярной эволюции, а также отделения микробиологии Лундского университета. Джон Кэрнс (John Cairns, p. 1922). После ухода из лаборатории Колд-Спринг-Харбор в 1972 году до 1980 года возглавлял расположенную в окрестностях Лондона лабораторию Милл-Хилл Имперского фонда исследования рака. Затем вновь переехал на другую сторону Атлантики и стал сотрудником Гарвардской школы здравоохранения. После его ухода на пенсию в 1991 году он и его жена Элфи вернулись в Великобританию, где они живут в окрестностях Оксфорда. Джошуа Ледерберг (Joshua Lederberg, 1925-2008). В 1959 году ушел из Висконсинского университета, чтобы основать и возглавить отделение генетики в Стэнфорде. В1978 году стал президентом Рокфеллеровского университета и работал в этой должности до ухода на пенсию в 1990 году. В 2006 году получил Президентскую Медаль Свободы. Сальвадор Лурия (Salvador Luria, 1912-1991). В 1959 году перешел из Иллинойсского университета на отделение биологии Массачусетского технологического института. В 1972 году ему доверили планирование нового Центра онкологических исследований, создание которого требовало переоборудования бывшей шоколадной фабрики в лабораторный корпус. Он работал директором этого центра со дня его открытия в 1973-м до 1985 года. В 1969 году разделил Нобелевскую премию по физиологии и медицине с Максом Дельбрюком и Альфредом Херши. Бетти Майерс (Уотсон) (Betty Myers, пе@е Watson, 1930-1999). Продолжала жить в Вашингтоне после того, как ее муж Роберт Майерс оставил государственную службу и стал издателем журнала Washingtonian. В 1980 году они переехали в Нью-Йорк, где он стал президентом Совета Карнеги по этике и международным отношениям, и жили там до 1996 года, после чего переехали в Менло-Парк (Калифорния), поближе к своим дочерям. Эрнст Майр (Ernst Mayr, 1904-2005). В 1975 году ушел на пенсию из Гарварда в почетном звании заслуженного профессора зоологии. После формального ухода на пенсию и до своей смерти в возрасте 100 лет опубликовал еще около двухсот статей и четырнадцать книг. Барбара Мак-Клинток (Barbara McClintock, 1902-1992). Стала единственным лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине 198) года за работы по транспозиции генов кукурузы, которыми она занималась в Колд-Спринг-Харбор. Формально в 1967 году ушла на пенсию с отделения генетики Института Карнеги, но продолжала принимать активное участие в работе своей лаборатории до самой смерти в возрасте девяноста лет в больнице города Хантингтон неподалеку от Колд-Спринг-Харбор. Том Маниатис (Тот Maniatis, р. 1943). В настоящее время работает профессором молекулярной и клеточной биологии Томаса Ли в Гарвардском университете, где его лаборатория в последние годы занималась преимущественно исследованием регуляции экспрессии эукариотических генов, особенно задействованных в иммунном ответе. В 1982 году вместе с Марком Пташне основал биотехнологическую компанию Genetics Institute, впоследствии вошедшую в состав Wyeth Pharmaceuticals. Недавно также участвовал в основании компании Acceleron Pharma. Номура Масаясу (Nomura Masayasu, p. 1927). В 1984 году, проработав двадцать лет в Висконсинском университете в Мэдисоне, перешел в Калифорнийский университет в Ирвайне, где по-прежнему руководит активной исследовательской группой, изучающей синтез РНК у пекарских дрожжей. Мэтью (Мэтт) Мезельсон (Matthew "Matt" Meselson, p. 1930). Профессор естественных наук в Гарвардском университете. С шестидесятых годов активно вовлечен в работу по контролю над химическим и биологическим оружием и в настоящее время руководит совместной программой Гарварда и Университета Суссекса по контролю над вооружениями, а также посвященными химическому и биологическому оружию исследованиями, ведущимися в Центре Белфера Гарвардской школы государственного управления Джона Кеннеди. Герман Джозеф Мёллер (Hermann Joseph Muller, 1890-1967). До конца своей научной карьеры продолжал работать с дрозофилами в Индианском университете. Наоми Митчисон (Naomi Mitchison, 1897-1999). Продолжала писать книги до восьмидесяти с лишним лет и умерла в Карра-дейле на западе Шотландии в возрасте ста одного года. В последние годы она тяжело страдала от болезни Алыдгеймера. Эврион (Эв) Митчисон (Avrion "Av" Mitchison, p. 1928). В 1970 году покинул Милл-Хилл и стал профессором зоологии в Университетском колледже Лондона, где продолжил свои иммунологические исследования. После ухода на пенсию из Университетского колледжа еще несколько лет проработал в Берлине, а затем вернулся в Лондон. Оле Молёэ (Ole Maaloe, 1915-1988). Перешел из Государственного института сывороток на отделение микробиологии Копенгагенского университета и работал там до ухода на пенсию. Жак Moho (Jacques Monod, 1910-1976). Разделил Нобелевскую премию по физиологии и медицине 1965 года с Андре Львовым и Франсуа Жакобом. Его объемное, как целая книга, эссе "Случайность и необходимость", посвященное объяснению возникновения и эволюции жизни как результата случайности, было впервые опубликовано в 1970 году. Работал в Сорбонне, Коллеж де Франс и Институте Солка, но главным в его научной карьере всегда был Институт Пастера, директором которого он работал с 1971 года до самой своей смерти от лейкемии в возрасте шестидесяти шести лет в собственном доме в Каннах. Бенно Мюллер-Хидл (Веппо Miiller-Hill, р. 1933). Стал профессором в Институте генетики Кёльнского университета в 1968 году, через два года после того, как вместе с Уолли Гилбертом выделил лактозный репрессор. В 1984 году опубликовал свое разоблачение немецкой евгеники — книгу "Смертоносная наука: Селективное уничтожение евреев, цыган и душевнобольных в Германии, 1933~1945", удостоившейся лишь одной рецензии в немецкой прессе, несмотря на то что в Германии было продано пятнадцать тысяч экземпляров. В 1988 году издательством Оксфордского университета был опубликован английский перевод этой книги, в 1998 году переизданный лабораторией Колд-Спринг-Харбор. Аарон Новик (Aaron Novick, 1919-2000). В 1958 году перешел из Чикагского в Орегонский университет, где основал Институт молекулярной биологии и стал его директором. Впоследствии работал в Орегонском университете деканом магистратуры и аспирантуры и заведующим отделением биологии. Макс Перуц (Max Perutz, 1914-2002). Руководил Лабораторией молекулярной биологии Медицинского исследовательского центра в Кембриджском университете со дня ее создания в 1962 году до 1979 года, когда формально ушел на пенсию. После этого продолжал работать в лаборатории практически каждый день до своей смерти от рака в возрасте восьмидесяти семи лет. Постепенно приобретал все большую известность как способный литератор, опубликовал много статей в книжном обозрении The New York Review of Books. Сборники его эссе выходили также в виде книг: "Нужна ли наука?" (Издательство Оксфордского университета, 1991) и "Жаль, что я не рассердил вас раньше" (издательство лаборатории Колд-Спринг-Харбор, 1998 и 2003). Ульф Петтерссон (Ulf Pettersson, p. 1942). В настоящее время работает заместителем ректора по медицине и фармацевтике и профессором отделения генетики и патологии Уппсальского университета в Швеции. ЛаЙнус Полинг (Linus Pauling, 1901-1994). Оставил Калтех вскоре после того, как в 1962 году получил Нобелевскую премию мира за вклад в борьбу против испытаний и распространения ядерного оружия. Следующие десять лет провел в Центре изучения демократических институтов в Санта-Барбаре (1963-1967), в Калифорнийском университете в Сан-Диего (1967-1969) и в Стэнфордском университете (1969-1974). В 1973 году основал Научный медицинский институт Лайнуса Полинга в Пало-Альто (Калифорния), где руководил исследованиями, посвященными действию обычных витаминов на здоровье человека. Умер от рака у себя на ранчо в Биг-Сур (Калифорния). Питер Полинг (Peter Pauling, 1931-2003). Преподавал физическую химию в Университетском колледже Лондона с 1958 по 1989 год. После ухода на пенсию до самой смерти жил в Уэльсе. Марк Пташне (Mark Ptashne, p. 1940). После того как в 1967 году им был выделен репрессор фага X, продолжил исследования этого фага и получил подробную картину регуляции работы его генов. В последние годы занялся изучением регуляции транскрипции у дрожжей. В 1997 году перешел в Мемориальный онкологический центр Слоана-Кеттеринга в Нью-Йорке, где в настоящее время работает профессором молекулярной биологии. Эдвард Пуллинг (Edward Pulling, 1898-1991). По-прежнему жил в Редкоуте после смерти его жены Люси в 1979 году и оставался председателем Лонг-Айлендской биологической ассоциации до начала 1986 года. Позже с большим удовольствием писал воспоминания о ранних годах своей жизни. Нлтан Пьюзи (Nathan Pusey, 1907-2001). После отставки с поста президента Гарварда переехал в Нью-Йорк, где несколько лет был президентом Фонда Эндрю Меллона. Роберт (Боб) Райзбрау (Robert "Bob" Risebrough, p. 1935). После Гарварда занялся природоохранными исследованиями. Живет в Калифорнии и в последнее время изучает находящегося под угрозой исчезновения калифорнийского кондора. Барбара Райт (Barbara Wright, p. 1926). Продолжала заниматься наукой после того, как вышла замуж за Германа Калькара и переехала в Соединенные Штаты, где работала вначале в Национальных институтах здравоохранения, а затем в Массачусетской неспециализированной больнице и в Бостонском институте биомедицинских исследований. В 1982 году стала профессором биологии в Университете Монтаны. Сьюадл Райт (Sewall Wright, 1889-1988). После ухода из Чикагского университета в шестьдесят пять лет на пенсию по возрасту перешел в Висконсинский университет, где работал профессором генетики еще тридцать четыре года. Алекс Рич (Alex Rich, p. 1924). Проработав четыре года в Национальном институте здравоохранения, в 1954 году перешел в Массачусетский технологический институт, где продолжил изучение нуклеиновых кислот, особенно их трехмерной структуры. В 1995 году был удостоен Национальной Научной Медали и по-прежнему продолжает активную исследовательскую работу в Массачусетском технологическом институте в должности профессора биофизики. Джон Ричардсон (John Richardson, p. 1938). После работы постдоком в Институте Пастера стал сотрудником Индианского университета в Блумингтоне, где продолжает свои исследования, посвященные преимущественно механизмам синтеза РНК на матрице ДНК. Кит Робертс (Keith Roberts, p. 1945). Продолжает работать в Институте Джона Иннеса в Норидже, где в течение десяти лет возглавлял отделение клеточной биологии. В 1983 году стал соавтором широко используемого учебника "Молекулярная биология клетки", выдержавшего уже пять изданий. Ричард (Рич) Робертс (Richard. "Rich" Roberts, p. 1943). В1993 году разделил с Филлипом Шарпом Нобелевскую премию по физиологии и медицине за сделанное ими независимо в 1977 году открытие сплайсинга в экспериментах с ДНК аденовирусов. В годы его работы в Колд-Спринг-Харбор его лаборатория открыла около сотни новых рестриктаз. В 1992 году перешел в компанию New England Biolabs, которая яатяется ведущим поставщиком реактивов для научных исследований. В настоящее время работает там главным научным сотрудником. Чарльз Робертсон (Charles S. Robertson, 1905-1981). В конце семидесятых он заболел болезнью Альцгеймера и в 1981 году умер у себя дома в Делрей-Бич (Флорида). Генри Розовски (Henry Rosovsky, p. 1927). В 1984 году покинул пост декана гарвардского факультета искусств и наук и в 1996 году ушел на пенсию в звании заслуженного профессора. В 1990 году опубликовал книгу "Университет: руководство пользователя" о своем опыте работы в сфере высшего образования. Джон Рэндалл (Sir John Randall, 1905-1984). В 1970 ушел на пенсию с поста заведующего основанной им биофизической лаборатории в Королевском колледже Лондона, которая вскоре была переименована в Институт Рэндалла и теперь называется Отделением клеточной и молекулярной биофизики Рэндалла. Лео Силард (Leo Szilard, 1898-1964). Продолжал числиться сотрудником Чикагского университета, пока в 1963 году не стал одним из сотрудников-основателей Института Солка. Всего через несколько месяцев после перехода в этот институт умер от сердечного приступа, и его прах был согласно его завещанию развеян над Тихим океаном. Йонас Солк (Jonas Salk, 1914-1995). В последние десять лет своей жизни занимался преимущественно исследованиями, связанными со СПИДом и поиском эффективной вакцины против него. До самой своей смерти был директором Института Солка. ТрейСИ Соннеборн (Tracey Sonneborn, 1905-1981). До конца своей научной карьеры работал в Индианском университете в Блумингтоне. В 1976 году оставил преподавание, но продолжал научную работу до самой своей смерти в возрасте семидесяти пяти лет. Гунтер Стент (Gunther Stent, 1924-2008). В 1952 году перешел из Калтеха в Калифорнийский университет в Беркли, где и работал с тех пор. В 1972 году во время годичного отпуска, проведенного в Гарварде, занялся нейробиологией и вскоре стал разводить у себя в Беркли пиявок для нейроэмбриологических и нейрофизиологических исследований своей лаборатории. Ушел на пенсию в звании заслуженного профессора нейробиологии. Джозеф (Джо) Сэмбрук (Joseph "Joe" Sambrook, p. 1939). Покинул Колд-Спринг-Харбор в 1985 году, чтобы возглавить отделение биохимии Юго-западного медицинского центра Техасского университета. Десять лет спустя перешел в Онкологический центр Питера Маккаллума в Мельбурне (Австралия), где активно способствовал изучению рака груди. В 2006 году был назначен заместителем директора по науке Австралийского центра по исследованию стволовых клеток. Говард Темин (Howard. Temin, 1934-1994). Говард так и остался в Висконсинском университете. В 1975 году он разделил с Ренато Дульбекко и Дэвидом Балтимором Нобелевскую премию по физиологии и медицине за исследования опухолеродных вирусов. Несмотря на то что никогда не курил, он стал жертвой рака легких, от которого безвременно умер в возрасте пятидесяти девяти лет. Альфред Тиссьер (Alfred Tissie\res, 1917-2003). До конца своей научной карьеры работал на отделении молекулярной биологии Женевского университета и жил вместе со своей женой, Вирджинией, в поселке Вандёвр на окраине Женевы. Результатом годичного отпуска, проведенного им в Калтехе, стала важная для науки работа, посвященная реакции на тепловой шок у дрозофилы. Александер (Алекс) Тодд (Alexander "Alex" Todd, 1907-1997). После исследований молекулярной структуры и механизма синтеза нуклеотидов, за которые он в 1957 году получил Нобелевскую премию по химии, занимался изучением молекулярной структуры множества разных веществ, выделяемых из организмов насекомых и растений. В 1971 году ушел на пенсию с должности профессора органической химии в Кембриджском университете и жил в Кембридже до конца своих дней. Морис Уилкинс (Maurice Wilkins, 1916-2004). После работ, проведенных в Королевском колледже Лондона и сыгравших важную роль в открытии двухспиральной структуры ДНК, он занимался в основном проблемой ответственности ученых перед обществом, читал по этой теме курсы для студентов колледжа и двадцать два года был президентом Британского общества за социальную ответственность в науке. Он также очень гордился своим участием в Кампании за ядерное разоружение. Том Уилсон (Тот Wilson, 1902-1969). Он умер от сердечного приступа вскоре после своего перехода из издательства Гарвардского университета в нью-йоркское издательство Atheneum. Эдвард Уилсон (Edward О. Wilson, р. 1929). В настоящее время он заслуженный профессор и куратор энтомологии в Музее сравнительной зоологии Гарвардского университета. В последние годы он все больше стал интересоваться проблемами охраны природы. Кэрролл Уильяме (Carroll Williams, 1916-1991). Вся его научная карьера была посвящена изучению физиологии насекомых в Гарварде, где он получил степени доктора философии и доктора медицины, а с 1946 года был сотрудником до своего ухода на пенсию в 1987 году. Лиз (Элизабет) Уотсон (Льюис) (Elisabeth "Liz" Watson, пе@е Lewis, p. 1948). Получила степени магистра Колумбийского университета по охране исторических памятников и Лонг-Айлендского университета по библиотечному делу и теории информации. Посвятила много времени заботам о сохранении исторических зданий лаборатории Колд-Спринг-Харбор и в 1991 году опубликовала иллюстрированную историю лаборатории под названием "Дома для науки". Многие годы входила в состав комиссии по охране исторических памятников Хантингтона, а в 2001 году губернатор Джордж Патаки включил ее в состав совета по охране исторических памятников штата Нью-Йорк. Джулиан Флейшман (Julian Fleischman, p. 1933). После получения в 1960 году степени доктора философии в Гарварде работал постдоком в Стэнфордском университете и нескольких других научных учреждениях. В 1963 году стал соавтором статьи, в которой была предложена подробная модель структуры антитела. Впоследствии перешел на отделение молекулярной микробиологии в Школе медицины Университета Вашингтона в Сент-Луисе, где продолжает изучать структуру, синтез и разнообразие антител. Розалинда Франклин (Rosalind Franklin, 1920-1958). После перехода в Биркбек-колледж весной 1953 года изучала структуру вируса табачной мозаики до своей трагически преждевременной смерти от рака яичников в 1958 году. Ее жизни посвящена получившая широкое признание биография "Розалинда Франклин — смуглая леди ДНК", написанная Брендой Мэддокс. Роберт Хатчинс (Robert Hutchins, 1899-1977). Покинув Чикагский университет в 1951 году, стал заместителем директора Фонда Форда и председателем нового фордовского Фонда Республики. В 1959 году основал Центр изучения демократических институтов в Калифорнии, который возглавлял до своей смерти. Альфред Херши (Alfred Hersbey, 1908-1997). В 1969 году разделил с Максом Дельбрюком и Сальвадором Лурией Нобелевскую премию по физиологии и медицине за совместную с Мартой Чейз работу 1950 года, в которой было показано, что ДНК, а не белок бактериофага является его генетическим материалом. В 1972 году перестал заниматься в Колд-Спринг-Харбор активными исследованиями, ушел на пенсию и по-прежнему жил невдалеке от лаборатории до самой своей смерти. Нэнси Хопкинс (Nancy Hopkins, p. 1943). После перехода в 1973 году в Центр онкологических исследований Массачусетского технологического института занималась там исследованиями РНК-содержащих опухолеродных вирусов. Переключившись впоследствии на эксперименты с рыбкой Danio rerio, разработала новый метод инсерционного мутагенеза и открыла сотни генов, необходимых дчя развития этой рыбки. В последние годы боролась заравенство полов в своем институте, где по-прежнему работает профессором биологии. Эрвин Чаграфф (Erwin Chagraff, 1905-2002). В конце своей карьеры больше писатель, чем ученый, он опубликовал несколько книг, в том числе автобиографическую "Гераклитов огонь. Очерки из жизни перед лицом природы". Оставался сотрудником Колумбийского университета до ухода на пенсию в 1974 году. Филлип (Фил) Шарп (Phillip "Phil" Sharp, p. 1944). После ухода из лаборатории Колд-Спринг-Харбор работал в Массачусетском технологическом институте, где возглавлял Онкологический центр (1985-1991), отделение биологии (1991-1999) и Институт исследований мозга Макговерна (2000-2004). В 1993 году разделил с Ричем Робертсом Нобелевскую премию по физиологии и медицине за независимо совершенное ими открытие сплайсинга. Участвовал в основании компаний Biogen (1978) и Alnylam Pharmaceuticals (2002). Дэвид Шлессингер (David Scblessinger, p. 1936). После получения степени доктора философии в Гарварде стал постдоком в Институте Пастера, а затем работал в Университете Вашингтона в Сент-Луисе, где в итоге стал профессором молекулярной биологии. В 1997 году перешел в Национальный институт старения в Балтиморе (Мэриленд), где в настоящее время заведует лабораторией генетики. (обратно)
Использованные иллюстрации
© George Band. Стр. 111 Cold Spring Harbor Laboratory Archives. Стр. 40, 49, 57, 64, 103, 149, 244 (вверху), 251, 254, 260, 281, 288, 290 Cold Spring Harbor Laboratory Archives, Barbara McClintock Collection. Стр. 59 Cold Spring Harbor Laboratory Archives, James D. Watson Collection. Стр. з, j, 7, 8, 9, 10, 14, 29, 30, 81, 87, 89, 107, 175, 183, 184, 185, 244 (внизу), 268, 287, 308 Manny Delbrbck. Стр. 307 Rachel Glaeser. Стр. 100 Из коллекции: Russell H. Hart, Jr., West Lafayette, Indiana. Стр. 12 Harvard University Archives. Стр. 219, 321 National Library of Medicine. Стр. 298 © The Nobel Foundation 1962. Стр. 188 Richard T. Payne. Стр. 32 Rockefeller Archive Center. Стр. 108 © Rick Stafford. Стр. 209 University of Southern California Annenberg School for Communication. Стр. 13 James D. Watson. Стр. 126,140,146, 214, 265, 3291Издание осуществлено при поддержке Фонда некоммерческих программ Дмитрия Зимина "Династия".
 Фонд некоммерческих программ "Династия" основан в 2002 году Дмитрием Борисовичем Зиминым, почетным президентом компании "Вымпелком". Приоритетные направления деятельности Фонда — развитие фундаментальной науки и образования в России, популяризация науки и просвещение. В рамках программы по популяризации науки
Фондом запущено несколько проектов. В их числе — сайт elementy.ru, ставший одним из ведущих в русскоязычном Интернете тематических ресурсов, а также проект "Библиотека "Династии" — издание современных научно-популярных книг, тщательно отобранных экспертами-учеными. Книга, которую вы держите в руках, выпущена в рамках этого проекта. Более подробную информацию о Фонде "Династия" вы найдете по адресу www. Dynastyfdn.ru.
Фонд некоммерческих программ "Династия" основан в 2002 году Дмитрием Борисовичем Зиминым, почетным президентом компании "Вымпелком". Приоритетные направления деятельности Фонда — развитие фундаментальной науки и образования в России, популяризация науки и просвещение. В рамках программы по популяризации науки
Фондом запущено несколько проектов. В их числе — сайт elementy.ru, ставший одним из ведущих в русскоязычном Интернете тематических ресурсов, а также проект "Библиотека "Династии" — издание современных научно-популярных книг, тщательно отобранных экспертами-учеными. Книга, которую вы держите в руках, выпущена в рамках этого проекта. Более подробную информацию о Фонде "Династия" вы найдете по адресу www. Dynastyfdn.ru.
 (обратно)
(обратно)
Последние комментарии
53 минут 56 секунд назад
57 минут 35 секунд назад
1 час 8 минут назад
1 час 14 минут назад
1 час 16 минут назад
1 час 19 минут назад