МАСТЕР ПЕНИЯ ПЛАСИДО ДОМИНГО
Не так давно фирма «Мелодия» выпустила пластинку с записью вагнеровских «Нюрнбергских мейстерзингеров»*, осуществленной в ФРГ. Мне представляется символичной встреча в этой работе двух певцов — Дитриха Фишера-Дискау, короля немецкой оперной школы, и автора этой книги Пласидо Доминго, который не только своими поклонниками, но и многими солидными критиками поставлен в один ряд с великими вокалистами XX века Энрико Карузо и Марией Каллас. Что же заставляет выделить в общем блистательном ряду исполнителей оперы Вагнера эту пару — немецкий баритон и испанский тенор? Вслушаемся в диалог двух певцов — но не с чисто вокальной точки зрения, вслушаемся в диалог школ и даже культурологических полей. Опытный дирижер Ойген Иохум недаром пригласил на роль Вальтера фон Штольцинга Пласидо Доминго, который никогда не исполнял эту партию на сцене и, похоже, никогда и не будет петь ее вновь. Внедрив в слаженный ансамбль немецких певцов Пласидо Доминго с его нескрываемо итальянской манерой пения, с его, по определению одного из критиков, «немецким языком, окрашенным в испанские тона», Иохум расширил рамки вагнеровского сочинения, дал повод для разговора о нынешних «мейстерзингерах», мастерах оперного пения, опирающихся на разные музыкальные традиции. В диалоге героев оперы Вальтера и Ганса Сакса Доминго словно поставлен перед необходимостью защищать честь взрастившей его итальянской школы. Голос Фишера-Дискау будто бы исследует природу дарования не только новоявленного поэта Вальтера, но и прославленного на весь мир тенора-премьера Доминго. И без труда выявляет ее: свободно льющийся голос захватывает эмоциональным напором, раскованной открытостью чувства, своей упругой силой он сметает на пути к сердцу искушенного Ганса Сакса (и утонченно-мягкого Фишера-Дискау) все преграды.
* Запись 1976 года. Фирма «Мелодия» по лицензии фирмы «Поли-Дор», ФРГ, 1986.
Мастер — Фишер-Дискау подробно рассказывает о законах, формальных приемах и косных привычках искусства «мейстерзанга» с такой психологически нюансированной тонкостью, что каждое слово, каждый звук словно напрямую замкнуты на мельчайший поворот душевного тока. А рядом Мастер — Доминго мощью темперамента и эманацией воли убеждает в торжестве любви и жизни. Здесь, по лукавому умыслу дирижера, даны нам типы певцов двух разных школ — немецкой и итальянской — в их высшем проявлении. Не для того, чтобы мы выбрали одного из них, а для того, чтобы поняли, что обе эти школы есть часть великой оперной традиции Западной Европы. Кто такие «мейстерзингеры»? (Я имею в виду не только героев оперы Вагнера, но и их реальные прототипы в истории литературы и музыки.) Эпигоны золотой эпохи миннезанга, ранней новоевропейской лирики, которые, предельно формализовав искусство, ушедшее от жизни и, можно сказать, «главных интересов» эпохи, продлили ему жизнь. Напрашивается сравнение с современными оперными певцами, которые, продолжая традиции оперы XVIII и XIX веков, остаются как исполнители в давно ушедшем мире. Но этот мир абсолютно необходим нашей неромантической эпохе, она не желает отпускать от себя ни на шаг ни моцартовских гармоний, ни вердиевского разлива чувств, ни вагнеровского томления духа. Именно они, оперные певцы, и должны нести внутри себя тот мир, иллюзорный и предельно реальный одновременно, который вырывает современного человека из круга сиюминутных проблем. И обе великие оперные школы — итальянская и немецкая— каждая по-своему выполняют в нашем мире эти задачи. Главный интерес для обеих школ представляют произведения классические, где для итальянцев черту подводят Пуччини и «малые веристы». Сейчас, в годы оперного бума на Западе, итальянская опера как действительно одно из демократичнейших искусств, выходит на стадионы и парковые поляны. Ее представители (и Пласидо Доминго может быть назван тут первым) охотно идут и в другие массовые жанры, исполняют популярные песни, участвуют в мюзиклах и опереттах. Тем самым опера включается в интересы широкой публики, вербует новых и новых своих почитателей. Характерно в этом отношении выступление Пласидо Доминго на стадионе Уэмбли в Лондоне в 1987 году, отрывки из которого показывало наше телевидение. А овации семидесятитысячной толпы после арии Каварадосси во время исполнения «Тоски» на главной поляне Сентрал-Парка в Нью-Иорке в том же году удалось остановить, лишь бисировав знаменитую арию. «Имидж», как теперь принято говорить, созданный Доминго, полностью соответствует образу суперзвезды именно итальянской оперы — сильное мужское обаяние, мощный темперамент, воля составляют главные его черты. В немецкой оперной традиции ощутимее связь с камерной и симфонической музыкой, с постоянно развивающейся музыкой XX века в ее серьезной, «элитарной» ипостаси. Пласидо Доминго сетует на то, что фактически не исполнил ни одной роли в современных операх. Зато на счету Фишера-Дискау заглавные партии в «Воццеке» Берга и «Лире» Раймана, принадлежащие к лучшим ролям артиста. Интересно, что оба певца занимаются дирижированием. Но и здесь особенности школ дают себя знать. Фишер-Дискау выступает как дирижер симфонический, демонстрирующий самобытную трактовку произведений Шумана и Брамса. Доминго ощущает себя как дирижер исключительно оперный, наиболее совершенным его творением признана «Летучая мышь» Иоганна Штрауса. Успех Доминго за дирижерским пультом в лондонском «Ковент-Гарден» в предновогоднюю ночь 1984 года ничем не уступал его успехам певца. В настоящее время Доминго является художественным консультантом Оперы Лос-Анджелесского музыкального центра и займет пост ее музыкального руководителя, как только позволит ему это график выступлений в качестве певца. Однако закончим на этом наше сравнение, как бы ни было увлекательно на примере двух крупнейших певцов исследовать особенности породивших их школ. Потому что сегодня нашим хозяином и собеседником становится один из них — Пласидо Доминго. То, что он расскажет о себе и своих коллегах, говорит само за себя. Мне же хочется остановиться на нескольких образах, созданных этим мастером. На наших экранах шли два фильма, в которых действовали герои Доминго. Рядом с экзальтированной, существующей на пределе эмоционального напряжения Виолеттой Терезы Стратас в фильме Франко Дзеффирелли «Травиата» появлялся элегантный, изящный, но неглубокий и явно сластолюбивый Альфред Пласидо Доминго. Певцы безупречной игрой и тончайшими вокальными красками помогали режиссеру снять со своих персонажей наслоившуюся за долгие десятилетия красивость. Рядом с бездонными глазами Стратас, колодцами ее души, рядом с некоторыми вокальными «сбоями», выражающимися в ее резком, сбивчивом дыхании, барская повадка Альфреда, вальяжное пение, купание в красотах вердиевских мелодий могли бы выставить исполнителя этой роли в невыгодном свете. Могли бы, если бы исполнителем ее не был Пласидо Доминго. В этом романтическом юноше, в его притязаниях на любовь Виолетты с первого же появления проступало, хоть и едва заметно, животное начало; в этом лихом наезднике, скачущем по лугам в самозабвении от счастья обладания любимой женщиной, было что-то от породистого жеребца. Нет, не грубое и не брутальное, но все же нечто чрезмерное для истинного кавалера, для идеального возлюбленного. Актер и режиссер разглядели это качество в вердиевском герое с поразительной зоркостью. Не просто любовь и неуравновешенность, ревность и молодой пыл вели Альфреда к скандалу третьего акта — именно природная плотскость, едва заметной жилкой бившаяся в его облике, взбухала и превращала пылкого влюбленного в жестокое животное. Финал третьего акта «Травиаты» — один из шедевров Дзеффирелли. Достойное место в этой амальгаме звука и зрелищности занимают голос и лицо Доминго. Золотой свет бренной жизни и густая синева «внутреннего мира» Виолетты, которые владеют нашим вниманием с самого начала оперы, здесь сплавляются воедино. Мощная волна вердиевской музыки несет на своем гребне всех участников драмы. И голос Доминго, в котором взрыв страсти уступил место болевому ожогу, его большие темные глаза, чья туманящая чувственность сменилась облагораживающим страданием, выводят Альфреда к тем пределам, где до этого безраздельно господствовала Виолетта Терезы Стратас... В фильме «Кармен» Франческо Рози воплощаемый Пласидо Доминго Хозе существует рядом с Кармен Джулии Михенес-Джонсон. Эту Кармен мало назвать эксцентричной или вызывающей — вызов брошен не только цыганкой офицеру, но, кажется, самой певицей — устоям и традициям всей классической оперы в целом. Эта Кармен с ее раскованностью, которую уместнее было бы назвать распущенностью, полным отсутствием стандартной морали, тяготеет к роковой культуре. На сцене оперного театра такую героиню, пожалуй, и представить невозможно. Напротив, про Хозе мало сказать, что он застегнут на все пуговицы, закрыт для внешнего мира и сумрачен духом — общая скованность этого персонажа говорит о подспудных тяжелых страстях, таящихся на дне его неразбуженной души. Хотя Доминго писал, что Рози «в целом плохо понимает характер Хозе»*, образ этот не потерялся рядом с ошеломляющей свежестью кинематографичнейшей из всех Кармен. Конечно, тут сказался огромный опыт Доминго, его «вжитость» в роль Хозе и предельно естественное существование в испанском антураже. Тяжелая медлительность, тяжеловесность Хозе-медведя, Хозе-чудища, способного загрызть свою жертву, с самого начала окутывает образ, создаваемый Доминго, в трагическую дымку. Несколько навязчивая параллель жизни человеческой с корридой, проходящая через весь фильм, имеет самое прямое отношение к образу Хозе: именно он должен будет потерять всю свою неповоротливость, громоздкость и нескладность, чтобы превратиться в разъяренного быка. Насупленные брови, налитые кровью глаза, неудержимое движение к концу... В финале оперы ртутная подвижность Кармен преображается в бесчувственную оцепенелость, а разбуженная душа Хозе проявляется в чудовищной агрессивности, в неконтролируемом умом насилии. На протяжении всего фильма Доминго вместе с Руджеро Раймонди, исполнителем партии Эскамильо, противостоит разрушительной силе Кармен. Иногда это читается не только как противостояние разных миров, разных систем нравственности, но и как отпор, который вызвались дать разрушительнице оперных стереотипов два мастера мировой оперы.
* ScovellJ. Domingo: Giving His Best. Opera News, Sept. 1987,
Голос Доминго звучит в этой записи особенно полно и мощно, и кажется, только такая несокрушимая цельность может выстоять перед натиском блистательной сцены с кастаньетами, в которой Михенес-Джонсон выходит за самые последние рамки оперных приличий... Оперный певец, самый значительный, самый талантливый, и в развитии своем, и в конкретных свершениях в высшей степени зависит от тех, кто включает его в систему спектакля,— от дирижера и режиссера. Не случайно так подробно и так заинтересованно рассказывает нам Доминго на страницах своей книги о блестящем созвездии носителей обеих профессий. Но есть и другая сторона этой заинтересованности — желание многих дирижеров и режиссеров работать именно с Доминго, которого все они в один голос признают профессионалом высшей пробы. «Я испытываю огромное удовольствие, когда на другом конце дирижерской палочки находится Доминго, потому что он всегда знает суть происходящего; с ним можно разговаривать лишь посредством глаз и достичь результатов, на которые в обычных условиях уходят месяцы репетиций»,— так говорит о певце американский дирижер Лорин Маазель, с которым Доминго работал, в частности, над записью фонограммы фильма «Кармен»*. Глубоки и плодотворны творческие связи Доминго с одним из крупнейших современных оперных режиссеров Франко Дзеффирелли. Коронная партия Доминго — Отелло в одноименной опере Верди,— как свидетельствует сам певец, была выстроена во многом под влиянием концепции Дзеффирелли во время подготовки знаменитого спектакля «Ла Скала», открывавшего сезон 1976/77 года. На Отелло в исполнении Доминго колоссальный спрос во всех крупнейших театрах мира. На обложке английского издания книги, которую вы сейчас читаете, певец красуется в одеянии Мавра, с мстящим кинжалом в руке, потому что роль Отелло действительно стала коронной в списке исполненных партий.
* Snowman D. The World of Placido Domingo. London, 1985, p. 260.
И вот мы видим Доминго в фильме Дзеффирелли «Отелло», которого так ждали. И убеждаемся в том, что зависимость большого певца от творца спектакля или фильма — режиссера, сколь бы ни был этот режиссер талантлив, имеет еще и оборотную, негативную сторону. Дзеффирелли-режиссера в этом фильме не узнать: трудно поверить, что тот, кто режет здесь по живому вердиевскую музыку, монтирует во время большого дуэта Отелло и Дездемоны «дайджест» трудной жизни Мавра, выбирает самые внешние мотивировки событий, оставляя весь воздух трагедии где-то за стенами великолепных помещений,— трудно поверить, что это автор поразительной «Травиаты». Что-то происходит и со сверхпрофессиональным Доминго — нам уже кажется, что голос его звучит не так наполненно, не так убедителен создаваемый им образ. Да и сам певец честно признался в собственной неудаче, в разочаровании, которое принес ему фильм*. Парадоксы искусства: у Рози, чуждого ему по духу, Доминго сыграл убедительно и глубоко, у Дзеффирелли, единомышленника и друга, выношенная роль не получилась. И все же сверкнувшие несколько раз на экране глаза затравленного зверя, выплеснувшийся страшный крик отчаяния убеждают нас в том, что Доминго, вне всяких сомнений, принадлежит к числу лучших исполнителей этой королевской партии тенорового репертуара. «Определенный интерес к дирижированию полезен любому музыканту, так как он заставляет слушать любую музыку оркестровыми ушами»,— сказал Даниель Баренбойм, сам прошедший путь от исполнителя-солиста до дирижера**. И весь творческий путь Доминго доказывает, сколь важно для певца, для исполнителя лишь определенной партии в целостном произведении осознать общее его звучание — одновременно в музыкальном и в общехудожественном смысле. Эта черта артистической личности, может быть, наиболее сильно отличает Доминго от большинства сегодняшних оперных певцов, безупречных профессионалов, сосредоточенных, однако, прежде всего
* См.: Scovell J. Op. cit., p. 16. ** Snowman D. Op. tit., p. 261.
на том, чтобы выполнить как можно лучше свою часть работы. Доминго, как правило, оценивает общий результат. Ответственность художника перед искусством — так, наверное, надо было бы определить главную тему всего творческого пути Доминго. И даже если его рассказы о своей жизни, о своих ролях покажутся нам подчас бесхитростным повествованием, лишенным сверхзадачи, как сказали бы деятели театра, надо вспомнить, что ремесло литератора и ремесло оперного актера — вещи разные и даже далекие. Критик Дэниэл Сноумен, с предельным доброжелательством вглядываясь в художественную личность Доминго, не может дать ответа на важный вопрос, задаваемый им самому себе: «Способен ли Доминго анализировать свои музыкальные инстинкты и передавать их в понятной форме другим или на дирижерском подиуме он является, в конечном счете, всего лишь талантливым любителем?»*. Вслушаемся и мы в незамысловатые, казалось бы, рассказы Доминго о работе над партиями, и прежде всего в рассуждения о будущем оперы, о школе молодых певцов, которую ему хотелось бы организовать. Именно ответственность за судьбы столь любимого им искусства оперы, в котором, по словам критика, состоит главное счастье Доминго, и составляет сверхзадачу этих разговоров. Американцы любят регистрировать рекорды. К осени 1987 года Доминго восемь раз открывал сезон «Метрополитен-опера». Его превзошел только Карузо. Доминго срывал самые долгие овации в мире оперы, ему принадлежит самое большое число поклонов после представления. «Он разве что не выступал еще в главном кратере Этны, не участвовал в прямой трансляции из космического корабля и не пел в благотворительном концерте перед пингвинами Антарктиды»,— пишет близкий друг Доминго, дирижер и критик Харви Сакс**. Человеческая энергия и художественные возможности Доминго грандиозны — в настоящее время, безусловно, нет ни одного тенора с таким обширным и тесситурно разнообразным репертуаром, как у Доминго.
* Ibid. ** Sachs Н. Afterword.— In: P. Domingo. My First Forty Years. London, 1983, p. 183.
Поставит ли его будущее в тот же ряд, что Карузо и Каллас, решит время. Однако уже сейчас несомненно одно: в лице Доминго мы имеем дело с крупнейшим представителем итальянской оперной традиции второй половины XX века, и его собственные свидетельства о своей богатой событиями артистической карьере представляют огромный интерес. Алексей Парин
МАДРИД И МЕХИКО (1941-1961)
К дебюту в партии Альфреда, ведущей теноровой партии «Травиаты», я в двадцать лет технически еще не был готов. Она трудна для меня и сегодня. И все же в мае 1961 года в мексиканском городе Монтеррей я решился на этот шаг. Спектакль потребовал от меня огромных усилий, причем не только в пении. Ведь я просто не умел тогда контролировать свои чувства на сцене и в результате в том финальном ансамбле, где Альфред поет, обращаясь к Виолетте: «Не говори о смерти, не мучь меня...»*, буквально захлебывался от слез. Но самое ужасное ожидало меня в конце второго акта. После моей реплики: «Кто бродит там по саду? Кто там?» —на сцену должен был выйти посыльный и осведомиться: «Господин Жермон?» Альфред отвечает: «Это я», и тот продолжает: «Недалеко отсюда, в пути, я встретил даму, она вам шлет записку». Затем посыльный уходит, а потрясенный Альфред читает сообщение о том, что Виолетта покинула его. Увы, в тот вечер посыльный вообще не вышел, и ответить на мой вопрос: «Кто там?» — оказалось некому. Надо было мгновенно решать, что делать. Оглядевшись по сторонам, я ответил себе сам, спев: «Никого». Потом сделал круг около стола, за которым Виолетта в предыдущей сцене писала свое письмо. К счастью, на нем осталось еще несколько листков бумаги. Я взял один из них со словами: «От Виолетты!» — и дальше повел сцену так, будто Виолетта просто оставила для меня письмо, которое я должен был обнаружить. Этот инцидент, случившийся в начале карьеры, заставил меня понять, что на избранном поприще я должен быть готов абсолютно ко всему! Однако мне не хотелось бы вводить вас в заблуждение, представляя дело так, будто я выскочил на сцену, не имея на то никаких оснований, не обладая должными театральными навыками, и мог лишь чисто инстинктивно находить выход из самой невероятной ситуации. Мои родители тоже посвятили свою жизнь музыкальному театру, сначала на родине — в Испании, потом в Мексике, и я не помню такого периода своей жизни, когда бы важнейшей ее частью не был театр.
* Оперные тексты, кроме особо оговоренных случаев, даются в переводах, принятых в советских театрах.— Прим. перев.
Я сильно привязан к своей семье. Само понятие семьи заложено во мне очень глубоко и многое определяет в моей жизни. Именно поэтому так жаль, что я не знал никого из своих прародителей. Оба дедушки и мать моего отца умерли еще до моего рождения, а бабушки со стороны матери не стало, когда я был еще ребенком. Весь наш род по женской линии происходит из басков, в то время как предки отца наполовину каталонцы, наполовину арагонцы. Некоторые члены семьи по отцовской линии жили в Ибисе, и, наверное, если покопаться в родословной поосновательнее, то можно найти моих предков и в Северной Африке. И баски, и арагонцы славятся упорством, твердыми принципами и крепкой жизненной хваткой. Есть примечательный анекдот про арагонца, который уверяет своего приятеля, что сможет вбить в стену гвоздь не молотком, а головой. И вот, он принимается за дело, но гвоздь уходит в стену лишь на дюйм-два, а дальше — никак. Почему? Да потому, что с другой стороны стоит баск, который своей головой уперся в стену и не дает гвоздю пробить ее. Такая наследственность, скажем прямо, может быть очень полезна любому, кто решил сделать карьеру в исполнительском искусстве. В Сарагосе, родном городе моего отца, есть ресторан «Каса Колас», расположенный в широко известном районе, называемом «El Tubo» («Труба»). Ресторан принадлежит старому господину, работавшему здесь официантом в те времена, когда заведение было собственностью моей бабушки. Она продала ресторан этому человеку перед своей смертью. В годы моего раннего детства ресторан прозвали «Вдова Доминго», потому что после преждевременной смерти мужа вести дело пришлось бабушке. Она была женщиной необыкновенно сильного характера, который проявлялся и в воспитании детей, и в хозяйственных делах. Клиенты ее, надо сказать, вежливостью не отличались, ведь в те дни заведение было скорее таверной, чем рестораном. Среди женщин своего поколения бабушка выделялась особой независимостью поведения. Она даже сама водила автомобиль, а тогда шел лишь 1918 год. Ее щедрость была хорошо известна в городе: однажды она выиграла в лотерею деньги и поделила их со своими служащими. Когда умер дедушка, моему отцу, старшему среди троих детей в семье, исполнилось всего десять лет. В юности он брал уроки скрипки, потом играл в оркестрах, участвуя в представлениях опер и сарсуэл* в Сарагосе и других городах Испании. Но вскоре у отца открылся великолепный голос, и он начал петь баритоновые партии в сарсуэлах. Многие специалисты считали его ярким драматическим тенором и настойчиво советовали ехать в Германию для изучения вагнеровского репертуара, но отец был предан семье и не хотел скитаться вдали от дома. Еще в начале своей вокальной карьеры он сделал несколько записей на пластинки, и я нахожу сегодня, что тембр голоса старшего Пласидо Доминго поразительно похож на тембр моего голоса. Его кумиром был Мигель Флета, выдающийся испанский тенор, который пел Калафа на премьере «Турандот» в «Ла Скала». Флета славился умением легко переходить от мощного звука к pianissimo, и мой отец подражал его стилю, хотя и в качестве баритона. Отец удивительно чувствовал движение мелодической линии, его legato и diminuendo были великолепны. К несчастью, певческая карьера отца закончилась рано. В поездках он не следил за тем, чтобы теплее одеваться во время выступлений, и потому постепенно терял голос. Хорошо, что в сарсуэлах есть роли для характерных актеров с небольшими вокальными партиями. Благодаря этому мой отец смог продолжать выступления на сцене, а затем организовал собственную труппу. Сарсуэла для Испании то же, что оперетта для Вены: популярная театральная форма, в которой чередуются музыкальные номера и разговорные диалоги. Сарсуэлы бывают разной продолжительности (от одного до трех актов), а по характеру могут быть серьезными, полусерьезными или комическими. Действие обычно происходит в одной из областей Испании, сюжет основан на событиях повседневной жизни, ее волнениях и страстях.
* Сарсуэла—испанская разновидность музыкально-сценического представления, близкая оперетте.— Прим. перев.
Думаю, процентов девяносто сарсуэл имеют счастливый конец, даже те, в которых развязка содержит трагические обстоятельства — убийства и прочее. В небольших пьесах композиторы не слишком себя утруждали: они могли сочинить совсем чуть-чуть очаровательной музыки, а большую часть пьесы оставить в виде разговорных диалогов. Тем не менее музыка в некоторых сарсуэлах достаточно высокого качества. Я обязан своей любовью к музыке сарсуэл тому обстоятельству, что часто слышал ее, будучи еще маленьким мальчиком. Она очаровывала меня тогда, очаровывает и сегодня. К сожалению, взрослея, начинаешь отчетливее видеть недостатки в предмете своей любви. Но ведь для сарсуэлы справедливо то же, что и для всех других видов искусства: здесь есть произведения великие, хорошие, средние, плохие и безобразные. Когда я был подростком, более всего меня смущало то обстоятельство, что комические роли (роли второго положения) поручались людям с ужасными голосами. Я просто выходил из зала во время их сольных номеров и возвращался, только когда начиналось настоящее пение. Как и отец, моя мать Пепита Эмбиль была звездой сарсуэлы. Она была наделена врожденным талантом, ведь баски известны своей любовью к пению. В Испании говорят, что один баск — это берет, два баска — игра в ручной мяч, три баска — хор. Многие уроженцы этого края, даже не обладая какой-либо музыкальной подготовкой, прекрасно справляются с ансамблевым пением, они великолепно держат строй в многоголосии, обладая природным гармоническим чутьем. Мой дед по материнской линии был церковным органистом и в свободное время любил играть фортепианные переложения опер; а мамин дядя — протоиерей — был знаменит своей выразительной драматической декламацией в мессе. Этот высокий импозантный человек тщательно готовился к исполнению литургии, упражняясь в вокале. Моя мать считает, что именно пример дяди, которого она в детстве видела во время церковной службы, способствовал развитию в ней чувства театра. Моя мама уроженка Гуэтарии, деревни, получившей известность благодаря урожаям «морских даров», а также благодаря тому, что здесь родился Хуан Себастьян дель Кано, или Элькано, возглавивший экспедицию Магеллана после того, как великий мореплаватель был убит. Элькано принадлежал к числу первых людей, совершивших кругосветное путешествие. Баленсиага, знаменитый портной, также был родом из Гуэтарии, которая расположена примерно в двадцати милях от Сан-Себастьяна. Впервые мама начала выступать как солистка-вокалистка с хором «Доностиарра» в Сан-Себастьяне. Этот хор широко гастролировал, и лет в восемнадцать она уже появлялась на сценах Лондона и в парижском зале «Плейель». В Париже мама задержалась, чтобы брать уроки по вокалу у педагога-американца, а затем вернулась на родину и дебютировала в какой-то испанской опере на самой знаменитой испанской оперной сцене — в барселонском театре «Лисео». Там она выступила в роли девушки, которую звали... Пласида! В то время сарсуэла переживала период расцвета. Этот жанр все более привлекал маму, и в начале 1940 года она стала участницей спектакля «Сестра Наварра» Федерико Морено Торробы. Впервые Торроба сыграл важную роль в жизни нашей семьи; впоследствии случаи его доброго вмешательства были весьма многочисленны. В этой постановке пел и мой отец. Именно тогда мои родители встретились и полюбили друг друга. В «Сестре Наварре» есть эпизод, где сопрано признается в любви баритону. Три месяца спустя после этого совместного выступления мои будущие родители поженились. «Ты была так настойчива! — и теперь говорит маме отец.— Что же мне еще оставалось, как не жениться на тебе?» Их бракосочетание состоялось 1 апреля 1940 года. Отцу было 33 года, а матери — 22. В то время создавалось великое множество сарсуэл, и хотя маме предложили контракт на оперные выступления в театре «Лисео», ей очень льстило, что композиторы пишут сарсуэлы специально для нее. Она была так счастлива своим успехом в этом жанре, что решила отдать ему все свои силы. Певцы сарсуэлы выступали один-два раза в день по будням и два-три раза в день по воскресеньям. Многие произведения выдерживали сотню или даже две сотни представлений, и как только труппа прекращала давать один спектакль, она немедленно принималась за постановку другого. Мои родители гордились своей работой, но вообще-то она связала их по рукам и ногам. Голоса их были большой потерей для мира оперы. Когда моей матери исполнилось сорок лет, она разрешила мне аккомпанировать ей в ариях из «Тоски», «Турандот», «Сельской чести», и я не погрешу против истины, сказав, что оперной сцене остается только сожалеть о том, что эта певица никогда не появлялась на ней как солистка. Еще в 1963 году, когда моя жена Марта и я начали работать в Израильской национальной опере в Тель-Авиве и оценили уровень ее труппы, я порывался убедить маму присоединиться к нам и начать оперную карьеру, ведь она была тогда в великолепной вокальной форме. Я родился в типичном мадридском районе Баррио де Саламанка, на улице Ибисы, 30 (теперь 34), 21 января 1941 года. Брат моего отца Педро (Перико) и его жена Росита до сих пор живут в этом доме. Каждый раз, приезжая к ним, я беру верхнее си-бемоль, потому что именно в этих стенах я впервые что-то запел или по крайней мере провизжал эту ноту, и, наверное, даже в более высоком регистре. Городские власти Мадрида установили доску на этом доме, надпись на которой гласит: «Здесь родился Пласидо Доминго». Моя сестра Мари Пепа, родившаяся в сентябре 1942 года, и мой кузен Хайме говорят, что они всегда воспринимают эти слова так, как если бы там было приписано: «И мы тоже!» (Мари Пепа — имя, которое мы называем castho, оно характерно не столько вообще для Кастилии, сколько именно для Мадрида — сердца Кастилии.) Я совсем не помню военного времени, потому что в 1945 году мне было только четыре года, но знаю, что, несмотря на нейтралитет, в Испании были трудности с продуктами (например, не хватало белого хлеба и сахара), и родители в своих гастрольных поездках искали любую возможность достать что-нибудь для детей. Среди наших семейных преданий бытует только одно о том, как рано проявилась во мне любовь к музыке. Это предание связано с именем брата матери Франсиско, моим крестным отцом. Дядя Франсиско, прозванный Пако, был человеком крупного сложения и много курил. По рассказам, в то время когда мама меняла мне пеленки, он частенько стоял рядом, набивая табак в свою трубку, и напевал строчку из испанской песни: «Levantate, morenito, levantate resalao» («Просыпайся, темнокожий малыш, просыпайся и будь весел»). Не знаю, то ли эта фраза, то ли голос дяди Франсиско действовали на некоторые мои мышцы расслабляюще, но не однажды свеженабитый табак в его трубке из-за этого подмокал. Бесспорно, то была реакция на музыку. Я, правда, оставляю право другим судить — положительная или отрицательная. Мы жили вместе не только с семьей дяди Перико, но также с его сестрой Энрикетой и ее мужем Паскуалем. Из тех времен мне ясно запомнились отважные велосипедные прогулки, которые мы с моим двоюродным братом совершали по зеленой, усаженной деревьями улице Ибисы (мои родители приходили от этого в ужас). Мать и отец были в постоянных разъездах, поэтому Мари Пепа и я часто оставались с нашей дорогой тетушкой, сестрой мамы Агустиной. Это общение очень сблизило нас. Когда мне было то ли пять, то ли шесть лет, семья переехала на другую квартиру, в двух кварталах от старого места, на улицу Саинс-де-Баранда. (Недавно, читая книгу дирижера Атаульфо Архенты, я узнал, что он провел последние годы жизни в том же доме, где поселились мы.) Первая школа, где я учился, Колехио Иберико, располагалась на улице, в конце которой раскинулся огромный прекрасный парк Ретиро. Там были и зоопарк, и ботанический сад, и, кроме того, предостаточно места для беготни, игр и езды на велосипедах. Мне помнится ощущение естественности круговорота тогдашней жизни: дом, школа, парк, дом, школа, парк. И так день за днем. Большую часть времени родители находились на гастролях и потому особенно чудесными были периоды, когда мы оказывались вместе. Отец и дядя, оба с тонким чувством юмора, любили поддразнивать детей и часто над нами подшучивали. В моей памяти осталось не так уж много музыкальных впечатлений от тех ранних лет моей жизни, но на некоторых спектаклях, где участвовали родители, мне удалось побывать. Хорошо помню отца — во фраке, со щегольской бородкой,— исполняющего партию элегантного кабальеро де Грасиа в короткой классической сарсуэле под названием «Большая дорога». В холодные зимние мадридские дни мы по утрам ели горячие, хрустящие чуррос: палочки из тонко раскатанного теста, слегка поджаренные на растительном масле. Их мы обмакивали в горячий шоколад. Восторг! Одним из самых счастливых моментов в детстве был для меня тот, когда я видел стоящего на углу продавца с моим любимым лакомством. Сбегать купить чуррос я готов был всегда. Правда, и тетя Росита, и родители доверяли мне покупку и других продуктов, а однажды поручили даже сходить за яйцами. Я был так горд этим, что, возвращаясь из магазина, радостно крутил сетку с покупками над головой. Придя домой, я обнаружил, что все яйца разбиты. Тетя выслушала рассказ о том, как я упал по дороге, и произнесла: «Ну нет, ты вовсе не падал! Мы же все видели из окна!» Рождественская ночь называется в Испании Noche Виепа, и мне кажется, мы с сестрой никогда в эту ночь не спали. Каждый год приходило это потрясающее, радостное время, когда собиралась вся семья и множество друзей. Поскольку мои родители были людьми театра, у нас всегда устраивали маскарад, скорее импровизированный, нежели подготовленный заранее. Например, во время застолья кто-нибудь неожиданно появлялся в дверях в костюме и в маске. Крещение (6 января) испанцы празднуют особенно торжественно. Этот день называют днем трех царей или трех волхвов, что соответствует итальянскому празднику La Befana*. Приходят три царя и приносят детям подарки. В других странах этим занимается на рождество Санта-Клаус. По обычаю, малыши должны за месяц до этого дня написать царям послание, а накануне праздника пораньше лечь спать. Для царей мы готовили угощение, включая и десерт, ставили три больших кувшина с водой: для верблюда, слона и лошади, на которых приезжают цари. А еще мы должны были начистить до блеска и выставить за дверь свои башмаки. Праздник был окружен тайной. Самым большим счастьем оказывалось пробуждение на следующее утро, когда мы обнаруживали массу великолепных игрушек. Мои родители замечательно разыгрывали эту комедию: угощение было съедено, вода выпита и обязательно лежало письмо, в котором цари просили нас хорошо себя вести весь следующий год. Каждое лето мы отправлялись всей семьей в Гуэтарию. Родная деревушка моей матери так прекрасна, что государственные власти объявили ее национальным достоянием и взяли под охрану все постройки.
* Так называется по-итальянски и сам праздник Крещения, и фея-старушка, которая, по преданию, приносит детям крещенские подарки.— Прим. перев.
Мэр ежегодно устраивал в Гуэтарии театрализованный праздник возвращения Элькано. Герой высаживался с корабля, после чего происходило торжество, во время которого по улицам прогоняли незапряженного быка. Когда мне было пять или шесть лет, в деревню приехала небольшая труппа, нечто среднее между цирком и водевильным шоу. Артистам потребовался человек для игры на большом барабане, и я, к великому удивлению тети Аниты и моей сестры, взялся за это дело. Так состоялся мой артистический дебют. В моей памяти живут еще несколько примечательных случаев из детских лет в Испании, но особенно запомнился мне день, когда вместе с одним из мальчиков мы пошли купаться. Происшедшее событие привело в волнение всю Гуэтарию. Ударившись в воде о перевернутую весельную лодку, мой приятель утонул. Это была моя первая встреча со смертью, и она произвела на меня очень сильное впечатление. В другой раз я оказался совсем рядом со смертью, когда подавился сливовой косточкой. Отец сразу же побежал со мной к врачу, но на середине пути увидел, что я почти задохнулся. Тогда он просто залез пальцем мне в горло и протолкнул косточку. Удовольствия это мне не доставило, но зато спасло жизнь и явно не повлияло на голосовые связки. В 1946 году композитор Федерико Морено Торроба, так тесно связанный с судьбами членов нашей семьи, организовал собственную труппу для исполнения сарсуэл, которая должна была на протяжении двух лет гастролировать в Пуэрто-Рико, Мексике и на Кубе. Мои родители участвовали в этом предприятии. Тот период оставил смутный след в моей памяти, возможно потому, что я чувствовал себя очень несчастным из-за отсутствия отца и матери. Их турне заканчивалось в Гаване, после чего труппа должна была вернуться в Испанию. Но мои родители, влюбившиеся в Мексику и в свою очередь снискавшие горячую симпатию мексиканской публики, решили оставшееся до возвращения на родину время провести там. Мексиканские друзья и поклонники принимали их так восторженно, что родители пришли к отважной идее организовать собственный театр и обосноваться в Мексике. Они вызвали меня и сестру, и в декабре 1948 года мы в сопровождении тети Аниты отплыли из Бильбао на корабле «Маркиз де Комиллас». В знак прощания с берегами Испании я пил оршад — прекрасный прохладительный напиток из миндаля. Когда через семнадцать лет я вернулся в Испанию, то первым делом вновь выпил оршад. Что может быть прекраснее для двух маленьких детей, нежели месячное путешествие на корабле! С нами вместе плыли еще двадцать ребятишек из разных стран. Мы проводили вместе все время: каждый день встречались в ресторане, смотрели кино, торчали на танцах, проказничали, играли на верхней палубе, это было чудесно. (6 января, в день трех царей, нас поразило, как это верблюду, слону и лошади удалось добраться до нас по морю, но в этом возрасте в конце концов все кажется возможным, и мы поверили, что так оно и было.) Наш корабль причаливал в нескольких портах Северной Португалии, потом мы отплыли в направлении Карибских островов, останавливались в Кюрасао (Венесуэла), в Пуэрто-Рико и, наконец, в незабываемом месте, где с тех пор мне больше не довелось побывать,— на Кубе. Вид, открывшийся при вхождении корабля в гавань, восхитил нас невероятно. В Гаване мы простояли три дня. В последние годы я получал приглашения выступить там. Надеюсь, в скором времени это и произойдет. Однако я не отправлюсь туда, пока не получу одобрения моих друзей, покинувших Кубу. 18 января 1949 года, как раз за три дня до моего восьмилетия, мы прибыли в мексиканский порт Веракрус. Корабль должен был всю ночь простоять на якоре в гавани, покуда таможенники не проверят на борту документы. Но мои родители разыскали моторную лодку и прибыли встречать нас на ней. Отец отрастил усы, и, когда лодка пристала к кораблю, сестра стала кричать ему, что вовсе не одобряет его внешний вид. Но, конечно, встреча с родителями переполняла радостью и сестру, и меня. Из порта мы поехали в Мехико, где теперь жили родители. Сезон сарсуэлы был в разгаре, а мы, дети, пошли в американскую школу. У мамы родилась идея открыть первоклассный магазин по продаже детской одежды, импортируемой из Испании. Но до открытия магазина и обустройства квартиры, расположенной над ним, прошло немало времени. В те дни нас опекала Эсперанса (Пеланча) Васкес — женщина, бывшая одним из лучших друзей не только отца и матери, но и моим тоже. Эту дружбу прервала только ее недавняя смерть. С Эсперансой жили племянница и два племянника. Вместе с ними мы прекрасно проводили время. Через несколько месяцев и наше жилье, и магазин на улице де лос Инсурхентес, 299, были готовы. Позже мы перебрались в здание, находящееся за несколько кварталов от первого нашего дома, а потом переехали еще раз в очень старый дом традиционной мексиканской постройки, который носил название «Эдифисио Кондеса». За исключением краткого перерыва, я прожил в нем до двадцати одного года. Хотя я и продолжал ходить в американскую Виндзорскую школу до конца учебного года, английский мне так и не дался. Курс английского языка там преподавали, но времени, проведенного в школе, оказалось для меня слишком мало, чтобы достичь хороших результатов. В следующем году я начал посещать Мексиканский институт. Вот тут-то и настало для меня золотое времечко, хотя счастье мое было связано вовсе не с учебой. Я страстно любил футбол и почти каждый день участвовал в двух матчах. Наш учитель Альберто Годинес был так предан этой игре, что всех мальчиков своего класса, входивших в спортивную команду, старался во что бы то ни стало перевести в следующий класс, чтобы мы оставались вместе. Он даже разрешал нам переодеваться в спортивную форму на последних минутах каждого урока, и мы гоняли мяч все пятнадцать минут перерыва. Я был вратарем. В среднем мы играли два — два с половиной часа в день. Команда поднялась до такого уровня, что из нее потом вышли три профессиональных игрока, в том числе Хосе Луис Гонсалес, который стал футболистом международного класса и выступал за национальную команду на двух чемпионатах мира. У испанских мальчишек есть обычно две заветные мечты — стать футбольным вратарем или тореадором. Когда мне было около четырнадцати лет, я пошел с приятелем на небольшой тьентас—тренировочную арену — попробовать свои силы. Бычок, с которым я должен был сразиться, ростом был не больше взрослого дога, но я испугался: вдруг, если он сильно ударит меня, это обнаружат мои родители. Бычок погнался за мной, повалил на землю... В результате я решил остаться вратарем. Тогда же мое внимание начали притягивать спектакли труппы, организованной родителями. По воскресным дням, а иногда и в середине недели, несмотря на то что утром надо было идти в школу, я отправлялся в театр, где играли отец и мать. Кроме участия в своих спектаклях, они выступали еще и с испанской труппой «Кавалькада», программы которой включали номера из сарсуэл, танцы фламенко и чтение стихов, обычно из Гарсиа Лорки. Однажды родители устроили песен но-танцевальный конкурс для детей. Я принял в нем участие, исполнив испанскую песню в стиле фламенко, которая называлась «Тани». Мне было тогда восемь лет, я ходил в коротких штанишках и был очень упитанным. Мама заметила, что во время пения одно ухо у меня сильно покраснело — нечто подобное время от времени происходит со мной до сих пор, если я перегреюсь, переутомлюсь или просто почувствую какую-то неловкость. Победив в конкурсе, я получил приз — книжки и футбольный мяч,— но какой-то мальчуган заплакал оттого, что не он выиграл состязание, и я отдал ему все награды. Так состоялся мой дебют в Западном полушарии. (В Мексиканском институте я всегда вызывался петь, когда набирали школьный ансамбль. Мой сольный репертуар ограничивался «Гранадой», и ребята, привыкшие часто слышать ее в моем исполнении, прозвали меня «гранадцем».) Иногда для участия в сарсуэлах требовались дети, тогда и мы с сестрой попадали на службу. Таким образом, я начал постигать основы театрального дела в раннем возрасте. Я сидел на оркестровых и сценических репетициях, видел работу постановочных и пошивочных цехов, ставил ноты на пюпитры в оркестровой яме. Мои родители сами были антрепренерами, поэтому я познал суровую действительность театрального мира вовсе не с парадной стороны. Сейчас я счастлив, потому что просто пою, мне за это платят и публика заполняет зал. В театре моих родителей спектакли играли отнюдь не всегда при аншлаге.Обычно кто-нибудь — отец или мать — отправлялся посмотреть из-за занавеса в зал и определить, насколько высок сегодня сбор. Но я не помню, чтобы опасения насчет малочисленности публики отражались на ходе представления. Мои родители были истинными артистами и всегда играли в полную силу. К счастью, серьезных финансовых проблем у них и не возникало. Вскоре после нашего приезда в Мексику я и моя сестра начали учиться игре на фортепиано у прекрасного педагога Мануэля Барахаса. Мы много занимались дома, а дважды в неделю после школы отправлялись к нему на урок. Племянники Пеланчи тоже учились у него. Обычно тетушки прогуливались неподалеку, поджидая нас во время урока, и если урок шел плохо, то Барахас кричал: «Тетушки, наверх!» Они должны были подняться и выслушать его ругань в адрес кого-нибудь из учеников. Провинившегося он наказывал так: надо было полчаса или час стоять с вытянутыми руками, держа в них книги. Сейчас это кажется жестоким, но в то время считалось вполне оправданным. Тетушка Агустина наблюдала не только за нашими музыкальными занятиями. Родители, как всегда, часто гастролировали — то ли в мексиканских провинциях, то ли даже в других латиноамериканских странах. Однажды они провели восемь месяцев в Пуэрто-Рико, так что довольно долгое время мы оставались без них. Наша тетушка, несмотря на строгость, была замечательным человеком. Воспитатель чужих детей чувствует за них гораздо большую ответственность, чем за собственных. Особую требовательность Агустина проявляла в вопросах пунктуальности, поэтому если мои друзья начинали перекидываться бутылками с молоком, которые я купил на рынке, то я боялся выговора за разбитую бутылку ничуть не меньше, чем за опоздание хотя бы на несколько минут. В среду вечером тетушка обычно отлучалась из дому, и эти дни получили у нас название «пепельные среды»*: мы тайком приводили друзей, чтобы вдоволь побезобразничать. Хорошо помню, как мы забавлялись со стоявшим у нас на фортепиано бюстом. Один из моих приятелей бросал его в окно из нашей квартиры на третьем этаже, а другой должен был внизу поймать.
* Так у англичан называется среда первой недели великого поста.— Прим. перев.
Вообще, я вспоминаю Агустину и то время с величайшей любовью: тетя действительно была для нас второй матерью. Когда мне исполнилось четырнадцать лет, Барахас заболел и умер. Перед родителями встал вопрос, стоит ли готовить меня к профессиональной карьере музыканта. Наконец они решили отправить меня в Национальную консерваторию, где студенты изучали и музыкальные, и общеобразовательные предметы. Поначалу мне было там трудно. Я любил Барахаса, привык к нему и очень долго приспосабливался к своему новому учителю. Но я верю в la forza del destino*, в провидение, все, что ни происходило в моей жизни, обычно оборачивалось к лучшему. Действительно, если бы мой учитель был жив, я мог и не попасть в консерваторию и в моей судьбе не случился бы тот переворот, который произошел в скором времени на этом новом жизненном пути. Оставаясь у Барахаса, я, вероятнее всего, стремился бы стать концертирующим пианистом. И хотя игра на фортепиано давалась легко — я хорошо читал с листа, обладал природной музыкальностью,— сомневаюсь, что из меня получился бы большой пианист. Наконец, если бы не было новых обстоятельств, я никогда не начал бы петь так рано, как это случилось. В консерваторию я пришел мальчиком, у которого за душой не было ничего, кроме футбола и игры на фортепиано. Футбол я продолжал любить, но он уже больше не играл такой важной роли в моей жизни. Мне очень нравились уроки литературы, математики, причем особенно хорошо я помню старую испанку, которая преподавала математику. Сам я никогда не имел ничего против того, чтобы поиздеваться над строгими учителями, но эта дама была настолько симпатична, что насмешки наших ребят всегда раздражали меня. Они передразнивали кастильское произношение этой бедной женщины. Есть большая разница между тем, как произносят мягкие «с» и «2» в Кастилии и в Мексике, да, собственно, повсюду в Латинской Америке. У мексиканцев они звучат приблизительно так же, как в английском языке, а у кастильцев больше походят на английское же «(/i». Когда я приехал в Мексику, то поначалу меня тоже дразнили за акцент, что не раз приводило к дракам.
* Сила судьбы (итал.).
Позже я, как и все дети, приспособился к местному произношению, но даже теперь, бывая в Испании, я совершенно естественно перехожу на кастильский говор. В Аргентине же, как правило, говорю по-местному, более певуче, произнося двойное «I» довольно твердо. Как ни странно, но в консерватории, которая давала весьма основательное, разностороннее образование, уроки были значительно менее интересными, чем у Барахаса. Один приятель как-то сказал мне, что нигде, кроме консерватории, не отучают столь успешно любить музыку. Вместо насыщенного часа занятий через каждые три-четыре дня, к которому я привык во время обучения у моего частного педагога, я теперь получал урывками уроки минут по двадцать, не более. Я замкнулся, потерял интерес к фортепиано, хотя совершенствовался в новых важных для меня предметах — сольфеджио, гармонии и прочих дисциплинах. Учитель по сольфеджио, очень знающий преподаватель, приходил в неистовство, если кто-нибудь не мог правильно спеть свою партию, и начинал кричать: «Музыканты! Да мы все просто умственно отсталые существа! Физики и химики должны знать тысячи сложнейших формул, а наша забота — всего лишь семь нот: до-ре-ми-фа-соль-ля-си. Снова до, снова ре, снова ми — то же самое опять и опять!» Для консерватории те годы были периодом расцвета. Здесь преподавал Карлос Чавес, известный композитор и дирижер, звезда профессорского состава. Профессор Хулиан Карильо был ведущим пропагандистом сочинений для четвертитонового фортепиано. В консерватории я дружил с Эдуардо Матой — сегодня он хорошо известен и с успехом выступает как дирижер. Мата и я даже сочинили вместе пьесу — Симфониетту № 1. Мы не задумываясь убегали с общеобразовательных предметов, какой-нибудь биологии или математики, чтобы работать над композицией или играть в четыре руки. Позже Эдуардо посещал в консерватории дирижерский класс Игоря Маркевича, куда и я ходил в качестве вольнослушателя. Тогда Маркевич работал над тремя симфоническими произведениями: Четвертой симфонией Чайковского, Второй сюитой из «Дафниса и Хлои» Равеля и «Вариациями на тему Пёрселла» («Путеводитель по оркестру для юношества») Бриттена. Эти занятия развили во мне интерес к симфонической музыке и дирижированию. Но уже задолго до того времени я стал наблюдать за работой певцов из Национальной оперы, которые приходили в консерваторию, чтобы взять урок у преподавателя или позаниматься самостоятельно. Артисты будили мое любопытство. Я побывал в классах у нескольких педагогов вокала, и мир оперы стал постепенно притягивать меня, хотя в то время я даже не пробовал петь в сарсуэле у родителей. В Мексиканском институте, где я проучился первые пять лет, занимались только мальчики. После школьных занятий я прямехонько направлялся домой. В консерватории же классы были смешанными, уроки иногда продолжались до вечера, поэтому я имел алиби, чтобы не всегда появляться домой к ужину. Кстати, лично я не согласен с тем, что раздельное обучение способствует лучшему сосредоточению. Когда мальчики и девочки учатся вместе, у них появляется большая потребность сделать что-то действительно хорошо или по крайней мере произвести хорошее впечатление. Меня очень заинтересовали некоторые девочки в консерватории, и, как только представился случай, я пригласил прогуляться одну из них. Она была, как и я, студенткой-пианисткой, но по возрасту на два года старше меня. Как раз тогда же я впервые попробовал петь, и она аккомпанировала мне на фортепиано. Когда мне исполнилось шестнадцать лет, я решил уйти из дома, чтобы жить вместе с этой девушкой. Мы скрывались у одного из ее старших братьев и вскоре тайно поженились. Этот драматический эпизод имел для меня большие последствия, поэтому мне тяжело вспоминать о нем даже сегодня. Я связываю случившееся с тремя обстоятельствами. Во-первых, с частыми отлучками из дома родителей. Они были так поглощены работой, что отец никогда не беседовал со мной о жизни и вряд ли даже представлял себе, что творится в душе его сына. Я считал, что мое тогдашнее отношение к подруге — это и есть истинная любовь, а поскольку темперамента у меня было хоть отбавляй, то решил, что нам непременно надо пожениться. Сыграла свою роль и строгость тетушки, которая, как я теперь хорошо понимаю, сильно ущемляла права подростка, стремящегося к независимости. И, наконец, надо признать тот факт, что сильное эмоциональное напряжение свалилось на меня не вовремя — ведь это был самый сложный, тот, что называется переходным, период юности. Родители, находившиеся вместе с Пеланчей в Европе, узнали о моем уходе из дома. Вернувшись, они разыскали меня и привели назад. В конце концов мне удалось убедить отца, что раз уж я женат, то должен по крайней мере получить возможность увидеть жену. Вместе с ним мы пошли домой к ее родным, а когда пришло время расставаться, я кинулся к отцу со словами: «Умоляю! Я чувствую, что должен быть здесь». И остался. Ее родители нашли нам квартиру, мы в нее переехали, и скоро моя жена забеременела. Потребовалось совсем немного времени, чтобы понять совершенную безысходность нашего положения. Мы были очень молоды, не имели никакого жизненного опыта, не могли себя обеспечить. А тут еще родился ребенок — мальчик, которого мы назвали Хосе (Пепе). Это произошло в июне 1958 года, когда мне было семнадцать лет, поэтому в сорок два года я уже имел двадцатипятилетнего сына и маленькую внучку. С женой мы разошлись, не прожив вместе и года, хотя оформление развода произошло лишь годом позже. Это было ужасно мучительное для меня время. Я не знал, как выбраться из случившейся катастрофы. Даже сейчас, когда я могу вспоминать обо всем этом спокойно, я продолжаю удивляться, как ее родители, которые были в курсе всего того, что с нами происходило, могли позволить своей восемнадцатилетней дочери уйти из дома и выйти замуж за шестнадцатилетнего юнца. Но судьба вновь на долгое время смилостивилась ко мне. В известном смысле женитьба ускорила становление моей карьеры. Я должен был искать работу, чтобы хоть как-то поддержать жену, ребенка и себя. Оставаясь в консерватории, я неминуемо превратился бы в того, кого называют «консерваторской крысой». Это категория людей, которые учатся делать все профессионально, но никогда не превращаются в настоящих артистов. Уход из консерватории открывал передо мной новые возможности и делал меня независимым. Когда я окидываю мысленным взором те четыре года, что прошли между рождением сына и моим отъездом из Мексики, то до сих пор поражаюсь количеству мест, где я успел поработать, и разнообразию своей тогдашней музыкальной и театральной деятельности. Первый ангажемент я получил как аккомпаниатор мамы для ее концертов в Мериде (штат Юкатан). После этого я начал выступать в труппе родителей в сарсуэлах. К тому времени я уже знал большую часть их репертуара и прекрасно себя чувствовал, выступая в баритоновых партиях. Дома родители помогали мне советами по овладению голосом. Позже, в консерватории, я стал более серьезно, чем раньше, посещать вокальные классы. Собственно говоря, у меня никогда не было учителя по пению, хотя я прослушивался у нескольких педагогов. Одна дама, очень сведущая в физиологии голоса, пыталась объяснить мне, как надо пользоваться надгортанником и гортанью, что делать с дыханием, рассказывала что-то про мышцы лба, про то, каким способом добиваться резонанса... Но все это было чистой теорией и нисколько не помогло мне в пении. И все же один педагог мне нравился — чилиец Карло Морелли. Его брат Ренато Дзанелли прославился исполнением роли Отелло. (Их настоящая двойная фамилия — Моралес-Дзанелли. Морелли начинал как тенор, затем стал баритоном; Дзанелли же, наоборот, перешел из баритонов в тенора.) Я заинтересовался классом Морелли, зная, что у него берут уроки многие лучшие профессиональные певцы Мексики. Морелли не обращал никакого внимания на вокальную технику. Его гораздо больше привлекали особенности интерпретации, а именно это и интересовало меня с самого начала. Он был мистик и спирит, верил, что мистицизм помогает пению. Я не разделял его взглядов (не разделяю их и сейчас) и тем не менее пошел в его класс. Морелли носил великолепное кольцо с сапфиром, золотая оправа была сделана в форме двухголового змея. Умирая, он просил свою жену отдать это кольцо мне, и я ношу его по сей день. Именно в классе Морелли я впервые взял верхнее си-бемоль. Случилось так, что в тот день консерваторию посетил президент Мексики Адольфо Лопес Матеос. Он зашел в класс, когда я пел в квартете из «Богемы». Я безумно радовался своему новому высокому звуку, и спустя годы другая ученица класса — это была моя будущая жена Марта — рассказывала, как уморительно я закидывал голову в присутствии президента, чрезвычайно гордясь собой! И в консерваторские годы, и позже мой хороший друг Пепе Эстева открывал вечером каждого понедельника двери своего дома для любителей музицирования. Эти встречи имели очень большое значение для моего музыкального образования. Пепе, занимавшийся пением, происходил из необычной, несколько эксцентричной семьи, все члены которой страстно увлекались музыкой. Его мать играла на арфе, сестра — на гитаре, а брат был скрипачом (сейчас он руководит Мексиканским оркестром). На эти вечера собирались от четырех-пяти до двадцати человек. Мы захватывали из дома еду, а мать Пепе не один раз за вечер варила кофе. Наши посиделки начинались в половине девятого или в девять часов вечера и продолжались до двух-трех часов ночи. Каждый приносил с собой какие-нибудь ноты. И хотя я уже пел, в этом доме главной моей задачей была игра на фортепиано. Я появлялся с огромной кипой нот в руках, заявляя в шутку, что ничего не смог приготовить. Аккомпанируя брату Пепе, я познакомился со скрипичным репертуаром, играя в ансамблях, постигал тонкости камерной музыки. Но больше всего мне приходилось быть концертмейстером певцов. Эти вечера стали нашим университетом. Обычно несколько певцов Национальной оперы показывали здесь друг другу свои работы, обсуждали роли, говорили об известных современных вокалистах. Поскольку кое-кто из них в театре конкурировал, развлечение приобретало порой привкус соревнования. В семействе Эстева регулярно появлялись Хулио Хулиан и Карлос Сантакрус — тенора с великолепными верхами. Хулиан обладал прекрасным голосом и сделал успешную карьеру в Мексике еще до того, как я начал выступать. Сантакрус работал в труппе моих родителей, и позже я дирижировал постановками, в которых он участвовал— сарсуэлами «Озорница» и «Луиза Фернанда». Обе принадлежали перу нашего старого друга Морено Торробы. Эти еженедельные встречи развивали меня как музыканта гораздо больше, нежели все другие занятия. Я поглощал огромное количество музыкальных произведений, а практика музицирования учила меня тому, где и как вести партнера, а где и как идти за ним, давала возможность узнать разные стили, а в пении — типы голосов. Мое участие в музыкальных вечерах продолжалось не менее трех лет. Я и сегодня нахожу эти встречи полезными и приятными, вспоминаю о них с любовью, сожалея о том, что они остались в прошлом. Нынче я могу только мечтать о свободном времени для любительского общения с музыкой... Несмотря на свою новую верхнюю ноту и другие признаки, свидетельствовавшие о возможности развивать теноровый диапазон, я продолжал петь баритоновые партии в труппе моих родителей. Правда, баритоны сарсуэлы всегда поют в верхнем регистре, их тесситура соответствует возможностям традиционно понимаемого высокого баритона. Один из сезонов мы с отцом провели в гастролях по юго-восточной Мексике с другой труппой. Я пел в хоре, играл на фортепиано, поддерживая маленький оркестр, вел диалоги — одним словом, изо дня в день делал все то, что требовалось в представлениях. Когда мы были в Веракрусе, в том самом мексиканском порту, куда я впервые приехал ребенком и где родилась Марта, постоянный солист-тенор заболел, и меня попросили заменить его в спектакле «Луиза Фернанда». Партии тенора в сарсуэлах имеют устрашающую тесситуру, с ними не пошутишь. И вот неожиданное стечение обстоятельств заставило меня дебютировать как тенора. Те гастроли запомнились мне еще по одной причине. Однажды я опоздал на важную репетицию, и отец отчитал меня за расхлябанность перед всем коллективом. Это вызвало во мне острое чувство стыда. Отец был абсолютно прав: я получил незабываемый урок профессионального отношения к делу и пунктуальности в театре. Продолжая оставаться в труппе родителей на положении баритона, я пел во многих важных спектаклях репертуара. Он включал сарсуэлы «Ла калезера», «Терраса дворца», «Катюшка», «Луиза Фернанда», «Гавиланес» и другие. Мы выступали в Монтеррее, Гвадалахаре, Мери-де, Агуаскальентесе, Сан-Луис-Потоси — короче говоря, по всей Мексиканской республике. Случилось так, что в день смерти папы Пия XII мы оказались в католическом центре Мексики — Гвадалахаре. Последовавший за тем период траура был вдвойне печален для моих родителей, потому что на спектакли приходило очень мало людей. Как раз в то время было объявлено о прослушивании на сольные партии и в хор для постановки мюзикла «Моя прекрасная леди», который впервые должен был ставиться в Мексике, на испанском языке, конечно. Предполагалось повторить ту же постановку, что шла в Лондоне и Нью-Йорке, с такими же декорациями, костюмами, с той же хореографией. Я получил роль пьяницы из числа дружков Альфреда Дулиттла. На меня были возложены также обязанности ассистента дирижера и ассистента концертмейстера. Профессора Хиггинса играл один из лучших мексиканских актеров — Маноло Фабрегас, но найти исполнительницу главной роли оказалось весьма затруднительно. Как-то, когда мы с Пепе Эстевой ждали автобус, мимо проходила наша приятельница, певица-сопрано Кристина Рохас. Она пожаловалась на отсутствие работы, и мы настойчиво посоветовали ей отправиться на прослушивание в хор, который еще не был набран полностью. Она пошла, спела арию из «Мадам Баттерфляй». Когда Кристина закончила ее, я увидел толпу людей, вырвавшихся на сцену из-за кулис. Началась невообразимая суматоха: ей тут же начали примерять туфли, шляпы, платья, парики — она получила роль Элизы Дулиттл! Я не мог предвидеть, что события развернутся таким образом, но, конечно, был очень рад за Кристину. Она блестяще исполнила партию и имела большой успех. Это может показаться неправдоподобным, но «Моя прекрасная леди» долгое время ежедневно шла на сцене, а по воскресеньям спектакль играли даже дважды. У нас не было ни дня отдыха. Без перерыва прошло сто восемьдесят пять представлений. Когда артистам приходится играть один и тот же спектакль месяц за месяцем, они начинают понемногу сходить с ума и, чтобы снять ощущение монотонности, проделывают всякие забавные штуки. То вам подвинут стул на слабых ножках, то постучат в дверь гримуборной, а как только вы ее откроете, на вас выльется кувшин воды, причем перед самым выходом на сцену. Однажды мы окунули накладные усы Хорхе Лагунеса (тенора, который пел партию венгерского профессора лингвистики Карпати) в какую-то химическую смесь, в результате чего они приобрели запах экскрементов. Это дало Фабрегасу повод в диалоге с Лагунесом вместо реплики «этот отвратительный венгр» сказать «этот вонючий венгр». Все мы попадали в какую-нибудь переделку. Мне тоже достаточно часто приходилось становиться жертвой розыгрышей. Для того чтобы выглядеть как настоящий пьяница, я надевал грубую поношенную одежду, такие же ботинки, а затем, когда пел в хоре на балу, менял все это на фрак и элегантные туфли. В один из вечеров, начав переобуваться, я обнаружил, что мои бальные туфли прибиты гвоздями к полу, причем из каждого ботинка выглядывало по пять шляпок. Быстро отодрать их было совершенно невозможно, поэтому я появился на балу в старых страшных башмаках и, конечно, выглядел в них весьма забавно. В этой постановке участвовали многие певцы, стремившиеся попасть в оперу. Я же тогда только начинал мечтать о ней. Оперная сцена казалась мне чем-то фантастически далеким, к тому же я слышал мало оперной музыки. Предполагая освоить теноровую тесситуру, я намеревался и дальше петь в труппе моих родителей. В спектакле «Моя прекрасная леди» выступала одна девушка-хористка, которая мечтала стать певицей ночного клуба. Ее тоже звали Кристина. Она мне нравилась, я много и часто аккомпанировал ей на фортепиано. Время от времени я был концертмейстером Кристины и еще одного певца-баритона из театра моих родителей в барах. Баритон нередко выступал в программе кабаре, и, когда он появлялся на сцене, публика обычно начинала бесцеремонно шуметь. «Убирайся! Мы не хотим тебя слушать!— кричали посетители.— Мы хотим видеть девочек!» «Будет вам, парни! — защищался он.— Чем скорее вы прослушаете три мои песни, тем скорее увидите своих девочек». «Хорошо, давай пой, но мы и не подумаем тебя слушать»,— отвечали они. Кто-нибудь из этих ребят толкал меня под локоть: «Эх ты, маэстро! Чего спишь и вздыхаешь?» Так я прошел великолепную практику аккомпанемента любовных лирических песен под рев разбушевавшейся толпы: «Кончай! Замолкни!» Бывало, что выкрикивали и кое-что похлеще. Но и певец, и я воспринимали ситуацию с юмором и не слишком расстраивались. Вскоре после того, как сошла со сцены «Моя прекрасная леди», известная и весьма разбитная мексиканская звезда Эванхелина Элисондо решила появиться в новой постановке «Веселой вдовы». Я получил почетное приглашение выучить с ней роль и спеть в спектакле. В сорока из более чем ста семидесяти представлений я исполнял роль графа Данило, а в остальных — Камиля. Во время одной из репетиций случился пожар, который мы с двумя коллегами пытались потушить. Затем нас быстро повезли в амбулаторию клиники Красного Креста, чтобы ликвидировать последствия отравления дымом. Шофер нашей машины так гнал по улицам Мехико, что я заметил одному из товарищей: «На пожаре с нами ничего не случилось, а вот доберемся ли мы живыми до больницы — это спорный вопрос». В другом мюзикле — детективной истории «Рыжик» — я выступал с красивым мелодичным номером. Во время моего пения премьерша всегда делала что-то не так, стремясь разрушить впечатление от моего исполнения. Главную мужскую партию пел прекрасный испанский артист Армандо Кальво, добрый друг моих родителей. Однажды он заболел, и, поскольку я был его дублером, мне полагалось заменить его. Но роль отдали брату Армандо — Маноло Кальво. Это нарушение профессионального такта очень разозлило меня, и я ушел из постановки. Наш режиссер Луис дель Лано, который занимает сейчас видное положение в телевидении США, частенько повторял в те времена, что любит меня как сына. Я сказал ему все, что думаю по поводу его дурного поступка, однако несколько лет спустя мысленно поблагодарил его, потому что этот инцидент в конечном счете вновь способствовал моему росту и воспитанию во мне независимости. В консерватории вместе со мной учился Мануэль Агилар, сын видного мексиканского дипломата, работавшего в США. Он всегда говорил, что я зря трачу время на музыкальную комедию. В 1959 году он устроил мне прослушивание в Национальной опере. Я выбрал тогда две арии из баритонального репертуара: Пролог из «Паяцев» и арию из «Андре Шенье». Члены слушавшей меня комиссии сказали, что мой голос им нравится, но, по их мнению, я тенор, а не баритон; меня спросили, не могу ли я спеть теноровую арию. Я вообще не знал этого репертуара, но слышал некоторые арии и предложил им спеть что-нибудь с листа. Мне принесли ноты арии Лориса «Любви нет запрета» из «Федоры» Джордано, и, несмотря на фальшиво спетое верхнее ля, мне предложили заключить контракт. Члены комиссии уверились в том, что я действительно тенор. Я был поражен и взволнован, тем более что контракт давал приличную сумму денег, а мне исполнилось всего восемнадцать лет. В Национальной опере существовали два вида сезонов: национальные, в которых выступали местные артисты, и интернациональные — для них приглашали петь ведущие партии известных вокалистов со всего мира, а певцы театра использовались в этих спектаклях на вторых ролях. Меня, собственно, и пригласили главным образом для исполнения именно таких партий во время интернациональных сезонов. В мои функции входило также разучивание партий с другими певцами. Мне довелось быть концертмейстером во время работы над многими операми. Среди них оказались «Фауст» и глюковский «Орфей», при подготовке которых я сопровождал репетиции хореографа Анны Соколовой. Моей первой оперной ролью стал Борса в «Риголетто». В этой постановке в заглавной партии выступал Корнелл Макнейл, Флавиано Лабо пел Герцога, а Эрнестина Гарфиас Джильду. Это был волнующий день. Мои родители, как владельцы собственного театрального дела, снабдили меня великолепным нарядом. Лабо удивлялся, как это начинающему тенору удалось раздобыть такой красивый костюм. Несколько месяцев спустя я выступил в более значительной партии — пел капеллана в мексиканской премьере оперы Пуленка «Диалоги кармелиток». В сезоне 1960/61 года я впервые получил возможность выступать рядом с выдающимися певцами Джузеппе Ди Стефано и Мануэлем Аусенси. В числе моих ролей были Ремендадо в «Кармен», Сполетта в «Тоске», Щеголь и Аббат в «Андре Шенье», Горо в «Мадам Баттерфляй», Гастон в «Травиате» и Император в «Турандот». Император почти не поет, но наряд у него роскошный. Марта, с которой я как раз в то время познакомился ближе, даже теперь не упускает случая напомнить о том, как я гордился великолепным одеянием, хотя сама роль была пустяковая. Когда мне предложили сыграть Императора, я совсем не знал «Турандот». Никогда не забуду своего первого появления в репетиционном зале, где в тот момент хор и оркестр разучивали номер «О луна, что ты медлишь?». Возможно, если бы я стал свидетелем их работы сегодня, то отметил бы, что оркестр играет плоско, да и хор поет не так уж хорошо, но в те минуты музыка совершенно захватила меня. Это было одно из самых ярких впечатлений в моей жизни — такой прекрасной вещи мне еще не доводилось слышать. Играя Сполетту, Щеголя и Гастона, я имел счастье петь рядом с Ди Стефано. Среди теноров, которых я слышал «живьем», он произвел на меня наибольшее впечатление. Его прекрасный теплый и страстный голос, блестящая фразировка и, сверх того, мастерское донесение каждого слова чрезвычайно вдохновляли меня. Пример Ди Стефано заставил меня поверить в то, что чудеса пения, которые демонстрируют нам грамзаписи, сделанные Карузо, Джильи, Флета, Бьёрлингом и другими «гигантами» прошлого, достижимы и ныне. Марта и многие другие молодые артисты были просто без ума от Ди Стефано. В третьем акте «Тоски» они стояли в кулисах и пожирали его глазами, слушая арию «В небе звезды горели». Как-то раз я именно в этот момент подошел к Марте сзади и обнял ее. Она пришла в страшную ярость и сказала, что я слишком много о себе воображаю! Испанский баритон Мануэль Аусенси, певший Жерара в «Андре Шенье» и Скарпиа в «Тоске», обладал одним из самых прекрасных голосов, которые я когда-либо слышал, голосом теплым, красивым, элегантным. Однажды в «Травиате» на августовском спектакле 1961 года Аусенси, игравший Жоржа Жермона, был так великолепен в арии «Ты забыл край милый свой», что ему пришлось повторить ее по требованию публики. Это прямо-таки вывело из себя Ди Стефано — Альфреда, и он заявил, что не выйдет на сцену в финале второго акта. После долгих препирательств авторитетный администратор Эрнесто де Кесада сказал наконец: «Хорошо, господин Ди Стефано, что же нам остается делать? Если вы отказываетесь выйти, то этот мальчик Доминго, который поет Гастона, заменит вас. К счастью, он уже пел Альфреда несколько месяцев назад в Монтеррее». Тут Ди Стефано пришлось изменить свои намерения и довести спектакль до конца. Однако в своем рассказе я забегаю вперед... В оперном театре я задержался не слишком долго — в общей сложности не более нескольких недель. Спустя примерно год я уже вовсю подрабатывал в других местах. Сначала я взялся выполнять функции концертмейстера в гастрольной труппе «Мексиканский ансамбль балета». В ней не было оркестра, и я вместе с некоей госпожой Кардус (ее дочь выросла в талантливую балерину и выступала потом с коллективом маркиза де Куэваса во Франции, а затем танцевала в Штутгартском балете) играл переложения для двух фортепиано балетов «Жизель», «Шопениана», «Дон Кихот», «Коппелия» и «Лебединое озеро». Мне весьма трудно было сконцентрировать свое внимание на клавиатуре, когда рядом, можно сказать у самого рояля, порхали двадцать — двадцать пять милых девушек (это ведь сорок-пятьдесят ножек!). К тому же, судя по всему, я был единственным мужчиной в их непосредственном окружении, который ими интересовался. Но дисциплина предъявляла жесткие требования, и маэстро не позволялось тратить время попусту. Я оказался также одним из тех людей, кого увлекла работа в культурной программе одиннадцатого канала мексиканского телевидения. С момента его открытия я стал делать музыкальную передачу, которая включала фрагменты из сарсуэл, оперетт, опер и музыкальных комедий (все они давались в сопровождении фортепиано). Первой моей заботой был отбор исполнителей. Я привлекал к участию в передаче многих своих друзей из студии Национальной оперы. Не приглашал я почему-то только Марту, что кажется сейчас довольно странным. Но ее положение представлялось мне столь высоким, значительным, что я не надеялся заинтересовать ее этой чепухой. Позже она признавалась, что ужасно хотела участвовать в телевизионной программе. Я подбирал репертуар, обеспечивал участников передачи костюмами, париками, гримом (иногда брал что-то взаймы в труппе у родителей), аккомпанировал большинству певцов и иногда пел сам. Разумеется, без накладок не обходилось и у нас. Во время дуэта Джильды и Риголетто у баритона начала отклеиваться борода, но певец этого не заметил. Я, сидя за фортепиано, стал усиленно жестикулировать, но, пока он удивленно таращился на меня, борода отклеивалась все дальше, свисая со щеки. В другой раз тенор Рафаэль Севилья во время дуэта из «Мефистофеля» Бойто потерял половинку усов. А это, поверьте, еще хуже, чем потерять целую бороду. Наша программа включала также музыкальную викторину, и Марта, выступив под псевдонимом «Большой любитель оперы», выиграла в этом конкурсе партитуру оперы «Служанка-госпожа» Перголези. Благодаря посредничеству моей приятельницы Кристины я был привлечен к участию в еще одном телевизионном сериале, на сей раз посвященном драматическому театру. Мы с Кристиной посещали актерский класс японского специалиста по театру Секи Сано. Там нам довелось познакомиться с человеком по имени Константин. У него были интересные идеи, касавшиеся театра, и я всемерно способствовал его приглашению на должность режиссера драматической редакции телевидения. Под его руководством мы ставили пьесы Пиранделло, Бенавенте, Гарсиа Лорки, Кассоны и даже Чехова. Причем полностью, а не в отрывках. Мне доставались только вторые роли, так как большую часть моего времени отнимала музыкальная программа. Но и эти небольшие роли стали для меня очень хорошей практикой. Секи Сано умел добиваться от артистов великолепных результатов, а Константин обучал меня работе над ролями по системе Станиславского. Создавая образ, вы должны думать о психологическом рисунке роли и лепить ее не только на основе словесного текста, но и представляя себе происхождение, семейное воспитание вашего героя, его манеры, привычки... Правду сказать, главной моей заботой в драматической редакции был отбор музыки для сопровождения: я прослушал невероятное число записей, особенно из симфонического репертуара. Во время передачи я следил за ней по монитору, чтобы в нужные моменты регулировать уровень звучания музыки. Отрепетировать это заранее было почти невозможно: многое приходилось делать с ходу, наспех, без предварительной подготовки. Два телевизионных цикла демонстрировались на экранах от двенадцати до пятнадцати недель в году. Насколько помню, мое участие в них продолжалось около двух лет. Два известнейших мексиканских актера — Энрике Рамбаль и Рафаэль Банкельс — взялись вдвоем руководить сезоном сарсуэлы, высшим достижением которого стала «Донья Франсискита», где участвовали и мои родители. Я был приглашен в эту постановку для работы с хором. Мне пришлось изрядно потрудиться, но зато я был горд результатами. Дело в том, что хор в сарсуэле поет обычно открытым звуком, его участники не стремятся облагородить звучание своих голосов и не заботятся об их тембровом слиянии. Научить их петь, как в настоящем хоре, было для меня главной целью. Я смог реализовать все идеи относительно владения голосом и дирижирования, которые родились у меня к тому времени. Ассистентская практика на хоровых репетициях во время работы над мюзиклом «Моя прекрасная леди» дала мне многое. Моя жизнь вовсе не состояла из одной работы. Мне памятны насыщенные событиями воскресные дни, которые я всегда проводил с друзьями. После мессы мы бежали на футбол, потом очень плотно обедали. Хорошо, что стадион находился не более чем в двухстах пятидесяти метрах от Пласа де Торос, потому что, закусив, мы неизменно отправлялись на корриду. После боя быков оставались на площади, чтобы полакомиться какими-нибудь деликатесами, а потом, в 10 часов вечера, шли на третий по счету и последний воскресный спектакль в театре моих родителей (предыдущие начинались в 4 часа и в 7.30 вечера). Среди моих друзей в Мехико был в то время один парень, чьи родители часто находились в отъезде, и он устраивал большие сборища, на которых мы с ним вдвоем пели. Иногда после такого веселья мы отправлялись в сомнительного характера городские заведения. Однажды, помню, развлекаясь в доме, с хозяйкой которого был знаком мой друг, мы снова запели, так что и там наше пребывание вылилось в нечто вроде приятельской вечеринки. Кроме работы в опере, сарсуэле, балете, музыкальной комедии и на телевидении, я тогда же впервые столкнулся с индустрией грамзаписи. В то время в Мексике среди исполнителей популярной музыки широкой известностью пользовались два певца: Сезар Коста и Энрике Гусман. Для них я делал некоторые аранжировки. Чаще всего я просто на слух записывал оригинальные американские образцы, а уж потом придумывал, как приспособить их к нашим возможностям. Но в один прекрасный день я и сам спел какой-то шлягер. То была, помнится, песенка со словами «Положи свою головку на мое плечо, а-ха-ха-ха-ха!». Записывая ее в мексиканском варианте, я бодренько подпевал исполнителю это «...a-xa-xa-xa-xa!». Всем ясна разница между эстрадной песенкой и партией Альфреда в «Травиате», но такова уж была моя жизнь в то время. Кстати, в той самой «Травиате» 1961 года, с которой я начал свой рассказ, я пел в Монтеррее всего один раз, хотя, конечно, этот спектакль стал для меня самым важным среди прочих выступлений в том городе. Опера Верди готовилась в Мехико, большинство же других спектаклей ставились под руководством местного импресарио Даниэля Дуно. Он организовывал свои оперные сезоны, обладая весьма скромным бюджетом, и завлекал певцов рассказами о «прекрасном климате и обилии солнца». Уже в 1960 году я пел в Монтеррее партии второго положения — Панга в «Турандот», Гастона в «Травиате» с Ди Стефано, Кассио в «Отелло» с Сальвадоре Пумой, Ремендадо в «Кармен» (тоже с Ди Стефано). Плата за выступления была такой ничтожной, что мы едва сводили концы с концами, но мне удавалось выжить благодаря некоторым забавным обстоятельствам. У мамы был брат Себастьян — искатель приключений и любитель путешествий. Умер он совсем недавно. Однажды, когда мне было около одиннадцати лет, Себастьян приехал в Мексику и привез с собой друга-баска. Его звали Доминго, или Хтомин — на языке басков. Он остался в Мексике, женился на испанке и обосновался в Монтеррее, где открыл ресторан. Там-то я и подкреплял свои силы, когда приезжал на гастроли. У Хтомина я бесплатно обеспечивал большую часть своего пропитания. А когда мы с Мануэлем Агиларом (он руководил поездкой) уезжали назад в Мехико, то мой заботливый знакомый снабдил нас на долгую дорогу сандвичами и другими вкусными вещами. Это было очень кстати, поскольку домой я возвращался с пустым кошельком. Хтомин держит еще и пансион, поэтому я всегда останавливаюсь только у него, когда приезжаю в Монтеррей. Меня часто спрашивают: «Как вам удается тащить такой непомерно большой груз забот?» Ответ мой таков: я привык много трудиться с ранних лет и до сих пор люблю напряженную работу так же, как любил ее в молодости. Несмотря на мизерные заработки, мы выступали с полной самоотдачей, очень многому учились и получали от этого огромное удовольствие.
ОТ МАРТЫ К «МЕТРОПОЛИТЕН» (1961-1968)
Через несколько месяцев после выступления в «Травиате» на сцене Монтеррея я дебютировал в Соединенных Штатах, исполнив второстепенную роль Артура в «Лючии ди Ламмермур» на сцене Далласской муниципальной оперы. Лючию пела Джоан Сазерленд. Для участия в этой постановке меня рекомендовал Никола Решиньо — дирижер, с которым я выступал в Мексике. При этом первом посещении США меня более всего восхитило богатство, процветание страны. По-английски я тогда понимал еще плохо, но был поражен тем, что увидел по телевидению, особенно развлекательными шоу, в которых в едином потоке мелькали деньги, меха и лимузины. Приятно удивил меня и большой автомобиль, который присылали за мной перед репетициями, а также то, что даже хористы приезжали на работу в своих собственных машинах. Все ко мне относились очень хорошо, совершенно по-дружески. Решиньо всегда жаловался, что в Мексике при постановке оперы слишком мало времени отводится подготовительной работе, слишком многое отдается на волю импровизации. Он рассказывал, что сезоны в Далласе организованы значительно лучше, и это подтвердилось в подавляющем большинстве случаев. Но на одной репетиции, всего через два дня после моего приезда, когда я только «намечал» свою партию вполголоса, один из певцов сказал мне: «Пласидо, на прогоне перед генеральной мы работаем в полный голос». Я вовсе не предполагал, что это уже прогон перед генеральной, и был несколько удивлен и немало озабочен, когда понял, что общее время, отведенное на репетиции, вовсе не так велико, как мне представлялось в мечтах. Возможность петь рядом с Сазерленд стала для меня настоящим чудом, хотя тогда я еще не осознавал в полной мере всей глубины ее феноменального дара. Правда, она не так давно нашла свой истинный путь. Произошло это благодаря влиянию ее мужа, Ричарда Бонинджа, который направил внимание Джоан исключительно на драматические партии с насыщенной колоратурой. Главную теноровую партию в этом спектакле пел Ренато Чиони, а роль Генри (что было особенно важно для меня) исполнял Этторе Бастьянини. Я выступал с ним в одном спектакле в первый и последний раз в жизни — ведь он умер, когда моя карьера еще только начиналась. Бастьянини обладал великолепным звуком истинной баритональной окраски. В течение сезона 1961/62 года я спел партию Артура еще в одной постановке, на сей раз в Новом Орлеане с Джанной Д'Анджело в роли Лючии. В Тампе (штат Флорида) я был Пинкертоном в «Мадам Баттерфляй». Важным спектаклем стала для меня «Лючия ди Ламмер-мур» в Форт-Уорте (штат Техас), где я пел Эдгара с Лили Понс, которая в возрасте пятидесяти восьми лет в последний раз выходила на сцену в роли Лючии. Впервые она пела эту партию с Беньямино Джильи. Как партнерша Понс была очень мила, просто восхитительна, и я рад, что в Форт-Уорте была сделана «пиратская» запись этого спектакля. Возможно, кто-то из молодых, кто будет петь со мной через пятнадцать-двадцать лет, если мне удастся сохранить форму к тому времени, в 2040 году расскажет следующему поколению о том, что в 2000 году выступал с Пласидо Доминго, который в 1962 году пел с Лили Понс, которая в 1931 году пела с Джильи и так далее. Эту линию, может быть, удалось бы провести до Рубини или Малибран, а мне вообще очень нравится идея эстафеты поколений. Пока я участвовал в постановке «Лючии ди Ламмермур», неподалеку, в Далласе, ставили оперу Верди «Отел-ло». Я мечтал об участии в ней и поныне жалею, что этого не случилось. Рамон Винай, который начинал как баритон, а затем стал тенором, был в свое время выдающимся исполнителем роли Отелло. В этой постановке он вновь обратился к карьере баритона, выступая в роли Яго. Марио Дель Монако, умерший во время написания этой книги, тоже был великолепным Отелло своей эпохи, одним из величайших Отелло всех времен, и именно он пел в той постановке. В то время я мог бы выступить в роли Кассио. Если бы это произошло, то на одной сцене можно было бы увидеть сразу трех Отелло — прошлого времени, настоящего и будущего. Но единственное, что удалось мне тогда,— это попасть на спектакль. В конце третьего акта, когда Яго поет: «Вот лев ваш грозный!» — и ставит ногу на голову лежащего без сознания Отелло, мне казалось, что стоит Винаю ступить чуть сильнее, и... Мне нравится, как интерпретируют партию Отелло и Винай, и Дель Монако, хотя делают они это совершенно по-разному. С исполнением Виная я знаком по записи с Тосканини. Оригинальность его трактовки просто восхищает. А у Дель Монако меня больше всего поражает вокальная мощь. Я многому научился, слушая обе записи, и однажды все-таки спел Кассио в спектакле с Дель Монако. Это было в Хартфорде 19 ноября 1962 года. Заканчивался первый этап моей карьеры — время исполнения маленьких партий. И «Отелло» был последним спектаклем перед тем, как я решился на свою «великую тель-авивскую авантюру». Помню, в одной из рецензий на то представление говорилось: «Нет, этот одаренный юноша рожден не для вторых ролей, это восходящая звезда». Однако я не рассказал еще о многих других интересных событиях, которые предшествовали тому знаменательному спектаклю. Одним из самых больших удовольствий, которые принесло мне написание этой книги, стало возвращение к временам, когда я познакомился с Мартой, когда мы полюбили друг друга и стали строить планы на будущее. С Мартой Орнелас мы были знакомы еще до того, как всерьез заинтересовались друг другом. Я вовсе не был героем ее романа! Когда мы встретились впервые, она училась у крупной мексиканской певицы Фани Анитуа,которая на протяжении многих лет исполняла ведущие партии меццо-сопрано в «Ла Скала» и на многих других сценах. Она великолепно пела Амнерис, Азучену, Далилу. Я постоянно встречал Марту по пути в консерваторию, но общение наше было пока еще случайным и кратким. Она считала меня несобранным, не очень-то серьезным парнем, а история моей ранней неудачной женитьбы, характеризовавшая меня отнюдь не с лучшей стороны, поддерживала в ней это мнение. Я тогда проводил уйму времени с другой девушкой — Кристиной, эстрадной певичкой. Как и большинство юношей моего возраста, я очень любил общество девушек, но увлекался многими, меняя своих подруг: сегодня назначал свидание одной, завтра — другой... До Кристины, например, я дружил с танцовщицей, которая участвовала в постановке «Веселой вдовы». Чтобы как можно реже разлучаться с Кристиной, я аккомпанировал ей на фортепиано в барах и на прослушиваниях. Она оказалась неглупой девушкой и частенько говорила мне: «Пласидо, я не думаю, что принесу пользу твоей карьере, ты проводишь со мной слишком много времени. Тебе надо бы побольше работать над серьезной музыкой». А однажды добавила: «Знаешь, для тебя хорошей партией стала бы такая девушка, как Марта Орнелас. Она тебе очень подошла бы». «Что? Ты в своем уме? — отвечал я.— Она мне совершенно не нравится, да и я ее нисколько не интересую». Это была правда. Марта привлекала меня не более, чем я ее. В те дни она казалась мне слишком уж сложной девицей, а тот факт, что она приезжала в консерваторию на «меркурии» с автоматической коробкой передач, только подкреплял мое представление о ней. Позже я узнал, что Марта водила этот автомобиль, помогая своему отцу, который частично потерял зрение; но тогда еще я был не в курсе ее дел. В консерватории педагогом Марты по вокалу был австриец Эрнест Рёмер, который в подборе репертуара для учеников отдавал предпочтение Рихарду Штраусу, песням Шуберта, Шумана, Вольфа и Брамса. Это также поддерживало во мне представление о Марте как об особе возвышенной и чрезвычайно утонченной, ведь сам я был полностью погружен во французский и итальянский оперный репертуар, не говоря уже о сарсуэле и музыкальной комедии. Историю наших отношений нельзя назвать «любовью с первого взгляда», но то, что происходило с нами, когда мы медленно, постепенно начинали нравиться друг другу, возможно, еще более походит на чудо. Это было не только прекрасно, но и поразительно неожиданно — ни один из нас не мог и представить, что с ним случится нечто подобное. В первый раз Марта подумала, что я, может быть, и не такой уж потерянный человек, когда ей довелось присутствовать на репетиции «Травиаты» в Национальной опере. Звездами постановки были Анна Моффо и Ди Стефано, а я пел Гастона. Мы тогда работали над сценой карточной игры. Некоторые исполнители второстепенных ролей отсутствовали, и я автоматически пропевал их партии. На Марту это произвело впечатление, она увидела, что я дитя театра и делаю такие вещи совершенно естественно, а вовсе не для того, чтобы пустить пыль в глаза. В другой раз она услышала меня в первом дуэте тенора и баритона из оперы «Сила судьбы» в одной из телевизионных программ и сказала мне потом, что ей очень пришлась по душе моя музыкальность. Мы стали видеться чаще, когда приступили к работе в одной постановке Академии оперы. Там ставилась «Последняя мечта», работа мексиканского композитора Васкеса. Произведение это было сомнительного качества, оно подозрительно напоминало раннюю оперу Пуччини «Виллисы». Я играл роль героя, которого звали Энрике, а Марта — Аирам Суламил. Отметив, как хорошо она поет свою партию, я сказал ей, что ее следовало бы называть «Суладиесмил» («mil» в испанском значит «тысяча», а «diez mil»—«десять тысяч»). То был первый из множества комплиментов, которые она услышала от меня. Так как наши отношения с Мартой значили для меня все больше, дружба с Кристиной начала постепенно затухать, что было знамением судьбы. Однажды вечером мы с Мартой отправились потанцевать в популярный ночной клуб «Хакарандас». Он располагался в увеселительном районе города неподалеку от отеля, где один мой приятель подрабатывал пением. Выйдя из машины, мы шли к «Хакарандасу» как раз мимо фасада этого отеля. И в этот момент Марта споткнулась и упала. Не знаю почему, но это произвело на меня сильное впечатление. Я никак не мог отделаться от него. И тем же вечером предложил Марте стать моей подругой. Она дала свое согласие под звуки мелодии Эрнесто Лекуоны «Сибоней», которую играл танцевальный оркестр. Тринадцать с половиной месяцев, которые прошли между тем вечером 15 июня 1961 года (как раз через месяц после моего дебюта в ведущей теноровой партии) и нашей свадьбой, были самым прекрасным периодом моей жизни. Мы с Мартой, находя множество всевозможных способов, ухитрялись встречаться каждый день. В те дни Мексика была помешана на американском телевизионном сериале «Перри Мейсон». Марту и меня это очень устраивало: наши родители сидели у телеэкрана, поглощенные фильмом, а мы могли вдоволь наговориться. Я обычно звонил из телефонной будки, стоявшей перед ее домом, и, беседуя, мы видели друг друга, хоть и на расстоянии. Слава богу, за двадцатицентовую монету можно было болтать хоть целый час. К тому времени, когда мы с Мартой начали встречаться, она стала заниматься у преподавательницы по имени Сокорро Салас. Я часто вместе с Мартой бывал на ее уроках, отчасти потому, что они меня интересовали, но главным образом для того, чтобы проводить как можно больше времени со своей подругой. Мне приходилось бежать от родительского дома целую милю до того угла, где меня поджидала Марта. Я ввел обычай приносить бутылочки с фруктовым соком, чтобы она не пела на голодный желудок. После урока Марты мы обычно прогуливались в парке или бродили по городу. Разлучаясь в обеденное время, когда родители ждали каждого из нас дома, мы встречались снова во второй половине дня на репетициях в Академии оперы. После репетиции были еще лекции или практические занятия, потом мы отправлялись ужинать — иногда к ее родителям, иногда к моим, а временами и в одно из своих любимых заведений. Я помню ресторанчик рядом с памятником повстанцам, где подавали фантастически вкусные tortas (слово «сандвич» не совсем подходит для этих великолепных созданий кулинарного искусства), и другой такой же ресторан под названием «Лас Чалупас». Еще мы ходили в кинотеатр под открытым небом и прекрасно проводили время в том самом «меркурии»! Марта оказалась столь великолепной Сюзанной в спектакле «Свадьба Фигаро» Моцарта, стоявшем в репертуаре национального оперного сезона предыдущего года, что во время обсуждения актерских составов для интернациональных постановок 1962 года ее пригласили выступать в этой роли в ансамбле с Чезаре Сьепи и Терезой Штих-Рандалл. Кроме того, спектакли 1961 года дали критикам повод назвать Марту лучшей мексиканской певицей года. На приеме, где она выразила свою благодарность за такое признание, мы впервые появились вместе публично. Кое-кто стал воспринимать меня как «супруга царствующей королевы», ведь тогда моя карьера только еще начиналась, а положение Марты казалось уже вполне устойчивым и значительным. Я был горд и счастлив за нее. В течение того же национального сезона, когда давалась «Последняя мечта» и где мы с Мартой выступали, я впервые спел Каварадосси в «Тоске». Марта, помогая готовить эту роль, пела вместе со мной. Тогда же у меня сложился тот обычай разучивания партий, которого я придерживаюсь до сих пор. Когда встречается особенно сложный пассаж — той трудности, которая пугает меня,— я репетирую его совсем немного. Если снова и снова пропевать его дома, не достигая должного эффекта, на публике можно совершенно растеряться, просто остолбенеть. Для меня удобнее учить такое место мысленно. На репетициях я его пою лишь вполсилы, а полностью выкладываюсь только на спектакле. Когда выходишь к зрителю, то даже чисто психологическое состояние рождает сильный внутренний импульс, который помогает спеть хорошо любой пассаж. В тот самый нужный момент возникает четкое ощущение неизбежности выбора — тебя ждет либо взлет, либо падение. Я решительно атакую трудное место и в большинстве случаев добиваюсь успеха. Считайте, что это действует адреналин, или самоуверенность, или концентрация воли, срабатывают мои внутренности — расценивайте это как хотите, но это мой метод. Правда, если в данном случае вообще можно употреблять слово «метод». ...Итак, выходя на сцену впервые в роли Каварадосси, я фактически ни разу еще не пел в полный голос некоторые места этой партии. Например, реплику «Во что бы то ни стало я вас спасу!». Впервые она прозвучала у меня лишь на спектакле. Я говорю об этом вовсе не потому, что считаю такой способ работы пригодным для любого певца. Думаю, что у меня он появился благодаря глубокой внутренней вере в судьбу. Премьера «Тоски» состоялась 30 сентября 1961 года и прошла очень хорошо, хотя, надо сказать, в некоторых местах я чувствовал напряжение. С тех пор мне приходилось петь «Тоску» чаще, чем другие оперы. В том же национальном сезоне мне довелось также впервые исполнить партию Мориса в «Адриенне Лекуврер» Чилеа. Публике не нравилась певица, выступавшая в главной роли. Она действительно отличалась несколько старомодной манерой игры. Временами зрители громко шумели, бурно выражая свое негодование, и мне трудно было сосредоточиться. Под конец, когда я заработал аплодисменты, эта певица сказала руководителю постановки: «Ну и провал!» «Да уж,— парировал он,— вот выходи и раскланивайся за это как хочешь!» Тем временем Марта и ее педагог начали развивать во мне интерес к музыке Моцарта. Марта считала, что чистота вокальной атаки — отсутствие занижений при движении по звукам снизу вверх — делает мой голос идеальным для пения моцартовских произведений. (Годы спустя, когда я прослушивался у дирижера Иозефа Крипса, он сказал, что хотел бы иметь возможность платить мне достаточную сумму, чтобы сохранить мой голос исключительно для моцартовского репертуара.) В то время дирижер Сальвадор Очоа начал набирать исполнителей для постановки оперы Моцарта «Так поступают все», и Марта, приглашенная на роль Деспины, была уверена, что он предложит мне петь Феррандо. Но тот колебался и наконец сказал ей, что я не принадлежу к числу серьезных исполнителей, поскольку слишком уж часто пою в сарсуэле, да и вообще не гожусь для этой партии. Марта, однако, была очень настойчива и уговорила-таки его. Спектакль получился великолепный. После показа его в Мехико мы возили сокращенный вариант оперы в Пуэблу и другие города. (Среди прочих номеров был купирован дуэт Дорабеллы и Гульельмо, что, конечно, привело к нарушению логики развития их любовной истории. Через несколько спектаклей в адрес баритона посыпались упреки, что на сцене происходит-де что-то не то. «Ха! — сказал он возмущенно.— Я оказался единственным рогоносцем в этом урезанном варианте».) Спектакль был сложен для меня не только потому, что я впервые играл в моцартовской опере, но также из-за диапазона партии и трудных виртуозных пассажей. Трио в конце первой сцены, арию «Любовное пламя» и дуэт с Фьорди-лиджи я пел особенно неровно. До сих пор у меня сохранилась тетрадь арий Моцарта с пометками, сделанными для меня в определенных местах Мартой. Ей я даже больше обязан удачным исполнением роли, чем самому себе. Именно благодаря Марте я получил эту партию и только с ее помощью смог ее выучить. Нас все чаще стала посещать мысль о том, чтобы пожениться. Ситуация складывалась непросто: как большинство родителей, отец и мать Марты желали для своих детей только самого лучшего, а мою репутацию можно было считать безупречной с большой натяжкой. Мать Марты, женщина неординарная, целиком посвятила свою жизнь трем дочерям. (Одна из сестер, Перла, живет сейчас в Барселоне, а другая, Аида,— в Вашингтоне. Перла и ее муж Агустин Росильо уже имели тогда дочь Ребеку, то ли трех, то ли четырех лет. Ребека сильно рассердилась, увидев, что я, уходя из квартиры Орнеласов, на прощание целую Марту. Все рассмеялись, когда она наскочила на меня с криком: «Не задуши ее!») Картина станет более полной, если добавить, что у госпожи Орнелас было больное сердце и она стремилась успеть сделать все возможное для своих детей, предчувствуя, наверное, что долго не проживет. Она была человеком активным, с сильной волей и не внимала советам врачей, укладывавших ее в постель. Она хотела как можно дольше жить полной, насыщенной жизнью. В общем, госпожа Орнелас мне очень нравилась. Думаю, что и она постепенно пришла к мысли, что при моих недостатках я, по большому счету, не так уж и плох. Но Марте казалось очень трудным делом убедить родителей, что я для нее подходящая партия и что я искренне люблю ее. Временами, когда мы с Мартой сидели в автомобиле, болтая и предаваясь мечтам о будущем, она вдруг спохватывалась: «Боже мой! Наверное, уже далеко за полночь!» Я смотрел на часы: «Да нет, всего лишь четверть одиннадцатого». «Хорошенькое дело,— не унималась она.— Пусти, я пойду». Я поддразнивал ее: «Если ты думала, что уже поздняя ночь, так зачем так суетиться, когда всего лишь четверть одиннадцатого?» Однако для Марты главным было во что бы то ни стало уберечь от волнений мать. Чтобы произвести на госпожу Орнелас хорошее впечатление, я нашел один прием, связанный с музыкой. На площади Гарибальди в Мехико собираются группы музыкантов, надеющихся получить работу. Вы найдете здесь небольшие инструментальные ансамбли, в состав которых входят скрипка, труба, гитара, мандолина. Их называют «mariachis»—«свадебными» (от французского «mariage» — «свадьба»), потому что обычно эти музыканты играют на свадьбах и других семейных торжествах. Если у вас собираются гости и вы хотите, чтобы в доме звучала музыка, надо пойти на площадь Гарибальди и пригласить ансамбль того состава, какой вам нужен. Я нанимал на определенный вечер нескольких музыкантов, предупреждая их, что сам, возможно, буду петь. Они, правда, удивлялись, когда слышали мой оперный голос. Семейство Орнелас проживало на третьем этаже многоквартирного дома. Не только они, но и другие его обитатели при звуках серенады направлялись к окнам. Случалось, находились и недовольные, которые однажды даже вызвали полицию. «Что вам не нравится? — спросили жалобщиков полицейские.— У вас тут прекрасное дармовое представление с участием артиста Национальной оперы». Я пел не только для Марты, но и для ее матери. Я приходил под их окна в дни рождения и при любом другом удобном случае. Госпожа Орнелас была большой поклонницей самого знаменитого исполнителя мексиканской музыки Хорхе Негрете, поэтому в ее честь я старался исполнять песни из его репертуара, чем постепенно смягчил ее сопротивление, хотя это было и нелегко. Примерно в то же время Марта, я и наш общий хороший друг, баритон Франко Иглесиас организовали камерную оперную труппу и начали гастролировать по Мексике. В нашей афише стояло два названия: «Секрет Сусанны» Вольфа-Феррари и «Телефон» Менотти. Обе оперы написаны для сопрано и баритона. Декорации представляли обычную жилую комнату, интерьер которой с небольшими изменениями годился для обоих спектаклей. Здесь же было и фортепиано, за ним сидел я, аккомпанируя Марте и Франко, а под конец все мы втроем заключали вечер исполнением различных дуэтов и арий. Ставили мы также меноттиевскую оперу «Амелия на балу», где пели все вместе, давали, кроме того, программу венской музыки с номерами из хорошо известных оперетт. Организовывали поездки наши распорядители Эрнесто и Кончита де Кесада. Сейчас это может показаться странным, но тогда мы получали удовольствие от ночных переездов на автобусах, которые прибывали на место в 6 часов утра, сытных завтраков — обычно из ранчерос (яйца с помидорами и красным перцем) и жареной фасоли — и от приготовлений к спектаклям. Гастроли, к счастью для меня, проходили благополучно. Я боялся, что родители не отпустят Марту в это путешествие, но они все-таки доверили ее мне, и, слава богу, все шло хорошо. История о том, как я сделал Марте предложение, требует небольшого отступления от основной линии моего рассказа. Эрнестина Гарфиас, обладавшая прекрасным колоратурным сопрано и исполнявшая главную роль в испанской опере «Марина» с труппой моих родителей, в один из сезонов начала испытывать трудности из-за болезни горла. Мои родители отправили ее к известному врачу-отоларингологу Фумагалло, который, кстати, был их другом и жил в Монтеррее. Фумагалло тут же влюбился сначала в миндалины Эрнестины, а потом и в нее самое (со всеми вытекающими отсюда последствиями) и женился на ней. Тогда же до меня дошли слухи, что они обосновались в Куэрнаваке, чудесном городке неподалеку от Мехико, но ниже по высоте над уровнем моря. (Многие жители столицы, страдающие сердечными заболеваниями, перебираются туда, поскольку Мехико расположен на высоте примерно 2400 метров над уровнем моря.) Дорога в Куэрнаваку не дальняя, из Мехико она идет вниз, поэтому на обратном пути надо ехать все время в гору. Мы с Мартой частенько навещали семейство Фумагалло по выходным. Однажды воскресным днем, когда мы купались у них в бассейне, я сказал Марте: «Послушай, я думаю, мы теперь уже можем пожениться». Она согласилась. Но надо было получить еще и разрешение родителей. Мать Марты поняла наконец, что дочь ее сделала окончательный выбор. Госпожа Орнелас и ее муж дали согласие на нашу свадьбу, которая состоялась 1 августа 1962 года. После бракосочетания мы выехали на новеньком автомобиле Марты — розовом «воксхолле» — в Акапулько, традиционно считающееся в Мексике райским местечком для проведения медового месяца. Но там мы смогли провести лишь несколько дней. Уже 10 августа я должен был впервые участвовать как солист в исполнении Девятой симфонии Бетховена. Происходило это в Мехико под управлением Луиса Эрреры де ла Фуэнте. По инициативе Марты мы побывали у профессионального фотографа и послали снимки чете Кесада. (Эрнесто, чей отец был главой концертного агентства «Даниель» в Испании, занимался мексиканскими делами этой фирмы, а в ведении двух его братьев находились ее филиалы в Буэнос-Айресе и Каракасе.) Исполнительский опыт Марты был богаче моего, поэтому она сразу же стала помогать мне советами, что с чрезвычайной пользой для меня продолжается до сего времени. Вскоре на телевидении была осуществлена постановка сериала из пяти сарсуэл и оперетт, которую финансировала фирма косметики «Макс Фэктор». Я участвовал в «Марине» с Эрнестиной Гарфиас и Франко Иглесиасом и, кроме того, выступал в спектаклях «Граф Люксембург» (с Мартой и моим отцом), «Луиза Фернанда» и «Фру-Фру из Табарина» (с Эрнестиной, моей матерью и Франко), «Веселая вдова» (с Мартой, Эрнестиной и Франко). Я слышал, что сохранились пленки с записью этих постановок, и мне очень хочется когда-нибудь их посмотреть. После смерти известного мексиканского музыкального критика Хосе Моралеса Эстевы решено было основать стипендию его имени. Для сбора средств стипендиального фонда устраивались спектакли, в одном из которых я впервые спел Каварадосси в 1961 году. Второй раз я выступил в этой партии в феврале 1962 года, а в марте в первый раз спел Рудольфа в «Богеме». 31 июля 1962 года, за день до нашей с Мартой свадьбы, позвонил мой друг Мигель Агилар и сказал, что я стал первым певцом, удостоенным этой стипендии. Надо признаться, для меня это означало большую поддержку. Мы с Мартой сразу же пустились строить планы, как использовать деньги: поехать ли в Италию для учебы или отправиться в Нью-Йорк? Но я, находившийся всегда в гуще театральной жизни, уже тогда придерживался мнения (и верю в это до сих пор), что практика — лучшая форма учебы. Мне всегда больше нравилось постигать что-то, участвуя в деле непосредственно, нежели осваивать основополагающие теоретические постулаты. Случилось так, что как раз в то время мой приятель, мексиканский пианист еврейского происхождения Хосе Кан, вернулся из поездки в Тель-Авив. Он рассказал мне о тамошней оперной труппе, где требовались сопрано, тенор и баритон. Мы с Мартой и Франко Иглесиасом отправили в Израиль пленки с записями и скоро получили то, что назвали «чудо-контрактом»: предложение работать в течение шести месяцев в Израильской национальной опере в Тель-Авиве. Нам предложили 1000 фунтов ежемесячно. Правда, сразу мы не поняли, что платить-то будут израильскими фунтами. Это означало 333 доллара в месяц на двоих, причем каждый за это время должен был выступить в десяти спектаклях. Короче, наш «чудо-контракт» давал артисту 16,5 доллара за выход. Оказавшись в Израиле, я написал в стипендиальный комитет, что нуждаюсь в деньгах, которые мне причитались. Комитет в ответ удивился, как это я требую стипендию, хотя работаю как профессионал. Дело прошлое, сейчас оно не так уж меня и волнует. Но плохо то, что комитет и сегодня не упускает случая вспомнить Пласидо Доминго — первого стипендиата. Да, я действительно был первым, кто завоевал эту премию, но я никогда не пользовался плодами своей победы. Однажды мне дали 300 долларов для поездки из Мехико в Марсель, где я участвовал в постановке «Баттерфляй». Этих денег хватило только на оплату проезда, и ни на что больше. А ведь стипендия устанавливалась, чтобы поддерживать певца полных два года. Но в итоге, я думаю, все опять сложилось к лучшему: я по крайней мере ничем им не обязан. Узнав, что нам предстоит играть в Тель-Авиве, мы начали готовить костюмы. Марта даже нашла для них материал. В то же время на нашу камерную труппу как из рога изобилия посыпались ангажементы. Да и другой работы хватало. Я пел Кассио в «Отелло» (постановке интернационального сезона) и Пинкертона в гастрольном спектакле итальянского оперного коллектива. Этой труппой руководил аргентинец Рафаэль Лагарес, который сам выступал как тенор. Его прозвали «Карузино» («маленький Карузо») за поразительное внешнее сходство с великим неаполитанским тенором. Звездами здесь были Антонио Анналоро, хорошо известный итальянский тенор с большим голосом и ярким темпераментом, и его жена — сопрано Лучана Серафини. Спектакли «Баттерфляй», где я выступал вместе с Серафини, давались в городе Торреон. Вскоре мы с Мартой отправились в Гвадалахару. Там она пела пажа Оскара в «Бале-маскараде», а я — Альфреда в «Травиате». Из Мехико мы ехали поездом. На следующее утро после спектакля Марты нам позвонила ее сестра Аида с известием о смерти их матери. В ужасном состоянии Марта одна вылетела домой. Я не мог сопровождать ее, потому что у меня через два дня был спектакль. Сразу после похорон Марта вернулась в Гвадалахару. К счастью, у нас в то время было много работы, это помогло Марте справиться со своим горем. В Монтеррее наша камерная труппа исполняла оперу «Амелия на балу» и давала вечера венской музыки с меццо-сопрано Белен Ампаран, которая много лет пела в «Метрополитен». Тот короткий сезон закончился в конце октября. Оставалось всего лишь полтора месяца до отъезда в Тель-Авив. Надо было уладить еще множество мелочей, а мне, кроме того, предстояло участвовать в четырех постановках: «Баттерфляй» в Тампе, «Лючии ди Ламмермур» в Новом Орлеане (я пел Артура), в спектакле с Лили Понс в Форт-Уорте и в «Отелло» в Хартфорде, где главную партию пел Дель Монако, а я был Кассио. Когда пришло время отправиться в Израиль, мы решили поездом доехать до Нью-Йорка, отослать оттуда морем наш большой багаж, а затем вылететь в Тель-Авив. (Франко не было с нами, он прибыл в Израиль некоторое время спустя.) Путешествие проходило ужасно, особенно для Марты, пережившей недавно смерть матери. Уже в поезде мы узнали, что в Нью-Йорке начинается забастовка портовых рабочих и что день, когда мы приедем туда, будет последним для отправки вещей из порта. Поэтому в Сент-Луисе (штат Миссури), мы пересели на другой поезд, и я на своем совершенно невозможном английском стал умолять носильщиков перенести багаж в этот поезд. Я кричал, надрывая горло, так что совсем потерял голос, но никто и не подумал сдвинуть вещи с места. В Нью-Йорк мы прибыли без багажа, и, так как здесь никто не мог сказать, сколько продлится забастовка, нам пришлось улететь в Тель-Авив, махнув на него рукой. Забастовка длилась несколько месяцев, и, хотя в конце концов мы все-таки получили свои вещи, дебютировать нам пришлось в костюмах из фонда местного театра. Наше прибытие в Тель-Авив пришлось на канун рождества 1962 года. Настроение было скверным, все действовало удручающе. Нас поместили в маленький отель с узкими кроватями, и мы оставались там до тех пор, пока сами не нашли подходящее жилье. В Тель-Авиве, конечно же, рождество не праздновалось. Это было печально, потому что обычно этот день мы радостно встречали в кругу наших семей. Рождественским вечером мы пошли в оперу слушать «Риголетто», потом вернулись домой, выпили немного отвратительного апельсинового сока и легли спать. (Мы тогда еще не знали о чудесных апельсинах из Яффы.) Хотя первое время в Тель-Авиве нельзя было считать для нас приятным, ситуация скоро изменилась. Театром руководили мадам Эдис де Филипп и ее муж Эван Зохар, который, кроме того, много занимался политикой и, возможно, был бы избран в кнессет, если бы не развелся со своей первой женой. Мадам де Филипп, родившаяся в Америке, выглядела прелестно даже на исходе своего шестого десятка и обладала чрезвычайно твердым характером. Она замечательно осуществляла руководство труппой, держа в своих руках все дела, связанные с новыми постановками. Значительную роль в управлении предприятием играл Бен Арройо, занимавшийся внешними связями театра. Я дебютировал в партии Рудольфа в «Богеме», а Марта — в партии Микаэлы в «Кармен». Наша работа проходила в условиях настолько трудных, насколько это вообще можно себе представить. Большинство ролей мне пришлось петь впервые в жизни, причем без единой оркестровой репетиции! Только новые постановки мы репетировали с оркестром. Мадам де Филипп заставляла нас трудиться в поте лица, и мы учились ремеслу наилучшим образом — без всяких подсказок и длинных разъяснений. Испытание было суровым, но для меня такая работа явилась самой важной частью опыта, полученного в Тель-Авиве. Маленькое здание оперы располагалось прямо у моря — в худшем из возможных для него мест. В штормовые дни волны докатывались до стен театра, и морская соль разрушала их. Зимой в Тель-Авиве довольно холодно. Я помню, как мы с Франко старались стоять как можно ближе к маленькой печке, гримируя наши полуобнаженные тела перед выходом в «Искателях жемчуга» Бизе. Тем не менее я ни разу не простудился. Лето же, наоборот, стояло ужасно жаркое. Особенно невыносимо бывало в гримуборной: огромная комната, одна для всех, разделялась посредине занавеской на мужскую и женскую половины. В ней стояла такая духота, что мы еле дышали. Мы выходили на сцену, жадно глотая струю кондиционированного воздуха, предназначенного для публики, и только таким способом освежали свои глотки. Уверен, что после пения в таких условиях я смогу выступать где угодно. Наоми Пинхас, меццо-сопрано нашей труппы, держала маленькое кафе за театром. Болтая с друзьями, коллегами или кем-нибудь из публики, я часто сидел там, когда до поднятия занавеса оставалось каких-нибудь десять минут. Потом мчался накладывать грим и выскакивал на сцену. Я и в этом плане приобретал профессиональные навыки — впрямую, без мудрствований, и потому сегодня готов к любым неожиданностям. Я рос, видя, как у моих родителей после трех воскресных спектаклей хватало сил бежать на репетиции, потом я научился выкручиваться из любых ситуаций в тель-авивской опере— как же было не стать профессионалом театрального дела. Я развил в себе способность мобилизовывать все запасы энергии, которой должен обладать каждый человек моей профессии. Труппа была в высшей степени необычной. Однажды Франко отказался петь в «Травиате». Заменивший его баритон давно не исполнял партию Жермона на итальянском языке и пел по-венгерски. Певица-сопрано знала роль Виолетты на немецком, я пел Альфреда по-итальянски, а хор звучал на древнееврейском языке. К счастью, хоть у дирижера была возможность руководить всем на своем эсперанто. А в «Дон Жуане» труппа представляла собой прямо-таки Организацию Объединенных Наций: дирижировал англичанин Артур Хэммонд, мексиканцы Марта и Франко пели Донну Эльвиру и Мазетто, я, испанец,— Дона Оттавио, Мичико Сунахара была нашей японской Церлиной, Донну Анну пела гречанка Атена Лампропулос, Дон Жуана — итальянец Ливио Помбени, Лепорелло — бас Уильям Валентайн, негр из штата Миссисипи (США). Такой состав исполнителей считался в этом театре вполне обычным. Бутафор Ари, человек крупного сложения, милый и добрый, полюбил нас с самого момента нашего приезда. Он был мастер на все руки, и мадам де Филипп позволяла ему делать все, что тот захочет. Для «Искателей жемчуга» он слепил из папье-маше пантеру и тигра. Тигр, к сожалению, получился немного косоглазым, и когда я, игравший охотника, стоял на сцене к нему лицом, то с трудом удерживался от смеха. Делая мадонну для постановки «Тоски», Ари говорил нам, что создает ее по образу Марты. Результат не был слишком лестен ни для Божьей Матери, ни для моей жены, но мы всегда хвалили то, что делал Ари. После первых шести месяцев работы мы заключили контракт на весь год, и наше с Мартой ежемесячное жалованье возросло до 550 долларов. Перед отъездом мы зарабатывали уже сверхъестественную сумму в 800 долларов, то есть каждый получал по 40 долларов за спектакль. Мы даже смогли купить наш первый автомобиль, подержанный «опель», что стало для нас большим подспорьем, так как в то время мы жили в пригороде, в Рамат-Гане. В Израиле Марте пришлось тяжелее, чем мне, потому что мадам де Филипп, сама в прошлом певица-сопрано, создавала для женщин в труппе не столь удобную жизнь, как для мужчин. Придерживаясь весьма своеобразных взглядов, она однажды заявила Марте, что если мне не удастся сделать значительную карьеру, то в этом будет виновата она (Марта), поскольку она потворствует моему движению в нежелательном направлении: я должен не петь, а посвятить себя руководству театральным делом! При этом она никогда не давала себе труда пояснить эту точку зрения. С другой стороны, Марта по сей день сожалеет о том, что не приняла некоторые предложения, которые ей делала мадам де Филипп. Марта пела сопрановый репертуар, а наша руководительница советовала ей взяться также и за меццо-сопрановые роли — Кармен, Амнерис. В то время, боясь подвергнуть риску свои сопрановые партии, Марта отказалась от этой идеи, но позже, когда Марта оставила из-за меня артистическую карьеру, она поняла, какое удовольствие упустила, не попробовав себя в тех ролях. У меня тоже возникали кое-какие проблемы. В труппе работал тенор-сицилиец Рино Ло Чичеро. Мне очень нравился его голос с великолепным, естественным верхним регистром — одним из лучших, которые я когда-либо слышал. Однажды я рассказал ему, что Каллас во время концертного исполнения «Аиды» в Мехико взяла верхнее ми-бемоль. Он спросил меня, как она это сделала, и я показал ему способ, которым пользовалась певица, чтобы достичь этой высоты. В нашей следующей «Аиде» Ло Чичеро взял ми-бемоль в том же месте, причем полным мощным звуком, а не одним головным резонатором. Мадам де Филипп и Бен Арройо были неравнодушны к Ло Чичеро и отдавали ему явное предпочтение. Зная, что я очень хочу петь Каварадосси в новой постановке «Тоски», они тем не менее поручили эту партию ему. Более того, когда он с ними поссорился и бросил работу, они предпочли пригласить на роль Каварадосси тенора со стороны. Правда, в конце концов я все-таки добился права петь в «Тоске». Наверное, бурная овация, которую устроили мне зрители после фразы «Победа, победа!», стала наградой именно за мою борьбу. Это очень вдохновило меня. Публика в Тель-Авиве была фантастической. Такая смесь культур! Люди из Польши, России, Румынии, Югославии, Болгарии, Германии, Чехословакии, Австрии, Венгрии — одним словом, со всего мира, и все они жаждали музыки. Один румынский еврей по фамилии Лазер рассказывал нам, что он сменил профессию, занимаясь животными сначала «снаружи», а потом «изнутри»: в Европе он был торговцем мехами, а в Тель-Авиве стал мясником. Лазер, страстный поклонник оперы, приходил на многие спектакли, причем всегда в смокинге. В вознаграждение за наш вклад в оперу он обычно оставлял для нас самое лучшее мясо, в том числе и свинину, на рынке Шук Кармель. Иногда он давал нам продукты в кредит до конца недели. Мы познакомились еще и с шофером такси, слушавшим по радио в своей машине классическую музыку. В прошлом он был виолончелистом. Он узнал Марту и меня, когда мы сели к нему в такси, потому что видел нас в опере. Такие приятные встречи случаются там не редко, и это помогает, например, объяснить, почему так хорошо посещались все наши представления «Дон Жуана», который давался около пятидесяти раз в течение одного сезона, хотя одновременно та же опера Моцарта несколько раз исполнялась оркестром Израильской филармонии под управлением Карло Марии Джулини с участием таких певцов, как Ренато Капекки, Пилар Лоренгар, Паоло Монтарсоло и Агостино Феррин, причем тоже с большим успехом у публики. Это лишь несколько примеров того, с какими зрителями мы привыкли иметь дело в Тель-Авиве. В один из сезонов мадам де Филипп ставила балет-пантомиму, где рассказывалось о женщине, которая внешне была робкой и тихой, но после первой брачной ночи показала свое истинное лицо и стала обращаться с мужем как с собакой. Роль этой героини играла певица-сопрано, а ее мужа изображал танцовщик. В сцене свадьбы она должна была напевать известный марш из «Лоэнгрина». Когда спектакль был снят с репертуара, дирижер Георг Зингер (прекрасный музыкант родом из Чехии) сказал нашей мадам: «Вы знаете, а ведь мы исполняли Вагнера?» «Что вы такое говорите? Вы с ума сошли!» — возмущалась она. «Да, да, у нас более пятидесяти раз звучал Вагнер,»— настаивал он и объяснил, как это происходило. Свадебный марш из «Лоэнгрина» стал настолько распространенным, что никто уже не помнил имени его автора, никому и в голову не приходило задуматься над этим. Вот так Вагнер, музыка которого негласно запрещена в Израиле, на самом деле исполнялся в Израильской национальной опере. Вскоре после приезда мы сняли жилье у дантиста Бенуа, который, как и мы, мог говорить по-английски только на самом примитивном уровне. Контактировать с нашим хозяином пришлось именно мне, поскольку английский Марты был слишком хорош для него. Через некоторое время приехал Франко, и мы решили устроить небольшую вечеринку в честь его прибытия. Желая пошутить, мы подали на стол сыр с невероятно дурным запахом. Он ел его с величайшим удовольствием, а мы всё подкладывали и подкладывали этот деликатес, так что в конце концов наше жилье настолько пропахло, что мы-то и пострадали больше всех. Мы вели очень простую жизнь, хотя меняли квартиру шесть или семь раз за время пребывания на израильской службе. Иногда с нами поселялся Франко, а когда приехала его жена, они оба некоторое время жили у нас. Другой мексиканский певец — тенор Рафаэль Севилья, тот самый, что потерял половину усов в моей телевизионной программе,— тоже какое-то время останавливался в нашем доме, но, как правило, мы с Мартой жили в одиночестве. В те дни, когда в театре пел я, Марта готовила еду, я делал то же самое, когда выступала она, если же мы оба выходили вечером на сцену, то потом отправлялись в какой-нибудь недорогой ресторанчик. Репертуар Израильской национальной оперы не был очень обширным. За два с половиной года пребывания там я пел всего лишь в десяти операх: «Богеме», «Тоске», «Мадам Баттерфляй», «Дон Жуане», «Травиате», «Фаусте», «Кармен», «Евгении Онегине», «Искателях жемчуга» и «Сельской чести». Каждая постановка выдерживала тридцать, сорок, иногда пятьдесят представлений. Публике этого было достаточно. Мы так долго оставались в Тель-Авиве еще и потому, что пользовались любовью зрителей, чувствовали их большой интерес к нашему искусству. Нам нравилось жить полной жизнью. Была и другая, более сложная причина, о которой стоит рассказать особо. Первые представления «Фауста» мы с Мартой пели вместе и имели большой успех. Однако на втором спектакле в том месте, где у меня идут слова «Люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя», звучащие в музыке каждый раз все выше и выше, мое верхнее си разлетелось на тысячу кусков, а в каватине «Привет тебе, приют невинный...» я снова полетел в тартарары на ноте до. Вообразите, что чувствовала Марта, которой после сотворенного мною безобразия надо было петь арию! Но более всего удивило меня случившееся позже. Во-первых, пресса вообще не отметила моего срыва. К тому же, когда я пошел к мадам де Филипп и сказал: «Мне кажется, я не гожусь для театра», она ответила: «Вовсе нет, Пласидо. Это было для тебя хорошим уроком, и одна ошибка еще ничего не значит. Мы верим в тебя и хотим, чтобы ты продолжал выступать». Остальные руководители согласились с ней, и это была самая большая поддержка, которую я когда-либо получал. Все они продемонстрировали веру в меня как раз в тот момент, когда я совершенно пал духом. Последствия этого происшествия были самыми отрадными. Публика принимала меня восторженно, но после ряда спектаклей я заметил на лице Марты недовольство. Когда я спросил ее, в чем дело, она ответила: «Нет сил больше тебя слушать, ты не вживаешься в образ». Я был смущен, но она пояснила: «Я рада, что всем окружающим твоя работа кажется очень хорошей, но я люблю тебя, поэтому имею право быть максимально требовательной и говорить тебе обо всех недостатках». К счастью, я не пренебрег ее мнением. Мы решили, что мои реальные проблемы связаны с голосовой опорой. По утрам Марта, Франко и я отправлялись в театр, когда там еще не начинались репетиции. Я пел, а они слушали. Франко обладал замечательным педагогическим даром, что демонстрирует и сейчас, занимая в Нью-Йорке как педагог по вокалу весьма солидное положение. У него возникло много идей, которые мне очень помогли. Мало-помалу я начал открывать секреты вокальной опоры, и в результате мой голос стал и больше, и крепче. Я всегда думал, что каждый певец может запросто пользоваться диафрагмой, а на самом-то деле не умел должным образом регулировать ее движение. Именно тогда я научился правильно дышать, наполнять воздухом контролируемое диафрагмой пространство и добиваться необходимой поддержки дыхания. Полученными навыками я так и пользуюсь с тех пор. Исправление ошибок юности сыграло значительную роль и многое определило в моей дальнейшей работе. Раз в две недели наша труппа ездила выступать за пределы Тель-Авива — в Хайфу, Иерусалим (там я пел в «Искателях жемчуга» при открытии нового зала), Беершебу и другие города. Временами мы с Мартой путешествовали и как туристы, посещая Иерусалим, Цезарею или Назарет. Назарет меня разочаровал. Когда я ребенком читал библейские сказания, всю историю Христа и этих далеких от нас мест, они казались мне чудесными, фантастичными. Но, очутившись там, я никак не мог связать реальность с фантазиями моего детства. Мы намеревались совершить паломничество в Тиберию, расположенную на берегу Галилейского моря, вместе с Микаэлой, испанской певицей стиля фламенко, выступавшей тогда в отеле «Хилтон» в Тель-Авиве, и ее мужем. К несчастью, наш «опель» по дороге туда сломался, и местные арабы помогли нам достать трактор, чтобы дотащить автомобиль до их деревни. Нам удалось починить машину лишь следующим утром. А Микаэла в тот же вечер должна была выступать в отеле, поэтому и она, и все остальные, кроме меня, взяли такси, чтобы отправиться в город. Я же на всю ночь остался в деревне. Арабы были невероятно гостеприимны. Они организовали застолье, где я пел для них, а хозяин дома настоял, чтобы я остался ночевать у него. На следующее утро машина была исправлена, и я вернулся домой. Я люблю солнце, поэтому мы с Мартой, если находилось время, ходили на пляж, прихватив обычно кого-нибудь из нашей труппы. Однажды мы оба забрались в воду примерно по пояс, и Марта вдруг вскрикнула: «Я не чувствую дна». «Дай мне руку,— сказал я.— У меня дно еще под ногами». Она дала руку. «Не пугайся,— продолжал я,— я тоже уже не чувствую опоры. Давай попробуем медленно плыть назад». Но был отлив, и чем больше усилий мы прилагали, чтобы плыть к берегу, тем оказывались дальше от него. Находившийся неподалеку тенор Джузеппе Бертинаццо, достаточно хороший пловец, вытащил Марту на берег. «А Пласидо?» — кричала она. Джузеппе не знал, что делать, ведь я был уже достаточно далеко, кроме того, я тяжеловат. Он решил, что если попытается меня спасти, то утонем мы оба. Крики Марты привлекли внимание спасателей, которые кинулись на выручку и вытащили меня из воды полуживым. Никогда не забуду, как я был измучен и сколько наглотался соленой воды. Мы и теперь поддерживаем связь с Бертинаццо, который сейчас работает музыкальным руководителем Пертской оперы в Австралии. Когда я наконец выберу время и отправлюсь выступать в эту страну, то потребую устроить мои первые спектакли в его театре еще до приезда в Сидней и Мельбурн. Для постановки «Самсона и Далилы» и «Кармен» мадам де Филипп пригласила тенора, который на поверку оказался никуда не годным певцом. Меня попросили участвовать в «Кармен», и я выучил партию Хозе на французском за три дня. Главную роль пели попеременно Миньон Данн и Джоан Грилло. Последняя была приглашена через агентство «Джерард и Мариан Симон», входившее в ассоциацию Эрика Симона в Ныо-Иорке. Вернувшись в США, Джоан рекомендовала меня Симонам. Я написал им, и оказалось, что у них есть возможность заключить со мной два контракта на следующее лето — лето 1965 года. Мне предложили спеть Самсона в Чотокве (штат Нью-Йорк) и «Кармен» с труппой «Сэл-меджи-опера» на открытой сцене в Вашингтоне. Эти неожиданные предложения привели нас с Мартой к мысли, что пришло время расставаться с Израилем, чтобы испытать судьбу в других местах. Последней премьерой в Тель-Авиве, где мы участвовали, стал вечер из двух опер: «Сельской чести» и «Паяцев». Я пел Турриду, а Марта — Недду с Франко в роли Сильвио. Первое представление пришлось на мой день рождения, как и премьера «Искателей жемчуга» в предыдущем году. (Это делалось вовсе не в мою честь. 21 мая родилась мадам де Филипп, и ей нравилось давать премьеру 21 числа текущего месяца, а поскольку мой день рождения приходится на 21 января, то совпадение по дате двух премьер легко объяснимо.) Мы уезжали из Тель-Авива в июне. Мадам де Филипп устроила в нашу честь вечер в театре, и я со сцены произнес речь на иврите. Несмотря на все различия во взглядах с нашей руководительницей, мы с Мартой были практическиединственными певцами, кто уезжал из театра, сохранив с ней дружеские отношения. Однако и у нас они почти испортились, потому что мадам настаивала на продолжении нашего сотрудничества. Я предложил ей подписать контракт на следующие два года, но только с условием, что мы будем работать по шесть месяцев в каждом году. Ведь у меня не было уверенности, что, уехав окончательно, мы добьемся успеха и в других театрах. Как я слышал потом, мадам де Филипп сожалела, что не согласилась на это предложение, но тогда она поставила нам совершенно категоричные условия: или мы остаемся на весь год, или она в нас вообще не нуждается. Тем не менее нам удалось расстаться по-дружески и прием прошел очень мило. В тот день, когда Марта и я решили покинуть Израиль, мы пришли также к мысли, что настало время создавать семью — заводить потомство. Перед отъездом первая беременность Марты была уже достаточно заметна. Мы планировали побывать на прослушиваниях в Италии, Испании и Франции и направились сначала в Милан, где я пел для Алессандро Цилиани, который в то время был директором Итальянской оперной и концертной ассоциации. Будучи тенором, прекрасным актером, он оказался и просто хорошим человеком. В результате этого прослушивания я получил приглашение спеть в «Кармен» на сцене театра «Арена ди Верона» тем же летом, потому что Марио Дель Монако отказался от ангажемента. В спектакле участвовал Гастон Римарилли, но требовался еще один тенор, чтобы петь с ним в очередь. К несчастью — так по крайней мере это казалось в то время,— меня связывало обязательство. Ведь я уже подписал контракт на выступления в Чотокве. Сейчас я считаю, что тогда для меня было слишком рано соглашаться петь в Вероне, однако сам факт получения такого предложения — ведь мне исполнилось всего двадцать четыре года — означал по крайней мере успех на прослушивании. Из Италии мы поехали в Барселону, где жили сестра Марты Перла и ее муж Агустин Росильо. Первое возвращение в Испанию после того, как я покинул ее ребенком, очень взволновало меня, и, когда мы прибыли в Мадрид, я стиснул руку Марты, безуспешно пытаясь сдержать слезы. Там мы увиделись со всеми моими дядюшками, тетушками, двоюродными братьями и сестрами. Я снова оказался на улице Ибисы, мы остановились в том же доме, где я жил мальчиком. Долго спавшие во мне чувства, испытываемые к Испании, при этом посещении страны выплеснулись наружу. Марта, ожидавшая ребенка, быстро уставала, поэтому она оставалась в Барселоне, пока я ездил на всевозможные прослушивания. Среди других я пел для Бернара Лефора, и он предложил мне «Баттерфляй» в Марселе к концу года. Это был единственный конкретный положительный результат, который принесли все прослушивания. Однако главным было то, что я установил некоторые очень важные связи. Затем мы полетели в Соединенные Штаты, и в Чотокве, ужасно простуженный, я впервые спел Самсона в спектакле с Джоан Грилло. Ситуация усугублялась тем, что надо было петь на английском или хотя бы изображать смутное его подобие. «Кармен» в Вашингтоне с Розалинд Элиас прошла очень успешно. Руководители театра «Нью-Йорк Сити Опера» Юлиус Рудель и Джон Уайт, послушав меня на спектакле, пригласили на пробу в свой театр. Таким образом я неожиданно получил приглашение дебютировать на нью-йоркской сцене в октябре в двух представлениях «Кармен». В «Нью-Йорк Сити Опера» мне предложили также выступить в «Сказках Гофмана» на гастролях в Филадельфии, но с условием, что потом я соглашусь петь в новой опере аргентинского композитора Альберто Хинастеры «Дон Родриго». После долгих вояжей мы с Мартой вернулись в Мехико, радостно встретившись с нашими родными. Я выступил там в «Сказках Гофмана», а также в «Тоске». Одна из рецензий на первую оперу была отрицательной. Суть сказанного в ней обо мне сводилась к следующему: трудно даже передать, что Пласидо Доминго выделывал на сцене, во всяком случае, совершенно ясно, что опера не его дело. Это так вывело меня из себя, что я в первый и единственный раз в своей жизни разозлился на рецензию. Я думал накинуться на критика с возражениями и устроить на следующем спектакле нечто вроде скандала. Но в тот же день, когда вышла рецензия, Мариан Симон позвонила мне из Нью-Йорка и сообщила, что я приглашен в Бостонскую оперу петь «Богему» с Ренатой Тебальди, оперу Рамо «Ипполит и Арисия» с Беверли Силлз и оперу Шенберга «Моисей и Аарон». Это открывало передо мной определенные перспективы, а мысль о том, что представляется возможность петь с Тебальди, совершенно преобразила меня (Силлз в то время еще не была столь знаменита, как впоследствии). Я оставил рецензента жить с миром. Еще несколько ангажементов я получил на выступления в Пуэбле и кое-где еще в Мексике, но прежде, чем я узнал о них, настало время отправляться в Нью-Йорк для подготовки дебюта в «Кармен» на сцене «Сити Опера», который был назначен на 21 октября. Рудель не собирался дирижировать этим спектаклем, но изменил свои намерения, услышав меня на репетициях. Я был очень польщен этим и никогда не забуду его поступка. Пока я репетировал, тенор в параллельно шедшей постановке «Баттерфляй» заболел, и 17 октября меня попросили заменить его. Таким образом, мой дебют в Нью-Йорке состоялся раньше, чем предполагалось. Дирижировал Франко Патане, выдающийся музыкант, которого все мы очень любили и который через несколько лет скончался в расцвете сил. Патане, как и его сын Джузеппе, как Нелло Санти, обладал совершенно невероятной музыкальной памятью. Встречаются дирижеры, которые могут сесть и записать наизусть целые оперы: и оркестровые партии, и вообще все, что есть в партитуре. Патане-старший был одним из них. Но прежде всего он глубоко, всем своим существом погружался в музыку, которой дирижировал. Я выступал с ним в нескольких постановках: «Травиате», «Баттерфляй», «Тоске», «Кармен», «Богеме» и в первый для себя раз — в «Плаще». Единственный его недостаток— тот же, что и у Фаусто Клева, с которым я позже работал в «Метрополитен-опера»,— заключался в потере самоконтроля, если кто-то из исполнителей ошибался во время спектакля. Он впадал в такую ярость, что мы теряли нить действия. Его лицо выражало гнев, от которого содрогались наши души. Клева же иногда приобретал на спектакле совершенно потусторонний вид, так что мне становилось страшно за его здоровье, ведь он и вообще выглядит очень хрупким. С ним я пел «Адриенну Лекуврер», «Андре Шенье», «Сельскую честь» и «Бал-маскарад». От этой работы я получал истинное удовольствие. Особенно близки были Клева произведения композиторов-веристов. Представления обоих спектаклей в «Нью-Йорк Сити Опера» где я участвовал, прошли чудесно. Жаль, что со мной не было Марты: она осталась в Мехико, ожидая рождения ребенка. Новый Пласидо Доминго родился несколько прежде времени — как раз в тот день 21 октября, когда был назначен мой нью-йоркский дебют. Так как всего за четыре месяца до его рождения мы с Мартой были в Израиле, то прозвали Пласи «азиатским» членом нашей семьи. (Я был «африканцем», потому что за девять месяцев до моего появления на свет родители находились на гастролях в Танжере.) Прилетев в Мехико 22 октября, я увидел Марту и ребенка. Однако уже на следующий день я должен был ехать в Пуэблу, чтобы выступать в «Баттерфляй» вместе с Монсеррат Кабалье. Тогда, в первый раз работая с ней, я получил большое удовольствие. Потом я опять вернулся в Нью-Йорк, чтобы снова петь «Кармен» 31 октября. В Нью-Йорке меня принимали более чем хорошо. В то время я познакомился с людьми, которые остаются моими друзьями по сей день. Это, например, кубинцы, которые были в числе поклонников труппы моих родителей, когда те гастролировали на Кубе. Они вспоминали, как отец и мать показывали им фотографии маленьких Пласидина и Мари Пепы. Я начал также посещать спектакли в «Метрополитен-опера». Мне особенно запомнилась прекрасная постановка «Эрнани» с Леонтин Прайс, Франко Корелли, Корнеллом Макнейлом и Джеромом Хайнсом. Все было великолепно: меня покорили размеры старого здания театра и то, как звучали в нем голоса этих певцов. В ноябре я пел «Баттерфляй» в Марселе и нашел, что публика южной Франции поразительно хороша. Доброжелательная, знающая, она мгновенно откликается на удачи и неудачи. Несколькими годами позже я выступал там в «Кармен» и надеюсь появиться в Марселе еще когда-нибудь. Из Франции я вернулся в США, чтобы петь «Кармен» на английском в Форт-Уорте. Норман Трайгл, выступавший в роли Эскамильо, иногда пародировал меня: изображая, как я в дуэте с Микаэлой пою слова «Поцелуй от любимой», он нарочито растягивал слоги, сопровождая это соответствующей мимикой. В Филадельфии я дебютировал, выступив с «Нью-Йорк Сити Опера» в «Сказках Гофмана». Потом я помчался в Барселону готовиться к первому выступлению в Испании (оно состоялось 1 января 1966 года). В театре «Лисео» я пел в трех мексиканских операх: «Карлоте» Луиса Санди, «Северино» Сальвадора Морены и «Мулатке из Кордовы» Пабло Монкайо. Это прелестные оперы с местным колоритом различных районов Мексики. Ни одна из них не похожа на традиционные произведения оперного репертуара, поэтому публика и критика не могли в полной мере оценить качество моей художественной работы. Тем не менее я получил удовольствие от этих выступлений. Мама тоже встречала рождество в Испании, потому что работала там в это время по контракту в гастрольной труппе сарсуэлы. По возвращении в Нью-Йорк мне предстояло отважиться на весьма рискованное предприятие — петь заглавную роль в североамериканской премьере оперы Хинастеры «Дон Родриго», да еще и выступать с ней в новом помещении «Сити Опера»—Театра штата Нью-Йорк в Центре имени Линкольна. Большую часть зимы я оставался один, без семьи, так как климат в Нью-Йорке казался мне слишком суровым для ребенка (Марта с маленьким Пласидо приехала ко мне за неделю до премьеры). Вообще это была первая зима, которую я проводил в холодной части света. Для меня внове оказалось видеть снег изо дня в день, носить теплые сапоги, перчатки, шапку с ушами. Обычно я отправлялся в театр утром и уходил из него часов в одиннадцать дня. Я научился американской привычке покупать продукты в торговых автоматах, быстро поедать булочки с рубленым бифштексом, продававшиеся в бумажных пакетах,— одним словом, делать все необходимое, чтобы поддерживать свои силы. «Дон Родриго», великолепно поставленный Тито Капобьянко, стал первым оперным спектаклем, в подготовке которого я участвовал от начала до конца. График требовал напряженной работы, и в отношении длительности репетиций не было никаких ограничений. Мы работали, не глядя на часы. Когда меня приглашали на роль, я не представлял себе, что предстоит делать, в какую работу надо будет включиться. Мое музыкальное образование более обширно, чем обычно у певца, но и мне интонировать интервалы в музыкальной ткани «Дона Родриго» было трудно. Репетиции шли прекрасно во многом благодаря участию в них одного из великолепнейших музыкантов, которых я когда-либо знал,— аргентинского композитора Антонио Тауриэлло. Он приехал как ассистент Хинастеры и оказывал реальную помощь на протяжении всех репетиций. Тауриэлло мог заметить фальшивую интонацию в сложнейших пассажах, свободно читал с листа партитуры типа берговского «Воццека» и вообще невероятно быстро схватывал любой музыкальный материал, с которым ему приходилось иметь дело. Казалось, что Тауриэлло знал произведение Хинастеры лучше, чем сам автор. Первое представление, состоявшееся 21 февраля 1966 года, было премьерой особого рода и потому привлекло пристальное внимание. Я, привыкший к ежедневным трудностям на спектаклях в Израиле, прежде всего сказал себе: «Ты много работал и знаешь оперу от начала до конца. Стоит ли думать о неудаче?» Для публики это был волнующий вечер: на протяжении долгого времени зрители не слышали современной оперы такого уровня. И для молодого испанца спеть в этой ситуации роль испанского короля, да еще на испанском языке,— случай незабываемый. После премьеры раздавалось много похвал произведению, постановке и, к счастью, моему пению. Тогда я не мог представить в полной мере, что все это будет значить для моего будущего. Я наслаждался в Нью-Йорке большим успехом, а ведь месяц назад мне исполнилось всего двадцать пять лет, и прошло только восемь месяцев с момента моего возвращения из Израиля. В это трудно было поверить. Репертуар первого сезона «Сити Опера» на сцене Театра штата Нью-Йорк целиком состоял из произведений современных авторов. Одно из них не пользовалось успехом, и его сняли через несколько представлений. Это косвенным образом привело меня к серьезным неприятностям. Я уже дал согласие дебютировать в Бостоне после «Дона Родриго», но в моем контракте с «Сити Опера», где были оговорены только три спектакля «Дона Родриго», предусматривалось еще, что определенный период времени я буду находиться в распоряжении труппы. Когда та, другая, опера «прогорела», были запланированы два дополнительных спектакля «Дона Родриго», чтобы ликвидировать прорыв. Однако в то самое время я уже работал с Сарой Колдуэлл в Бостоне. В результате началась борьба между двумя театрами, меня она угнетала, потому что хоть и невольно, но спровоцировал ее я. В то время руководителем Американского союза музыкантов был Хай Фэйн. Джон Уайт, один из директоров «Сити Опера», позвонил в контору Симона и возмущенно сказал секретарше: «Нам нужен Пласидо для выступлений. Если ситуация с Бостоном не прояснится, то в дело вступит мистер Фэйн». «О,— наивно ответила секретарша,— разве он уже выучил партию?» Уайт подумал, что она насмехается над ним, и впал в еще большую ярость. Однако в конце концов ситуация разрешилась благополучно: у меня было два дополнительных спектакля в Нью-Йорке, а в Бостоне в соответствии с этим изменили график репетиций. Моим первым спектаклем в Бостоне стала опера «Ипполит и Арисия». Партия Ипполита состоит из множества виртуозных пассажей. Она так и осталась одной из самых высоких партий, которые мне доводилось петь. Стиль Рамо оказался для меня нов и очень труден. Спектакль шел на французском языке, а среди его участников был один южноафриканский певец, который ни говорить, ни петь на этом языке как следует не мог. Вместе с тем он носил французскую фамилию, и, конечно, один из критиков написал, что самый лучший и наиболее правильный французский продемонстрировал мсье такой-то. Большое удовольствие доставляла работа с Беверли Силлз. Кроме того, я имел возможность познакомиться с творчеством блистательной Сары Колдуэлл. Для «Богемы» Колдуэлл хотела сделать по-настоящему эффектную постановку. Она не только пригласила Тебальди петь Мими, но желала найти самых лучших певцов и на роли Мюзетты и Марселя. Пока она прослушивала всех возможных кандидатов, приглашенных в Бостон, репетиции были приостановлены. Может быть, она слишком уж усердствовала, но надо сказать, что в конце концов Колдуэлл заимела тех, кого хотела, и спектакль получился выдающийся. Мюзеттой была англичанка Адель Ли, прекрасное сопрано, а в роли Марселя выступал замечательный английский баритон Питер Глоссоп. Но более, чем этот изумительный состав, поражал тот факт, что Колдуэлл сделала великолепнейший спектакль за три дня! Оформлял постановку одаренный художник из ФРГ Рудольф Хайнрих, умерший вскоре совсем молодым. (Он создал также декорации для целого ряда спектаклей в «Метрополитен-опера», в том числе для «Тоски» 1969 года, и участвовал в венской постановке «Моисея и Аарона».) Я находился под большим впечатлением от прекрасного голоса Тебальди и был поражен ее обаянием. У нас до сих пор хранятся фотографии, где она запечатлена с нашим Пласи на руках, которому тогда исполнилось всего несколько месяцев. Она все время справлялась о его здоровье и хотела его видеть. Для меня было непостижимой удачей петь с Тебальди. Благодаря ее участию, а также, конечно, из-за исключительно высокого уровня всей постановки успех спектакля был предопределен. Между тем мы начали репетировать «Моисея и Аарона»— оперу, которая очень раздражала меня. До сих пор не люблю это произведение и не могу его понять. Жалко было бедного Аарона, который должен петь ужасно сложную партию, в то время как Моисей отвлекает внимание слушателей своим разговорным речитативом* в диалоге с ним. Да к тому же партия Аарона просто беспощадна по отношению к голосу! В то время, к несчастью для театра и к моему великому удовольствию, у компании возникли финансовые проблемы, а поскольку эта постановка оперы Шёнберга требовала больших затрат и была рискованной с точки зрения будущего интереса к ней публики, работа была отложена на год. Я уже имел приглашения в другие места как раз на тот же период в следующем сезоне, поэтому у меня возник план «бегства». И хотя за плечами было много музыкальных репетиций, хотя в трудах оказалась пройденной почти половина работы, я нисколько не жалею, что не участвовал в окончательном осуществлении этого проекта. В Мексике, еще до поездки в Тель-Авив, мы с Мартой работали с дирижером Антоном Гуаданьо. Во время одного из спектаклей в Нью-Йорке он и его жена Долорес пригласили нас к себе на обед. Гуаданьо готовился лететь в Новый Орлеан, чтобы дирижировать «Андре Шенье» с Франко Корелли в главной роли. Я не верю, что когда-нибудь услышу тенора, который бы так уверенно пел в верхнем регистре, как Корелли. Сколько бы раз ни присутствовал я на его спектаклях, всегда он был в хорошей форме, всегда демонстрировал максимум своих возможностей. С другой стороны, если Корелли чувствовал, что по какой-то причине не может петь блестяще, он просто отказывался от спектакля. Гуаданьо в шутку предупредил меня: «Пласидо, на всякий случай будь готов!» Я сказал ему, что никогда не пел Шенье. «Ладно-ладно,— ответил он.— Я ведь и не говорю ничего, кроме того, чтобы ты просто готов был приехать». Через два дня зазвонил телефон... Я выучил всю оперу за два или три дня и помчался в Новый Орлеан. Как всегда бывает в таких случаях, публика и критики были в ярости. Они негодовали по поводу того, что Корелли отказался выступать. Это, возможно, сыграло в мою пользу.
* Партия Моисея написана в манере »Sprechgesang», то есть представляет собой особый интонированный речитатив без пения, изобретенный Шёнбергом еще в ранних его произведениях.— Прим. перев.
«Да кому он нужен, этот Корелли?» — возмущались вокруг, что было несправедливо по отношению к Франко, но прибавляло веса моему успеху. Для меня же в конце концов главным результатом стало другое: я выучил прекрасное произведение, которое с тех пор часто пою. Кроме того, мне очень понравился Новый Орлеан с его французской и латиноамериканской атмосферой, его ресторанами, его несхожестью с другими городами Соединенных Штатов. Во время перерыва в моем первом нью-йоркском сезоне я ездил в Мехико, чтобы петь в оратории Мендельсона «Илия» с Беверли Силлз и Норманом Трайглом под управлением Луиса Эрреры де ла Фуэнте. (В следующем году я исполнял это произведение с темп же моими коллегами в Лиме (Перу) и чудесно провел время в этой поездке. Хор в Лиме состоял из молодых людей, бывших большими энтузиастами своего дела, всегда готовыми петь еще и еще. Они даже пришли в аэропорт исполнить мне серенаду на прощание.) Я не хочу пугать читателей этой книги тем, что превращу ее в каталог моих спектаклей и перелетов. Для этого есть приложение в конце, где перечислены все мои выступления. Поэтому на этих страницах я оставляю за собой право говорить только о самых интересных событиях. Отмечу, например, что летом 1966 года я был приглашен петь «Кармен» с Милдред Миллер и Норманом Трайглом в ежегодных оперных спектаклях, которые давались на открытой сцене в Зоологическом саду в Цинциннати. Я приезжал туда позже еще дважды: один раз для выступлений в «Шенье» и «Травиате», другой — для участия в «Сказках Гофмана». Нетрудно себе представить, какие казусы подстерегают артистов и публику на спектаклях в таком месте. Кто-нибудь из героев споет: «Ответь мне!» — и услышит в ответ дружное «ква-ква» из соседнего пруда. Однажды Элизабет Шварцкопф пела здесь «Кавалера розы». Все опасались, что во время ее соло какое-нибудь животное жутко взвоет, но при звуках голоса Шварцкопф даже звери успокаивались. На репетиции «Фауста», в котором я не пел, Гуаданьо разъярился на дятла — тот долбил по дереву особенно громко и долго. Дирижируя, Гуаданьо начал выкрикивать на своем плохом английском: «Заткнись, птица! Заткнись, птица!» Затем, перейдя на итальянский, он изверг в адрес дятла самые невероятные ругательства, но все оказалось напрасно. А вообще сезоны в Цинциннати были очень славными. Иногда со мной приезжало сюда все наше семейство — не только Марта с Пласи, но также мои родители и Пепе, сын от первой жены. (Вскоре после этого Пепе переехал к нам и стал жить у нас в доме, который мы купили в Тинеке, штат Нью-Джерси.) Мы обычно встречались с участниками спектаклей у плавательного бассейна отеля и с удовольствием проводили время вместе. В те дни я отдыхал между спектаклями не так, как сегодня, когда в паузе даю пять или шесть интервью, дописываю фрагменты грамзаписей и телевизионных постановок и делаю множество других всевозможных дел. Небольшие оперные сезоны в Цинциннати, Новом Орлеане и других местах примечательны во многих отношениях. Часто они устраиваются людьми, которые действительно любят музыку, любят оперу, а ведь вовсе не так легко найти средства для организации постановок. Только одно обстоятельство иногда нервирует исполнителей: нас изматывает множество различных приемов и прочих публичных мероприятий. Любители оперы всегда стараются выразить и всяческими способами выражают нам свое расположение, но от бесконечных ужинов, вечеринок иногда устаешь больше, чем от самих спектаклей. Вдруг, например, приглашают на обед и еще на коктейль в пять часов дня, когда вечером спектакль, а если к тому же примешь одно предложение и откажешься от другого, то обид не оберешься. Я взял за правило ходить на приемы только после спектаклей или в свободные от выступлений дни. Когда я работаю, собираюсь с силами, моя внешняя жизнь должна быть сведена к минимуму. Возможно, сказанное мною кого-то и обидит, но тут уж встает вопрос о вещах, жизненно необходимых артисту. Осенью 1966 года я пел в необычной постановке «Травиаты» на сиене «Нью-Йорк Сити Опера». Роль Виолетты исполняла одна из лучших среди известных мне оперных певиц Патриция Брукс. Дирижировал Франко Патане, ставил спектакль Фрэнк Корзаро. Репетиции в равной степени были для меня и приятны, и полезны, они давали великолепный театральный опыт. Корзаро демонстрировал блеск мысли, а Патриция глубоко трогала исполнением своей партии. Этот спектакль был тесно связан с пьесой Дюма «Дама с камелиями», по сюжету которой написана опера, хотя, конечно, постановщик следовал замыслу Верди. В то время мы с Мартой жили на Вест-Энд-авеню, переехав сюда с перекрестка 69-й авеню и Бродвея. Корзаро обычно приезжал к нам поужинать или выпить что-нибудь, и мы с ним обсуждали общие театральные проблемы. Но, конечно, особенно много говорили мы о «Травиате», эти беседы продолжались до трех-четырех часов утра. В результате разговоров с режиссером я впервые стал всерьез задумываться над оперной драматургией, начал менять свое представление о ней. Я вспоминаю об этих беседах с большой теплотой и сожалею, что мы с Корзаро в последние годы не имели возможности работать вместе. «Травиата», «Баттерфляй», «Паяцы» — постановки, в которых мы сотрудничали на сцене «Сити Опера»,— явились для меня великолепной оперной практикой. В третьем акте «Травиаты» во время нежной музыки, непосредственно предшествующей дуэту «Край мы покинем», я должен был перенести Патрицию на диван и на одной репетиции, запоздав с выходом, начал петь, продолжая держать ее на руках. «Оставим так!—сказал Корзаро.— Сможешь петь в этом положении?» Я согласился и пел дуэт с Патрицией на руках. Получилось очень эффектно, и мы оставили в спектакле эту мизансцену. Труднее всего оказалось контролировать дыхание, но, немного потренировавшись, я понял, что смогу управлять им. Постановка получилась удачной. Харольд Шенберг назвал меня в «Нью-Йорк тайме» громогласным тенором, который, кажется, может поднять на руках Эмпайр стейт билдинг. Кстати, с большим удовольствием я выступил на премьере «Травиаты» в «Метрополитен-опера» в 1981 году, пятнадцать лет спустя после той постановки в «Сити Опера». «Дона Родриго» возобновили в следующем сезоне, и на одном из спектаклей присутствовал генеральный директор Гамбургской оперы Рольф Либерман. Через Марианну и Джерарда Симон он назначил мне прослушивание, но по причине наступления жутких холодов я попросил отменить его. Либерман настаивал на своем приглашении. И вот я пришел — с опозданием, чувствуя себя несчастным, объясняя так и этак свое дурное состояние. «Пласидо,— прервал меня Либерман.— Я готов слушать вас в любом виде». «Да, но здесь нет даже пианиста, я его не пригласил». Либерман не унимался: «Но я знаю, что вы сами играете на фортепиано». Тут уж поневоле пришлось идти к инструменту: я начал играть вступление к арии «В небе звезды горели». Петь я почти не мог, и те звуки, что вылетали из моего горла, больше походили на рев грузовика, силящегося на малой скорости вползти на гору. Либерман остановил меня и сказал: «Я уверен, что 8 января вы будете чувствовать себя лучше». «А при чем тут 8 января?»— удивился я. «При том, что в этот день,— ответил он,— вам предстоит петь «Тоску» в Гамбурге». Как я признателен этому человеку! Он рисковал, приглашая меня, потому что практически не знал моего голоса. Я вряд ли понравился Либерману в «Доне Родриго», но он смог понять, что причиной тому было мое нездоровье. Ни разу не прослушав меня в «репертуарной» опере, он тем не менее предложил мне спеть Каварадосси. По правде говоря, я не считаю себя тщеславным, но тогда я явно почувствовал, что начинается новый важный этап моей карьеры. В немецких оперных театрах не принято много времени уделять репетициям. Исключение делается только для работы над новыми постановками. А в обычные дни певцы появляются за день до спектакля, дирижер и режиссер быстренько проходят с ними всю оперу без оркестра: согласовывают темпы, сценическое поведение— и готово! Поэтому даже одна репетиция перед моим гамбургским дебютом казалась роскошью. Плохая погода задержала прибытие дирижера Нелло Санти, который появился в театре незадолго до поднятия занавеса. Он зашел в мою гримуборную со словами «In bocca al lupo» (буквально это значит «как у волка в пасти» — это итальянский эквивалент выражения «свернуть себе шею») и добавил: «Помните, я не замедляю темп на ,,Svani per sempre il sogno mio d'amore"*». Сразу после этого Нелло,
* В советском издании клавира «Как светлый сон исчезли вы навеки».— Прим. перев.
который позже стал одним из лучших моих друзей, отправился на свое дирижерское место, а я стал в кулисах. На протяжении всего спектакля мы ни разу не разошлись. Успех был настолько большим, что Либерман предложил мне контракт. Однако после двух с половиной лет работы в Израиле я стал более осторожным в отношении таких долгосрочных соглашений. Я сказал, что чувствую творческий подъем, вижу, что передо мной открывается много новых возможностей, и хочу быть свободным, дабы иметь право выбора. Либерман, которому не надо было объяснять такие вещи, сделал мне другое предложение. Он спросил, не прельщает ли меня перспектива выступить в мае следующего года в «Аиде», в декабре в новой постановке «Богемы», а в январе 1968 года — в «Лоэнгрине». Я с радостью согласился, и с тех пор связь с Гамбургом стала для меня важнейшей частью моих европейских контактов. Если не считать «Метрополитен», в гамбургской Опере я выходил на сцену чаще, чем где бы то ни было. Хотя число моих выступлений в «Ковент-Гарден» скоро, пожалуй, обгонит все остальные. Как раз перед гамбургским дебютом я ездил на прослушивание в разные европейские города. Мне было довольно одиноко в то время. Помню, на грустном новогоднем ужине в цюрихском ресторане я встретил такого же тенора-соискателя — мужа Джоан Грилло Ричарда Кнесса. Примерно за минуту до наступления полночи мы в унисон начали петь кабалетту Манрико и одновременно взяли верхнее до, когда часы пробили двенадцатый раз. Результатом первого прослушивания стало предложение спеть «Кармен» на немецком в Дюссельдорфской опере. Я его не принял. В венском аэропорту меня встречал Петер Хофштеттер, друг Джузеппе Ди Стефано. Одна из поклонниц Ди Стефано, которая слушала меня в Новом Орлеане, много рассказывала обо мне Хофштеттеру. Я нуждался в помощи Петера, потому что очень плохо говорил по-немецки, и сразу понял, что мы станем большими друзьями. Действительно, и мы сами, и наши домочадцы сегодня находятся в самых близких дружеских отношениях. Петер привел меня в «Штаатсопер» на прослушивание, которое проходило весьма странно. Когда я пел арию «Мир и покой в душе моей» из «Травиаты», комиссия попросила пианиста остановиться, а мне было приказано продолжать дальше. Руководителям театра хотелось проверить, способен ли я держать строй без инструментального сопровождения. После этого экзамена мы с Петером спустились на улицу, где заметили проезжавшего на своем «роллс-ройсе» Ди Стефано. Подрулив к нам, он сказал, что, возможно, откажется сегодня петь в «Бале-маскараде». Он не очень хорошо себя чувствовал и как раз ехал показаться врачу. В итоге меня попросили заменить Ди Стефано. Но, к сожалению, я тогда еще ни разу не выступал в «Бале-маскараде» и не очень-то хорошо знал партию. Иначе мой дебют в Вене мог состояться в тот же день, что и первое прослушивание. Зато я подписал контракт на участие в «Дон Карлосе» в мае следующего года. В течение нескольких недель между спектаклями я выступал в Северной и Южной Америке. Особенно запомнилась мне первая встреча с Эрихом Лейнсдорфом и Бостонским симфоническим оркестром во время исполнения «Сотворения мира» Гайдна. Сольная ария, которую я пел, написана на 3/4, и я готовил ее в подвижном темпе. Однако Лейнсдорф решил, что темп здесь должен быть значительно более медленным, размеренным, с подчеркиванием каждой доли, и это было его право. При всем моем желании приспособиться к требованиям дирижера, я не мог с ходу это сделать, так как мы ни разу не репетировали под фортепиано и я не представлял, каким именно будет этот темп. Когда мы начали проходить номер на первой оркестровой репетиции, то совершенно разошлись. «Господин Доминго,— сказал Лейнсдорф в присутствии всего оркестра и солистов,— люди, которые имеют репутацию хороших музыкантов, обычно знают свои партии». Я ничего не ответил, но был взбешен. На следующее утро, придя на репетицию, я спел свое соло точно в том темпе, которого требовал Лейнсдорф, вообще не заглядывая в ноты. С тех пор мои отношения с дирижером наладились. С ним я впервые записал Девятую симфонию Бетховена, «Аиду», «Плащ». Я в равной степени и люблю его, и уважаю. Я надеялся петь «Отелло» с Лейнсдорфом в Вене осенью 1982 года, но какие-то причины заставили его отказаться от ангажемента. Довольный, чувствуя себя победителем, вернулся я из Гамбурга после дебюта в партии Радамеса. Через восемь дней — 19 мая 1967 года — к этому счастливому событию прибавилось еще одно — первое выступление в Вене в главной партии оперы «Дон Карлос» с великолепным составом исполнителей: Гвинет Джонс, Рут Хессе, Костас Паскалис, Чезаре Сьепи и Ганс Хоттер. На двух следующих спектаклях Сьепи заменил Николай Гяуров, а вместо Хессе выступала сначала Криста Людвиг, а затем Грейс Бамбри. Прекрасный голос Сьепи я уже слышал в Мексике, с Гяуровым же встретился впервые. Слышать его, работать с ним — огромное удовольствие. Николай демонстрирует блестящий пример того, каким может быть настоящее legato. С Хоттером мне не приходилось больше выступать, но уже тогда на меня большое впечатление произвели его личностные качества и актерское мастерство, так же как красота и ровность голоса Кристы Людвиг. Гвинет Джонс, обладая редкой внешней привлекательностью, является еще и одной из наиболее драматически одаренных певиц-сопрано. Она обладает способностью создавать самые разнохарактерные образы. В Вене я слушал ее в «Трубадуре» и сейчас, наблюдая за ней в роли Елизаветы, с трудом верил, что вижу ту же актрису. Первый спектакль начался для меня с происшествия. Помимо того, что у нас состоялась только одна репетиция, причем проходила она в классе, а не в зале, никто не догадался предупредить меня, что специально для спектакля на сцене натерли пол. В первом же эпизоде, выскочив, как молодой бычок, со словами: «Ее утратил я», я чуть не вылетел в публику. К счастью, мне удалось удержаться, и дальше спектакль шел прекрасно. Через несколько лет я участвовал в другом спектакле с почти катастрофической ситуацией. Это была «Тоска» в «Штаатс-опер», где пела Галина Вишневская. В Вене, как и в большинстве других мест, требуют, чтобы актрисы надевали парики, принадлежащие театру, потому что они сделаны из негорючих материалов, но Вишневская решила выступать в своем. Во время фразы «Вот тебе поцелуй Тоски», готовясь вонзить нож в Скарпиа (его играл Паскалис), она наклонилась назад. При этом ее парик попал в огонь свечи, стоящей на столе у Скарпиа, и загорелся. Не подозревая, что происходит, она пришла в ужас, когда Паскалис вместо того, чтобы повалиться на пол, быстро схватил ее за волосы. Вишневская, наверное, подумала, что он сошел с ума, и начала отбиваться, в то время как возбужденная публика принялась кричать. Я, стоя в кулисах перед выходом на поклоны после окончания второго акта, кинулся на сцену, чтобы схватить «вино» со стола Скарпиа и вылить его на парик, но Паскалис в это время успел сорвать его с певицы. Я залил парик водой, огонь потух, а занавес опустили. Когда Вишневская, до которой дошло наконец, что случилось, и все остальные успокоились, финал сцены сыграли заново. Наверное, это был единственный в истории «Тоски» спектакль, в котором Скарпиа по роковому стечению обстоятельств умирал дважды, хотя должен сказать, что даже трех смертей этому злодею барону было бы мало. Мой физический вес имеет тенденцию то расти, то уменьшаться. Тогда, во время дебюта в «Штаатсопер», я растолстел, поедая очень вкусные венские кондитерские изделия, подававшиеся и в моем отеле «Амбассадор», и в других местах. Но наслаждению пирожными, сбитыми сливками и прочими сладостями пришлось положить конец после звонка из Западного Берлина. Я помнил, что через несколько дней мне предстоит дебютировать в «Аиде». Но исполнительница партии Амнерис заболела, и достойную ей замену найти не смогли. В театре зато оказалась подходящая певица для Ульрики, поэтому решили дать вместо «Аиды» «Бал-маскарад». Я не сообщил администрации, что никогда не пел в этой опере. «Разумеется, я приеду» — вот и все, что я ответил. И снова, как в ситуациях с «Кармен» в Тель-Авиве и «Шенье» в Новом Орлеане, я выучил всю партию за три дня. Местами было ужасно трудно, особенно если учесть языковые головоломки в тексте роли Ричарда в первом акте. Только полный текст «Бала-маскарада» дал мне возможность что-то понять. Я замуровал себя в «Амбасса-доре» и с помощью партитуры, фортепиано, Марты и — честно признаюсь! — записи Джильи сумел вложить в себя эту партию. Спектакль 31 мая прошел хорошо, и я даже получил удовольствие от того, что на протяжении трех недель впервые спел три главные вердиевские роли, дебютировав при этом и в Вене, и в Западном Берлине. Хотя делалось все наскоро, но результатами можно было быть вполне довольным, особенно молодому тенору, у которого за месяц до того в репертуаре значилась всего лишь одна большая вердиевская партия — Альфред в «Травиате». Из Западного Берлина мы с Мартой отправились в Неаполь, где я должен был по вызову Франко Патане прослушиваться в театре «Сан Карло». Последнюю часть пути — от Рима до Неаполя — мы летели на турбовинтовом самолете. Лайнер взлетел, но в воздухе два его двигателя из четырех отказали. Пилот не знал, оборудован ли аэропорт в Неаполе так, чтобы посадка прошла благополучно, поэтому мы вернулись в Рим. Взлететь вновь наш самолет не мог, при том что все места в нем были заняты. На следующий же рейс оставалось всего двадцать пять свободных билетов. Среди неаполитанцев началась невообразимая суматоха. «Вы должны уступить место мне,— кричала одна женщина,— я лечу из Нью-Йорка! Я не видела свою семью десять лет!» «Простите,— вопил другой человек.— Уж я-то полечу, хотите вы или нет. Мой дядя занимает очень высокое положение, и полечу я!» В разговор вступал следующий: «Послушайте, если я не получу место, вы завтра же потеряете работу в «Алиталии». Вы знаете, кто я такой?» В итоге я сказал Марте: «Послушай, слава богу, что мы на земле и в безопасности. Давай поедем в Неаполь поездом». Так мы и сделали. Прослушивание прошло хорошо, но только через несколько лет, когда позволил график моей работы, мне удалось выступить в «Сан Карло». Пока мы находились в Неаполе, Патане был нашим милым гидом, а когда пришло время уезжать, он с головокружительной скоростью довез нас до Милана на своей машине. Несколько месяцев спустя на той же самой дороге он разбился в своем автомобиле. Столица Чили Сантьяго стала одним из самых приятных мест, с которыми мне довелось познакомиться в 1967 году. Я пел в «Андре Шенье» с чилийской певицей-сопрано Клаудией Парада и американским баритоном Шерилом Милнзом. Он уже давно выступал в «Метрополитен» и постепенно стал одним из самых близких моих коллег. У нас были сходные исполнительские принципы, и когда мы работали вместе, то оба раскрывались наилучшим образом. Еще я выступал в «Кармен», которая, как и «Шенье», была поставлена Тито Капобьянко. Регина Резник, большая актриса, очень темпераментно пела главную роль, а Рамон Винай (о его выдающейся интерпретации партии Отелло я уже говорил раньше) исполнял роль Эскамильо. Он, должно быть, испытывал ностальгию по тем дням, когда был тенором, и в четвертом акте на реплике Хозе «Кармен, но еще есть время» я несколько отвлекся, услышав, как он поет вместе со мной из-за кулис. Винай, родившийся в Чили, был и остается кипучим, жизнерадостным, сердечным человеком, всегда доброжелательно настроенным по отношению к окружающим. Мы много говорили с ним об Отелло, и он хотел, чтобы я начал тогда же петь эту партию, но для меня это было еще слишком рано. «Давай договоримся на следующий год,— говорил он.— Я отдам тебе свою шпагу — получишь роль в наследство, а я спою Яго». Винай рассказывал мне, что в ту пору, когда он пел Отелло, других ролей он почти не исполнял. Винай доверительно сообщил мне: «Я обычно вводил себя в образ уже во время полета к месту выступления». Для того чтобы постепенно превращаться в мавра, он надевал черный свитер, бросал повсюду грозные взгляды, небрежно и грубо пожимал руки встречавших его людей, считая их как бы своей свитой. Винай предупреждал меня, что надо следить за освещением сцены в «Отелло»: оно должно быть таким, чтобы подчеркивать соответствующее выражение лица. В его время каждый певец сам создавал рисунок роли, а сегодня у одного актера характеристики образа меняются от постановки к постановке в зависимости от требований режиссера. Винай прожил со своим мавром такую долгую сценическую жизнь, что на всяких, больших и малых, приемах неизменно исполнял сцену смерти: от фразы «Никто меня не боится» до последнего вздоха Отелло. Однажды мы были на большом празднике, устроенном в погребах, где производится изысканнейшее чилийское вино «Конча и Topo». Даже там он взобрался на некое подобие подмостков и спел эту сцену. Выглядело это несколько странно, но в то же время очень трогательно. То был год, когда я дебютировал в Чикаго (в «Бале-маскараде» с Мартиной Арройо, певшей эту оперу впервые; дирижировал Джузеппе Патане) и в Лос-Анджелесе (с труппой «Нью-Йорк Сити Опера», открывшей сезон в «Павильон Дороти Чендлер»). Позже в этом же году я поехал в Гамбург для участия в новой постановке «Богемы», которую осуществляли режиссер Иоахим Херц и дирижер Нелло Санти. В книге Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы», на основе которой написано либретто, есть персонаж, отсутствующий в опере Пуччини, и в гамбургской постановке появилась бессловесная роль Эфеми, подруги Шонара. В том месте, где Марсель понимает, что больше не может рисовать иудеев, переправляющихся через Красное море, он зовет Эфеми, которая служит ему моделью для следующей картины, и та выскакивает на сцену совершенно обнаженной. Она дрожит в холодной мансарде до тех пор, пока Рудольф не приносит ей какую-то одежду, вероятно опасаясь, что она схватит пневмонию. Это нововведение— из числа тех, какие не имеют прямого отношения к музыкальной драматургии,— привлекло особое внимание. На первой же сводной репетиции оркестровые музыканты вдруг проявили большой интерес к происходящему на сцене. Они вытягивали шеи, чтобы по возможности лучше все разглядеть. Трубачи, казалось, пытались играть ушами, а контрабасисты взяли инструменты в руки, будто имели дело со скрипками. Санти прекратил репетицию и, сохраняя хладнокровие, спросил Эфеми, не возражает ли она против того, чтобы на некоторое время подойти к рампе. «Вовсе нет»,— ответила та. Она постояла у самого края оркестровой ямы, все вдоволь на нее нагляделись, и после этого репетицию продолжили. Я спел с Санти больше спектаклей, чем с другими дирижерами, если не считать Джеймса Ливайна. Работая и беседуя с Нелло в те гамбургские дни, я очень многому научился. Он выдающийся музыкант и заслуживает большого международного признания. Санти обладает энциклопедическими знаниями в области итальянского оперного репертуара, потому что досконально изучил записи всех певцов прошлого. Почти о каждой фразе многих известных арий и ансамблей Нелло может рассказывать, вспоминая, как тот или иной певец брал в этом месте дыхание, с какой динамикой пел, каким звуком и так далее. Он знает старые традиции — хорошие, плохие, все, какие только вообще были,— и дал многим певцам, в том числе и мне, те фундаментальные основы, что сослужили нам хорошую службу. После удачных спектаклей мы с Нелло, бывало, заходили в бар отеля, где останавливались мы с Мартой. Там он аккомпанировал мне на фортепиано, а я пел разные арии. В моих дневниковых записях по этому поводу отмечено, что после шестисотого спектакля в моей оперной карьере, гамбургской «Богемы» в начале 1969 года, я чувствовал себя настолько в голосе, что смог подряд спеть арии из «Манон», «Кармен», «Любовного напитка» и других опер — всего пятнадцать вещей. Правда, надо помнить, что тогда мне исполнилось только двадцать восемь лет, и все же, какое надо было иметь вдохновение,сколько энергии, чтобы спеть полтора десятка арий после «Богемы»! На этих наших с Нелло «концертах» в баре подобралась благодарная аудитория, и, к счастью, к нам был расположен бармен Кальвин Джонсон, негр-американец, который любил оперу. Через несколько лет он открыл в Гамбурге свое заведение. Кальвин стал нашим лучшим другом и любил во время таких импровизированных представлений подпевать с ничего не значащими словами— «Ма-на-ма-на, па-дам-па, па-да». На эти слоги он обычно мурлыкал себе что-нибудь под нос во время работы. Однажды мы с Нелло, развеселившись, решили: всякий раз, когда Кальвин начнет петь свою фразу, будем разбивать вдребезги стакан. Наверное, стаканов двадцать мы разбили в тот вечер (конечно, заплатив за все), и таким странным трио пели еще несколько раз в последующие годы. Увы, Кальвин, у которого было слабое сердце, в 1977 году пошел как-то в сауну, заснул там и больше не проснулся. Всем нам, кто знал и любил этого человека в Гамбурге, очень его недостает. Два моих гамбургских выступления в «Лоэнгрине» были назначены на 14 и 16 января 1968 года, сразу после серии представлений «Богемы». Я впервые обращался к вагнеровскому репертуару, к тому же в первый раз пел немецкую оперу. Не помню, волновался ли я когда-нибудь больше, чем перед первым спектаклем «Лоэнгрина». Мы, певцы, умираем от ужаса, проходя трудные пассажи в какой-нибудь опере, но потом, выходя на сцену, видим, что эти чертовы трудности проскакивают очень быстро, так что остается только удивляться, стоило ли беспокоиться. И все равно всегда одно и то же. За два-три дня до новой постановки и при некоторых других особенных событиях у меня возникает тревога, хотя я пытаюсь ее не выказывать. На спектакле 14 января во время рассказа о Граале все как будто шло хорошо, но в середине раздела «О лебедь мой» у меня случился какой-то провал в памяти, и кусок я пропустил. Разнервничавшись после этого, я не хотел выходить на поклон. Либерман все-таки уговорил меня идти, и я получил великолепную овацию. Тем не менее я сказал Либерману, что не буду участвовать в следующем спектакле. К моему удивлению, большинство критиков вместо того, чтобы поставить мне в упрек тот ляпсус, высказали свое удовлетворение исполнением партии, отметив ласкающее звучание голоса, а не массивный звук драматического тенора. Это облегчило Либерману задачу убедить меня в том, что надо выступать на втором представлении. Тут уж я ничего не забыл. Фирма «Дойче граммофон» записала этот спектакль для возможного выпуска пластинки с записью «живой» трансляции. Однако идея заглохла, и я был уверен, что пленку стерли. Но запись через несколько лет подарили мне на день рождения Ули и Лени Мэркле из «Дойче граммофон», мои хорошие друзья и прекрасные деловые партнеры. На коробке была картинка, где к шее лебедя приставлена моя бородатая физиономия. Несмотря на то что «Лоэнгрин» прошел успешно, партия эта трудна для меня в вокальном отношении. На немецком мне петь гораздо сложнее, чем на итальянском и французском, и на разучивание текста ушло значительно больше времени. Обычно я учу роли сам, сидя за фортепиано, но пропеваю только не дающиеся сразу места, и то в том случае, если это абсолютно необходимо. Но перед вагнеровским дебютом я волновался еще и за свой немецкий, который пытался сделать приемлемым для немецкой аудитории. Кроме всего прочего, эта партия лежит в основном в зоне перехода от одного регистра к другому, в ней стоят сплошные ми-бемоль, фа, фа-диез и т. п. Если партия в целом расположена ниже по диапазону, то это не страшно, даже если приходится часто брать верхнее си. Что действительно утомляет голос, так это пение в середине верхнего регистра, а именно такой партией и является Лоэнгрин, хотя здесь не надо подниматься выше ноты ля. В следующие несколько месяцев у меня был очень напряженный график работы в США. В общем, я пел хорошо. Однако все обстояло благополучно только до тех пор, пока я не брал соль-диез: я начинал петь, а потом звук прерывался, причем я не мог ни предугадать этот момент, ни объяснить такое явление. Я пришел к выводу, что все дело в «Лоэнгрине». Причем не в гамбургских спектаклях или самой роли, а в том, как я готовился. Я и до спх пор думаю, что был прав. В Нью-Йорке я пошел к отоларингологу доктору Гулду, хотя не принадлежу к певцам, которые имеют обыкновение делать такие визиты. Он был очень мил со мной, показал, как восстановить голосовые связки, и даже ходил на спектакли, чтобы меня контролировать. Но проблема не разрешилась. От части ангажементов я отказался и сильно забеспокоился, ведь помимо прочего мне исполнилось лишь двадцать семь лет. Казалось, беспощадная судьба настигла меня в самом расцвете карьеры и может слишком рано оборвать ее. После трех с половиной страшных месяцев я дебютировал в Канаде, пел «Тоску» в Ванкувере. Этот город — одно из самых прекрасных для меня мест в мире не только из-за несравненной панорамы, открывающейся на океан и горы, но и потому, что там, на сценических репетициях «Тоски», мои вокальные проблемы вдруг так же быстро исчезли, как появились. В душе воцарился полный покой. Я получил очень важный урок, и готовя партию Лоэнгрина к открытию сезона 1984 года в «Метрополитен», оставлю много свободного времени, и не позволю себе, сидя за фортепиано, петь, петь, петь без конца. Летом я впервые записал две пластинки, обе с оперными ариями. Первая, сделанная лондонской фирмой «Декка» с Нелло Санти, получила «Гран-при»; вторая была записана на «Эр-Си-Эй» с дирижером Эдвардом Даунсом. Через несколько недель я в последний раз выступал на оперной сцене Зоологического сада Цинциннати. Его устроители справедливо рассердились на меня. Первоначально я согласился петь «Сказки Гофмана» на английском, но в последнюю минуту решил, что буду делать это на французском. В конце концов мы пришли к компромиссу: речитативы и некоторые куски я пел по-английски, а арии и тому подобное — по-французски. Однако причина, почему я там больше не выступаю, связана просто с тем, что в летние месяцы у меня много контрактов в других местах. Самым важным для меня событием 1968 года стало первое выступление в «Метрополитен-опера». Двумя годами раньше состоялось нечто вроде моего предварительного дебюта в этом театре, но не на самой сцене, а под открытым небом во время концертного исполнения «Сельской чести» и «Паяцев» на нью-йоркском стадионе «Льюисон» (моим единственным «спектаклем» на сцене старого здания «Мет» осталось прослушивание для Рудольфа Бинга, который был тогда генеральным директором театра. Позже я получил предложение от Ризе Стивене спеть в гастрольной «Кармен», организованной Национальной компанией «Метрополитен», но мне пришлось отказаться из-за других, уже подписанных контрактов). Особое удовлетворение доставило мне выступление в «Паяцах» с Корнеллом Макнейлом, певшим Тонио. Прошло ведь всего лишь семь лет после моего дебюта в Мексиканской опере, где я вышел в крошечной роли Борсы, а он играл Риголетто. Спектакль на стадионе имел успех, но Бинг не пригласил меня участвовать в основном сезоне «Метрополитен». Несколько месяцев спустя мне предложили еще раз прослушаться, теперь уже на новой сцене «Мет», которая незадолго до этого открылась в Центре имени Линкольна. Там я пел арию «Небо и море» из оперы «Джоконда». В день моего венского дебюта я получил телеграмму от Бинга: он предлагал контракт с «Метрополитен». Мой дебют в этом театре предполагалось назначить на 2 октября 1968 года в «Адриенне Лекуврер» с Ренатой Тебальди. Бинг хотел также, чтобы я выступил в «Сицилийской вечерне» на фестивале 1967 года в Ньюпорте, но я был занят. Хорошо, что я тогда, еще в начале своей карьеры, не взялся за ужасно трудную роль Арриго в «Сицилийской вечерне». Все предостерегают теноров браться за Отелло, но почему-то никто не делает этого в отношении партии Арриго. Месяц перед дебютом в «Метрополитен» был страшно занят работой: продолжая выступать в «Сити Опера», я начал репетировать в «Мет». Слава богу, здания «Сити Опера» и «Метрополитен» расположены друг против друга, они разделены только площадью в Центре имени Линкольна. Мне приходилось часто бегать из одного помещения в другое. На сцену «Мет» я поступил молодым, совершенно еще не признанным тенором, от которого требовалось не только замещать в случае надобности многих других певцов на спектаклях, но и репетировать за звезд, если те не могли присутствовать в это время в театре. Мои собственные репетиции в «Адриенне Лекуврер» шли без Тебальди (с менее известной певицей-сопрано), так как она в этом сезоне уже пела в этой постановке с Франко Корелли. Добавлю, что, выступая в «Паяцах» и «Плаще» в «Сити Опера», я репетировал «Турандот» на сцене «Мет», хотя мне не пришлось выйти на сцену в этом спектакле до конца сезона. В среду 25 сентября я участвовал в «Плаще», а через два дня — в «Паяцах». На следующий день после «Паяцев», в субботу, меня вызвали в «Метрополитен» репетировать «Турандот» с Марион Липперт, которая должна была заменить Биргит Нильсон. Необходимость назначить дополнительную репетицию возникла, как только действительно выяснилось, что Липперт сможет выступать вместо не очень хорошо себя чувствовавшей Нильсон. После этой репетиции я приехал домой пообедать. Марта ждала второго ребенка. Из Мексики приехали мои родители, чтобы увидеть нового внука и побывать на моем дебюте в «Метрополитен». Я хотел вернуться тем же вечером в «Мет», чтобы еще раз посмотреть перед своим первым выступлением «Адриенну». Пока я брился, зазвонил телефон. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил мистер Бинг. «Спасибо, очень хорошо»,— ответил я. «Вот и чудесно,— продолжал он,— потому что ты должен дебютировать в «Метрополитен» сегодня». Это взбесило меня: «Я поздно появился дома после дневной дополнительной репетиции «Турандот» и вовсе не собирался быть к началу оперы». «Выезжай немедленно»,— отрезал Бинг. Марте было уже поздно собираться, да и в любом случае такое событие могло слишком растревожить ее. Поэтому мама осталась с Мартой, а мы с отцом поехали в «Мет». Когда по вест-сайдскому шоссе мы спускались вниз, я начал распеваться, причем довольно громко. Во время краткой остановки я заметил, что в следующей за нами машине смеются. Опустив оконное стекло, я спросил: «Куда вы едете?» Они ответили мне: «В «Мет». «Отлично,— сказал я.— Кончайте смеяться, все равно через несколько минут вам придется меня слушать!» Появившись в театре, я был так рассержен, что уже просто не мог, да и не хотел скрывать этого от мистера Бинга, и сказал ему: «Я уверен, что Корелли намеренно отказался выступать. Он притворился, чтобы посмотреть, смогу ли я за семьдесят два часа спеть три оперы. Так вот, я чувствую себя прекрасно, и он еще пожалеет об этом!» Как выяснилось, Корелли отказался от спектакля в 7.20 вечера,в самый последний момент. Было бы в конце концов не так уж страшно, если бы утром мне передали, что он не сможет петь. Но ведь меня никто ни о чем не предупредил. Правда, я все-таки не был в курсе истинных причин этой ситуации. Я люблю Франко, восхищаюсь им как артистом и человеком. Позже, когда мы оба выступали в Вероне, он с большой нежностью относился к моим сыновьям. Но Корелли всегда был очень нервным исполнителем и в последний момент мог решить, что не выйдет на сцену. Все это мне совершенно непонятно и уж тем более не могло уложиться в голове в тот вечер преждевременного дебюта. Перед спектаклем, который начался на двадцать минут позже, на сцену вышел помощник режиссера Ози Хоукинз и объявил, что Корелли не может выступать. Это, естественно, вызвало большое разочарование в зале. «Но,— добавил он,— его заменит молодой певец». Зрители уже знали, кто это может быть, потому что наверняка заметили мое имя на афише: анонсировался мой будущий дебют. Спектакль прошел для меня чудесно. Тебальди была очень доброжелательна, дирижер Фаусто Клева потрясал глубиной постижения веристской музыки «Адриенны», а лучшую атмосферу за кулисами просто трудно представить. Каждый помогал мне выступить как можно успешнее, достичь того, о чем я мечтал много лет. Воображаю, что чувствовали мои менеджеры Марианна и Джерард Симон, когда я позвонил им во время одного из антрактов и сказал: «Угадайте, откуда я говорю! Я уже дебютирую в «Мет»!» Возможно, я выступил бы с еще большим подъемом, будь у меня четыре свободных дня перед дебютом. Потому что на сцене с трудом сознавал, что происходит, пока все это не закончилось. Клева был взволнован и сказал мне несколько приятных слов. Все сработало в мою пользу, я привлек к себе внимание объявленным и необъявленным дебютами. Многие критики не были на первом спектакле, но все они пришли на второй, на котором я чувствовал себя уверенно и спокойно.
В ИТАЛИИ, АНГЛИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ (1968-1971)
11 октября 1968 года, менее чем через две недели после моего дебюта в «Метрополитен», Марта родила нашего второго сына Альваро. Прошло несколько лет с того момента, когда Марта, впервые услышав меня в дуэте из «Силы судьбы», испытала в мой адрес некие добрые чувства. И вот теперь я готовился в первый раз выйти на гамбургскую сцену в той же опере. Прекрасным и очень подходящим для нового малыша нам представлялось имя Альваро*. Второе же имя, Маурицио, мы дали сыну в честь героя «Адриенны Лекуврер», в роли которого я только что дебютировал в «Мет». На следующий день после его рождения я пел в «Паяцах» на сцене «Сити Опера». Вместо конфет, которые я обычно бросал в этой постановке детям, в тот день я кинул взрослым сигары. Статисты восхищались: «Вот это парень!» Несколько сигар попало в оркестр и даже в зрительный зал. Мой первый сезон в «Мет» прерывался довольно долгими отлучками в Гамбург и некоторые другие города, с которыми я был связан ангажементами. В «Мет» у меня были запланированы выступления в «Адриенне», «Турандот», а также в одном акте из «Баттерфляй» (он был частью гала-концерта). Около часа пополудни в день этого концерта мы с Бингом в его офисе обсуждали деликатную проблему: через три недели Корелли должен был петь в новой постановке «Трубадура», но у него заболел отец, и нас одолевали сомнения, будет ли Франко выступать в этом спектакле. В тот день он уже отказался выйти в «Тоске» (его должен был заменить Шандор Конья), а до этого пропустил несколько репетиций «Трубадура». Я как раз согласился взять роль Манрико, когда на столе Бинга зазвонил телефон. Конья сообщал, что он не в форме и петь не сможет. Прямо из офиса генерального директора меня препроводили в гримерную — через несколько минут мне предстояло петь свою первую «Тоску» в «Метрополитен» вместе с Биргит Нильсон. К тому же спектакль транслировался по радио на всю страну.
* Так зовут главного героя оперы Верди «Сила судьбы». — Прим. перев.
Я думаю, Бинг был очень благодарен мне за то, что я столько раз выручал театр. Пока я пел сцену допроса во втором акте «Тоски», он стоял за кулисами, держа в руке приготовленный для меня стакан с водой. Очевидно, он не хотел оставлять меня ни на секунду. Все это казалось странным и забавным. К счастью, спектакль шел гладко. Новой постановкой «Трубадура» дирижировал Зубин Мета. С тех пор мне пришлось много раз работать с ним. Мета обладает прекрасным чувством юмора, он отличный друг. Я считаю его чрезвычайно одаренным дирижером, на меня производят большое впечатление его замечательная память и музыкальная интуиция. Мета обаятелен от природы, что сказывается и на его манере работы. Он обладает потрясающей способностью быстро схватывать музыкальный материал партитур — правда, это то достоинство, которое иногда оборачивается недостатком. Через несколько лет мы оба участвовали в подготовке постановки «Девушки с Запада» в Лондоне. Я заметил, что на первых репетициях Мета недостаточно уверенно чувствовал себя в музыке, но справился он со своей неуверенностью очень быстро и основательно освоил партитуру. Мета энергичен, порывист и с удовольствием работает с певцами, что прибавляет им уверенности в себе. Натаниэл Меррил великолепно поставил «Трубадура» с красочными декорациями Аттилио Колоннелло, а я наслаждался выступлением в спектакле, где вокал демонстрировался на высочайшем уровне. Здесь были Леонтин Прайс — Леонора, Шерил Милнз — граф Ди Луна и Грейс Бамбри — Азучена. Прайс обладает голосом феноменальной силы и чувственности. Среди певиц, с которыми я встречался, она является одной из лучших сопрано для вердиевских опер. Она очень обаятельная женщина, и я счастлив, что участвовал вместе с ней во многих записях. Однажды на представлении «Трубадура» в сцене у монастыря мне пришлось исполнить почти акробатический трюк, как раз перед репликой Леоноры «Не верю я своим глазам». По ходу действия я должен был с обнаженной шпагой появиться на площадке, которая располагалась на высоте двух с небольшим метров над сценой, и оттуда эффектно спрыгнуть a la Дуглас Фер-бенкс. Чтобы совершить прыжок, я опирался на бутафорское дерево и перегибался через край площадки. И надо же было случиться, чтобы на третьем спектакле рабочие сцены забыли прибить дерево к площадке — оно пошло вниз вслед за мной. Прыгнув без поддержки, я больно стукнулся об пол коленями, но быстро собрался с духом. Мне с трудом удалось не сбить с ног Мартину Арройо, которая в тот вечер пела Леонору в очередь с Леонтин Прайс. Вместо слов «Set tu dal del disceso?» («Вы с неба спустились?») Мартина спела «Sei tu dal ciel cascato?» («Вы с неба свалились?»)*. Несмотря на физическую боль, я до самого конца сцены едва сдерживал смех. Приятели сказали мне после спектакля, что как раз этот эпизод выглядел особенно драматичным. Но истинной причины такого высокого драматизма они не ведали. Когда сезон в «Метрополитен» закончился, я участвовал в концертном исполнении и записи Девятой симфонии Бетховена с Лейнсдорфом и Бостонским симфоническим оркестром. Через месяц, 20 мая 1969 года, состоялся мой дебют в лондонском «Ройял-фестивал-холл». Там я впервые пел в «Реквиеме» Верди с Гвинет Джонс, Жозефиной Визи и Рафаэлем Арье; оркестром «Нью Филармониа» дирижировал Карло Мария Джулини, с которым я тогда на эстраде встречался также впервые. Я восхищался его записью «Реквиема» — и сейчас считаю ее одной из лучших,— поэтому участвовать в исполнении этого произведения с Джулини было для меня волнующим событием. Трудно найти другого музыканта, который умел бы так, как Карло, сочетать мягкость и силу в дирижировании. Его манера преподнесения музыки особенно изысканна. Но в «Dies irae»** он, казалось, олицетворял бога-отца в день Страшного суда. И вовсе не потому, что дирижер делал что-то сверхъестественное или помпезно жестикулировал: Джулини просто наполнил звучание музыки такой устрашающей силой, что она заставляла содрогаться от ужаса. Вы действительно испытываете потрясение, когда видите, как человек столь доброжелательный, столь мягкий вдруг обретает мощь, которой обладает разве что господь бог в день гнева.
* Перевод дословный.— Прим. перев. ** «День гнева» (лат.)— одна из частей «Реквиема».— Прим. перев.
Если быть точным, то мое первое, неофициальное, выступление на Британских островах состоялось раньше— в Уэльсе. Я исполнил несколько арий в программе, которая была частью Международного хорового фестиваля в Лланголлене. Этот ангажемент предложила мне Маргерита Стаффорд, которая тогда работала в одном из артистических агентств. Она проявила такие яркие организаторские способности, что я убеждал ее открыть собственную контору, и сейчас она действительно с успехом ведет свое дело. В тот раз авиакомпания случайно отправила мой багаж намного дальше Лондона — в Иоганнесбург. Бедной Маргерите пришлось мчаться к «Мосс Бразерс», чтобы разыскать для меня подходящий фрак. Приглашение участвовать в четырех концертных исполнениях «Кармен» с Метой и Израильским филармоническим оркестром дало мне возможность побывать в Тель-Авиве через четыре года после того, как мы оттуда уехали. Мы с Мартой очень приятно провели две недели, увидев старых друзей, посетив знакомые места и похваставшись нашими двумя детьми. Мадам де Филипп была очень мила и пригласила нас на некоторые из тех спектаклей, в которых мы когда-то участвовали. Я не преминул заметить, что кубинский тенор Орландо Монтес, игравший Надира в «Искателях жемчуга», носит те же самые старые шаровары, в которых выступал я. Да, на какое-то краткое время мне посчастливилось расслабиться и отдохнуть, ведь я вскоре вылетел в Италию, где мне предстояло дебютировать согласно очень важному и престижному контракту, на сцене «Арена ди Верона» я должен был петь Калафа в «Турандот» с Биргит Нильсон. (К тому же я впервые выступал в этой роли — спектакль в «Метрополитен» в свое время отменили.) Трудно описать словами, что значит петь итальянскую оперу в Италии. «Il tenore e arrivato!»*,— раздавалось кругом. С тех пор я уже попривык к любопытству итальянской публики, но в первый приезд очень удивлялся тому, что даже те люди, которые никогда не ходили в театр, знали о моем прибытии и очень близко к сердцу принимали факт появления в городе нового тенора.
*«Тенор приехал!» (шпал.)
Я случайно подслушал, как один итальянец говорил другому: «Какой черт принес этого нового тенора-испанца? У него что, действительно есть голос?» О интриганы! Один деятель пришел ко мне и сказал: «Пласидо, все безнадежно. Должен тебе сказать: я, как и все, не верю, что ты можешь по-настоящему спеть». Это был не единичный случай: ко мне не раз заявлялись подобные типы, чтобы произнести какую-нибудь очередную гадость. Я старался делать вид, что внимательно выслушиваю их сомнения, а на самом деле пропускал мимо ушей примерно девять десятых всей этой болтовни. С другой стороны, я получил возможность встретиться с людьми, которых давно знал по пластинкам: с Пьеро Де Пальмой, Франко Риччарди. Это были великолепные певцы, ведущие теноры прошлых времен. «Арена ди Верона» принадлежит к числу хорошо сохранившихся римских амфитеатров. Мы жили как раз напротив этого здания, на Пьяцца Бра. В день приезда, когда мы отправились занимать свой номер, лифт, стоило нам в него зайти, тут же застрял. Это было невероятно — оказаться запертыми в крохотной тесной кабинке в жаркий июльский день! «Il tenore» и его семью вызволил пожарник. Я, помнится, говорил, что никогда не волновался так, как перед «Лоэнгрином» в Гамбурге. Однако перед веронским дебютом я испытывал, кажется, еще большее беспокойство. Хотелось бежать куда глаза глядят. Но, выйдя на сцену, я почувствовал доброжелательную атмосферу, и все пошло хорошо. Пьер Луиджи Пицци сделал очень красивое оформление: огромная сцена превратилась почти в настоящий замок. Во втором акте Нильсон восседала на площадке, которая возвышалась над сценой примерно на сотню ступеней, и всякий раз, когда я отвечал Принцессе, мне приходилось подниматься, делая шагов двадцать пять. На мне был развевавшийся плащ с широкими складками, поэтому Пласи, которому тогда еще не исполнилось и четырех лет, сказал Марте: «Смотри, папочка летит!» Всеохватный и. величавый голос Биргит в тех спектаклях, казалось, пронзал, как удар молнии, и чем дальше я стоял от певицы, тем более грандиозным представлялось мне звучание ее голоса. Не знаю, было ли это акустическим или психологическим эффектом. А может быть, сочетанием того и другого? Местами, переполненный восторгом от ее мощного пения, я почти забывал о своем вступлении. Исполнение «Турандот» с Нильсон стало одной из вершин моей жизни — не только как артиста, но и как поклонника великого пения. Годы спустя, когда мне довелось участвовать в программе «Би-би-си», посвященной грампластинкам, я попросил дать запись с ее исполнением «В столице этой давным-давно» из «Турандот». Это одна из самых любимых мною записей, хотя она и близко не передает того эффекта, что был в Вероне. Мне жаль, что наши с Нильсон сценические пути не сходились чаще. Вместе мы участвовали только в исполнении «Турандот» и «Тоски», а также в записи веберовского «Оберона». Грандиозные постановочные эффекты на сцене «Арена ди Верона» совершенно потрясают, а в том сезоне они были особенно великолепны. Мы пели «Турандот» в течение недели полнолуния, что оказывалось очень кстати для хора, обращенного к луне. Я хорошо помню поразительное ощущение, которое возникало при виде луны, светившей над почти двухтысячелетним римским сооружением. Некоторые зрители специально приходили посмотреть на это зрелище. Тем летом в Вероне я пел также в «Дон Карлосе» с грандиозным составом: Монсеррат Кабалье, Фьоренца Коссотто, Пьеро Каппуччилли, Димитр Петков. Дирижировал Элиаху Инбал, а ставил спектакль Жан Вилар. По характеру зрелищности опера «Дон Карлос» не очень подходит для такого театра, как «Арена ди Верона», но успех спектакля был огромным. Когда в мыслях я возвращаюсь к этой постановке, то вспоминаю еще и человека по имени Серафино. Этот тип невероятной толщины имел одно-единственное занятие: он был фанатом-«профессионалом». Серафино не принадлежал к клаке — он мог отправиться в любое место, где, как предполагал, получит «накачку» и сможет вывернуться наизнанку, просто чтобы поддержать «хороших парней». Куда бы ни направлялась национальная сборная Италии по футболу, он ехал за ней и громче всех вопил, вдохновляя игроков. То же самое он проделывал в отношении сборной по велогонкам и других команд. Видимо, Серафино как-то услышал, что летняя Верона — вполне подходящее для него место. Он бурно приветствовал певцов, а потом шел в наши гримуборные, чтобы выпросить за это небольшое вознаграждение. Помню, я дал ему десять тысяч лир (около 17 долларов по курсу того времени), сказав, чтобы он отправился принять ванну и как следует почистился. Серафино в совершенстве владел искусством подать реплику в самый подходящий момент. В великолепной постановке «Дон Карлоса» особенно хороша была последняя сцена, где мы с Монсеррат исполняли дуэт «Так прощай в этом мире». Мы начинали петь, стоя рядом в центре сцены, а потом расходились в стороны метров на двадцать, что не мешало нам совершенно свободно слышать друг друга и выстраивать ансамбль. Бедная Монсеррат незадолго до начала сезона сломала ногу, ей приходилось даже ходить на костылях, и по сцене она передвигалась с трудом. У Серафино, конечно же, к концу первого представления уже были заготовлены реплики, которые он и начал выкрикивать: «Коссотто, ты божественная»; «Каппуччилли, ты великолепен, но скряга» (Пьеро не дал Серафино ни гроша); «Пласидо, ты всегда спокоен»*. Когда Кабалье вышла на поклон, Серафино на мгновение затих, а потом заорал: «Монсеррат, отправляйся в Лурд!»** Мне никогда не приходилось слышать более забавной реплики, адресованной певцу из публики. Несчастный Серафино! Не так давно я узнал, что он умер, доведя себя до гробовой доски обжорством. Тогда в Вероне я был наверху блаженства. Стоит ли объяснять, что значит для испанского певца настоящий большой успех в стране, которая подарила миру оперу. Пласи тоже очень полюбил Италию. Помню, как мы с ним бродили по лавочкам и кафе с мороженым по Пьяцца Бра, и каждый хозяин — padrone—протягивал ему что-нибудь в подарок. («Почему бы нам не остановиться еще у банка?» — спросил я тогда у Пласи.) К тому времени, когда надо было идти в ресторан обедать, аппетит у малыша окончательно пропал.
* Игра слов: «placido" по-итальянски — «спокойный», «безмятежный».— Прим. перев. ** Лурд — бальнеологический курорт во Франции, куда едут больные с костными переломами, и, кроме того, место паломничества католиков.— Прим. перев.
После завершающего представления «Дон Карлоса» я должен был успеть на самолет, летевший из Милана в Лондон. Коллеги-итальянцы не советовали мне ехать до Милана автомобилем, поскольку стояла середина августа, время отпусков, и движение на автостраде наверняка должно было быть очень напряженным. Я сел в поезд. Однако и сюда набилось столько народу, что всю дорогу мне пришлось просидеть в коридоре на багаже. Это несколько остудило меня после триумфа в «Дон Карлосе». В 1969 году я впервые участвовал в полной записи оперы «Трубадур». Дирижировал Мета, пели Прайс, Коссотто и Милнз. Еще раньше фирма «Декка» попросила меня записаться в опере Доницетти «Анна Болейн», но, когда появилась возможность петь в «Трубадуре», последнее предложение показалось мне более заманчивым. Началась работа, и я был обескуражен тем, что сцены записывались не по порядку. Это очень мешало обычному эмоциональному настрою. Для работы выбрали зал «Уолтэмстау-таун», находящийся за пределами Лондона. Помещение отличалось прекрасной акустикой. И в будущем я не раз возвращался сюда. (Тремя годами ранее я пел в единственном концертном исполнении «Анны Болейн», которое стало моим дебютом в «Карнеги-холл», а для Дженет Бейкер и Елены Сулиотис вообще первым выступлением в Нью-Йорке. Сулиотис обладала одним из тех необыкновенных голосов, которые прихотливы и требуют особой заботы для их поддержания, поэтому Елена в конце концов вместо певческой карьеры избрала поприще счастливой супруги. В этом исполнении участвовала также Мерилин Хорн, а за дирижерским пультом стоял Генри Льюис. Добавлю еще, что в зале сидела Мария Каллас.) Из Лондона я вернулся в «Метрополитен», чтобы петь с Тебальди в опере «Девушка с Запада» и в новой постановке «Сельской чести», которую готовил Франко Дзеффирелли. К сожалению, открытие сезона задерживала забастовка работников театра, поэтому я понес как бы двойную потерю. Должен сказать к тому же, что единственный раз в жизни я получал деньги за спектакли, которые не пел. Бинг продолжал платить гонорар ряду певцов из-за боязни потерять их, если забастовка затянется. Так или иначе я был свободен, мог отдыхать и принять некоторые предложения, среди которых значились приглашения участвовать в лондонском концерте для королевы-матери и дебют на сцене оперы Сан-Франциско в «Богеме». Выступление в Вероне было для меня событием огромной важности, но еще более исключительное значение в моей жизни приобрел приближавшийся тогда дебют в «Ла Скала». Я должен был петь главную роль в опере Верди «Эрнани» на открытии сезона 7 декабря 1969 года. Первоначально планировалось, что мой дебют на сцене «Ла Скала» состоится следующей весной в «Дон Карлосе». На постановку «Эрнани» был приглашен Ричард Таккер, но он сообщил мне, что отказался от этого предложения, поскольку теноровая партия в опере очень мала и ему представляется почти второстепенной. У меня на этот счет было другое мнение, и я телеграфировал художественному руководителю «Ла Скала» Лучано Шайи, что если он еще ищет тенора для «Эрнани», то может иметь в виду мое желание петь в этом спектакле. В итоге я получил контракт. В списке исполнителей оперы значились Райна Кабайванска, Каппуччилли и Гяуров, но после генеральной репетиции Каппуччилли схватил ужасную простуду, и его заменил Карло Меличани. Ставил спектакль Джорджо Ди Лулло. Я рискую навлечь на себя упреки в отсутствии оригинальности, но об ощущениях, которые испытывает певец, оказавшийся в «Ла Скала», могу повторить лишь то, что говорят другие артисты. К тому времени я уже пел на сценах «Метрополитен», венской «Штаатсопер» и других больших театров. Но когда ты выходишь к рампе «Скала» и видишь перед собой прекрасный зал, то невольно вспоминаешь, что со времен Моцарта до наших дней здесь выступали почти все знаменитые певцы мира. Возможно, нечто подобное я мог бы испытать и в Нью-Йорке, когда дебютировал в «Метрополитен», если бы пел в старом здании театра. Я же вышел на новую сцену, которой тогда исполнилось всего лишь два года. Конечно, новый зал «Мет» обретет со временем собственную историю, но ее оценят будущие поколения исполнителей. Возвращаясь к рассказу о «Ла Скала», хочу особенно отметить два его коллектива: хор и оркестр. Оркестр этого театра неправдоподобно гибок, его музыканты способны проследовать за самым плохоньким из певцов в преисподнюю и обратно. А хор!.. На сводной репетиции «Эрнани» я услышал, как тенора в нем берут верхние си-бемоль и си не хуже многих солистов, и это совершенно потрясло меня. В известном хоре «Вновь пробуждается лев кастильский» на словах «Siamo tutti una sola famiglia» («Мы все одна семья»*) тенора и басы пели таким фантастическим legato, что у меня и на репетициях, и на спектаклях мороз пробегал по коже. Петь, повинуясь дирижерской палочке Антонино Botto,— это блестящая возможность получить урок подлинного музицирования. По рекомендации Тосканини Botto был приглашен в «Ла Скала» как репетитор и штатный дирижер почти пятьдесят лет назад, поэтому я застал один из последних сезонов маэстро в театре. Он обладал замечательным умением уже на репетициях с певцами за фортепиано вдохнуть жизнь в произведение, придать ему пульсацию живого человеческого дыхания. Особенно мне запомнилось, с какой энергией и как искусно Botto играл мою кабалетту «О ты, что всей душой люблю я». Когда мы вышли на оркестровые репетиции, огонь и темперамент в его дирижировании несколько поугасли, но, скорее всего, здесь уже дал о себе знать его возраст. На первой сводной репетиции (мой первый выход на сцену «Скала»!) я спел арию и кабалетту. После чего Botto сказал: «Молодой человек, может быть, вы слегка устали?» «Маэстро,— ответил я.— Наверное, вы правы, но не кажется ли вам, что я мог просто переволноваться?» Каким глубоким волнением был насыщен весь тот период моей жизни! Для нашего семейства — Марты, детей, моих родителей — время, проведенное в Милане, оказалось восхитительным. В «Ла Скала» тогда готовилась новая постановка «Севильского цирюльника», над которой работали дирижер Клаудио Аббадо и режиссер Жан-Пьер Поннель с Тересой Бергансой, Луиджи Аль-вой и Германом Преем. Готовилась к постановке опера «Самсон и Далила» под управлением Жоржа Претра с Ширли Верретт и Ричардом Кассилли в главных ролях. Со всеми этими певицами и певцами мы провели вместе много времени под рождество и на Новый год. Как-то, когда наше семейство сидело в ложе во время генеральной репетиции «Севильского цирюльника», Пласи начал аплодировать Тересе Бергансе и кричать «браво» причем довольно громко. Вошел служитель и сказал, что'мальчика придется вывести. Мой отец прокомментировал это так: «К сожалению, в «Ла Скала» Пласи не может сказать, что он не встречал понимания и в театрах получше этого».
* Перевод текстов из оперы Дж. Верди «Эрнани» дословный.— Прим. перев.
Когда в феврале 1970 года я вернулся в Нью-Иорк, забастовка сотрудников «Метрополитен» закончилась, и мне представилась возможность спеть в трех спектаклях «Турандот» с Нильсон. Во время последнего из них, который транслировался по радио, у меня начались ужасные нелады с желудком. Это сказывается на работе диафрагмы и создает для певца трудности не менее серьезные, чем простуда. Всякий раз, уходя со сцены, я мчался как сумасшедший в туалет. В середине второго акта я почувствовал, что силы мои на исходе и надо прервать спектакль, но каким-то образом сумел-таки продержаться до конца. В последних числах того же месяца я готовился выступать в Бухаресте, но неожиданный звонок изменил мои планы. Леонард Бернстайн просил меня срочно заменить Корелли (я должен был это сделать уже в пятый раз!) в телевизионной трансляции «Реквиема» Верди из собора святого Павла в Лондоне. А сразу после этого он предложил мне участвовать в записи на пластинку того же произведения. Получилось так, что мое первое выступление с Бернстайном совпало с первой для меня записью вердиевского «Реквиема». С тех пор я не раз работал с Бернстайном на телевидении, когда исполнялась Девятая симфония Бетховена, и записал с ним партию Певца в «Кавалере розы». Он обладает своеобразным характером и принадлежит к числу тех больших музыкантов, которые способны создавать по-настоящему волнующие спектакли. Многие оркестры почитают за счастье работать с ним, хотя некоторые музыканты ворчат, что он вкладывает в них каждую ноту, будто птица корм своим птенцам. Обидно, что Бернстайн так мало дирижирует сегодня. Большую часть времени он уделяет занятиям композицией, хотя это, кажется, не приносит теперь заметных результатов. Мне особенно жаль, что он не написал серьезную оперу. Но я, как и другие, был бы рад, если бы этот талантливый человек сочинил еще один такой же первоклассный мюзикл, как его «Вестсайдская история». Результатом одного из моих весенних ангажементов того года стала запись в Мюнхене «Оберона» — оперы, в которой я никогда не выступал на сцене. Теноровая партия в ней вообще очень трудна, а полная драматизма виртуозная ария «От юных дней»* принадлежит к числу самых сложных номеров, которые мне когда-либо приходилось петь. Я впервые записывал немецкую оперу и впервые работал с великолепным, очень энергичным дирижером Рафаэлем Кубеликом. К сожалению, впоследствии судьба редко сводила нас. В апреле я вернулся в «Ла Скала», чтобы выступать в «Дон Карлосе». Есть театры, где я не стал бы петь это великолепное произведение. Теноровая партия в нем требует многого от певца, но у публики большого энтузиазма не вызывает. Порой после спектакля, когда занавес опускается, я падаю духом, чувствуя равнодушие зрителей. Я считаю «Дон Карлоса» и «Отелло» величайшими творениями Верди, но тенорам (и мне в их числе) никуда не деться от того, что в «Дон Карлосе», после невероятно трудной арии в самом начале оперы, у главного героя нет больше ни одного сольного номера. Я часто спрашиваю себя, почему Верди не дал Дон Карлосу арию в том месте, где логика развития драмы требует этого, казалось бы, более всего — в начале сцены в тюрьме? Инфант переполнен чувством утраты своей возлюбленной Елизаветы, рушится его план спасения угнетенной Фландрии, развивается конфликт с отцом и возникает опасность предательства со стороны друга Родриго. И ведь Дон Карлос у Верди появляется в семи картинах из восьми. Будь тут еще одна ария, и роль стала бы для меня одной из самых любимых. Создавая образ, я ориентируюсь на пьесу Шиллера, которая послужила основой для либретто оперы. Дон Карлос не просто несчастный, непонятый человек, которого в опере принято представлять романтическим «тенором приятной наружности». Он слабовольный, нерешительный — таким его и надо показывать. В некоторых городах публика не желает видеть на сцене «деромантизированного» романтического тенора.
* Перевод дословный.— Прим. перев.
В таких случаях моя интерпретация роли и вся опера кажутся просто скучными. Но вот в «Ла Скала» и зрители, и критики поняли, что я пытаюсь сделать, поэтому их положительная реакция на мою трактовку была мне особенно приятна. Ведущие партии в этой постановке исполняли Рита Орланди Маласпина, Ширли Верретт, Каппуччилли, Гяуров и Марти Тальвела. Судьба к тому же впервые свела меня здесь с дирижером Клаудио Аббадо. Хотя Клаудио предпочитает «чистое» исполнение вердиевских опер, настойчиво обращая внимание исполнителей на указания композитора, он позволяет певцам делать некоторые традиционно принятые отступления, если считает это обоснованным. Меня восхищает способ его работы с оркестром, особенно с музыкантами в «Скала», когда те выходят из повиновения. Чем больше они шумят, тем тише он с ними говорит и в конце концов вообще замолкает. Оркестранты тоже затихают, понимая, что репетиция не может продолжаться, пока не будет тишины. Аббадо никогда не играет на фортепиано, репетируя с певцами, хотя он потрясающий пианист. Однажды в Лондоне после концерта, которым он дирижировал и где солистом выступал пианист Мюррей Перайя, мы отправились в дом к нашим друзьям Норетте и Джону Лич. Там Клаудио, Мюррей и я, сменяя друг друга, в разных комбинациях играли четырехручные сонаты Моцарта. Я все время путал такты с паузами в своей партии, что, конечно, вызывало дружный смех. Но я отомстил им: дирижируя «Военным маршем» Шуберта, я устраивал всевозможные смены темпов раньше времени, а им волей-неволей приходилось мне подчиняться. Когда мне исполнилось двадцать девять лет, я наконец дебютировал в городе, где родился. На сцене мадридского Театра сарсуэлы я впервые спел «Джоконду». Это был волнующий момент. После арии «Cielo e viar» («Небо и море») мне устроили такую громкую и восторженную овацию, что я не смог сдержаться и расплакался. Вскоре за арией, в дуэте с Лаурой, у тенора есть очень сложные фразы в неудобной тесситуре. Слезы мешали мне петь, но я все-таки взял себя в руки, и все обошлось. В то время Мария Каллас обсуждала с фирмой «И-Эм-Ай» возможность записи «Травиаты». Я был претендентом на роль Альфреда. После того как была сделана проба, Каллас предложила мне встретиться. Мы с Мартой поехали из Мадрида в Париж, где сначала побывали у Марии дома на коктейле, а потом обедали вместе с ней и ее добрым другом из «И-Эм-Ай» Джоном Ковини в ресторане. Общаться с Каллас было чрезвычайно интересно, но в то же время и трудно. Рассказывая за столом о мадридской «Джоконде», я неосторожно упомянул об Анхелес Гулин, которая пела главную партию, и назвал ее прекрасным сопрано, после чего Мария заявила, что у нее пропадает желание петь, потому что вокруг совсем не осталось ни хороших дирижеров, ни хороших режиссеров, ни хороших певцов. Я, рассмеявшись, ответил: «Спасибо, Мария». Атмосфера разрядилась, как только мы перестали говорить об опере. Каллас стала простой и естественной. Мы рассказывали друг другу разные истории и прекрасно провели время. Но вот проект записи «Травиаты» так и не был реализован. Позже я предполагал петь с Каллас в «Федоре» Джордано, но из этого тоже ничего не вышло. Конечно, «Федора» получилась бы у нее хорошо, но она была полна решимости вернуться на сцену после столь долгого перерыва только с партиями Нормы и Виолетты, а в этих ролях ей, к сожалению, пришлось соперничать с собою прежней. Когда Джон Тули пригласил ее в «Ковент-Гарден» петь Сантуццу, она пожелала выступить там еще и в роли Недды. Однако эти планы тоже не осуществились. Мне очень жаль, что я так никогда и не работал с Каллас. В честь двухсотлетия со дня рождения Бетховена в римском соборе святого Петра в 1970 году состоялось исполнение «Missa Solemnis», на котором присутствовал папа Павел VI. Я счастлив был участвовать в этом действе вместе с Ингрид Бьонер, Кристой Людвиг и Куртом Моллем. Вольфганг Заваллиш дирижировал великолепно, а постановщиком был Франко Дзеффирелли. Меня глубоко взволновала возможность увидеть папу и петь в его присутствии, хотя, честно говоря, из пяти человек, сменившихся в течение моей жизни на этом духовном посту, мне больше нравились Иоанн XXIII и два Иоанна Павла. Тем же летом, вернувшись в Верону, я пел «Манон Леско» с Магдой Оливеро, оперный дебют которой состоялся за восемь лет до моего рождения. Несмотря на это она выглядела такмолодо, что публика просто с ума сходила от восторга. После одного из спектаклей зрители сидевшие в той части амфитеатра, что расположена близко к сцене, аплодируя, бросились к нам с криками благодарности, и мы не знали, то ли раскланиваться, то ли носить ноги — казалось, толпа раздавит нас! Декорации для спектакля сделали самые правдоподобные, и корабль в третьем акте был таким огромным, что когда Капитан велел мне подниматься на борт после моей фразы «О, если вы хоть раз любили», то я должен был по-настоящему бежать, чтобы успеть на него забраться. Мне кажется, лучшей акустики, чем в Вероне, нет. Может сложиться впечатление, что при невероятных размерах веронского амфитеатра (а там ведь еще и небо над головой вместо купола) голоса певцов будут звучать не громче мышиного писка. Вовсе нет. Более того, я нигде и никогда не чувствовал себя в вокале более уверенно, чем в Вероне. Возможно, приподнятое настроение как раз и возникает там от пения на открытом воздухе, благодаря самой атмосфере этого огромного древнего сооружения и ощущению глубины его исторических традиций. Условия веронской «Арены» как нельзя лучше соответствуют духу таких арий, как «Спать нельзя нам»* и «В небе звезды горели»**. Когда поешь их там, то испытываешь истинное наслаждение. В конце того же лета я записывал «Дон Карлоса» с Джулини. Тогда все знатоки еще помнили знаменитую постановку этой оперы, осуществленную Джулини в «Ковент-Гарден» двенадцатью годами раньше. В ней были заняты Гре Брувенстийн, Федора Барбьери, Джон Викерс, Тито Гобби и Борис Христов. У лондонской публики долгая память, и мне лестно было узнать, что некоторые проходные спектакли, в которых я раньше участвовал, не забыты зрителями. Но, как известно, сравнения с прошлым неточны, а зачастую и несправедливы. Я глубоко убежден, что наша запись «Дон Карлоса» (с Кабалье, Верретт, Милнзом и Раймонди) принадлежит к числу классических. Во время работы над записью
* Ария Калафа из первой картины III действия оперы Дж. Пуччини «Турандот».— Прим. перев. ** Ария Каварадосси из III действия оперы Дж. Пуччини «Тоска».— Прим. перев.
Джулини никогда не нервничал, не раздражался и не выказывал неудовольствия. Он всегда четко следовал поставленной задаче и твердо шел намеченным путем, добиваясь того, что хотел, от всех участников работы. Сразу после записи «Дон Карлоса» я впервые выступил на Эдинбургском фестивале, спев в «Missa Solemnis», которой тоже дирижировал Джулини. Тенор в этом произведении — жертвенный ягненок. Не дай ему бог заглушить меццо-сопрано, которое у Бетховена часто поет на терцию или сексту ниже тенора. Нужно не просто подавать звук тише — тенор должен совершенно приглушить свой голос и выровнять его громкость с громкостью меццо-сопрано там, где певице приходится петь в очень неудобном регистре. (То же самое происходит при исполнении бетховенской Девятой симфонии. Если вы слышите меццо-сопрано, значит, певица поет неверно.) Но все это не имеет никакого значения. Месса поражает своей величественностью, и я никогда не забуду, как потрясающе интерпретировал Джулини «Веnedictus», особенно в том месте, где звучат тромбоны и скрипичное соло. Слушая «Missa Solemnis» под управлением этого замечательного маэстро, я понял, какое большое влияние оказало бетховенское произведение на Верди. Это влияние сказывается не только в «Реквиеме», но и в четвертом акте «Аиды», в сцене Амнерис и Рамфиса. Из тех спектаклей, что я пел в «Метрополитен» осенью того года, более всего мне запомнилась постановка «Бала-маскарада» с Кабалье и Робертом Мерриллом. Я впервые выступал с Бобом, имя которого уже давно было овеяно для меня легендой. Записи с ним я слушал еще в ранней юности, особенно восхищаясь «Травиатой» под управлением Тосканини, где пели также Жан Пирс и Личия Альбанезе. Меррилл обладал одним из чистейших по красоте голосов среди всех певцов, с которыми мне когда-либо приходилось выступать. Запомнилась еще ноябрьская постановка «Тоски» — в ней участвовали Люсин Амара и Тито Гобби. Первоначально на главную роль была приглашена замечательная актриса Режин Креспен. Отдельно с дирижером Франческо Молинари-Праделли она не репетировала и в ходе ансамблевого прогона спела одну фразу несколько быстрее, чем тот хотел. Остановив певицу, дирижер сказал: «Сеньора, эта фраза идет не так». Она вежливо ответила: «Если вы не возражаете, маэстро, детали мы обсудим потом». «Здесь нечего обсуждать! — вскипел Молинари. — Будет так, как я сказал». «Tant pis»* — ответила Режин и ушла с репетиции, а потом и вовсе отказалась от участия в спектакле. В течение того же периода я в последний раз выступил по долгосрочному контракту с «Сити Опера», спев главную партию в опере Доницетти «Роберт Девере, или Граф Эссекский». Беверли Силлз играла Елизавету. На оперной сцене это была одна из трех британских королев XVI века, которых Силлз изображала с большим успехом. (Двумя другими были, разумеется, Мария Стюарт и Анна Болейн.) Петь с Беверли — истинное удовольствие. Кроме того, что она великолепная певица — одна из лучших, с кем я пел,— она еще очаровательная и очень естественная в общении женщина. Для чрезвычайно эффектной постановки «Роберта Девере» пригласили Капобьянко. В спектакле было много параллелей с фильмом «Королева Елизавета»**, в котором участвовали Бетт Дэвис и Эррол Флинн. На репетиции одной из сцен фальшивая пощечина, которую должна была дать мне Силлз, выглядела совсем неестественно. Поэтому решено было, что она ударит меня по-настоящему. Мне было больно, но, как ни странно, следующий после этого номер я исполнял лучше. Невозможно не проникнуться чувством стыда, гнева, когда тебя бьют по лицу, даже если это происходит на сцене. В конце 1970 года я полетел в Сан-Франциско, чтобы спеть в нескольких спектаклях «Тоски» и «Кармен». Перед первой репетицией «Тоски» я спросил у директора труппы Курта I ерберта Адлера, кто будет дирижировать. «Маэстро Джеймс Ливайн»,— ответил он. «Никогда о таком не слышал»,— пожал я плечами. Но когда началась репетиция, я с трудом смог поверить тому, что происходило у меня на глазах. Я видел перед собой человека двадцати семи лет (!), который феноменально ориентировался во всех традициях, все знал, все умел и обладал хорошим вкусом. Позже я спросил у него, где он учился, и Джеймс рассказал о детских годах в Цинциннати, об учебе в Джульярдской школе в Нью-Йорке и последующем периоде своей жизни, когда он был ассистентом Джорджа Селла в Кливленде.
* «Тем хуже» (франц.). ** В нашем прокате этот фильм шел под названием «Частная жизнь Елизаветы и Эссекса. (1938), режиссер —М. Кёртис— Прим. персе.
Джимми в первый раз дирижировал «Тоской», а я пел в ней уже в сорок восьмой раз, но на протяжении всего спектакля мы отлично понимали друг друга. В том же сезоне Джимми стал главным дирижером «Метрополитен», а с 1975 года — музыкальным руководителем этого театра. Сейчас я пою с ним большую часть репертуара и большую часть спектаклей. Я чаще, чем с кем-либо другим, записываюсь вместе с ним и нередко участвую в тех операх, которыми он дирижирует впервые. А он дирижирует теми, где я выступаю в первый раз. Его подход к музыке всегда точен и ясен, и те, кто иногда называют его недостаточно глубоким, на самом деле не понимают, что он потрясающе быстро растет как музыкант. Ведь дирижер, которому около сорока лет, по сути, еще только начинает свою карьеру. Сам Джимми говорил мне, что нынче он не пытается дать какую-то законченную концепцию в интерпретации тех произведений, которыми дирижирует. Иные критики ставили ему в упрек, что он слишком часто берется за большие постановки, но мне известны случаи, когда другие ведущие дирижеры — Клайбер, Аббадо, Мути, Шолти — по разным причинам отказывались от его приглашений, а для Джимми лучше самому взяться за спектакль, нежели отдать его в руки рутинера. Особенно изумляет меня в Ливайне его способность осваивать огромное число музыкальных произведений и дирижировать партитурами самых разных стилей. Музыканты Венского филармонического оркестра, работавшие со всеми известными дирижерами, говорили мне, что по технике они никого не могут поставить выше Джимми, и это тоже чрезвычайно важно. Работать с Ливайном легко и радостно еще и по той причине, что он — энтузиаст. Я знаю: рядом в оркестре друг и единомышленник. При этом он не просто следует за певцами — я не уважаю дирижеров, которые позволяют руководить собой или побаиваются певцов. Репетиции нужны прежде всего для того, чтобы достигнуть единства в понимании спектакля. Когда разгораются споры по поводу тех или иных деталей, то лучший путь к разрешению разногласий — корректное и уважительное обсуждение, на которое ни в коей мере не должен оказывать влияния тот факт, что какой-нибудь певец, дирижер или режиссер более знаменит, чем его коллега. От дирижера зависит пульс спектакля, он должен его контролировать. И пульс этот будет слабым, если стоящий за пультом будет подстраиваться под певцов без внутренней убежденности. Во время спектакля я всегда чувствую, что Джимми — за меня, а не против. И это великолепно. Он очень чуток к происходящему на сцене. В трудных местах он улыбается певцам, он всегда ободрит и поддержит, а не будет впадать в панику или в ярость. Дирижеры по-разному передают свою эмоциональную «волну». Джимми заражает легкостью и свободой. «Не беспокойтесь, ребята,— словно говорит он, стоя за пультом.— Я здесь. Давайте вместе порадуемся, ведь музыка — великолепна!» В начале 1971 года мама приехала в Нью-Йорк и в «Хантингтон-Хартфорд-гэллери» с большим успехом дала сольный концерт, исполнив программу испанской музыки, которая включала арии из сарсуэл и гранадские песни. Я был счастлив и полон гордостью за маму. Вскоре я отправился в Мехико, чтобы дать там концерт. Приехав на день раньше, я разрывался между родственниками, друзьями, делами и корридой и, разумеется, ни минуты не отдыхал. Город расположен на высоте почти 2400 метров над уровнем моря, и, не успев акклиматизироваться, на концерте я чуть не потерял сознание. Пришлось прервать выступление в середине вечера. За кулисами мне дали кислород, и я опять вернулся на сцену. (Перед этим мне тоже пришлось несладко. Несколькими месяцами раньше я упал с велосипеда, когда играл со своими мальчиками, и сломал руку. Представляю, как Серафино откомментировал бы мое появление с повязкой на сцене «Мет» в «Лючии ди Ламмермур», где я пел с Джоан Сазерленд.) Никогда не забуду восемь представлений «Лючии», опять же с Сазерленд, но на сей раз в Гамбурге. Джоан пела изумительно, и каждый следующий спектакль был лучше предыдущего. «Пласидо,— шутила Сазерленд,— если ты и дальше будешь петь так же прекрасно, то разонравишься мне». Это и на самом деле была только шутка: разве может кто-нибудь затмить ее! В апреле в Вене, куда я приехал, чтобы петь партию Певца в записи «Кавалера розы» с Бернстайном, со мной приключилась забавная история. Запись шла довольно медленно, но вдруг я понял, что мне скоро вступать. Я услышал флейтовое соло перед своей арией, и Бернстайн сделал мне знак. Я удивился: по графику моя часть не должна была начаться так скоро. Но делать было нечего, я запел, и ария пошла прекрасно. Когда я закончил, дирижер сказал: «Отлично, давайте записывать». Поверьте, спеть этот невероятно трудный номер два раза подряд не так-то легко. Весной 1971 года я дебютировал в Неаполе и Флоренции. В театре «Сан Карло» я пел «Манон Леско» с Еленой Сулиотис, за пультом стоял Оливеро Де Фабрициис. Он был одним из ведущих дирижеров в Мехико, Вероне и других городах, но его деятельность осталась в полной мере не оцененной. (Фабрициис умер, когда я писал эту книгу.) Во Флоренции я тоже пел в опере Пуччини, на сей раз — в «Турандот», под управлением Жоржа Претра и с Ханой Янку в главной роли. Тогда в прессе бурно обсуждался вопрос, почему иностранные исполнители отнимают у итальянских певцов работу в их собственной стране. В мой приезд дублером на роль Калафа был назначен итальянский певец Никола Мартинуччи, и я решил: пусть он возьмет один из спектаклей. Мне приятно, что сейчас он получает все большее признание. Постановкой и труппой я остался очень доволен, но больше не принимал предложений выступать во Флоренции. Мне не нравится здание театра «Коммунале». В нем ужасная акустика, да и вся атмосфера антитеатральная. Было бы чудесно, если бы старый театр «Делла Пергола», где впервые ставились многие оперы, в том числе «Макбет» Верди, смогли обновить и вновь использовать для оперных представлений. Я мечтаю спеть в этом театре, в этом великолепном городе, замечательные слова из пуччиниевской оперы «Джанни Скикки»: «Firenze e come un albero fiorito» («Флоренция, ты прекрасна, как цветущее дерево»*). (Когда я записывал эту оперу с Маазелем, мой сын Альваро пел в ней маленькую партию Герардино.) В августе на концертном исполнении «Травиаты» » Голливуде, где дирижировал Ливайн, а я пел с Силлз и Милнзом, произошел комический эпизод. Шерил попросил Джимми транспонировать самый конец сцены Жермона и Альфреда во втором акте из си-бемоль мажора в ре-бемоль мажор, чтобы вместо простенького фа спеть верхнее ля-бемоль на слове «опомнись!».
* Перевод дословный.— Прим. перев.
Милнз ссылался на то, что ария «Ты забыл край милый свой» тоже идет в ре-бемоль мажоре. Джимми был против этой идеи, ведь Верди закончил сцену в си-бемоль мажоре. Но Шерил, который, как многие баритоны, обожает верхние ноты, решил, никого не предупреждая, все-таки взять си-бемоль в самом конце. Он удачно преодолел звуковой барьер, публика ахнула, а Джимми, у которого прекрасно развито чувство юмора, после спектакля смеялся над этим курьезом за кулисами вместе с нами. В конце того года я пел единственный спектакль «Андре Шенье» в Мехико. В главной роли выступала сопрано Ирма Гонсалес — фантастическая певица, которая должна была бы сделать блестящую международную карьеру, но по непонятным мне причинам так и не получила мирового признания. Ее прекрасное искусство почему-то осталось известным только Латинской Америке. Месяц спустя я пел «Фауста» в «Мет» — свой первый спектакль с Ренатой Скотто, певицей, которая добилась заслуженного успеха. Ее выдающиеся качества — голос и актерское мастерство — незабываемы. Для того чтобы осенью совершить краткую поездку в Милан специально для дважды дававшегося в «Ла Скала» исполнения «Реквиема» Верди под управлением Клаудио Аббадо, я попросил администрацию «Мет» освободить меня от двух спектаклей «Дон Карлоса». Я пошел к мистеру Бингу, и он позвонил Ричарду Таккеру с просьбой в них участвовать. Телефон в кабинете Бинга был устроен так, что говорящий мог слушать и отвечать, не держа трубку. Поэтому все присутствующие в комнате знали, что говорят обе стороны. «Хелло, Ричард»,— сказал генеральный директор. «Хелло, мистер Бинг»,— ответил Таккер. «Говори осторожнее, тут сидит один из твоих соперников». «У меня их нет»,— парировал Ричард, но любезно согласился петь мои спектакли. В середине октября 1971 года я выступал в двух спектаклях «Аиды» в Сан-Хуане и Пуэрто-Рико, дававшихся в честь торжественного открытия оперного театра. Идея создания новой оперной труппы принадлежала Альфредо Матилле, близкому другу моих родителей еще со времен их гастрольных поездок — настолько близкому, что я знал его как дядю Альфредо. Я помог ему установить контакты с разными артистами и вообще способствовал делу как мог. В этой первой постановке, которой дирижировал Гуаданьо, участвовали Габриэлла Туччи, Грейс Бамбри и Пабло Эльвира. Позже я пел у Альфредо в Сан-Хуане «Тоску», «Кармен» и вердиевский «Реквием». Во время этой поездки я впервые встретился с Пабло Казальсом и его милой женой Мартитой (сейчас она замужем за пианистом Евгением Истоминым). Казальсу было тогда девяносто пять лет. Старость сказалась на его внешности, но ум отличался необыкновенной ясностью, а сам он был полон жизни. В тот день, когда мы пришли к нему, он изучал партитуру «Сна в летнюю ночь» Мендельсона. Когда человек в возрасте девяноста пяти лет что-то учит, это впечатляет! Он рассказывал нам о местных сверчках «coqui». Звуки, которые они издают, составляют интервал септимы, а его так и хочется разрешить в октаву. «Все годы, что я прожил здесь,— сказал Казальс,— я пытаюсь найти хоть одного сверчка, который спел бы октаву, но мне не везет». Затем он вспомнил историю из своего прошлого. «Однажды в Барселоне,— обратился ко мне Казальс,— я, будучи еще мальчиком, играл на виолончели в оперном оркестре на представлении «Кармен». В антракте контрабасист, болтая со мной, спросил: «Пау, как по-твоему, какое место в «Кармен» лучше всех?» Подумав немного, я ответил, что, на мой взгляд, самая прекрасная музыка в антракте к третьему акту. «Вовсе нет»,— возразил он. «Может быть, ария с цветком?» — предположил я. «И это не то,— махнул он рукой,— лучшее место в «Кармен» — это та сцена, где тенор поет: „Арестуйте меня. Перед вами ее убийца"». «Это в самом деле прекрасное место»,— сказал я. «И прекрасно оно потому, Пау,— продолжал контрабасист,— что, услышав его, я точно знаю, что через несколько минут пойду домой». Прошло более восьмидесяти лет,— резюмировал Казальс,— а я до сих пор не могу простить тому человеку его слов». Мой дебют в лондонском театре «Ковент-Гарден» состоялся только 8 декабря 1971 года. Я шел к нему так долго из-за того, что был связан различными обязательствами в других местах и не прослушивался в этом театре до 1970 года. У меня прекрасные отношения с Королевской оперой, но обстоятельства, при которых состоялось мое первое выступление в ней, вряд ли можно назвать благоприятными. Я должен был дебютировать в «Тоске» с Мари Койе — великолепным драматическим сопрано (с ней я пел ту же оперу в Гамбурге). За день до спектакля Мари выбросилась из окна дома недалеко от Лестер-Сквер. (Так получилось, что мы с Мартой по пути в кинотеатр прошли мимо дома Мари буквально за несколько мгновений до этого трагического происшествия.) Заменившей ее Гвинет Джонс, моей главной партнерше по выступлениям в «Ковент-Гарден», пришлось надеть костюм несчастной Мари. Закон «представление продолжается» не был нарушен, хотя временами у кого-то из нас и возникал вопрос, так ли уж это необходимо. Нам все же удалось взять себя в руки и даже неплохо выступить. Меня предупредили, что не стоит ожидать шумного приема у лондонской публики, но получилось как раз наоборот. После арии «Свой лик меняет вечно красота» мне устроили такую овацию, что Эдвард Дауне вынужден был задержать следующее вступление оркестра. Я говорю об этом вовсе не из хвастовства. Публика отнюдь не всегда аплодирует мне в этом месте, даже когда я пою лучше, чем в тот вечер. Зрители просто хотели поддержать меня, и я оценил это очень высоко.
БОЛЬШАЯ ЧЕТВЕРКА
После дебюта в театре «Ковент-Гарден» я мог наконец сказать, что пел на всех оперных сценах «Большой четверки». Я вовсе не хочу обидеть другие крупные театры, на чьих сценах постоянно выступаю: Парижскую оперу, Гамбургскую оперу, театр «Колон» в Буэнос-Айресе, мюнхенскую «Штаатсопер» и прочие. Но для меня «Ла Скала», венская «Штаатсопер», «Метрополитен» и «Ковент-Гарден» образуют своего рода эпицентр современной мировой оперной жизни. С учетом этого надо рассматривать и те критические замечания, которые я буду делать в их адрес на следующих страницах. Среди четырех гигантов оперы наибольшим потенциалом для достижения великолепных театральных результатов обладает венская «Штаатсопер». Совершенны размеры этого театра, прекрасно его внутреннее устройство с великолепными возможностями для репетиций. Публика безоговорочно любит свой театр; если ей что-то и не нравится, то это относится обычно к какому-то из идущих в нем произведений. В Вене и на Зальцбургском фестивале (где выступают, как правило, те же исполнители из «Штаатсопер») я пел в пяти новых постановках: «Аиде», «Дон Карлосе», «Кармен», «Сказках Гофмана» и «Андре Шенье». И всегда наблюдал, с каким энтузиазмом и тщательностью относился к делу каждый участник спектакля. Все работали на высоком профессиональном уровне, с большой любовью или по крайней мере с глубокой ответственностью по отношению к создаваемой постановке. Но... государственная опера в Вене, которая до 1918 года называлась «Хофопер», то есть была придворной, сохранила давние традиции интриг и заговоров, ничуть не менее изощренных, чем при дворе Габсбургов, которому она некогда принадлежала. Хорошо известно, что в свое время Малер, а позже Бём, Караян и многие другие дирижеры должны были разбирать все те дрязги, которые затевали вовсе не они. В Австрии о деятелях оперы говорят не меньше, чем в других странах о спортсменах, а венская оперная публика — самая преданная в мире. Давление, которое испытывает директор «Штаатсопер», чрезвычайно велико, поэтому неудивительно, что за те шестнадцать лет, что прошли со времени моего венского дебюта, там сменилось пять администраций. Скажу для примера, что в театре «Ковент-Гарден» руководство сейчас то же самое, какое было при первом моем выступлении на его сцене в 1971 году. Давайте приглядимся к венскому театру более внимательно. Здание «Штаатсопер» принадлежит к числу самых роскошных на свете. Большая правительственная субсидия и неизменно полные сборы составляют такой громадный бюджет, о каком опера только может мечтать. Венцы умудряются захватить большую часть билетов на премьеры и лучшие спектакли, а на обычных представлениях зал, как правило, заполняют туристы. Удивительно обширные хранилища и великолепные постановочные возможности могут позволить театру давать на протяжении двух месяцев каждый вечер новое представление оперы или балета, даже если он будет открыт семь дней в неделю. Оркестр «Штаатсопер» — прекраснейший из существующих на сегодняшний день. С ним, вероятно, может сравниться оркестр «Скала», когда он играет вердиевские оперы под управлением выдающихся дирижеров. Но я все-таки подчеркну — вероятно. Очень высок уровень мастерства музыкантов венского оркестра, и они обладают способностью держать в репертуаре большое число произведений. Каждый сезон театр дает спектакли с 1 сентября по 30 июня, потом оркестр и хор получают трехнедельный отпуск, после которого они вновь собираются уже в Зальцбурге, чтобы участвовать в репетициях фестиваля, открывающегося 26 июля. Коллектив возвращается в Вену 31 августа, и на следующий день начинается очередной сезон «Штаатсопер». Конечно, музыканты работают не каждый день. В театре есть второй состав оркестра, поэтому все оркестранты регулярно отдыхают. Когда устраиваются гастроли, только часть труппы отправляется в дорогу, оставшиеся же дают спектакли дома. Все это кажется просто верхом совершенства. Но на деле повседневная жизнь «Штаатсопер» такова, что возможность решения многих художественных вопросов часто оказывается весьма неопределенной, и поэтому в основном сезоне театр не может привлечь для выступлений большое число знаменитых артистов. Дело здесь и в огрехах планирования, и в избытке «подводных течений». Например, в 1973 году после успеха великолепной «Аиды», которой дирижировал Риккардо Мути, было принято решение осуществить в сезоне 1975/76 года новую постановку «Отелло». Это случилось бы как раз вскоре после моего дебюта в главной партии этой оперы на гамбургской сцене. Предполагалось, что дирижировать будет тот же Мути, а режиссером выступит сэр Лоренс Оливье. Для меня это был бы случай, который выпадает только один раз в жизни! Но когда Оливье решил не браться за эту работу, Мути и Рудольф Гамсьегер, который тогда возглавлял «Штаатсопер», тоже отказались от реализации проекта новой постановки «Отелло». По моему мнению, действительной причиной всего этого было и продолжает оставаться нежелание администрации театра снять с репертуара очень старый спектакль Караяна. Я участвовал в нем в последний раз в 1982 году и теперь решил не петь «Отелло» в Вене до тех пор, пока там не поставят оперу заново*. Конечно, спектакль Караяна когда-то был достижением, но со временем поизносился и просто художественно устарел. Отказ от новой постановки «Отелло» более всего раздосадовал именно меня, но, думаю, другие певцы время от времени тоже оказываются в подобной ситуации. Легко понять, что эти обстоятельства не способствовали улучшению моих отношений с театром, и, действительно, на протяжении трех-четырех сезонов я мало пел в «Штаатсопер». После того как директором театра стал Эгон Зифельнер, я принял участие в двух новых прекрасных постановках: «Кармен» и «Андре Шенье»; в период его правления я впервые выступил здесь и как дирижер. Еще одной проблемой «Штаатсопер» является система репетиций. Администрация театра рассчитывает, что певцы будут приезжать за день до спектакля или даже в тот же день, но ненастная погода иногда нарушает четкость этих планов. Однако, какими бы ни были метеорологические условия, репетиция часто или слишком коротка, или проходит впустую.
* Пласидо Доминго выступил в новой постановке «Отелло», осуществленной на сцене «Штаатсопер» Зубином Метой и Питером Вудом к 100-летию оперы Дж. Верди. Премьера состоялась 10 мая 1987 года.— Прим. перев.
Кроме того, даже замечательный оркестр «Штаатсопер» не всегда имеет тех дирижеров, которых этот оркестр и мы, певцы, заслуживаем, что опять же является следствием организационных проблем. Лорин Маазель, новый музыкальный руководитель театра, пытается изменить сложившуюся систему. Я верю, что он попробует создать такие условия для работы, при которых новая постановка получит необходимое число репетиций, а затем будет даваться серия ее представлений с одним и тем же составом исполнителей и постоянным дирижером. При такой работе певцы не будут появляться в последнюю минуту, наспех натягивать костюмы и рассчитывать на счастливый случай. К сожалению, в «Штаатсопер» существует традиция убирать здраво и логично мыслящих руководителей. В этом отношении Маазелю, возможно, не удастся избежать несчастной участи своих предшественников*.
В «Метрополитен-опера» я пережил уже четыре администрации. Атмосфера исполнительских служб во времена Рудольфа Бинга была холодной, требующей сохранять дистанцию. Я нахожу дружеские отношения более продуктивными. Несмотря на автократические методы деятельности Бинга и его «кабинета», я лично не имел проблем в отношениях с генеральным директором, а иногда даже получал удовольствие от наших стычек. Бинг мог быть очень забавным. Когда я подписывал контракт с «Метрополитен», фотограф попросил меня сесть за его стол. «Минуту, минуту,— сказал Бинг.— Мистер Доминго еще не генеральный директор „Метрополитен-опера"». Вспомнив о том, что многие годы «Мет» руководил певец Эдвард Джонсон, я ответил: «В истории театра я был бы не первым его тенором-управляющим». Во времена правления Бинга было сделано много хорошего, но он слишком долго оставался на своем посту. Уйди он на несколько лет раньше, не назрело бы столько нареканий в его адрес. Его справедливо обвиняли в том, что он не хочет назначить музыкального руководителя театра, хотя современная ситуация в опере, очевидно, требовала этого.
* С 1986 года художественным руководителем и главным дирижером венской «Штаатсопер» является Клаудио Аббадо.— Прим. перев.
Когда на должность генерального директора после Бинга пригласили директора Шведской оперы Иорана Иентеле, это явилось неожиданностью, так как этого человека в Америке почти никто не знал. Но вот он начал работать в «Мет», и стало ясно, что в театре грядет настоящая революция. Если Бинг и внешним видом, и в своих действиях всегда демонстрировал официальность, то Иентеле, приходивший в театр в свитере, быстро перезнакомился с рабочими сцены и вообще со всеми подряд. Его открытость, легкость в общении привели к радикальному изменению положения и атмосферы в верхах администрации. Когда Иентеле назначил Рафаэля Кубелика музыкальным руководителем «Мет», это было встречено с некоторым недоверием: многие признавали Кубелика выдающимся музыкантом, но считали, что он не обладает соответствующими качествами для решения проблем такого грандиозного театра, как «Метрополитен». Так или иначе все мы с интересом ждали, что же принесет новое правление. И многие, я думаю, смотрели в будущее с большими надеждами на лучшее. Однако всего лишь за несколько недель до открытия своего первого сезона в 1972 году Иентеле вместе с двумя дочерьми трагически погиб в автомобильной катастрофе. Распорядителем труппы, как ассистент Кубелика, был назначен Шуйлер Чапин. Но так как Кубелик не вникал в большинство дел, то многие решения Чапин принимал вместе с Чарлзом Риккером, зятем Фаусто Клевы, и Ричардом Родзинским, сыном Артура Родзинского. Вот при таких обстоятельствах, которые мало было назвать беспорядочными, и осуществлялось тогда руководство деятельностью «Мет». С приходом Антони Блисса в качестве генерального директора, Джеймса Ливайна как музыкального руководителя и Джона Декстера как главного режиссера, театр «Метрополитен» получил администрацию высокого творческого уровня и большой продуктивности. Хотя результаты последней (1980 года) забастовки оркестра в свое время подвергали широкой критике, последствия ее оказали самое благотворное воздействие на качество исполнительства. Ни один оркестрант не работает теперь чаще четырех раз в неделю, а это значит, что музыканты не устают и соответственно играют лучше. И хор, и оркестр довольно быстро выросли в исполнительском отношении. На моем концерте с Шерилом Милнзом в спектаклях «Дон Карлоса» в 1983 году я уже мог поставить оркестр «Метрополитен» в один ряд с лучшими коллективами мира. По-видимому, между руководством и работниками театра еще остались некоторые трения, но я надеюсь, что скоро это взаимное недовольство совершенно рассеется. Моей персональной потерей в тот момент стала отмена новой постановки «Пиковой дамы». В будущем, я надеюсь, мне удастся включить роль Германа в свой репертуар. Некоторые обозреватели говорят, что во времена Бинга петь в «Метрополитен» было большим достижением и честью для певца, а теперь на сцене театра появляются и те, кто еще не достиг вершин профессионального мастерства. Это действительно так, но, мне кажется, не следует возлагать всю ответственность за это только на администрацию. Ведущие певцы, которым сегодня требуется ездить даже больше, чем это было лет пятнадцать-двадцать назад, оставляют «пробелы», и заполнять их театру приходится артистами менее квалифицированными. Я уверен, что Корелли и Таккер выступают в спектаклях «Метрополитен» не больше тридцати — тридцати пяти раз в году (ну, может быть, даже сорок раз), если учитывать и гастрольные представления. В сезонах «Метрополитен» 1981/82 года и 1982/83 года, которые были для меня самыми насыщенными, я пел соответственно девятнадцать и шестнадцать спектаклей, и примерно столько же выходов планировалось для меня в последующих сезонах. Первоначально предполагалось, что я должен спеть приблизительно двенадцать раз — это обычное число ежегодных выступлений и для других певцов. Однако надо учесть, что все большее число театров мира сегодня предлагают зрителю очень интересный репертуар. И хотя для ньюйоркцев это прозвучит странно, но многие певцы вовсе не одержимы страстным желанием проводить большую часть времени в Нью-Йорке. Для большинства европейских певцов этот город вовсе не самое желанное для жительства место в мире. Они предпочитают по возможности дольше оставаться а Европе, потому что там их дом и их сердце. Я готов уделять много своего времени «Метрополитен», но на свете есть города и страны, где я еще никогда не пел и где мне хотелось бы выступить: Австралия, Бельгия, Скандинавские страны и особенно итальянские города, такие, как Парма, Бари, Триест, Катания, Палермо, Болонья и Генуя. Годы идут быстро, и я мечтаю спеть во всех этих местах и во многих других, пока еще нахожусь в расцвете сил. Джимми Ливайн, зная положение дел в отношении певцов, был очень проницателен, когда пригласил Джоан Ингпен в качестве помощника управляющего. Она великолепный работник и способна лучшим образом организовать время в интересах артистов «Метрополитен». Джоан так хорошо держит все в своих руках и так умело управляется в своем хозяйстве, что ей удается получить от многих из нас согласие отдать «Мет» столько времени, сколько, может быть, мы и не собирались. Некоторым из нас бывает очень трудно отыскать подходящие даты для выступлений в других местах, даже в ведущих театрах, но эту заботу берет на себя Джоан, и справляется она с ней чрезвычайно хорошо. С течением времени нью-йоркская публика становится, кажется, более подготовленной и демонстрирует настоящий интерес к опере. Теперь в зале «Мет» можно обнаружить не так уж много людей, как в прошлом, которые приходят сюда лишь для того, чтобы появиться в обществе или похвастаться на следующий день тем, что побывали в этом театре. С другой стороны, публику «Метрополитен» нетрудно обвинить в холодности, но на поведение зрителей в Нью-Йорке оказывают влияние некоторые действительно трудно разрешимые для них проблемы. Посетители оперы в Вене, например, приходят на спектакль, который начинается в 7 часов вечера и заканчивается в 10 или 10.30. Большинство людей там могут запросто добраться домой после театра за полчаса или час. В Нью-Йорке же занавес поднимается в 8 часов вечера, а опускается в 11.30 или в полночь. Зрителям остается всего 45 минут на обратную дорогу в метро. Приходится признать, что эта перспектива гораздо сильнее будоражит сознание, чем все приключения Манрико, Зигфрида и Флорестана, вместе взятые. Не меньшие волнения возникают и в том случае, когда предвкушаешь, что надо потратить не менее получаса, чтобы добыть машину из подземного гаража в Центре имени Линкольна, а потом еще целый час крутить баранку до своего Коннектикута. Поэтому не приходится удивляться, когда некоторые зрители уходят из театра перед последним актом или рвутся к дверям в конце спектакля, не аплодируя артистам. В субботние утренники, когда публике торопиться некуда, нетерпеливы рабочие сцены — им хочется, чтобы аплодисменты стихли поскорее и они могли бы быстро снять свет и очистить сцену для установки декораций к вечернему спектаклю. И все же, несмотря на эти трудности, зрители «Метрополитен» становятся день ото дня отзывчивее и пристрастнее. График работы в «Мет» выполняется с величайшей точностью. В общем, это хорошо, но порою пунктуальность граничит с излишним бюрократизмом. Например, репетиция на сцене может быть прекращена ровно в момент ее окончания по плану, даже если руководителю постановки требуется еще каких-нибудь пять минут, чтобы закончить работу. Я понимаю, что деятельность профсоюзов крайне необходима, и симпатизирую ей, но в делах искусства нужна определенная гибкость, чтобы плоды его не приобрели черты выхолощенности и механистичности. Опасность чрезмерной точности распорядка работы присутствует также и в театрах германоязычных стран. Быть может, даже в большей степени. Что же касается «Метрополитен», то в целом атмосфера здесь сегодня благоприятна для творчества, как нигде в мире, и мне кажется, по открытости и радушию ее можно сравнить только с обстановкой в театре «Ковент-Гарден». В миланском театре «Ла Скала», как в миниатюрной модели, собраны все характерные особенности итальянской жизни. Сводящая с ума бюрократическая бессмыслица с лихвой возмещается здесь блестящими художественными достижениями, эксцентричная междоусобица политических боев соседствует с теплотой и чистосердечностью дружеских отношений, а хаотичность планирования работы в конце концов забывается, когда видишь сам этот удивительно прекрасный театр. Когда я в первый раз пел в «Ла Скала», его генеральным директором был еще Антонио Гирингелли, находившийся на этом посту с конца второй мировой войны. Во время его правления в театре работали Тосканини, Де Сабата, Серафин, Каллас, Тебальди, Ди Стефано, Дель Монако и многие другие артисты, чьи имена стали сегодня легендарными. Художественным руководителем «Скала» в конце 60-х годов был Лучано Шайи, отец дирижера Риккардо Шайи. После Гирингелли театр возглавляли Паоло Грасси (с 1972 года) и Карло Мария Бадини (с 1977 года), а вслед за Шайи работали Массимо Боджанкино, Клаудио Аббадо и Франческо Сичилиани. (В начале 1983 года вместо Сичилиани был назначен Сезаре Мадзонис.) Сичилиани невероятно любил фантазировать. Сидя с вами за столом, он мог придумывать самые фантастические составы исполнителей, но если кого-либо из претендентов не оказывалось в наличии, то идея постановки целиком отбрасывалась. Такой образ мысли вообще типичен для «Скала»: тут либо подавай все, либо ничего не надо. Конечно, в «Скала», как и во всех театрах мира, время от времени случаются плохие постановки, но идеализм представлений здесь развит до такой степени, что в других местах его посчитали бы просто сумасшествием. Может ли администрации миланского театра хоть на минуту прийти в голову мысль о том, чтобы отдать «Отелло» Карлоса Клайбера или «Симона Бокканегру», которым дирижирует Аббадо, в руки какого-либо другого маэстро, пусть даже тот имеет международное признание? Сомневаюсь. На этих постановках словно стоят «личные печати» дирижеров, их создавших, поэтому для руководителей театра передать такой спектакль другому музыканту значило бы совершить своего рода предательство. Если у театра есть великолепная постановка, то ее пытаются сохранить в неприкосновенности. Художественные руководители «Ла Скала» всегда очень внимательно подбирают дирижера и режиссера для совместной работы. Администрация скорее вообще откажется от новой постановки оперы, чем пригласит для этого двух людей с совершенно различными взглядами. Конечно, в процессе работы временами могут возникать разногласия, но сам принцип, практикуемый в «Ла Скала», очень хорош, и отчасти благодаря ему миланский театр осуществляет свою деятельность с таким большим успехом. Среди ведущих театров мира «Ла Скала» принадлежит к числу тех, где репетиционный процесс организован самым беспорядочным образом. Там мы иногда репетируем с 11.00 до 13.30, затем снова — с 15.00 до 18.00 и еще раз — с 21.00 до 24.00. В театрах ФРГ три часа между 13.00 и 17.00 находятся в священной неприкосновенности. В «Метрополитен» есть правило, запрещающее занимать артистов предварительной работой после 18.00. Но в Милане о таких вещах вообще не имеют никакого представления. Вам могут назначить репетицию в полдень, а когда вы придете в театр, то появится помощник директора со словами: «Извините, репетиции не будет». Беспорядок здесь вовсе не является признаком отсутствия дисциплины (хотя, конечно, элемент такого явления все же есть) — он возникает из-за того, что в театре нет соответствующих его потребностям условий для репетиций. Некоторые певцы из северных стран Европы находят условия работы в «Ла Скала» вообще невыносимыми. При всем том надо признать как бесспорную истину тот факт, что неразбериха в «Ла Скала» способствует созданию определенной свободы, которая дает возможность приглашенным певцам, дирижерам и режиссерам шире использовать свое воображение, смелее экспериментировать, а такого шанса они не получат ни в одном другом крупном театре. Поэтому на генеральной репетиции участники спектакля, казалось бы, уже вконец измотанные, живут на сцене только силой вдохновения, такого творческого подъема, который не способен дать никакой профессионализм самой высокой пробы. Многих певцов очень смущает шум и гам, стоящий за кулисами «Ла Скала» во время спектакля. Я, признаюсь, тоже немного выхожу из себя, когда жду своего выхода на сцену в такой атмосфере. Очень нелегкое испытание — стоять в кулисах «Скала» перед тем, как ты должен выйти в первом акте «Отелло» и спеть «Ликуйте!». Кажется, тысячи хористов и каких-то вообще посторонних людей так и снуют, так и кружатся по сторонам, многие из них беспрерывно болтают на самые разнообразные темы. Помощники режиссера кричат друг на друга и на труппу, а репетиторы и ассистенты отдают совершенно противоречащие одно другому указания. Таким путем они пытаются хоть как-то предотвратить грозящую разразиться за кулисами катастрофу. Пока я собираюсь с мыслями и готовлю себя к провозглашению великой победы Венецианской республики, пробегающие мимо люди с милой улыбочкой бросают мне: «Чао, Пласидо» — так, будто я просто вышел на улицу за мороженым. Но стоит мне ступить на сцену, я сразу забываю про суетящуюся толпу... Искренне сочувствую певцам, которые не могут быстро избавиться от ее воздействия. Хор и оркестр — главные коллективы, на которых держится театр,— в «Ла Скала» настолько хороши, что каждый из них имеет свой очень сильный профсоюз, и они не терпят серьезных возражений со стороны руководства. Когда хор устал, по-видимому, от необычных постановок, в которых хористам приходилось висеть почти под самым потолком, его профсоюз добился согласия администрации на то, чтобы у каждого хориста дирижер был в зоне прямой видимости. Я помню, как несколько лет назад репетиция сцены победного шествия из «Аиды» прервалась через семь минут после начала, потому что трем певцам из огромнейшего хора с тех мест, где они стояли, не был виден Клаудио Аббадо. В любом другом театре такое недоразумение либо быстро ликвидировали бы, либо отправили бы трех озабоченных людей отдыхать до перерыва, когда можно специально заняться этой проблемой. В «Ла Скала» из-за того, что трем хористам не был виден дирижер, потеряли три часа драгоценного репетиционного времени! Расскажу еще другой случай. Один хорист выразил неудовольствие по поводу костюмов, которые, по его мнению, были слишком тяжелыми и слишком теплыми. На следующей репетиции все его коллеги присоединились к протесту: они появились на сцене в повседневной одежде. «Очень хорошо,— сказал режиссер,— пройдем репетицию без костюмов». «Нет,— возразил еще один хорист,— у нас не может быть репетиции без костюмов, если ее предполагалось делать в них». «Ладно, наденьте костюмы,— продолжал режиссер,— окончательно мы их доделаем потом». «Нет,— снова сказал кто-то из хора,— в них мы умрем от жары». И в этом, и в других подобных случаях индивидуализм способен довести положение дел почти до анархии. Если публика «Скала» (или по крайней мере какая-то ее часть) создала Милану репутацию города певцов, газетные критики сделали его городом дирижеров. После премьеры нового спектакля здесь появляется рецензия, в которой прежде всего говорится об «этосе» и «мелосе» произведения, затем о дирижерской интерпретации этих «этоса» и«мелоса», далее — о постановочных моментах и только в конце дается раздел о певцах, причем обычно в таком духе: «Такой-то был великолепен, а такой-то оказался не на своем месте, так же как тот-то и тот-то». Если уж нужны детальные разборы спектаклей, то почему бы не уделять в них равно серьезное внимание всем его участникам? Лондонская Королевская опера вне всякого сомнения является одним из самых дружелюбных театров мира. Каждый ее сотрудник, от рабочего сцены и телефониста до верхов администрации, стремится сделать все возможное, чтобы облегчить жизнь исполнителям. Вежливость сотрудников театра, их готовность помочь вам поразительны и высоко ценятся руководством. Атмосфера в «Метрополитен», как я уже говорил, тоже дружелюбная, но сам театр настолько огромен, что я до сих пор не знаком даже с половиной его работников. А «Ковент-Гарден» относительно небольшой театр, и в нем царит почти домашний уют. Перед дебютом в «Ковент-Гарден» я уже пел во многих ведущих театрах мира, поэтому самым большим сюрпризом для меня стал вид гримуборной с открытыми радиаторами отопления и старой меблировкой. В 1982 году театр был отремонтирован и расширен в соответствии с современными требованиями. Нынешние гримерные, хотя и не отличаются роскошеством, значительно лучше прежних. Однако самым главным нововведением стало устройство большого репетиционного зала, благодаря чему теперь нет надобности ходить по длинному переходу, который соединяет старое здание театра со стоящим в стороне от него Центром оперы, где раньше проводилась большая часть репетиций. У хора теперь тоже есть подходящий зал, лучше функционируют вспомогательные службы, но обновление театра еще продолжается. В 1971 году, как раз за год до моего первого выступления в «Ковент-Гарден», руководство театром перешло от сэра Дэвида Уэбстера к сэру Джону Тули — человеку, который заботится не только о процветании театра, но и о добром здравии его артистов. Он не просто в совершенстве знает свое дело, уделяя внимание всем текущим проблемам, но и пытается присутствовать почти на всех спектаклях, а если на каком-то не может быть, то заранее предупреждает об этом исполнителей и объясняет причины своего отсутствия. Ни один директор театра не посетил столько спектаклей с моим участием, на скольких побывал Тули. Несколько лет назад меня три или четыре месяца мучил трахеит. Я продолжал петь, но из-за болезни делал это с трудом и поэтому отказался от некоторых спектаклей в Вене и Нью-Йорке. Я еще недостаточно хорошо себя чувствовал, когда подошел срок назначенного ранее выступления в «Риголетто» на сцене «Ковент-Гарден». Сэру Джону я откровенно объяснил ситуацию. Вряд ли кто-либо еще смог бы понять меня лучше. Найдется немало театральных деятелей, которые сделали бы из этого трагедию, обязательно попытались бы дать мне понять, какое огромное чувство вины я должен испытывать, поскольку, если я не буду петь, весь спектакль просто разрушится. Сэр Джон не стал даже заводить речь о том, что, мол, посмотрим, каким будет мое самочувствие перед спектаклем. Он знал, что я никогда не отказывался от выступлений в «Ковент-Гарден» и, коли уж прошу отменить спектакль, значит, на то есть действительно серьезные причины. Тули освободил меня от контракта без всяких осложнений. Он достаточно хорошо понимает, что для успешного ведения дел в театре необходимы долгие и прочные связи с певцами, а не только волнения по поводу завтрашнего спектакля. Публика, конечно, не любит, когда объявленный в афише исполнитель не выходит на сцену, но это вовсе не означает, будто она не понимает, что в жизни случается всякое. Оперный шедевр остается совершенным сценическим произведением независимо от того, поют в нем мистер X и миссис Y или нет, а певец, который думает, что та или иная опера является его «собственностью», отдает себя во власть иллюзий. Лондонские любители оперы не всегда аплодируют после окончания той или иной арии, потому что не хотят прерывать течение музыки и развитие действия, но зато с большим энтузиазмом выражают свою поддержку исполнителям после завершения акта и всего спектакля. В моем репертуаре есть только одна опера, которую я не хотел бы петь в «Ковент-Гарден»,— «Трубадур». В большинстве театров после романса Манрико, если уж я спел его хорошо, публика дарит мне, аплодируя, несколько минут, в которые можно перевести дыхание перед началом следующей короткой сцены — она заканчивается убийственно трудной кабалеттой. В Королевской опере я вряд ли могу рассчитывать на передышку, если, конечно, не объявлю перед началом спектакля: «Леди и джентльмены! Чувствуйте себя раскованнее и не стесняйтесь аплодировать мне после романса!»
ПЛАСИДО ДОМИНГО НА ФОТОГРАФИЯХ





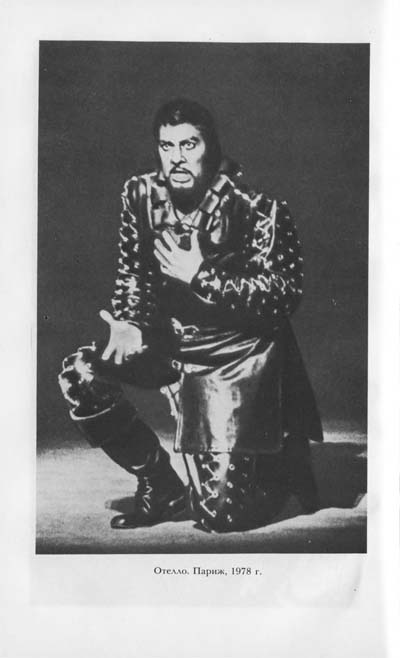


ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ И АЭРОПОРТЫ (1972-1975)
Первая половина 1972 года оказалась одним из наиболее насыщенных периодов моей творческой жизни. В январе, например, за три недели я появился на оперной сцене пять раз в пяти разных операх, к тому же в городах, где до этого не пел. Вот список этих выступлений: «Лючия» в Пьяченце, «Эрнани» в Амстердаме, «Богема» в Мюнхене (здесь я давал концерт, но в опере до сих пор не пел), «Бал-маскарад» в Мантуе и «Тоска» в Турине. А уже дней через двадцать состоялся мой югославский дебют в «Тоске» на сцене Белградской оперы. Но и это еще не все: вместе с Мартиной Арройо я принял участие в благотворительном концерте в Центре имени Кеннеди в Вашингтоне, затем пел в специальных представлениях «Аиды» в «Ла Скала» — они были приурочены к столетнему юбилею миланской премьеры оперы. В апреле «Мет» чествовала Рудольфа Бинга, и в заключительном гала-концерте мы с Кабалье спели дуэт из «Манон Леско». Корелли, Паваротти, Прайс, Сьепи, Сазерленд, Нильсон, Викерс, Ризанек, Таккер — вот далеко не полный перечень певцов, которые тоже участвовали в этом концерте. В конце июня в Гамбурге перед вечерним представлением, где давались «Сельская честь» и «Паяцы», со мной произошел очень неприятный случай. Когда я приехал в театр, гример еще не появлялся, а поскольку погода была прекрасной, я прямо в комнатных туфлях вышел погулять в театральный дворик. Там играли в футбол, я не мог удержаться и присоединился к играющим. Довольно сильно ударил по мячу, левая нога неловко скользнула, и я со всего размаха упал на спину. В ту же секунду — это случилось второй раз в моей жизни — мне показалось, что я умираю (первый раз я испытал подобное чувство, когда чуть не утонул в Тель-Авиве). Я не мог вздохнуть, не мог произнести ни одного слова — только лежал, делая какие-то странные гримасы. Все решили, что я валяю дурака. Наконец я собрался с силами и прошептал: «Доктора». Карета «скорой помощи» приехала мгновенно, и меня (в сопровождении Марианны и Джерарда Симон) отправили в какую-то клинику. Там находилось множество пациентов, все они были жертвами несчастных случаев, выглядели ужасно, так что все вместе это производило впечатление кошмара. Постепенно ко мне стали возвращаться силы, и я забеспокоился о судьбе спектакля. Объяснил врачам, что мне необходимо вернуться в театр. Они настаивали на рентгене, других обследованиях, но я требовал, чтобы меня немедленно отпустили в театр. В конце концов меня заставили подписать какую-то бумагу — там значилось, что я покидаю клинику по собственному желанию и несу ответственность за все возможные последствия. Я вернулся в театр и спел в обеих операх, не сделав по сцене ни шагу. К счастью, я успел в Барселону вовремя: Марта увидела меня до того, как доброжелатели позвонили ей и сообщили о случившемся. Пришлось все же пару дней полежать. А через три дня я уже пел «Кармен». Мой аргентинский дебют состоялся в 1972 году. В июле я прилетел в Буэнос-Айрес, чтобы выступить в «Силе судьбы»; моими партнерами были Мартина Арройо, Джанпьеро Мастромеи, Бональдо Джайотти и Ренато Чезари. Дирижировал оперой Фернандо Превитали. Буэнос-Айрес исключительно привлекательный город, определенно французский по стилю, хотя большая часть его жителей по происхождению испанцы или итальянцы. Театр «Колон» — один из самых красивых и наиболее совершенных в акустическом отношении оперных театров мира. Красоте здания соответствуют прекрасные хор и оркестр. «Колон» во всем сохранил великие театральные традиции XIX века. Если певцу, скажем, потребуется новый парик или особые туфли, соответствующая служба доставит их в течение суток, и, можете не сомневаться, все это будет высочайшего качества. Оперные слушатели всех стран сильно проигрывают в сравнении с аргентинцами, с их бурным энтузиазмом. Публика в «Колоне», как в «Ла Скала», очень понимающая, но в то же время сердечная, и если уж вас принимают восторженно, то это особенно дорого. Мы, исполнители, всегда чувствуем здесь по-настоящему горячий прием. После прекрасных дней, проведенных в Буэнос-Айресе, меня ждали не особенно приятные гастроли в Мехико. В музыкальном отделе театра «Беллас Артес» появились новые люди, которые определяли направление его работы. Их идеи в отношении постановок опер были, по-моему, неверны. На постановку «Кармен» потратили уйму денег, а результат оказался ужасным. Декорации и костюмы выглядели совершенно абсурдно, при том, что стоили неимоверно дорого. В общем, вся постановка производила просто смехотворное впечатление. Нельзя сказать, что это была авангардистская работа, просто получилось нечто антиоперное. Мексика — страна, в которой я вырос, поэтому не буду называть имена и рассказывать излишние подробности. Еще раз отмечу: концепция постановки оказалась в корне неверной. И весь этот абсурд был настолько грандиозным и одновременно позорным, что после «Кармен» я не появлялся на сцене «Беллас Артес» девять лет. На гастроли в Мюнхен я приехал с театром «Ла Скала» во время злополучных Олимпийских игр 1972 года. Мы привезли «Аиду» и «Реквием» Верди и находились в Олимпийской деревне, когда произошло это ужасное событие — убийство израильских спортсменов. Страшные дни! Все мы были очень подавлены. Я готовился петь один раз в «Реквиеме» и два — в «Аиде», а мой коллега еще в одном «Реквиеме». Но он заболел, и во всех четырех представлениях, с 4 по 8 сентября, пришлось петь мне. А уже 9 сентября я вылетел в Лондон и записал на пластинку каватину Поллиона «В храме Венеры со мной...» из «Нормы»! Конечно, такое можно позволить себе лишь в молодости. Опыт делает нас не только осмотрительнее. В чем-то он и связывает. В конце года я вернулся в Милан и еще раз спел на открытии сезона в «Ла Скала», на этот раз в «Бале-маскараде». Дирижировать оперой должен был Аббадо, но он по каким-то причинам отказался, и за дирижерский пульт встал ветеран театра Джанандреа Гавадзени. Ставил спектакль Франко Дзеффирелли. Он все время твердил, что я должен похудеть, потому что слишком громоздок для роли Ричарда. Но вот дело дошло до примерки костюмов, и все увидели: они сделаны так, что мы кажемся в них раза в два толще, чем есть на самом деле. Тем не менее постановка оказалась превосходной. В моей памяти сохранилась замечательная деталь. Во втором акте наклон сцены был довольно крутым, и Франко посадил возлюбленных (в дуэте Амелии и Ричарда) на вершину «холма»; они казались беспомощными детьми, которые в полном отчаянии сжимают друг друга в объятиях. Обычно этот дуэт ставят традиционно: «Сейчас я пойду налево, потом она пойдет направо; она идет туда, я иду сюда» — и все, что происходит на сцене в это время, почти всегда уводит внимание слушателей от замечательной, поистине грандиозной музыки. А Дзеффирелли поставил эту сцену просто и трогательно. Когда мы репетировали ансамбли, произошел забавный случай. В момент кульминации этого дуэта я спел: «Амелия, скажи мне, ты любишь, ты любишь?», певица взяла свое си, затем взрыв на fortissimo—оба певца поют здесь в сопровождении всего оркестра. После чего к Гавадзени подошел кто-то из сидящих в зале со словами: «Маэстро, мы не слышим певцов. Оркестр играет слишком громко». «Это не имеет никакого значения,— закричал Гавадзени.— Так написал Верди, именно такого звучания он хотел! Это самый возвышенный момент оперы, здесь больше страсти, чем в „Тристане и Изольде" !» Но я решил: поскольку меня все равно никто не услышит, буду произносить свои слова шепотом. Амелию пела американка Лу Энн Викофф, Виорика Кортес исполняла партию Ульрики, Пьеро Каппуччилли— партию Ренато. Викофф пела хорошо, но ей не повезло: она пала жертвой раздоров между различными кланами и клаками «Ла Скала». Часть слушателей не принимала певицу, и я был настолько раздражен грубыми выходками зала, что отказался выйти после спектакля через служебный выход: мне не хотелось встречаться с публикой и давать автографы. Но в один прекрасный день несколько поклонников подкараулили меня. «Доминго, почему вы так суровы с нами?» — спросили они. «Вовсе я не суров, просто пытаюсь заставить вас понять, что, если вы будете вести себя так безобразно, ни один певец не захочет петь в «Ла Скала». Как можем мы добиться самоотдачи на сцене, если из зала на нас обрушивается такая волна недоброжелательности?» На одном спектакле с галерки начали кричать, отпускать грубые замечания в адрес исполнителей. Гавадзени остановил спектакль и вежливо обратился к публике: «Дамы и господа, вы ведете себя нетактично, потому что...» Договорить ему не дали, с галерки раздался голос: «Да прекрати ты, Гавадзени, хватит умничать, дирижируй!» Как обычно, замечания были несправедливы. Мало кто из дирижеров так прекрасно освоил итальянский репертуар, как Гавадзени. Он блестящий человек, знает буквально все о произведениях, которыми дирижирует, посвятил всю жизнь изучению этой музыки, обдумыванию своей работы. Но «Ла Скала» не был бы «Ла Скала», если бы время от времени в его зале не происходили подобные цирковые представления. С большим удовольствием я вспоминаю три спектакля «Бала-маскарада» в Барселоне в начале 1973 года с Кабалье в главной партии. Певица находилась в блестящей вокальной форме, стиль ее был безупречен. Публика, заполнившая театр «Лисео», сходила с ума от восторга, и, надо сказать, не последнюю роль сыграло то обстоятельство, что обе ведущие партии пели испанцы. Не будет преувеличением, если я скажу, что эти спектакли, так же как и несколько представлений «Аиды», в которых мы пели позже вместе с Монсеррат, оказались самыми триумфальными в истории театра «Лисео» за все последнее время. В конце января мне представилась первая в моей жизни возможность поработать с Риккардо Мути. Мы репетировали новую постановку «Аиды» в Вене с Гвинет Джонс в заглавной роли. Фортепианные репетиции с Риккардо — бесценный опыт для певца: у Риккардо необыкновенное драматическое чутье, к тому же он учит актера понимать, чувствовать значение оркестра в каждый момент роли. Особенно мне запомнилось, как он репетировал с Виорикой Кортес, которая пела Амнерис, начало четвертого акта. Риккардо объяснял неуверенность Амнерис («О, если б так же любил он!.. Спасти желаю... Но как?.. Быть может!.. Стража, привести Радамеса!»), его объяснения вбирали и эмоциональные аспекты, и музыкальные: длительности, изменения оркестровки и так далее — и все это вы слышали в его фортепианном аккомпанементе. Мути — прирожденный дирижер и в то же время образованнейший музыкант. Он мало общается с оркестром посредством слов, но жесты его предельно ясны и точны, а ухо удивительно тонко настроено на оркестровый звуковой баланс. Риккардо поставил перед собой задачу попытаться очистить итальянскую музыку от тех традиций, которые представляются ему ошибочными, вредными. Например, он выбрасывает из партитур эффектные высокие ноты, внесенные туда исполнительской традицией, и восстанавливает кабалетты, которые в последнее время обычно купировались. Однако сам Верди часто позволял подобные вставки и купюры, и не всегда легко отличить плодотворные традиции от незаконного кромсания текста. Мути защищает свою точку зрения, подчеркивая, что Верди прожил еще полвека после того, как создал «Риголетто», «Трубадура» и «Травиату», и, если бы он не возражал против тех изменений в партитуре, которые появились и стали традиционными при его жизни, он бы послал соответствующие указания своему издателю Рикорди, с которым состоял в переписке. Вопрос сложный, не могу признать правоту Риккардо во всем, но в принципе я с ним согласен. Возьмем, например, теноровую партию в «Трубадуре»: все с нетерпением ждут высокого до у Манрико в конце кабалетты, и для многих слушателей высокое до является кульминацией всего спектакля. Певцу эта нота дается кровавым потом, многие тенора именно из-за нее заболевают язвой. А у Верди здесь нет высокого до, композитор написал ноту соль — на целую кварту ниже,— ноту, которую любой тенор без всякого напряжения споет на любой пирушке. Партия Манрико написана в не особенно высокой тесситуре, самая высокая нота у Верди — ля, даже си-бемоль нет ни разу. Между тем некоторые оперные театры отказываются от постановки «Трубадура», так как не могут найти тенора, который брал бы высокое до. Одна ненаписанная нота превратила партию со средней тесситурой в труднейшую партию тенорового репертуара. Еще один пример: если тенор попытается спеть песенку Герцога без си, которых Верди тоже не писал,— горе ему! И в самом деле, все это кажется достаточно нелепым. Публика должна учиться слушать и ценить музыкальные и сценические достоинства спектакля в целом, а не ждать гладиаторски эффектных моментов. Если певец может исполнить те самые вставные эффектные ноты легко и изящно, пусть поет. Я согласен: они вызывают восторг слушателей. Но они не должны становиться единственной причиной для постановки спектакля. На фоне венских выступлений под руководством Мути я совершил небольшое путешествие в Будапешт, где спел в «Тоске». В Будапеште два оперных театра. Один, построенный в прошлом столетии, напоминает венскую «Штаатсопер»; возведение второго датируется началом XX века. Старый театр исключительно красив, причудливая архитектурная орнаментика украшает каждый его уголок. К сожалению, в нем всего полторы тысячи мест, и я пел в другом оперном театре, где помещается две с половиной тысячи человек. Этот театр не обладает той удивительной атмосферой, которая есть в старом оперном театре, но петь в нем все же было очень приятно. Слушатели проявили такой безудержный энтузиазм, что мне пришлось бисировать арию «В небе звезды горели...» (То же самое произошло дважды, и с той же самой арией, в Вене, где за двадцатилетнюю историю новой «Штаатсопер» я оказался первым певцом, который бисировал арию.) С тех пор у меня не было возможности снова приехать в Венгрию, но я был бы очень рад спеть там еще раз. В мае 1973 года я наконец дебютировал в парижской «Опера», исполнив главную партию в «Трубадуре». В тот вечер моими партнерами были Гвинет Джонс, Миньон Данн и Пьеро Каппуччилли; дирижировал Юлиус Рудель; спектакль был не новый, он шел в постановке Тито Капобьянко. Я много слышал о беспорядке, неразберихе, царящих за кулисами «Опера», но мне довелось попасть в театр, когда там уже обосновался переехавший из Гамбурга Рольф Либерман. Он завел свои порядки, и я не застал легендарного хаоса. Либерман во многом содействовал полному возрождению хора, оркестра и всего коллектива театра, он пригласил Шолти в качестве музыкального руководителя и вообще сумел «зажечь» весь ансамбль театра. Я был счастлив петь в «Опера» и с тех пор очень часто выступаю в Париже. За выступления во Франции и за внимание к французской оперной литературе я был награжден медалью города Парижа и получил звание Кавалера искусств и литературы. Я горжусь еще и тем, что в Гамбурге, Мюнхене и Вене мне присвоили звание каммерзенгера. Обычно певцы получают это звание достаточно поздно, в конце карьеры, так что я особенно счастлив оказанным мне почетом. Примерно в то же время мы с Ширли Верретт принимали участие в знаменитом концертном исполнении «Самсона и Далилы» в лондонском «Ройял-фестивал-холл». Дирижировал Жорж Претр. Это была одна из лучших его работ. Претр часто использует rubato, что при исполнении произведений Верди не всегда бывает оправданно. Но в «Самсоне» rubato Претра удивительно обогатило музыкальную ткань. В это время в «Ковент-Гарден» проходили репетиции новой постановки «Кармен», премьера состоялась 4 июля. Ширли Верретт исполняла партию Кармен, Микаэлу пела Кири Те Канава, а Эскамильо — Жозе Ван Дам. Дирижировал оперой Шолти, режиссером был Майкл Гелиот. На премьере присутствовала королева-мать. Музыкальная сторона спектакля была на высоте, но, мне кажется, с диалогами переборщили. Из четырех певцов, исполнявших главные партии, только Ван Дам свободно говорил по-французски, нам же требовались колоссальные усилия. Почему новозеландка, американка и испанец должны говорить с английской аудиторией по-французски? У меня нет определенного мнения, как следует исполнять «Кармен»—с диалогами между музыкальными номерами (а именно так задумал Бизе) или с речитативами, которые позже вставил композитор Эрнест Гиро и которые стали традиционными в XX веке. Если использовать диалог, его безусловно надо сильно сократить. Кроме того, некоторые речитативы Гиро совсем недурны. В моей партии, например, речитативы «Что за взгляд, пламенный и дерзкий!» и «Не страшись, родная...» в первом акте гораздо сильнее, чем речитативы Бизе в «Искателях жемчуга». С другой стороны, некоторые речитативы Гиро весьма посредственны и не идут ни в какое сравнение со свежей, новаторской музыкой Бизе. Если бы я решал этот вопрос, я бы оставил лучшие речитативы, а остальные заменил тщательно отобранными диалогами. Я также записал «Кармен» и «Богему» с сэром Джорджем Шолти и спел под его руководством в Париже «Отелло». «Отелло» был хорош, а «Богему» я оценил позднее, в последнее время запись нравится мне все больше. (Мими спела Кабалье, а мой сын Пласи — партию мальчика во втором акте.) Сэр Джордж пригласил меня исполнить главную партию в «Тристане и Изольде», но я пока не могу на это решиться. По-моему, я не готов еще для этой партии. Шолти очень тонкий, интеллигентный и серьезный музыкант; он не любит «давить» на своих исполнителей. Если в партитуре есть темповые указания композитора, он старается точно следовать им; Шолти позволяет себе идти против указаний композитора лишь в случае внутренней необходимости, после долгих, мучительных поисков. И, надо признать, он абсолютно прав. Осенью, в Нью-Йорке, где я пел в «Метрополитен-опера» «Трубадура» и «Травиату», я дебютировал как оперный дирижер с «Нью-Йорк Сити Опера» в Центре имени Линкольна. Исполняли мы «Травиату». Виолетту пела Патриция Брукс, Жермона — Доминик Косса — те самые исполнители, с которыми я выступал в «Травиате» несколько лет назад. Партию Альфреда исполнял Роджер Паттерсон. Конечно, это было для меня огромным событием, и я счастлив, что все прошло хорошо. Дирижировать такой оперой, как «Травиата», относящейся к среднему периоду творчества Верди, технически гораздо труднее, чем более поздними произведениями композитора. «Аида», «Отелло» и «Фальстаф» написаны, по существу, довольно большими кусками, каждый из которых имеет свой основной темп, в то время как «Риголетто», «Трубадур» и «Травиата» как бы построены из единиц меньшего объема — и каждая из них характеризуется своим собственным темпом. Дирижеру надо постоянно помнить, что эти темпы должны быть соотнесены друг с другом, и ему необходимо все время думать о том, чтобы каждое изменение темпа было точно выверено. Странно, но факт: некоторые люди, связанные с оперой, считают, что от дирижера в спектакле зависит совсем немногое. Конечно, дирижер, который умеет только профессионально провести спектакль, мало влияет на события. Но очень тонкий или, наоборот, очень скверный дирижер существенным образом влияет на спектакль и на всю постановку в целом. Интерес к профессии дирижера, понимание оркестра родилось у меня под влиянием маэстро Магуэрцы, который замечательно дирижировал спектаклями сарсуэл в труппе, руководимой моими родителями. Когда из соображений экономии оркестр пришлось существенно сократить, мне показалось, что звук сильно пострадал, но в результате я получил возможность заполнить «пустоты» игрой на фортепиано. Однажды, когда дирижер плохо себя чувствовал, мне пришлось репетировать с оркестром. К тому времени я уже посещал в консерватории классы Игоря Маркевича и мечтал взять в руки дирижерскую палочку. Идея стать когда-нибудь дирижером овладела мной. Еще большее значение для развития интереса к дирижированию в пору юности имели музыкальные занятия иного рода. Особенно обогащали меня «музыкальные понедельники» Пепе Эстевы; кроме того, важную роль в музыкальном образовании сыграли читки с листа фортепианных трио Бетховена — я занимался с двумя моими друзьями, братьями, один из которых играл на скрипке, а другой на виолончели. Камерное музицирование многому научило меня: я почувствовал, когда нужно вести партнеров за собой, а когда необходимо следовать за ними. Это очень важная наука — умение давать и брать, оно необходимо в любом виде ансамблевого музицирования. Родители иногда позволяли мне дирижировать двумя сарсуэлами: «Луиза Фернанда» и «Озорница», кроме того, я руководил небольшим ансамблем музыкантов при исполнении отрывков из «Веселой вдовы» и других оперетт, где была занята моя мать. Время от времени появлялись и иные возможности подирижировать: порой я руководил небольшим балетным оркестром или репетировал с хором в труппе родителей. Когда я был с Национальной оперой в Мехико, то иногда занимался «полуоркестровой» работой, например играл за кулисами на колоколах в «Тоске». Однажды я исполнял эту «роль», когда партию Каварадосси пел Ди Стефано, а в другой раз я сам пел главную партию и играл за кулисами. В «Тоске» мне случалось выполнять самые различные «работы»: на спектакле в Толедо (американский город в штате Огайо) в 1966 году я даже играл на органе, так как специалиста поблизости не нашлось. Когда я был в Тель-Авиве, то хотел заняться дирижированием, но тогда я очень много пел и сконцентрировал все свои силы на том, чтобы усовершенствовать вокальную технику. Другие занятия лишь отвлекли бы меня. В то же время я часто аккомпанировал на фортепиано певцам, исполнявшим арии на балу во втором действии «Летучей мыши» — эта оперетта была очень популярна в Израильской национальной опере. Серьезным оркестром я дирижировал впервые в 1972 году, когда мы с Шерилом Милнзом записывали пластинку на студии «Эр-Си-Эй» в Лондоне с оркестром «Нью Филармониа». Пластинка называлась: «Доминго дирижирует Милнзом! Милнз дирижирует Доминго!» Это было серьезное испытание для меня. У дирижера две главные задачи: во-первых, он должен точно знать, чего хочет, во-вторых, ему необходимо уметь добиваться желаемого. Жесты дирижера должны быть ясными и безошибочными, а замечания точно попадать в цель. Даже Карлос Клайбер, который так замечательно описывает музыку словами, что делает ее почти видимой, никогда не читает оркестру лекций. Когда мы записывали пластинку с Шерилом, самым трудным для меня оказалось определить, что же требовать от таких великолепных музыкантов. Конечно, я был счастлив работать с первоклассным оркестром, но у меня не хватало опыта. Я не представлял себе достаточно ясно, как добиться того, чтобы музыканты следовали моей интерпретации. Эта запись, как я теперь понимаю, была сделана в целях рекламы. С тех пор к Шерилу и ко мне часто обращаются с предложением дать концерты, где бы мы по очереди выступали в качестве дирижеров, но мы отказываемся. Я достаточно серьезно отношусь к своей дирижерской работе и не хочу участвовать в чем-то сомнительном. Шерил тоже продолжает дирижерскую деятельность—в частности, он неоднократно дирижировал ораториями — «Илией» и другими. К сожалению, многие из спектаклей, которыми я дирижировал, были поставлены на скорую руку, на серьезные репетиции не хватало времени. Если я хочу совершенствоваться как дирижер, то должен отказаться от подобных выступлений. Моя дирижерская техника достаточно верна, но я не всегда бываю абсолютно точен — я это вижу сам, просматривая видеозапись увертюры к «Силе судьбы», которой я дирижировал в Вене. Я до сих пор сомневаюсь в себе и, по-видимому, вкладываю в дирижирование слишком много физической силы, жесты мои слишком крупны. Но, кажется, кое-какие успехи у меня все же есть — я был невероятно польщен, когда недавно Лорин Маазель пригласил меня дирижировать в Венской опере «Летучей мышью». Как бы между прочим он заметил, что приглашает меня лишь потому, что он и коллектив оркестра уверены: я справлюсь с задачей. И Маазель добавил: теперь, когда он возглавляет театр, ему не хотелось бы, чтобы оркестром дирижировал первый попавшийся дирижер. Собственная практика — это, конечно, прекрасно, но, кроме того, я ведь работал с лучшими дирижерами нашего времени и имел возможность наблюдать их методы. Когда я смогу дирижировать регулярно, будет видно, на что я способен. С удовольствием предвкушаю, как буду дирижировать «Летучей мышью» в «Ковент-Гарден» в конце 1983 года и «Богемой» в «Метрополитен-опера» в 1984 году. Дирижировать «Богемой», поставленной Дзеффирелли (где я уже пел), довольно трудно, потому что певцы находятся очень далеко от дирижера. Для того чтобы не расходиться с оркестром, они должны вступать чуть раньше, так как звук долетает до них с некоторым опозданием. Мое прочтение оперы, естественно, в чем-то отличается от интерпретации Джимми Ливайна, но, думаю, особых проблем с оркестром у меня не будет, ведь у каждого оркестранта его партия прочно «сидит» в голове и пальцах. Я себя чувствую по-разному, дирижируя той оперой, в которой пел сам, или той, где ни разу не пел. В последнем случае у меня нет искушения петь вместе с певцами и меня не особенно волнуют их вокальные трудности. Если мне повезет и я смогу регулярно работать с первоклассным оперным оркестром, то прежде всего постараюсь добиться от музыкантов идеального умения аккомпанировать. Мне бы хотелось, чтобы музыканты слушали певцов, по-настоящему чувствовали себя участниками того, что происходит на сцене. Мне в жизни повезло: я почти всегда выступал с блестящими дирижерами. Однако, когда оркестром руководит не первоклассный мастер, музыканты чувствуют себя вправе как бы со стороны наблюдать за спектаклем. Я бы дорого дал, чтобы подобного никогда не было! Время от времени и мне случалось петь с плохими дирижерами, и тогда я полагался на опыт оркестрантов. Худшее для певца — петь со средним дирижером, который ведет спектакль без увлечения. Тогда спектакль разваливается, все участники как бы вежливо обращаются друг к другу: «Только после вас... нет, только после вас». Я бы хотел работать с вокалистами таким образом, чтобы каждая фраза подготавливалась заранее, чтобы как можно меньше нюансов отдавалось на волю случая. Серьезные дирижеры всегда руководствуются именно таким методом, а серьезные певцы всегда способны его оценить. Я, певец, спел свою партию — и с удовольствием слышу аплодисменты: они рассказывают, насколько понравился я слушателям. Но как дирижер я совершенно иначе отношусь к аплодисментам: мне не нужны овации после спектакля — я это говорю абсолютно искренне. Вероятно, дело тут в том, что дирижер не «звучит» непосредственно и поэтому не находится на переднем плане в отличие от певца и инструменталиста. Хотя не стану отрицать, что продирижировать целым, законченным произведением гораздо соблазнительнее, чем спеть или сыграть отдельную партию. Дирижировать симфонической музыкой, что является целью большинства дирижеров, по-моему, технически легче, чем оперной. Как бы я ни любил симфоническую музыку, а я ее очень люблю, мне, думаю, больше подходит роль оперного дирижера. Я себя чувствую органично, управляя полувзбесившимися лошадьми — сценой и оркестровой ямой, каждая из которых так и норовит увести спектакль в свою сторону. Как дирижер я, конечно, буду концентрироваться на репертуаре, который ближе До-минго-певцу: Верди, Пуччини и некоторые другие композиторы. Но мечтаю также и о Вагнере, Россини, Моцарте. Конечно, мне бы очень хотелось поставить «Дон Жуана», но тут я не оригинален — кто из дирижеров не мечтает об этом?! Однажды агент по рекламе сказал мне: «Вы достаточно редкая птица — певец, который умеет дирижировать. Почему бы не снять вас на пленку, когда вы дирижируете оркестром в оперных ариях, а затем прокрутить эту пленку в «Карнеги-Холл», где вы будете петь под собственный же аккомпанемент?» «В принципе это неплохая мысль,— ответил я,— но, если я провалю концерт, мне бы не хотелось винить в этом дирижера». У меня был еще один ангажемент на дирижирование: во время рождественских каникул 1973 года мне предстояло дирижировать «Аттилой» Верди в театре «Лисео» в Барселоне. Как раз ко времени моего возвращения из Нью-Йорка в Испании убили премьер-министра Карреро Бланке В стране начались волнения, однако мы провели все репетиции и выпустили спектакль вовремя. С 26 декабря 1973 года по 5 января 1974 года я три раза дирижировал «Аттилой» и четыре раза спел в «Аиде». Партию Аиды исполняла Кабалье. Ее пение так потрясло меня, что я решил во что бы то ни стало записать вместе с ней «Аиду» на пластинку. Фирма «Дойче граммофон» пригласила меня принять участие в записи будущим летом; я хотел работать только с Риккардо Мути, а он был связан контрактом с фирмой «И-Эм-Ай/Энджел». Тогда я сказал представителям фирмы «И-Эм-Ай», что мы должны записать «Аиду» с Монсеррат и Риккардо. В конце концов все образовалось, и результаты оправдали мою настойчивость. Между прочим, для Риккардо Мути это была первая запись оперы. В начале 1974 года в Гамбурге я так сильно простудился, что вынужден был прервать спектакль «Сила судьбы» после первого акта. Первый раз в жизни (а таких случаев было всего два) я не смог допеть спектакль. В тот момент мне казалось, что пришел конец света. Как большинство практически здоровых людей, я испытываю настоящую ярость (и одновременно вину) в тех редких случаях, когда мой организм выкидывает какие-нибудь фокусы. Со временем, естественно, я стал спокойнее относиться к подобным неприятностям. Когда я действительно не в состоянии выйти на сцену, то просто объявляю: «Сегодня я не могу петь». А тогда, в Гамбурге, я допустил ошибку: мне вообще не следовало в тот вечер выходить на сцену. До сих пор меня удивляет реакция журналистов и других людей, вообще-то вполне обладающих здравым смыслом: если певец заболел и не может петь, они решают, что у этого артиста навеки пропал голос, о чем и оповещают весь мир. Боюсь признаться, но, мне кажется, здесь сказывается определенная доля того, что немцы называют Schadenfreude* — люди получают удовольствие, видя чужое горе. Когда я пел в «Бале-маскараде» через три дня после злополучной «Силы судьбы», многие искренне удивлялись, что спектакль прошел благополучно. В апреле в Париже я участвовал в «Сицилийской вечерне» Верди. Партия Appuro, вероятно, самая трудная во всем вердиевском теноровом репертуаре. Она, правда, не так изматывает певца, как партия Отелло, но происходит это по той простой причине, что любой слушатель знает «Отелло» и лишь немногие знакомы с «Сицилийской вечерней».
* Злорадство (нем,).
До этого я записывал «Сицилийскую вечерню» на пластинку, но на сцене пел ее впервые. Дирижировал оперой Санти, среди исполнителей были Арройо, Глоссоп, Роже Суайе. Из всех постановок Джона Декстера, в которых я принимал участие, эта была лучшей. Мы довольно много и интенсивно репетировали, и самыми яркими моментами репетиций (не по воле Декстера) оказались «воззвания» режиссера к хору. Иногда хористы отвлекались, громко болтали. Декстер страшно волновался и выговаривал им отнюдь не в вежливой форме, однако всегда по-английски. После этого он набрасывался на несчастную молодую женщину-переводчицу и кричал: «Переведите! Переведите им точно те слова, что я сейчас сказал!» Она, смущаясь, в вежливой форме передавала смысл речей Декстера: «Мистер Декстер говорит, что вы сделали бы ему одолжение, если были бы чуть спокойнее и внимательнее». Ее слова еще больше выводили Джона из равновесия. «Я же ничего подобного не произнес,— кричал он.— Скажите им точно то, что я говорил на самом деле!» В конце концов его усилия не пропали даром, и хор, в котором оказалось много молодых певцов, звучал великолепно. Сценография в основном была выдержана в черных и белых тонах. Все участники спектакля несказанно радовались огромному его успеху у публики и у критики. Немногие из ведущих теноров XX века исполнили партию Арриго. Карузо, Пертиле, Флета, Ди Стефано, Дель Монако, Бьёрлинг — ни один из них, насколько мне известно, не пел эту партию. Не знаю, то ли эти певцы не пели Арриго из-за того, что «Сицилийская вечерня» исполнялась очень редко, то ли, наоборот, опера редко появлялась на афише из-за того, что певцы не решались браться за партию. «Сицилийская вечерня» и до сих пор нечастая гостья в репертуарах. Партию Арриго спел Николай Гедда, в конце жизни выучил ее и Ричард Таккер. Я виделся с ним в Барселоне, где он выступал в конце 1974 года, и Таккер рассказывал, что собирается спеть Арриго в будущем году. Это было удивительно для шестидесятилетнего певца. Мы много говорили о партии, но, к сожалению, я видел певца в последний раз. Он умер через несколько месяцев, и оперный мир потерял великого тенора, который был еще в полном расцвете творческих сил. В том же году, но чуть раньше, у меня состоялись интересные беседы об оперных работах с одним из лучших теноров предшествовавшего Таккеру поколения. Джакомо Лаури-Вольпи жил тогда в Валенсии, куда я приехал, чтобы спеть «Силу судьбы». Мне очень хотелось встретиться с Джакомо, и я пригласил его на спектакль. В конце одного из действий я объявил слушателям, что в зале находится Лаури-Вольпи. Все встали и устроили певцу настоящую овацию. Он был глубоко растроган. Два или три раза я ходил к Джакомо в гости, мы беседовали, и однажды он продемонстрировал мне свои знаменитые высокие ноты. Должен признать, это было совсем неплохо для восьмидесятидвухлетнего человека! В то время он записывал пластинку, которая называлась «Чудесный голос», на фирме «Эр-Си-Эй» в Риме. Если я правильно помню, за два или три дня он записал одиннадцать арий. Это путешествие в Испанию оказалось особенно приятным: я впервые пел в Сарагосе, родном городе отца. Родители, я, Марта, наши мальчики приехали все вместе. Мы зашли в ресторан, принадлежавший когда-то бабушке. Пласи и Альваро, которым было тогда соответственно восемь и пять лет, помогали обслуживать посетителей. Не думаю, что их помощь кому-нибудь была нужна, но зато мальчики получили большое удовольствие, приобщившись к профессии своего дедушки. Из Сарагосы я должен был лететь прямо в Москву, чтобы присоединиться к труппе «Ла Скала». По контракту я выступал в Большом театре в «Тоске» и принимал участие в концерте в Кремлевском Дворце съездов. Однако принцесса София, ныне королева Испании, попросила меня выступить 5 июня в Мадриде в благотворительном концерте. Мне не хотелось отказывать ей, и администрация «Ла Скала» любезно разрешила мне не петь в первом представлении «Тоски». На концерте в Мадриде я дирижировал увертюрой к «Сицилийской вечерне» и пел арии из семи различных опер. Репетировали мы утром в день концерта, а день был очень жаркий, и я просто сглупил, согласившись дирижировать,— ведь мне предстояло довольно много петь. Вечером я понес достойное наказание за собственное неразумие: в арии из «Паяцев», на фразе «Меня ты недостойна», я потерял контроль над дыханием и не смог допеть ее до конца. Остальные арии я спел хорошо и в конце, когда публика вновь и вновь вызывала меня, решил испытать судьбу и повторить арию из «Паяцев». Психологически это было довольно трудно. Когда я дошел до злополучной фразы, то снова «сорвался». Виноват во всем был только я: не следовало петь снова арию, которая мне не удалась, тем более что я уже порядком устал, а концерт в общем прошел очень хорошо. Но я был так благодарен слушателям за сердечный прием, мне так хотелось доставить им удовольствие! В результате я получил довольно жестокий урок. Мой русский дебют состоялся 8 июня 1974 года. Прием, который оказала Москва труппе «Ла Скала», поистине неправдоподобен. После спектакля нам аплодировали, выражали одобрение всеми существующими способами в течение сорока пяти минут. Повторные спектакли «Тоски» 10 и 15 июня прошли с таким же успехом. Мои родители были вместе со мной в Советском Союзе, и мы поехали ночным поездом, который скорее можно назвать «поездом белой ночи», поскольку по-настоящему темно так и не стало, в Ленинград. Этот город оказался одним из самых красивых, которые я видел в своей жизни. Меня потрясли прекрасные дома, выстроившиеся в ряд по берегу Невы. Уверен, что, если бы Советское правительство относилось спокойнее к иностранцам и иностранным влияниям, Ленинград мог бы конкурировать с Парижем как центр массового туризма. Очень сильное впечатление произвел Эрмитаж. Когда видишь некоторые вещи из поистине грандиозного клада царей, выставленные в этом монументальном музее (особенно мне запомнилась лошадиная сбруя, украшенная драгоценными камнями), легко понять, почему произошла революция (как бы ни была далека от идеала сегодняшняя ситуация). На меня, как, впрочем, на многих иностранцев, не произвела впечатления русская кухня, особенно не понравилась привычка подавать пиво теплым — даже летом. Я попросил гида-переводчика, чтобы мне дали холодного пива, но, видимо, меня не поняли. Однажды за обедом я встал из-за стола и, к удивлению всех присутствующих, отнес две бутылки в холодильник. Таким образом я хотел показать, чего же добиваюсь. Вечером, когда я пришел в ресторан, пиво было холодным. Кое-кто из присутствующих попробовал холодное пиво, оно всем очень понравилось. После этого случая пиво стали подавать холодным. Мои коллеги из «Ла Скала» были в Москве десять лет назад и знали, что кухня не самое сильное в России. Многие привезли полные чемоданы пармезанского сыра, специй и прочего. Я с Мартой и родителями ходил в гости к Галине Вишневской. (Ее муж, Мстислав Ростропович, был в это время где-то за рубежом.) Она была очень озабочена, поскольку супруги уже готовились к отъезду изсвоей страны. Мы пели вместе, а потом я съел так много блинов с черной и красной икрой, что на следующий день у меня страшно болел живот. Квартира Ростроповича и Вишневской находилась в том же доме, где жили Шостакович и Хачатурян. Музыкальный вечер у Вишневской до удивления походил на наши «музыкальные понедельники» у Пепе Эстевы в Мехико. Выступать перед огромной аудиторией Кремлевского Дворца съездов было непривычно. В конце концерта публика бесконечно вызывала нас, и сопрано Маргерита Ринальди решила спеть арию Оскара из третьего акта «Бала-маскарада». Под рукой не оказалось нот, а аккомпаниатор не знал арию на память, так что мне пришлось сесть за рояль. Когда бисировать пришлось мне, я спел по-русски арию Ленского из «Евгения Онегина». После этого многие слушатели буквально ринулись на сцену, чтобы заключить меня в объятия, и, честно говоря, я сильно перепугался — по сцене катился рояль, а за ним неслась толпа. Наконец мне и моим коллегам удалось уйти со сцены, и, слава богу, дело обошлось без травм. После оперных спектаклей у служебного выхода меня тоже ждали толпы поклонников. Милиционеры пытались как-то очистить проход, но мне и самому хотелось дать автографы, обменяться рукопожатиями с наиболее преданными любителями вокала. Я обнял за плечи двух из них, и так мы шли от театра до гостиницы в сопровождении целой толпы. Может быть, какая-то доля этой неправдоподобной сердечности русской публики основана на том, что театр — то место, где русские могут открыто выражать свои чувства. Однако надо признать, что тонкость их восприятия музыки связана и с богатыми музыкальными традициями в России. Поклонники спорта знают, какое тоскливое чувство возникает, когда по телевизору показывают важную игру или матч, а ты в это время должен работать. После гастролей в Москве мне предстояло за двенадцать дней спеть пять опер в Гамбурге. Спектакли совпали с футбольными играми на Кубок мира 1974 года, которые проходили там же. После «Аиды» мне хотелось как можно скорее сбежать, чтобы успеть на стадион, где в этот день играли две немецкие команды (Западной и Восточной Германии). Выйдя в который уже раз на сцену, я решил, что этот поклон могу считать последним, и жестом показал за кулисы, демонстрируя свое желание поскорее уйти. Публика все поняла и отпустила меня. Я поехал на стадион прямо в костюме Радамеса и по дороге, в машине, снял грим. 30 июня давали «Сельскую честь» и «Паяцы», я пел только во второй опере. Пока публика слушала «Сельскую честь», я смотрел футбол, а когда в «Паяцах» я пел «Большое готовлю для вас представленье», то, вместо того чтобы поднять над головой, как требовала мизансцена, табличку с временем представления, я поднял транспарант, на котором сам написал «4:3»,— таким образом все узнали, с каким счетом команда ФРГ выиграла у команды Швеции. В конце июля мы с Мартой отправились в Виаред-жо — я пел «Тоску» недалеко от Торре-дель-Лаго, где долгие годы жил Пуччини. Мне кажется, озеро Массачук-коли, похожее на болото, наводит тоску. Не знаю, есть ли между такими вещами реальная связь, но я рядом с этим озером все время думал о печальных событиях в операх Пуччини. Акустика открытого театра в Торре-дель-Лаго оставляет желать лучшего. Я посоветовал Симонетте Пуччини, наследнице композитора, сделать над театром стеклянную крышу или что-нибудь в этом роде, чтобы сохранить прекрасные виды, но одновременно уменьшить влажность и улучшить акустику. В сентябре в Вене я записывался в «Мадам Баттерфляй» с Гербертом фон Караяном. Это была фонограмма для фильма, который снимал Жан-Пьер Поннель. Перед этим мы с Мартой и детьми отдыхали в Коста-Брава, так что, когда я приехал в Вену, то не пел уже семнадцать дней. Я надеялся, что голос будет звучать свежо, и даже не распевался перед сеансом записи. К счастью, в результате все получилось неплохо, но это стоило мне громадных усилий. Я чуть не «завалил» запись из-за того, что не распевался. Теперь я всегда очень осторожно и тщательно готовлю голос, даже если между выступлениями прошло всего шесть дней. Когда я начинаю распеваться, то особое внимание обращаю не на расширение диапазона — от высоких до низких нот,— а на качество звука в среднем регистре. Я начинаю петь: до — ре — ми — ре — до — ре — ми — ре — до—ре — ми — ре — до на гласные звуки. Потом иду вверх на полтона: ре-бемоль — ми-бемоль — фа — ми-бемоль — ре-бемоль — ми-бемоль — фа — ми-бемоль — ре-бемоль — ми-бемоль — фа — ми-бемоль — ре-бемоль. Кроме того, мне идет на пользу пение полутонами: до — до-диез — ре — ре-диез — ми — ми-бемоль — ре — ре-бемоль—до; потом то же самое, начиная с до-диез и так далее. Таким образом, занимаясь этими упражнениями, а они требуют гладкого звука, legato, которым можно петь лишь с соответствующей опорой, я заставляю работать диафрагму. Я не иду выше ноты соль. Подготовив средний регистр, я начинаю расширять диапазон пением арпеджио. Например, иду вверх, начиная с нижнего до: до — ми — соль — до — ми — соль, затем — вниз: фа—ре — си — соль — фа — ре — до. Затем я пою гаммы, которые каждый раз увеличиваю на одну ноту: от до вверх до ре, на нону вверх и вниз, потом от ноты до к ми, от до к фа и так далее, все время добавляя по ноте. Для всех этих упражнений я использую гласные звуки континентальных европейских языков — i, e, а, о, и. Следующая стадия распевания — это уже пение, поскольку добавление текста вносит в мою работу соответствующие особенности. До последнего времени для распевания я брал лишь небольшие отрывки из арий, однако перед спектаклем «Эрнани» в «Ла Скала» (в декабре 1982 года) я попытался сделать по-другому. Меня несколько беспокоила тесситура арии, которую я пою в самом начале оперы, и я попросил одного из музыкальных ассистентов проиграть мне прямо в гримерной всю арию и спел ее в полный голос. В результате когда я вышел на сцену, то чувствовал себя уверенно и исполнил арию хорошо. То, что подходит одному певцу, может не подходить другому. Все мы постоянно учимся, находим что-то новое, изменяемся с возрастом. Некоторые певцы почти не распеваются перед спектаклем, другие поют очень много. Фьоренца Коссотто, одна из лучших исполнительниц партий Амнерис, Азучены и Эболи, в день спектакля пела целиком всю свою партию, и не один раз. Лично я думаю об этом с ужасом: если бы я так поступал, то к началу спектакля остался бы без голоса. Для Коссотто же такой метод подготовки к спектаклю был самым лучшим. Какой можно сделать вывод? Иди своим собственным путем и не бойся менять его, если жизнь подсказывает тебе что-то новое. С середины ноября до середины декабря 1974 года у меня было много новых встреч и работ. Во-первых, в Западном Берлине я впервые участвовал в съемках фильма — это была «Мадам Баттерфляй», фонограмму к которой я записал в Вене. Ставил фильм Поннель, чьими постановками опер на сценах театров я уже давно восхищался. Кроме того, я дебютировал во Франкфурте в «Силе судьбы». Затем я впервые спел в «Девушке с Запада» Пуччини, которую очень люблю. Поставил оперу еще один блестящий режиссер, Пьеро Фаджиони, в Турине. Я и раньше пел в спектаклях, поставленных Поннелем, но во всех случаях входил в готовые спектакли, а съемки фильма «Мадам Баттерфляй» дали мне наконец-то возможность поработать с Поннелем непосредственно. Постановка была превосходна, и я очень высоко оценил все находки Жан-Пьера в моей партии. Пинкертон часто получается бесцветным, однако трактовка Жан-Пьера сделала партию выигрышной. В самом начале, во время оркестрового вступления, Пинкертон медленно идет по сцене — он потрясен смертью Баттерфляй, прислоняется к стене хрупкого японского домика, затем гневно отшвыривает от себя Горо, который предлагает ему другую японскую девушку. Вся опера построена как воспоминание Пинкертона, это старый прием, но здесь он оказывается в высшей степени убедительным. Жан-Пьер предложил мне сыграть беззаботного, легкомысленного молодого моряка, у которого в каждом порту есть подружки. Он хочет приятно провести время и в Нагасаки, не обращая внимания на предостережения Шарплеса. Шарплес же предупреждает Пинкертона, что у Чио-Чио-Сан есть сердце и Пинкертону следует быть серьезнее. Сцена, где Горо просит у Пинкертона денег, чтобы заплатить семье и свидетелям, получилась замечательно, по ней можно судить о блестящем чувстве юмора, которым обладает Жан-Пьер. Мирелла Френи исполняла партию Баттерфляй; у нее был белый грим, но огромные глаза Миреллы мешали созданию восточного колорита: приходилось так сильно натягивать кожу около глаз, что Мирелла страдала от боли. Мирелла очень естественна и мила — на первый взгляд даже кажется, что она не особенно сложная личность. Певице удалось правильно, с большим умом, «выстроить» свою карьеру — от партий субреток, через роли в операх Пуччини, к драматическим партиям в произведениях Верди. У Миреллы великолепное дыхание и удивительная сила голоса в верхнем регистре. Со времени постановки «Баттерфляй» я много раз работал с Поннелем, и всегда сотрудничество с ним приносило мне огромную радость. Поннель — фанатик, он ни на секунду не позволяет себе расслабиться, но его идеи всегда настолько интересны, что переносить напряжение, работая с Поннелем, гораздо легче, чем испытывать неприятное чувство пустоты, исходящее от режиссера, не имеющего идей вовсе. Мне кажется, что напряженный труд в театре скорее возбуждает, чем истощает. И нет ничего более вредного для нервов артиста, чем ждать, не осенит ли наконец дельная идея сомневающегося режиссера, поскольку сам он еще не решил, что же делать дальше. Жан-Пьер иногда может показаться капризным. Я заметил, что он, как и Фрэнк Корзаро, всегда стремится подчеркнуть — в позитивном или негативном смысле, в зависимости от ситуации,—религиозные мотивы сюжета. Однако Жан-Пьера никак не назовешь слепым или глухим. Он не будет упрямо держаться за какую-либо идею, если увидит, что она неудачна, и спокойно выслушает певцов, у которых есть собственные соображения о своей партии. Мягким его не назовешь, однако, если меня что-то сказанное им не убедило — если я не чувствую, что он прав,— я могу серьезно обсудить с ним проблему. Он хочет, чтобы певцы всегда понимали его точку зрения, и в свою очередь стремится понять мотивы певца. Особого разговора заслуживает профессионализм всей «команды» Жан-Пьера, удивительный организационный порядок, царящий в ней. Все это позволяет режиссеру одновременно работать над тремя или четырьмя постановками, всегда добиваясь самого высокого уровня. Как и Франко Дзеффирелли, Поннель начинал с того, что повторял постановку одной и той же оперы в разных театрах. При этом в каждом «повторе» он уточнял или изменял некоторые детали, подгоняя их под особенности данного театра. Он никогда не стремился специально вводить в спектакль какие-то броские идеи только потому, что они новые. Внутренняя стройность концепций Поннеля уберегает его от трюкачества. В том, как он располагает актеров на сцене, есть своеобразная хореографическая логика. Такое расположение вовсе не затрудняет нашу игру, а, напротив, облегчает движение спектакля, и перенос постановки из одного театра в другой именно благодаря ее «вычисленности» намного проще. Все это особенно важно для последних постановок Поннеля. Вначале Жан-Пьер мизансценировал практически каждый музыкальный такт. Теперь он больше доверяет интуиции, более раскован и позволяет актерам импровизировать. Сниматься в фильме «Мадам Баттерфляй» в Западном Берлине и одновременно репетировать «Девушку с Запада» в Турине было довольно сложно. Между городами нет прямых рейсов. «Унитель», кинокомпания, которая субсидировала фильм, не могла предоставить мне частного самолета, потому что международное соглашение по Берлину запрещает подобные полеты со взлетом и приземлением в аэропорту Западного Берлина. Мне приходилось на частном самолете летать из Турина в Мюнхен, а затем уже коммерческим рейсом добираться из Мюнхена в Западный Берлин. «Девушка с Запада» для меня неразрывно связана с именем режиссера Пьеро Фаджиони, который поставил ее вначале в Турине, затем в «Ковент-Гарден» (где я пел в этой опере три сезона) и в Буэнос-Айресе. Когда 29 ноября 1974 года, в день пятидесятилетней годовщины смерти Пуччини, мы давали в Турине второй спектакль, в театре царила особая атмосфера. Я знал Пьеро с 1969 года, в то время он был ассистентом Жана Вилара, ставившего «Дон Карлоса» в Вероне. За несколько месяцев до постановки «Девушки с Запада» в Турине мы вместе работали над новой постановкой «Тоски» в «Ла Скала» — той самой, которую так тепло приняли в Москве. В спектакле были очень красивые декорации Николая Бенуа, а Пьеро придумал несколько весьма эффектных постановочных решений. Например, когда солдаты приводили меня во втором действии к Скарпиа, при них были кое-какие вещи, найденные у меня дома, в частности связка книг и французский республиканский флаг. Когда объявляли о победе Наполеона, я с триумфом поднимал над головой флаг, крича: «Победа, победа!» «Девушка с Запада» в постановке Пьеро — особенно ее более позднее и наиболее тонкое воплощение в «Ковент-Гарден»— не только один из самых красивых спектаклей, в котором я когда-либо участвовал, но и одна из самых красивых лондонских постановок за последние годы. Опера имела огромный успех, хотя она не принадлежит к числу наиболее популярных произведений Пуччини. Пьеро досконально изучил период золотой лихорадки, и это помогло ему достичь большой достоверности в деталях: очень интересным оказалось включение в спектакль различных этнических групп, в действительности живших в то время, к которому отнесено действие оперы, и все это необычайно органично сочеталось с музыкой. Пьеро обладает удивительной способностью концентрироваться. Готовя какую-нибудь постановку, он ни о чем другом думать уже не способен, а поскольку Пьеро очень тщательно прорабатывает все детали, он не может одновременно работать над двумя спектаклями. Он полностью погружается в атмосферу оперы, долго занимается предварительной исследовательской работой. Готовясь к постановке «Бориса Годунова» для венецианского театра «Ла Фениче», Пьеро всю зиму провел в России, много путешествовал на поезде, фотографировал различные города и архитектурные памятники, необходимые ему при разработке проекта декораций. Ставя в «Ла Скала» «Тоску», он изучил тысячи листов с графическими материалами, рисунки костюмов, картины исторических мест города. Он всегда старается проникнуть в глубь каждого характера, чтобы понять до конца, почему данный персонаж ведет себя именно так. Я видел, как он блестяще «проигрывал» роли Хозе, Де Грие, Каварадосси, Отелло и многие другие. Постановки Пьеро всегда отличает красивая, отточенная пластика. На своей родине, в Италии, Пьеро не получил заслуженных славы и признания. Может быть, это произошло из-за очень сильной конкуренции, ведь в Италии работают такие мастера, как Джорджо Стрелер и Франко Дзеффирелли. Фаджиони достоин того, чтобы стоять в одном ряду с этими мастерами, и я уверен, что так оно и будет. Внутреннюю политику итальянских театров нельзя считать благоприятной для Фаджиони. Он очень бурно реагирует на любое проявление несправедливости со стороны администрации. Пьеро — человек бескомпромиссный, а это свойство характера зачастую приводит к сложным ситуациям, отнюдь не способствующим благополучию карьеры. Он отказался от постановки «Отелло» в Париже, потому что хотел сам выбрать художника-постановщика, а администрация навязала ему Йозефа Свободу. Я умолял его согласиться, говорил, что хочу работать именно с ним, но он не желал слушать никаких доводов. То же самое произошло, когда ему предложили поставить в «Метрополитен-опера» «Манон Леско». Джон Декстер пригласил художника, который не понял разработок Пьеро, и вот, вместо того чтобы постараться в спорах и обсуждениях найти истину, Пьеро наотрез отказался от постановки. Когда вместо Пьеро пригласили Джан Карло Менотти, тот сам выбрал художника. Думаю, Фаджиони, настаивай он на своем, тоже разрешили бы в конце концов найти художника по его вкусу. Я уверен, что если бы Пьеро чуть больше контролировал свои эмоции, он получал бы желаемые результаты, не идя ни на какие компромиссы. И тогда международная карьера Пьеро была бы столь же блестящей, как у многих его известных коллег. В Барселоне во время летнего сезона 1974/75 года я пел в «Сицилийской вечерне» и дирижировал «Доньей Франсискитой», одной из самых популярных и любимых в Испании сарсуэл. Представление «Франсискиты» было организовано специально в честь моих родителей — они пели в этом спектакле. Я волновался за них гораздо больше, чем за себя, но все прошло прекрасно, и для меня это был особенный вечер. Я всегда буду с благодарностью вспоминать Хуана Антонио Памиаса, покойного импресарио театра «Лисео», который организовал этот спектакль. В 1975 году в «Ковент-Гарден» осуществили новую постановку «Бала-маскарада», оказавшуюся весьма удачной. Кроме меня в ней приняли участие Катя Риччарелли, Элизабет Бейнбридж, Рери Грист, Пьеро Каппуччилли, дирижировал оперой Аббадо. Режиссером был Otto Шенк. Он любит определенную долю спонтанности в спектакле и ценит импровизаторские качества у актеров. Обрести подобное чувство раскрепощенности, свободы Шенку, вероятно, помогает его собственный незаурядный талант актера и мима. Шенк — добрый, прямодушный режиссер, он не любит пускать пыль в глаза. Если в опере есть небольшая танцевальная сцена, он постарается, чтобы ее исполнили хористы, а не будет занимать весь кордебалет. Если нужно поставить сцену фехтования, Шенк не станет вызывать для этого специалиста, а сам покажет певцам все движения. Спектакль получился замечательный, хотя мы, исполнители главных ролей, роптали, потратив три дня репетиций впустую. Все это время мы безучастно наблюдали, как Шенк обучал хор движениям менуэта. Тем не менее свое удовольствие мы получили. Во время репетиций Шенк любит брать в руки дирижерскую палочку и одну-две минуты руководить оркестром. Клаудио разрешил ему немного подирижировать в начале второй части первого действия, но заранее договорился с оркестрантами, что, когда Шенк покажет вступление, ни один из них не заиграет. Мне довелось испытать примерно те же чувства, что посетили, видимо, в тот момент Шенка, в день моего рождения: когда я открыл рот, чтобы начать баркаролу «Скажи, не грозит ли мне буря морская?..», все вдруг хором громко спели: «С днем рождения!» Из Лондона я отправился в Гамбург, где, помимо других дел, дирижировал «Трубадуром». В это время заболел Джузеппе Патане, который через два дня должен был провести «Аиду», оркестранты попросили, чтобы я заменил Патане. Мне пришлось за небольшой срок выучить довольно много музыки, я даже слушал разные, записи «Аиды» дома у моих друзей Ули и Лени Мэркле. За шесть дней я спел в четырех операх и продирижировал двумя другими. Это, конечно, слишком насыщенное расписание. Сегодня певцы уже привыкли регулярно слышать, в свой адрес два основных упрека: во-первых, мы слишком много поем, во-вторых, мы поем не те партии, которые должны петь. У меня дома в Барселоне есть книга о знаменитом испанском теноре Франсиско Виньясе (он был в творческом расцвете на рубеже веков), и там приведен полный перечень его партий. За один месяц он, например, двенадцать раз пел в «Парсифале»; за другой— выходил на сцену семнадцать раз, причем в таких «легковесных безделушках», как «Лоэнгрин», «Тангейзер», «Пророк», «Африканка» и «Аида». Кстати, за четыре дня три раза спеть в «Тангейзере» было для Виньяса довольно обычным делом. И Виньяс не являлся исключением из правил. Расписание Карузо было тоже достаточно плотным, и многие известные певцы, даже во времена, когда еще не изобрели самолет, пели гораздо больше, чем многие из нас поют нынче. «Да, но вы теперь зато гораздо больше путешествуете — и на какие расстояния!» — сетуют обычно те, кто забывает, что в 1983 году от Милана до Нью-Йорка добраться гораздо легче и быстрее, чем в 1903 попасть из Милана в Рим. Так, может быть, мы поем слишком мало? Я не встречал ни одного певца, который хотел бы раньше времени потерять голос. Ни один певец не станет рисковать, если здравый смысл подсказывает ему, что та или иная партия может повредить его голосу. Последнее время я обычно пою семьдесят пять спектаклей в год, то есть примерно один спектакль в пять дней. Десять лет назад я прекрасно чувствовал себя, если пел больше, и я пел больше. Меня просто бесят те люди, кто говорит или пишет, что я не умею отказываться от интересных предложений. Если бы я принимал все интересные предложения, то пел бы по три раза в день все триста шестьдесят пять дней в году. Я знаю, что сейчас пою лучше — и технически и образно,— чем пел десять, пятнадцать или двадцать лет назад, и я сам обязан быть главным критиком своей работы. Не сомневаюсь, что подавляющее большинство моих коллег согласилось бы со мной в этом вопросе. Критики нередко считают, что голос сорокапятилетнего певца звучит не так свежо, как он звучал в двадцать пять лет, поскольку голос «изнашивается». Но я точно знаю: даже если прекратить петь в двадцать пять лет и начать вновь в сорок пять, ту же свежесть голоса сохранить не удастся. Инструменталисты счастливее нас. Горовиц мог позволить себе отказаться от концертной деятельности в сорокалетнем возрасте и вернуться на эстраду, когда ему было за шестьдесят, находясь при этом в полном расцвете творческих сил. У певца, увы, так не получится при всем желании. Тем не менее, несмотря на неизбежный возрастной фактор, любого профессионального художника интереснее слушать, когда ему сорок пять лет, а не двадцать пять. Теперь остановимся на втором грехе, в котором нас обвиняют специалисты, считающие свое мнение непререкаемым: мы-де поем те партии, которые нам петь не следует. По этому поводу я должен рассказать короткую историю. Когда я решил спеть партию Отелло, многие говорили, что я рехнулся. Марио Дель Монако, говорили они, вот кто имел подходящий голос для этой партии, у меня же совсем другой голос. А двадцать лет назад Марио Дель Монако предостерегали от партии Отелло, потому что его голос не походил на голос Рамона Виная, который тогда исполнял партию Отелло во всех оперных театрах мира. Виная, конечно же, уверяли, что только тенор с таким «пробойным» голосом, как Джованни Мартинелли, имеет право петь эту партию. До этого бедному Мартинелли ставили в пример Антонена Трантуля, который пел Отелло в «Ла Скала» в двадцатые годы, а те, кто еще помнил самого первого Отелло, Франческо Таманьо, находили и Трантуля совершенно неподходящим для этой роли. Однако существует письмо, написанное Верди своему издателю, в котором композитор не слишком лестно отзывается об исполнении Таманьо партии Отелло. Ни один певец, заботящийся о своей репутации, не станет петь партию, с которой он не в состоянии справиться вокально и художественно. Миф, что мы слишком много поем, миф, что мы поем не те партии, миф, повествующий, что лучшие современные голоса хуже лучших голосов прошлого,— все это очень старые мифы. Думаю, критикам — официальным и неофициальным— пора найти новую тему для обсуждения. Если вам не нравится голос какого-нибудь певца, его актерские данные или интерпретация им той или иной роли, скажите это ему прямо и объясните почему. Но хватит уже повторять устаревшие «откровения», которые в подавляющем большинстве случаев не имеют под собой никакой почвы. При подготовке фонограммы к фильму «Мадам Баттерфляй» я впервые работал с Гербертом фон Караяном. До этого я встречался с ним на прослушивании в Зальцбурге, куда приезжал из Вены. Караян проводил осветительные репетиции для постановки «Валькирии» в «Гроссес фестшпильхаус», и я очутился на совершенно темной сцене. Какой-то таинственный голос обратился ко мне из неосвещенного зала, он произнес по-итальянски: «Доброе утро. Что вы споете?» «Арию с цветком из „Кармен"»,— ответил я. Это было единственное прослушивание в моей жизни, когда я совсем не видел лиц слушателей. Все это чем-то походило на спектакль. Когда я приехал в Вену записывать «Мадам Баттерфляй», то встретил Караяна после ужина в отеле «Империал». Он сказал мне: «Завтра в десять утра встретимся в студии, начнем репетировать, а потом, когда все отрепетируем, наверное около двенадцати, будем записывать». Я пришел в студию ровно в десять и сел на свое место. Вдруг, совершенно неожиданно, я увидел, как рядом с Караяном зажглась красная лампочка. Он начал дирижировать, и за пятьдесят пять минут мы записали первый акт. «Маэстро,— обратился я к Караяну,— я думал, мы будем репетировать». «Для настоящих музыкантов репетиция не обязательна»,— ответил он. Могу вас заверить, что мы составляли единое целое, сливались в каждой ноте. После обеда мы записали третий акт, на чем запись, собственно, и закончилась. Таким образом, моя первая совместная работа с Караяном промелькнула так быстро, будто ее вообще не было. Никогда до этого я не работал с таким крупным дирижером, как Караян, без предварительных фортепианных репетиций, да и не только без репетиций — он не сказал ни одного слова о партии. .Я благодарен ему за столь высокую оценку моих способностей. Затем меня пригласили участвовать в новой постановке «Дон Карлоса» в Зальцбурге летом 1975 года, где дирижером и постановщиком был Караян. Я многому мог научиться, работая под руководством Караяна. Последние годы он занимался всеми аспектами зальцбургских постановок. Он настаивал на том, чтобы все репетиции, начиная с самой первой, проходили не в репетиционном зале, а на сцене, причем в костюмах.. Это очень полезно для актера. Репетиции на сцене позволяют нам, исполнителям, с самого начала думать о развитии характера, а к костюмам мы привыкаем постепенно и, когда появляемся перед публикой, чувствуем себя в них совершенно естественно. Очень часто, даже в тщательно отрепетированных постановках, костюмы появляются лишь на двух последних репетициях. В результате мы ощущаем себя в них крайне скованно. Когда, скажем, я должен изображать бандита, который десять лет жил в лесу и питался ягодами и корешками, можете себе представить, как естественно я себя чувствую в отутюженном костюме из модного магазина. Если когда-нибудь у меня появится возможность осуществить свою мечту и организовать театр, может быть, даже со школой при нем, я тоже буду стремиться к тому, чтобы певцы репетировали в костюмах. Но вот одна особенность работы Караяна не слишком мне по душе: я имею в виду его привычку репетировать, используя предварительно записанную пленку этого же произведения. И певцы должны слушать эту пленку, вместо того чтобы петь самим вполголоса или в полный голос, под аккомпанемент фортепиано. Караян считает, что голос должен отдыхать во время сценических репетиций. Но мне кажется, такой метод работы вырабатывает у певцов плохие привычки, поскольку мы все время слышим одно и то же — тот же ритм, ту же фразировку, то же дыхание. Появляется ложное ощущение уверенности в себе. А ведь двух одинаковых спектаклей просто не бывает. Такой метод работы не дает нам возможности пропевать еще и еще раз коварные места, которые требуют особенно тщательной отработки. В результате во время самого важного репетиционного периода наша концепция роли не меняется, не детализируется. А на репетициях, скажем, «Дон Карлоса» я вообще слушал не собственную запись, а запись предыдущего спектакля, где пел другой тенор. Хотя, даже если используется твоя собственная запись, не очень-то приятно слушать себя бесконечно, сознавая, что кое-что тебе "удалось спеть хорошо, а кое-что и не получилось. С Караяном мы работаем за фортепиано очень мало, но зато весьма интересно. Сам он не играет. Нам обычно аккомпанирует кто-то из ассистентов. Караян бывает очень доволен, когда певцы идеально следуют всем пометам, которые есть в партитуре. Конечно, он понимает, что с оркестром у нас будет иной подход к динамике, но ему хочется с самого начала добиться идеального звучания. Караян знал о моем увлечении дирижированием. Во время одной из репетиций, когда я, обращаясь к партнерше, спел фразу: «Я отзвук слышу в них былого увлеченья...», широко раскинув в сторону руки, он остановил меня: «Пласидо, руки нужны только для дирижирования!» Его постановочные идеи в принципе были очень интересными. Иногда, может быть, он слегка перенасыщал действие игрой или, наоборот, делал его излишне статичным, но работа с ним всегда представляла огромный интерес. Премьера нашей постановки стала моим дебютом в Зальцбурге. Это произошло 11 августа, в спектакле участвовали Френи, Людвиг, Каппуччилли и Гяуров. Все пять представлений прошли с огромным успехом. В это же время я участвовал в исполнении вердиевского «Реквиема» с Венским филармоническим оркестром под руководством Караяна. Исполнение получилось истинно одухотворенным. Караян пригласил меня петь в «Дон Карлосе» и на следующий год, но я уже подписал контракт: летом 1976 года должен был состояться мой дебют в Японии. Я мог спеть четыре из шести спектаклей в Зальцбурге, расписание японских выступлений позволяло мне это. Я объяснил ситуацию Караяну, но он настаивал — либо все шесть спектаклей, либо ни одного. Я всегда старался исполнять свои обещания и отказывался от спектаклей только тогда, когда физически не мог петь. Меня очень огорчила сложившаяся ситуация, но ведь пел же я раньше без Караяна. Я понял, что должен сделать выбор и все его последствия лягут на мои же плечи. В 1976 году в «Дон Карлосе» пел Хосе Каррерас, он принял участие и в записи этой оперы. Каррерас выступал и в спектаклях 1977 года, но он не мог петь первый спектакль в этом сезоне. Караян пригласил меня, и я спел в одном спектакле. Некоторые певцы говорят: «Если меня пригласит Караян, я готов исполнить все что угодно». Я понимаю их, и они вправе поступать так, как им велит сердце. Но я всегда стремился следовать естественному ходу событий, в результате чего отнюдь не каждый раз мог принять диктуемые Караяном сроки. Не отрицаю: мне очень жаль, что я потерял некоторые возможности работы с Караяном, но для меня есть вещи более важные — я не могу не выполнять своих обязательств. Я восхищаюсь тем, как Караян организовал свою жизнь. Он разбил рабочее время так, что целиком концентрируется на той деятельности, которой занят в данный момент, будь то Зальцбургский фестиваль, или записи, или работа с Западноберлинским филармоническим оркестром. В последние годы Караян почти все свое время посвятил работе с оркестрами Западноберлинской и Венской филармоний, и музыканты этих коллективов так сроднились с ним, так хорошо изучили его методы работы, каждый его жест, что Караян на спектакле или концерте может закрыть глаза и дирижировать всем потоком музыки, не теряя уверенности, что оркестранты в совершенстве понимают его. Я целиком и полностью согласен с Караяном, когда он утверждает, что после девяти часов вечера музыкой заниматься нельзя. Я совершенно иначе пою в Зальцбурге, где спектакль начинается в шесть вечера, или в Вене, где мы начинаем в семь, по сравнению с теми городами, где представление начинается в восемь или в девять, не говоря уже о Барселоне, где привыкли начинать спектакль в десять или даже в половине одиннадцатого. Пусть в день выступления я ничего не делаю, отдыхаю и думаю только о своем голосе, к вечеру я уже устаю и от этого отдыха. В Зальцбурге я поздно встаю, неплотно завтракаю, распеваюсь, немного работаю, потом обедаю, час отдыхаю, иду в театр, гримируюсь и одеваюсь, а затем все свои силы отдаю спектаклю. Публика таких спектаклей тоже более восприимчива. А когда спектакль начинается между десятью и одиннадцатью вечера, слушателям приходится затрачивать колоссальные усилия, чтобы внимательно слушать музыку после активного двенадцати- или пятнадцатичасового дня. К тому же им некогда поужинать: либо они наскоро едят после работы, либо уже после спектакля в час или два ночи. Зрители бывают гораздо более бодрыми на спектакле, который начинается в шесть: они могут спокойно поужинать в девять или десять часов. Собственно, начинать спектакль раньше гораздо удобнее для всех, и Караян абсолютно прав в этом отношении, как и во многих других.
ВЕНЕЦИАНСКИЙ МАВР (1975-1981)
28 сентября 1975 года стал одним из важнейших дней в моей творческой судьбе. В тот вечер я впервые исполнил партию Отелло, это произошло в Гамбурге. «Отелло» — предпоследняя опера Верди, ее премьера состоялась в «Ла Скала» в 1887 году, и с тех пор она по праву считается одним из шедевров оперного театра. «Отелло» — волнующее и убедительное воплощение в опере великой трагедии Шекспира, а партия Мавра — наиболее сложная и напряженная теноровая партия традиционного оперного итальянского репертуара. Один только второй акт по нагрузке равен для тенора целой опере среднего размера. А в «Отелло», между прочим, есть еще три акта, которые тоже надо спеть. До того времени я отказывался от предложений выступить в «Отелло» и даже в 1975 году решился на это не сразу. Но инстинкт подсказал мне, что наступил подходящий момент, и я согласился. Август Эвердинг, который был тогда интендантом Гамбургской оперы, взял на себя функции постановщика. Мы долго обсуждали проект постановки и решили, что наиболее подходящим дирижером будет Джимми Ливайн. Для Ливайна это был дебют в континентальной Европе. Расписание своей работы я составил так, чтобы времени для репетиций «Отелло» было достаточно, и мы трудились над этой оперой примерно так же, как драматические актеры работают над постановкой пьесы. Во время сценических репетиций я часто пел в полный голос, чтобы «настроить» его соответствующим образом. Каждый день мы работали с десяти до часу и с пяти до восьми. Во время перерыва пили наливку из черной смородины с шампанским, поистине царский напиток, который мы окрестили «напитком Эвердинга». Я был счастлив, что готовлю «Отелло» с таким блестяще знающим театр человеком, как Эвердинг. Он помог мне войти в роль — сначала через трагедию Шекспира, потом через либретто Бойто и, наконец, через замысел самого композитора. Подробнее всего мы обсуждали временное пространство оперы. Бойто целиком выбросил первый акт трагедии, действие которого происходит в Венеции. Интрига, то есть тот способ, которым Яго постепенно вовлекает Отелло в злодеяние, разворачивается в трагедии Шекспира не так стремительно. Во втором акте оперы персонажи обмениваются лишь несколькими фразами, прежде чем Отелло взрывается: «Что ты задолбил // И повторяешь все за мной, как эхо?»* Мы решили как-то смягчить это зрительно, показать, что Отелло еще по-прежнему беспечен и только начинает волноваться. Решили связать воедино различные нити рассуждений Яго до слов Отелло: «Если ты мне друг, // Открой мне все». Отелло произносит эти слова таким тоном, как будто говорит: «Ну а теперь давай попросту вникнем в суть дела». И даже после реплики Яго: «Ревности остерегайтесь» — Отелло по-прежнему скорее рассуждает сам с собой, чем обращается к Яго, когда произносит:
Увижу что-нибудь, еще проверю, А выясню, до ревности ли тут? Тогда прощай любовь, прощай и ревность.
Короче говоря, мы старались, как только могли, оттянуть безумие Отелло, мы хотели, чтобы последовательность событий показалась не такой стремительной. Эвердинг решил, что в начале второго действия я должен появляться на сцене, держа в руках розу, яблоко и книгу,— создавалось впечатление, что я еще вспоминаю восторги прошедшей ночи, счастлив и готов начать дневной труд. Катя Риччарелли, семья которой происходит из Вене-то, оказалась удивительно достоверной Дездемоной. Ее бледное лицо, белокурые волосы и, конечно, прекрасный голос просто созданы для этой роли. Шерил Милнз достиг подлинной глубины в партии Яго. Основное внимание он тоже уделил ключевому второму акту.
* В тех случаях, когда автор цитирует «Отелло» У. Шекспира, цитаты даются в переводе Б. Пастернака (Шекспир У. Поли. собр. соч. в 8-ми томах, т. 6. М., Искусство, 1960).— Прим. перев.
Как-то мы с ним репетировали сцену, в которой Отелло говорит:
Мерзавец, помни, Ее позор ты должен доказать! Вещественно, мерзавец, помни это! А то, клянусь бессмертием души, Собакой лучше бы тебе родиться, Чем гневу моему давать ответ.
Я должен был схватить его за горло, и Шерил — а он, надо сказать, отнюдь не пушинка — весьма любезно помог мне протащить себя по сцене. В этот момент его сын, который был тогда еще маленьким, вошел в зал, где мы репетировали. Он расплакался и закричал: «Папочка, папочка!» Мы принялись уверять его, что все в порядке. «Не беспокойся,— сказал я,— твой папа сильный как вол и, если бы захотел, в два счета разделался бы со мной. Кроме того, он, знаешь ли, отыграется потом в опере». По замыслу Эвердинга и Пьера Луиджи Самаритани, художника спектакля, в первом акте Дездемона и Отелло исполняют свой дуэт на морском берегу. Мы с Катей стояли на песчаном побережье, дело происходило ночью, и во тьме нельзя было почти ничего различить, кроме наших белых одежд. Получилось очень красиво. В самом конце оперы, после того как я закалываюсь, у Эвердинга все покидали сцену. Кроме, разумеется, мертвой Дездемоны. Прозрачные декорации создавали эффект, будто наша постель и мы сами, снова одетые в белое, переносились в прошлое, на морской берег. Таким образом опять возникал «мотив поцелуя», так как декорации повторяли оформление первого действия, где этот мотив возникал впервые. Идея показалась мне просто блестящей, сцена получилась очень волнующей. Самаритани придумал удивительные декорации и для второго акта: он уменьшил размеры сцены и ограничил сводом пространство, в котором проходило действие,— вокально это было очень удобно и усиливало зрительное впечатление. Петь Отелло в возрасте тридцати четырех лет достаточно рискованно — партия могла неблагоприятно отразиться на моем голосе, на моем вокальном будущем, я шел против предостережений специалистов. Перед дебютом в «Отелло» я пел 14 сентября в Гамбурге последний спектакль («Богему»), который совпал с шестидесятипятилетием предыдущего директора оперного театра Рольфа Либермана. В тот вечер перед началом представления его чествовали в театре. Выступая с ответным словом, он взял на себя роль оракула: «Пожалуйста, внимательно слушайте сегодня Пласидо,— сказал он,— может быть, это будет его последняя „Богема"». Предостережение Рольфа, разумеется, было связано с «Отелло» — он намекал, что после этой оперы я останусь без голоса. Премьера «Отелло» потребовала от меня колоссального эмоционального напряжения. Все шло прекрасно, публика и пресса встретили спектакль с огромным энтузиазмом. В общей сложности мы дали пять спектаклей. Между вторым и третьим представлениями я еще спел в «Тоске» — мне хотелось проверить, как звучит мой голос после сложнейшей партии Отелло. Спектакль .«Тоски» шел 5 октября, в день святого Плакидия (по-испански — Пласидо). Крикнув: «Победа, победа!», я, как обычно, эффектно упал — и приземлился на собственный нос. Падение сопровождалось страшным грохотом. Около своего лица я заметил лужицу крови. Испытывая сильную боль, я все же довел спектакль до конца. После этого, правда, меня мучили опасения, что звучность голоса пострадает от травмы носа. К счастью, все обошлось благополучно, и мой сегодняшний нос мало отличается от прежнего. (Для сведения читателей: святой Плакидий был мучеником.) По странному совпадению на чикагском спектакле «Тоски» в 1982 году, я, в той же самой мизансцене, падая навзничь, разбил нос стоявшему позади меня статисту. Бедный малый оказался юристом, но его иск ограничился просьбой дать ему фотографию с автографом и приглашением поужинать вместе с ним и его женой. Пусть эта история послужит предостережением всем моим партнерам по будущим «Тоскам»: не подходите слишком близко, когда я собираюсь провозгласить: «Победа, победа!» Не повредив моей персоне ни в вокальном, ни в каком-нибудь ином отношении, «Отелло» постепенно раскрыл мне новый способ пения. Остальной репертуар стал для меня отныне гораздо более легким. Может быть, я просто обрел зрелость, может, и без «Отелло» сделал бы те же открытия? Сомневаюсь. Новая вокальная задача научила меня максимально использовать свои возможности, к тому же сложность музыкальных требований помогла мне как артисту. Правда, в течение нескольких лет после выступления в партии Отелло стоило мне чуть простудиться или допустить минимальную ошибку при исполнении, как тут же находился критик, который обвинял во всем бедного старину мавра. Однако постепенно подобные нападки прекратились. К марту 1983 года я исполнил партию Отелло восемьдесят два раза, и стало очевидно, что если бы Отелло погубил мой голос, то это уже давно проявилось бы. Через несколько месяцев после гамбургской премьеры Либерман позвонил мне, чтобы спросить, буду ли я петь «Богему» в следующем сезоне в Париже. «Разве это возможно? — спросил я.— Вы же говорили, что Пласидо больше никогда не сможет петь в „Богеме"». «Я просто волновался за вас, друг мой»,— ответил он, слегка запинаясь. К счастью, его опасения оказались напрасны. Остальные месяцы 1975 года прошли спокойно. Помню, на двух представлениях «Паяцев» в Барселоне в январе 1976 года я пел не только партию Канио, но и Пролог Тонио, поскольку наш баритон заболел. Спектакли прошли успешно. В марте в «Метрополитен-опера» вместе с Леонтин Прайс, Мерилин Хорн, Корнеллом Макнейлом и Бональдо Джайотти я принял участие в постановке «Аиды». Дирижером был Ливайн, а режиссером — Декстер. Для певцов постановка оказалась достаточно сложной, в основном из-за того, что всю сцену затянули огромным количеством ковров и разнообразных тканей, которые поглощали звук наших голосов. В конце месяца я отправился в Западный Берлин, чтобы записать на пластинку партию Вальтера фон Штольцинга в «Нюрнбергских мейстерзингерах» — опере, которую я никогда не пел на сцене. Я не хотел участвовать в этом предприятии, но друзья, Ули Мэркле и Гюнтер Брест, представители компании «Дойче граммофон», уговорили меня. Получилось неплохо, но, должен признаться, мое немецкое произношение сильно меня смущает. Иногда в присутствии Ули и Гюнтера я оттачивал свой немецкий, обращаясь к горничной в отеле с фразой из «Мейстерзингеров»: «Знать бы хотел я, должен спросить вас...» — как будто это была фраза из разговорника. Дирижером в этой записи выступил Ойген Иохум, а среди исполнителей были Дитрих Фишер-Дискау, Катарина Лигендца и Криста Людвиг. Профессионализм Йохума в исполнении немецкого репертуара хорошо известен. На меня произвела очень сильное впечатление его тонкая интерпретация музыки«Мейстерзингеров». Весной Илеана Котрубас, Шерил Милнз и я начали записывать «Травиату» под руководством Карлоса Клайбера, с которым я работал впервые. Записи проходили в той самой мюнхенской пивной, где когда-то в Гитлера бросили бомбу. С Карлосом иногда бывает довольно трудно работать. На сей раз ему не понравилось, как размещен оркестр. На разные хлопоты ушло много времени, в результате запись была закончена через год. Карлос вообще хотел все бросить, как он часто поступает в подобных случаях, и мы долго уговаривали его не отступать от начатого. Но как только мы начали серьезно работать, он мгновенно исполнился решимости довести запись до конца. В этот мюнхенский период работы я участвовал также в новой постановке «Тоски» с режиссером Гётцем Фридрихом. Вне всякого сомнения, он принадлежит к наиболее крупным режиссерам современности. Я много раз исполнял роль Каварадосси, но идеи Гётца существенно изменили интерпретацию этого образа. Каварадосси часто трактуют как красивого художника, вовлеченного в бурные исторические события и затем уничтоженного ими. Он как бы противопоставлен Тоске, по-настоящему сильной личности с недюжинным характером и мощной волей. Конечно, у Тоски хватает смелости убить Скарпиа и попытаться спасти возлюбленного, но, по существу, она лишь взбалмошная женщина, примадонна, а вот Каварадосси как раз и обладает по-настоящему сильным характером, именно поэтому он и становится участником серьезных политических дел. Гётц говорил мне, что, хотя ария «Божественная гармония» и сама по себе достаточно глубока по содержанию, я должен петь ее еще и с предчувствием скорой гибели. Беседа с Анджелотти усиливает ощущение надвигающейся беды, и следующую сцену с Тоской не следует играть слишком легко и поверхностно. В первом действии в теноровой партии должны звучать беспокойство, отчаяние, решимость. Надо дать почувствовать, что Каварадосси восхищается Анджелотти, свободно мыслящим человеком, вольтерьянцем и радикалом. Более того, Каварадосси. смотрит на Анджелотти как бы снизу вверх. Хотя партия Анджелотти второстепенная и петь в ней почти нечего, тенор должен помнить, что эта небольшая басовая партия и есть тот механизм, который приводит в действие всю систему интриги в опере. Как и Otto Шенк в своей постановке «Тоски» в «Метрополитен-опера» за несколько лет до этого, Фридрих подчеркивал авторитарные аспекты сюжета: Скарпиа, Сполетта, стража — все они были «главарями», ужасными, страшными прототипами эсэсовцев. Одаренный испанский дирижер Хесус Лопес-Кобос, дирижировавший этими спектаклями «Тоски», провел огромную работу с оригинальной партитурой оперы. Вначале некоторые обнаруженные им искажения партитуры нас просто потрясли, но многое разъяснилось, когда мы внимательно вникли в их смысл. Например, в печатной версии оперы после слов Тоски: «О, как хорошо тебе известно искусство заставлять других любить себя»* — Каварадосси не отвечает ей. Это означает, что он не хочет парировать удар, сознательно дает ей возможность обвинить возлюбленного в использовании его собственных чар. В пуччиниевской же рукописи Каварадосси отвечает Тоске: «Это не искусство, это любовь». Во втором акте, в том месте, где Тоска поет: «А ведь пред ним дрожал весь Рим недавно», Лопес-Кобос обнаружил, что в партии Тоски стоит ре, а не до-диез. Были найдены и другие разночтения, в частности в нотах хора первого акта «Те Deum». Большую часть июня я провел в Париже, репетируя в новой постановке «Отелло». Дирижировал Шолти, а моими партнерами выступили Маргарет Прайс и Габриэль Бакье. Ставить спектакль должен был Декстер, но он почему-то отказался. После этого пригласили Пьеро Фаджиони, но, как я уже рассказывал, ему не понравилось, что с ним не согласовали кандидатуру художника. Он тоже выбыл из игры. Наконец был приглашен Терри Хэндз из Шекспировского Королевского театра. Постановка получилась великолепной. Хэндз не привык работать с хором, но стилистически точные декорации Свободы помогли ему избежать многих проблем, которые, возможно, возникли бы, будь на сцене другое оформление. Например, в первом акте, когда толпа наблюдает за битвой и ждет появления Отелло, хор стоял в отдельных отсеках, размещенных на различных уровнях на одной гигантских размеров стене — высотой примерно в четыре этажа.
* Перевод дословный.— Прим. перев.
Впечатление создавалось очень сильное. В конце большого ансамбля третьего акта, когда Отелло кричит, требуя, чтобы все оставили его, Хэндз велел солдатам окружить своего военачальника копьями — с одной стороны, они как бы защищали его, с другой стороны, возникал зрительный образ животного, попавшего в клетку. Это придавало особое значение словам Отелло: «Я не могу убежать от самого себя»*. В дуэте третьего акта Хэндз поместил Дездемону и Отелло очень близко друг к другу,— это были любящие люди, которые не могут противиться желанию находиться рядом, прикасаться друг к другу даже в такой ужасной ситуации. Есть теория, согласно которой Яго, alfiere (по-итальянски знаменосец) Отелло, любит своего господина, и весь затеваемый им заговор коренится в его ревности по отношению к Дездемоне. Я не думаю, что этой теории надо придавать слишком большое значение. Но, с другой стороны, совершенно ясно, что в тот период alfiere был своего рода слугой для военачальника. Он всюду сопровождал его, помогал ему одеваться и, возможно, даже спал с ним в одной комнате. Таким образом, Дездемона как бы присваивает себе некоторые из обязанностей Яго, и понятно, что ревность становится дополнительным двигателем его действий, вместе с уязвленным самолюбием, презрением ко всему человечеству и многими другими отрицательными чертами. В конце третьего акта Отелло теряет сознание после приступа ярости — Терри Хэндз просил Бакье, достигавшего больших высот в исполнении Яго, отказаться от какой бы то ни было насмешки над Отелло во фразе: «Вот лев ваш грозный!» Бакье склонялся надо мной и почти с жалостью обнимал, как бы говоря: «Очень нехорошо, что мне приходится добивать этого человека, но самолюбие мое сильнее жалости». Декорации, расположенные на нескольких уровнях, позволили Хэндзу внести новшество и в решение последнего акта. Во время песни об иве Дездемона вдруг замирает и говорит Эмилии: «Послушай, кто-то плачет»**. Эмилия отвечает: «Нет, это ветер». Так вот, когда Дездемона произносила свои слова, я в слезах появлялся на одном из верхних уровней декораций, оставаясь невидимым для обеих женщин. Это лишь одна из многих деталей, которые сделали постановку Хэндза столь впечатляющей.
* Перевод дословный.— Прим. перев. ** Перевод дословный.— Прим. перев.
В сентябре 1976 года мне пришлось, пожалуй, слишком много путешествовать: вначале я был в Токио, где состоялся мой двойной дебют — в «Сельской чести» и «Паяцах»; затем в Испании, в Эльде, где я принял участие в одном спектакле «Богемы»; потом я полетел в Чикаго, где пел в новой постановке «Сказок Гофмана», и, наконец, очутился в Риме, где режиссер Джанфранко Де Бозио снимал фильм «Тоска». Дирижировал Бруно Бартолетти, Тоску пела Райна Кабайванска, Скарпиа — Шерил Милнз. Пласи, оперный дебют которого в девятилетнем возрасте состоялся в прошлом году (он спел пастушка в «Тоске»), и на сей раз выступил в той же роли, поэтому фильм мне особенно дорог. Мне понравилось, что съемки велись прямо на месте событий, в церкви Сант-Андреа делла Балле и в замке святого Ангела. Однако нам не позволили снимать во дворце Фарнезе, потому что там помещается резиденция французского посольства. До сих пор помню, что съемки дуэта Тоски и Каварадосси в первом акте заняли подряд девятнадцать часов. Мы работали от полудня одного дня до семи утра следующего. Через несколько недель в Сан-Франциско я пел в «Паяцах», замечательно поставленных Поннелем, и в «Сельской чести», которая не слишком удалась ему. «Паяцы» Поннель несколько осовременил. Например, труппа комедиантов появлялась на сцене в повозке, которую тащили не лошади, а Тонио. (Дзеффирелли в своей постановке «Паяцев» в «Ла Скала» в 1981 году тоже использовал повозку, но в Милане ее тянул я.) В спектакле Жан-Пьера особенно интересно был поставлен эпизод «театра в театре». «Публика», которая смотрела комедию, сидела на сцене сзади, лицом к реальной публике в зале. Поэтому мы, артисты бродячей труппы, играли частично спиной к настоящему зрительному залу и реальная публика видела то, что происходило сзади, как бы за кулисами театра комедиантов. Нам, исполнителям, было очень трудно, ведь мы пытались создать иллюзию, что играем для публики, сидящей на сцене, в то время как на самом деле играли для реальных зрителей. Было видно, как Тонио (Ингвар Викселл) суфлирует Недде (Ноэль Роджерс) и Беппе (Джозеф Франк), поющим дуэт, и как Беппе суфлирует Недде и Тонио во время их дуэта. Мизансцены были очень усложнены, однако то, что слушатели видели закулисную жизнь героев, обмен жестами и репликами между членами бродячей труппы, создавало очень сильное дополнительное впечатление. Конечно, трудно петь свою арию и для реальной, и для сидящей на сцене публики, но результаты безусловно оправдали затраченные усилия. «Сельскую честь» Жан-Пьер попытался поставить в духе греческой трагедии, но, по-моему, несколько переусердствовал. Сантуцца (Татьяна Троянос) появлялась на сцене буквально на сносях и не покидала подмостки на протяжении всей оперы. Альфио в своих темных очках сильно походил на мафиозо. Религиозная процессия превратилась в парад фанатиков: артисты хлестали себя бичами, разбитыми бутылками наносили себе раны. Жан-Пьер не предлагал мне ничего особо эксцентричного, но все равно во время исполнения арии «Останется одна...» и других реплик, прямо касающихся Сантуццы, я испытывал крайнюю неловкость, потому что Сантуцца находилась тут же, неподалеку. Декорации были какие-то блеклые, все костюмы очень темные. Постановка показалась мне в корне неверной, какой-то пережатой, утрированной. Открытие в «Ла Скала» сезона 1976/77 года постановкой «Отелло» по ряду причин явилось для меня большим событием. Во-первых, первый спектакль «Отелло» состоялся в «Ла Скала» примерно девяносто лет назад. Я всегда чувствовал особую ответственность, выступая в «Ла Скала», хотя, может быть, для этого и не было причин. Кроме того, я впервые работал с Карлосом Клайбером (если не считать совместных записей), это было первое совместное предприятие Клайбера и Дзеффирелли и первая прямая телевизионная трансляция оперы из «Ла Скала». Мирелла Френи пела Дездемону, а в партии Яго выступил Пьеро Каппуччилли. (Пьеро известен в музыкальном мире безукоризненным контролем над дыханием, что позволяет ему добиваться ровной, плавной вокальной линии.) Могу признаться, что в основном моя интерпретация образа Отелло связана с уроками Франко Дзеффирелли — может быть, вернее было бы сказать: с уроками сэра Лоренса Оливье, поскольку Франко в своей трактовке явно опирался на достижения Оливье в роли Отелло. В Гамбурге и Париже я подчеркивал мавританский, североафриканский аспект характера, а в Милане мой Отелло стал черным, отчужденным от общества белых, среди которых он должен существовать. На одной из сценических репетиций второго акта Франко играл роль Яго, а я — Отелло. Все, кто присутствовал на репетиции, были потрясены простотой и глубиной его интерпретации. Франко играл Яго как добропорядочного человека, и это оказалось весьма существенным для создания убедительного образа. Если сразу рисовать образ Яго черными красками, то кто же поверит, что Отелло попал в расставленные им сети? В постановке Дзеффирелли все второе действие и Отелло, и Яго заняты светскими разговорами и различными посторонними вещами. Думаю, интуиция режиссера в данном случае вела его по правильному пути. Чем меньше Отелло смотрит Яго в глаза, тем меньше он замечает игру Яго, тем легче попадает в ловушку. Отелло должен не видеть второго плана, подтекста в этой сцене, а если бы герои серьезно беседовали, глядя друг другу в глаза, никто бы не поверил, что Отелло не понимает уловок Яго. У Эвердинга рождались сходные идеи, однако Караян в постановке «Отелло» в венской «Штаатсопер» воспользовался только фонтаном, расположенным в центре сцены. Поскольку в подобной ситуации мне было довольно трудно вести диалог убедительно, мы в конце концов решили, что я всю эту сцену проведу с раскрытой книгой в руке, чтобы чтение отвлекало мое внимание от гнусных инсинуаций Яго. Для монолога Отелло в третьем действии Франко нашел точную позу: я стоял на коленях и медленно поворачивал голову и торс с выражением муки и мольбы. С одной стороны, это было похоже на движение молящегося человека, с другой стороны, возникала ассоциация с раненым животным. Сцена получилась весьма впечатляющей. Франко также просил меня, чтобы я как можно более наивно реагировал на некоторые слова Яго. Например, когда Яго говорит: «Зачем яд? Лучше задушите ее в постели, которую она осквернила», Отелло отвечает: «Хорошо. Хорошо. Знаешь, это справедливая мысль. Это мне нравится». Обычно этот ответ произносится как восклицание, с силой. Франко предложил мне спеть эту фразу не с яростью, а скорее жалобно. Он хотел, чтобы я был похож на ребенка, который принимает на веру все сказанное ему, как бы отвечая: «Да, ты прав, в конце концов, почему не поступить именно так?» Отелло, который некогда был великим военачальником, настолько потерян, что готов последовать любому совету Яго, будто каждое слово Яго — истина для него. В этом месте Отелло должен вызывать наибольшее сострадание. Все мы — Марта, дети и я — очень привязались к Франко во время работы над «Отелло». Мы часто вместе собирались за столом, а иногда Франко даже сам готовил обед. Он потрясающий кулинар! Мы были очень тронуты, когда он показал нам дома, еще до официальной премьеры, свой фильм «Иисус из Назарета». О Карлосе Клайбере, который был дирижером в «Отелло», я готов говорить часами. Его многообразные дарования, феноменальная музыкальность, драматическое чутье, способность к анализу, техничность, умение по-разному раскрыть себя ставят его в ряд величайших дирижеров современности. Когда я работаю с Карлосом, то ощущаю, что он точно чувствует каждую фразу, понимает каждую мелочь в оркестровом колорите, каким-то непостижимым образом знает, почему композитор написал именно эту ноту. Карлос тщательно шлифует каждую деталь, однако эта тщательность коренится в увлеченности, а не в педантизме. Когда он показывает струнным какой-нибудь штрих, это вовсе не связано с технической стороной игры, а только с музыкальной — он стремится достичь строго намеченной музыкальной цели. Невероятно серьезное отношение Клайбера к работе усложняет его карьеру. Он работает лишь в определенных театрах и с определенными оркестрами, с определенными людьми и в определенных условиях. Я не думаю, что он творчески обкрадывает себя в результате тех ограничений, которые сам наложил на свою профессиональную жизнь, но именно из-за них публика встречается с ним достаточно редко. Даже сейчас нередки музыканты, особенно в Америке, где он практически не работал, которые при упоминании его имени удивленно спрашивают: «А кто это?» Некоторые художники страдают от сверхпопулярности, но в случае с Карлосом мы видим обратное — его популярность гораздо ниже его артистического уровня. Страдает от этого прежде всего публика. Поскольку я не только певец, но и музыкант, я люблю работать с Карлосом. Но есть певцы, обычно со слабо выраженными музыкантскими качествами, которые боятся Карлоса до смерти. А некоторых он прогоняет сам. Если уж ты с ним работаешь, то нужно не только глубоко продумывать собственную партию, но и уметь на лету понимать и принимать его собственные блистательные прозрения. Если певец, с одной стороны, не готов к роли, а с другой — не способен ассимилировать идеи Карлоса, результат может оказаться самым плачевным. Не потому, что Карлос жёсток или груб. Наоборот, у него великолепное чувство юмора, он человек воспитанный, очень внимательный по отношению к другим. Но его целеустремленность музыканта так велика, что иногда может показаться, будто он истерик. Когда Карлос не достигает того, что хотя бы в малой степени соответствует его идеалу, он впадает в состояние тяжелой депрессии, и это настроение передается его коллегам. Карлос страдает, когда его не понимают. Наверное, мои слова покажутся странными, но я чувствую — многие проблемы возникают только из-за того, что Карлос не отдает себе отчета, сколь невероятно он одарен. Его охватывает скорее отчаяние, чем гнев, когда что-то не получается. Вместо того чтобы добиться от оркестрантов нужных ему нюансов, Карлос предпочитает, бродя за кулисами, бормотать: «Мне надо бросить дирижирование. Я просто не могу точно объяснить, чего хочу от них». Полный сомнений в отношении самого себя, Карлос не хочет верить, что его способ интерпретирования музыки находится на самом высоком уровне. Все внешние проявления сложной психической структуры: трудные взаимоотношения с некоторыми артистами, уходы с репетиций, расторжение контрактов — связаны не с капризами Клайбера, а с его недовольством самим собой. Проявлением же внутренней сложности его натуры является величие, крупномасштабность музыкального видения. Иногда он бывает до такой степени поглощен работой, что становится неблагодарным, не видит, как мы выкладываемся, как стараемся, чтобы все в точности соответствовало его требованиям. В такие моменты, естественно, в наших отношениях возникает определенное напряжение. Музыкальные стандарты в оперном мире хотя и стали выше, чем раньше, все же не столь высоки, как в мире симфонической музыки. Если бы Клайбер посвящал больше времени исполнению симфонической музыки, он бы имел возможность реализовать свой дар полнее. Стань Клайбер постоянным дирижером какого-нибудь большого оркестра, он мог бы сделать из этого коллектива величайший в истории оркестр. Конечно, он способен довести музыкантов до сумасшествия во время репетиций, но думаю, работа с таким дирижером настолько поучительна и интересна, что любые музыканты в конце концов приняли бы его. С другой стороны, я надеюсь, что и в дальнейшем буду много работать с ним в театре. Клайбер очень приятный в общении человек. Когда мы с Мартой ужинаем в его обществе, то готовы сидеть за столом часами, болтая на самые разнообразные темы. В частности, мы обнаружили, что у нас в детстве была одна и та же любимая песня (у меня в Испании, а у него в Аргентине), очень милая песенка, которая начинается так: «Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera»* (прямо скажем, мелодия в этой песне лучше, чем текст). Как и Клаудио Аббадо, Карлос порядочный обжора. Клаудио любит пробовать новые, неизвестные блюда, а Карлос способен съесть все что угодно, оставаясь при этом худым, как тростинка. Он ведет замкнутый образ жизни, предпочитает подолгу оставаться в одиночестве. Больше всего Карлос ненавидит долгосрочные контракты. Если импресарио оперного театра спросит его сейчас, в 1983 году, сможет ли он продирижировать какой-нибудь оперой в 1986 году, он пробурчит: «Нет, я не могу загадывать так далеко вперед». Но если тот же самый импресарио предложит ему провести какой-нибудь спектакль на следующий день, вполне возможно, что он будет в подходящей форме и проведет блестящий спектакль. Активный репертуар Клайбера не очень велик, но я уверен, что он сможет продирижировать любым произведением и его концепция при этом будет всегда интересной.
* «У меня есть корова, это не какая-нибудь старая буренка» (исп.).
В 1981 году, вскоре после смерти Карла Бёма, в Мюнхене состоялся концерт, посвященный его памяти. Клайбер в тот вечер продирижировал второй частью «Неоконченной симфонии» Шуберта. Мощное звучание оркестра, идеальный звуковой баланс произвели огромное впечатление на всех присутствовавших. Даже физические данные Карлоса очень подходят для дирижерской профессии: он высокий, стройный, с длинными руками. А какая у него техника! Независимость правой и левой рук, тонкость нюансировки, особая манера давать ауфтакт там, где обычно оркестр замедляет или ускоряет темп... Однажды он признался мне, что в некоторых музыкальных отрывках на 3/4 и в медленных вальсовых эпизодах, когда оркестр расслабляется, он намеренно слегка выделяет третью долю, чтобы усилить внимание музыкантов. Он чувствует, понимает, знает все, что касается дирижирования и музицирования в целом. Я уже спел с ним двадцать пять представлений «Отелло», и каждый раз, когда оперой дирижирует Клайбер, в оркестровой яме происходит чудо. Возникает впечатление, будто Клайбер играет на каждом инструменте. Он создает атмосферу спектакля; он проживает каждую роль; он — импрессионист, который каким-то волшебным образом умеет показать любой оттенок цвета. Премьера «Отелло» в «Ла Скала» проходила в напряженной обстановке. Перед театром была бурная демонстрация, которую проводила молодежь, протестуя против использования общественных денег на элитарные формы развлечения. Мне, правда, показалось странным, что демонстрация эта проходила именно тогда, когда генеральный директор «Ла Скала» Паоло Грасси, блестящий человек с сорокалетним опытом театральной работы, делал все, что было в его силах, дабы открыть театр широкой публике; когда в «Ла Скала» ежегодно продавалось до ста тысяч билетов по очень низким ценам для молодежи, студентов, членов профсоюзов; когда телевидение наконец начало транслировать некоторые лучшие постановки, и их смогли увидеть миллионы зрителей по всей стране. Но несмотря на все это, именно тогда и происходили волнения. Центр Милана был закрыт для движения, и мы, исполнители, добирались до театра в сопровождении полицейского эскорта. Тем не менее в тот вечер успех был колоссальный, а следующие спектакли шли уже в спокойной обстановке. На следующий год Грасси покинул «Ла Скала» и стал президентом РАИ — итальянской национальной корпорации радио и телевидения. Он умер в 1981 году, не дожив до старости. Дзеффирелли руководил телевизионной трансляцией премьеры. Кое-кто критиковал его за то, что он показывал Клайбера В оркестровой яме. Для нас, исполнителей на сцене, Карлос был участником драмы, и думаю, Дзеффирелли поступил абсолютно правильно, снимая Карлоса. Меня нисколько не обидело, когда во время монолога Отелло я увидел на экране Карлоса. Наоборот, его зримое присутствие для меня лично — «гвоздь» всего спектакля. Почему Франко должен был лишить будущих зрителей удовольствия видеть то, что происходит в оркестровой яме? В больших оперных театрах в кулисах есть мониторы, которые показывают дирижера по внутреннему телевидению. Поскольку звук из оркестровой ямы также транслируется за кулисами, я бы хотел когда-нибудь сделать собственную видеозапись Карлоса, дирижирующего «Отелло». Это был бы бесценный документ. В 1977 году я участвовал во многих постановках. Но особенно мне запомнились две из них. Первая — «Кармен» на Эдинбургском фестивале. Клаудио Аббадо дирижировал Лондонским симфоническим оркестром, режиссером спектакля был Пьеро Фаджиони, художником— Эджио Фриджерио; главную партию исполняла Тереса Берганса, Микаэлу пела Мирелла Френи, Эскамильо — Том Краузе. Слава Клаудио как оперного дирижера основана прежде всего на его интерпретациях опер Верди, но я лично испытал наибольшее удовлетворение от сотрудничества с Аббадо именно в «Кармен». Ему удалось очень точно схватить все элементы партитуры Бизе — легкость, жгучий темперамент, чувственность. Свое тончайшее понимание партитуры Аббадо передал удивительно чуткому оркестру и нам, певцам. В результате возникла по-настоящему интересная, значительная интерпретация этого классического произведения. Я рад, что существует запись нашего спектакля. Тереса в партии Кармен пленила меня. Певицы поступают разумно, не обращаясь к драматическим партиям слишком рано, но иногда случается и обратное: можно спеть их слишком поздно. Годы летят быстро; для меццо-сопрано, которая хочет спеть когда-нибудь партию Кармен, опасно петь только Моцарта и Россини: голос не будет развиваться в нужном направлении. Я всегда спрашивал себя, почему Тереса не поет Кармен? Особенно это удивляло тех, кто слышал на концертах ошеломляющее исполнение певицей испанской музыки. Всеобщие ожидания сбылись: ее трактовка партии Кармен оказалась великолепной. Когда Питер Дайаманд, который был в то время художественным руководителем Эдинбургского фестиваля, пригласил меня принять участие в постановке «Кармен», я предложил привлечь в качестве режиссера Фаджиони. Тереса, не знавшая работ Пьеро, вначале удивилась этому выбору. Но вскоре она вполне оценила Пьеро и восхищалась его работой. Фаджиони и Фриджерио в тесном сотрудничестве создали декорации в стиле Гойи. Пьеро обратился к новелле «Кармен» Проспера Мериме, которая легла в основу либретто,— в ней рассказ ведется от лица Хозе, находящегося в тюрьме. Во время вступления к каждому действию Хозе показывают в камере, он словно вспоминает события, которые привели его в тюрьму. Почти столь же важным для меня, как спектакли «Кармен» (добавлю, что второй из них оказался моим сотым выступлением в партии Хозе), был футбольный матч, в котором оркестранты Лондонского симфонического оркестра выступили против актеров, занятых в спектакле. Аббадо (весьма рьяный спортсмен), Фаджиони, Краузе, мой сын Пепе и я играли в команде актеров. Мы выиграли со счетом 4:3! Пласи тоже уже вырос настолько, что ему разрешили несколько минут поиграть. Состоялся и второй матч — Лондонский симфонический оркестр против Шотландского оркестра. Но я знал о скверной репутации шотландцев, которые обычно грубо ведут себя на поле, и благоразумно отказался принять участие в этом матче, чтобы потом не пожалеть о легкомысленном поступке. Я выступил в роли судьи, Клаудио на сей раз играл за Лондонский оркестр. Он так молод, полон сил, что никому и в голову не могло прийти, что в 1983 году ему исполняется пятьдесят. Он выглядит моложе любого из нас. Марта, мальчики и я очень привязаны к Клаудио и к его жене Габриэлле, от общения с ними мы всегда получаем большое удовольствие. Вторая из важнейших для меня постановок того года, «Вертер» Массне, состоялась в Мюнхене в декабре. Я впервые спел заглавную партию в опере, которую очень люблю. Декорации были в высшей степени впечатляющими, постановка Курта Хорреса замечательной, как и дирижерская работа Лопеса-Кобоса. Шарлотту великолепно пела и играла Бригитте Фассбендер, спектакли шли с большим успехом. Примерно через год я участвовал в записи этой оперы (с другим составом исполнителей) в студии Байер-Леверкузен под Кёльном. Там производится знаменитый «аспирин Байера». Во время записей мне пришла в голову идиотская мысль: было бы лучше, если бы бедный Вертер решал свои проблемы при помощи аспирина, а не столь решительным способом... 1977 год стал для меня годом насыщенной, активной работы. Кроме того, в 1977 году я впервые вручал две премии, теперь они стали ежегодными, на конкурсе имени Франсиско Виньяса в Барселоне. Одна присуждается лучшему тенору, независимо от страны, которую он представляет, другая — лучшему испанскому певцу. В тот год расписание выступлений позволило мне вручить эти премии собственноручно, происходило это на сцене театра «Лисео». С другой стороны, 1977 год оказался тяжелым, печальным годом, так как из жизни преждевременно ушли трое моих друзей. Скончался Кальвин Джонсон, о котором я говорил раньше. Умер Альфредо Матилла из оперной труппы в столице Пуэрто-Рико. Альфредо сделали операцию на сердце, и он, казалось, чувствовал себя хорошо, но, когда в июне в Мадриде он пришел за кулисы поздравить меня после концерта, я заметил, что Альфредо выглядит совсем больным. В тот день в Мадриде было очень жарко, поздно вечером его увезли в больницу. Умер он в июле. К счастью, в Сан-Хуане его заменил Гильермо Мартинес, который стал моим лучшим другом. (Уже при нем я спел в «Андре Шенье» — постановку запланировал еще Матилла; потом я выступил в Сан-Хуане в «Паяцах» и «Кармен» и принял участие в концерте вместе с Ренатой Скотто.) Через четыре месяца после смерти Альфредо безвременно скончался Мануэль Агилар, который был инициатором моего прослушивания в Мексиканской опере в 1959 году. Одобрение и поддержка Агилара оказались весьма важными в начале моей карьеры. Одна из самых крепких нитей, связывавших меня с Мексикой, оборвалась. В самом начале 1978 года я отправился в Милан, чтобы участвовать в «Дон Карлосе», который транслировали по телевидению из «Ла Скала». В спектакле были заняты Маргарет Прайс, Елена Образцова, Ренато Брузон и Евгений Нестеренко. Дирижировал Аббадо, постановку осуществил Лука Ронкони. Мой ангажемент явился результатом тяжбы между «Ла Скала» и РАИ, с одной стороны, и фирмой «Унитель» и Караяном — с другой. Дело в том, что месяц назад очередной сезон в «Ла Скала» открылся «Дон Карлосом», где в главных ролях были заняты Френи, Каррерас, Каппуччилли и Гяуров. В то же время они подписали контракт на участие в телеэкранизации спектакля под руководством Караяна. Караян и «Унитель» не разрешали им петь в другом телепоказе. Взаимные обвинения в этой истории были совершенно дикими, однако в результате состав исполнителей пришлось заменить для того единственного спектакля, который транслировали по телевидению. Вскоре я поехал в Париж для записи «Осуждения Фауста» Берлиоза — оратории, которую я никогда не исполнял на сцене; дирижировал Даниель Баренбойм. Мы с Баренбоймом обедали у Рубинштейна в его парижской квартире, примерно за неделю до того, как великому пианисту исполнилось девяносто лет. В основном мы беседовали о музыке, женщинах и сигарах. Дэнни и Рубинштейн курили сигары «Монте-Кристо» — чтобы получить максимум удовольствия, каждую надо курить, смакуя, не меньше трех часов. (Я не курю, но воочию убедился в наслаждении, испытываемом моими коллегами.) Через несколько недель мы с Ренатой Скотто записали альбом дуэтов под руководством Курта Герберта Адлера. Во время записи у нас было слишком много репетиций, кроме того, мы отчаянно мерзли, и это не прошло даром: у меня начались серьезные вокальные трудности. Наступил, пожалуй, худший период, если не считать эпизода десятилетней давности, связанного с исполнением партии Лоэнгрина. Вначале я не отменял своих выступлений и спел пять спектаклей «Отелло» в Мюнхене с Френи и Каппуччилли под руководством Клайбера. Вспоминаю это как сплошной кошмар. Мне следовало отменить спектакли, а я не мог решиться, между тем дела шли все хуже. В апреле, когда я пел в Мадриде «Манон Леско», Караян прислал телеграмму с просьбой выручить его. Он дирижировал в Вене «Трубадуром», один из спектаклей должны были показывать по телевидению на весь мир. С тенором что-то произошло, и представители фирмы «Унитель» приехали за мной. Они собирались отправить меня из Мадрида в Вену, чтобы заткнуть эту брешь. Однако я отказался прервать мадридские выступления, поэтому пришлось изменить даты спектаклей в Вене. Весьма важная возможность показать себя представилась не в лучшее для меня время, когда вокальные трудности ощущались довольно отчетливо. Хотя в основном спектакль прошел хорошо, некоторая напряженность, конечно, ощущалась — особенно когда я пел кабалетту. Сам Караян был режиссером постановки, и я заметил, что он много внимания уделял зрительному аспекту. Его волновало, как спектакль будет смотреться на экранах телевизоров и из зрительного зала. Когда маэстро замечал, что некоторые мизансцены у певцов не особенно выигрышны, он старался их изменить. Спев два раза в «Трубадуре», я отправился в «Ла Скала», где должен был выступить в четырех спектаклях «Манон Леско». Партия Де Грие довольно сложная, а я был не в лучшей форме. В конце концов у меня хватило ума отказаться от записи «Паяцев», которую мне предстояло сделать в июне с Риккардо Мути. Сначала сотрудники фирмы «И-Эм-Ай» и даже сам Риккардо думали, что реальная причина моего отказа кроется в несогласии с намерением Риккардо записать оперу так, как написал ее автор — без традиционно вставляемых в партию Канио си-бекара и си-бемоля и без фразы «Комедии конец», переданной Тонио, как исходно задумал Леонкавалло. Конечно, дело было не в этом, и я очень сожалел, когда узнал о такой трактовке моего отказа. Разумеется, я испытал радость, осознав, что мои вокальные трудности остались в прошлом. Это произошло в Париже, когда я исполнял партию Отелло. В сентябре я пел в Сан-Франциско «Отелло» в постановке Поннеля. Мне не особенно нравилась эта его работа, но постановка была не новой, и я не работал непосредственно с Жан-Пьером. У меня не вызывала никаких возражений трактовка моей партии, но мне показалось, что в целом спектакль получился недостаточно масштабным. Замок в первом действии походил на декорацию для детской сказки, а послов в третьем акте изображали маленькие танцовщики, что создавало странный контраст с силой и масштабом музыки в этих сценах. Такие сцены требуют настоящей пышности, помпы. Вместо детей, окружающих Дездемону во втором действии во время прелестной ансамблевой сцены, вокруг нее, по замыслу Жан-Пьера, толпились нищие и калеки. Я прекрасно понимаю, что таким путем Жан-Пьер хотел продемонстрировать доброту Дездемоны, но это шествие уродцев ни в коей мере не совпадало с тем, что происходило в тот момент в музыкальном тексте. Должен оговориться: Жан-Пьер никогда не использует такие приемы в качестве трюков. Он человек с сильно развитой иронией и не боится показать уродливую сторону жизни в соседстве с красотой. В октябре я спел пять спектаклей «Вертера» в «Метрополитен-опера» с Образцовой, дирижировал Рудель. Постановка Пауля-Эмиля Дайбера, по-моему, была чересчур слащавой. Известная приторность есть в самой музыке, и необходима строгая, я бы даже сказал — суровая постановка, чтобы свести эту слащавость на нет. Совершенно противоположным по подходу был спектакль Клайбера — Дзеффирелли «Кармен», который через несколько недель состоялся в Вене (декабрь 1978 года). Кармен пела Образцова, а Эскамильо — Юрий Мазурок. Мне пришлось изрядно потрудиться. Как часто случается в Вене, не успели там принять решение о новой постановке, как уже наступил день премьеры. Когда в Вене шли репетиции «Кармен», я пел в Лондоне «Африканку», так что мне приходилось все время курсировать между Лондоном и Веной. Во время репетиций Образцова болела, Мазурока по какой-то причине вообще не было, а Микаэлу попросту еще не выбрали (в конце концов на эту партию пригласили Изабель Бьюкенен). Поэтому, несмотря на мои лондонские выступления, из исполнителей главных партий фактически я один не пропускал ни одной репетиции. Карлос предложил сделать купюры в партитуре, особенно в повторяющихся кусках. Как-то Дзеффирелли сказал: «А почему бы нам не выкинуть Хабанеру? Всю жизнь ее не выносил». Мы долго смеялись, хотя в действительности Бизе ввел в партитуру Хабанеру лишь по просьбе певицы, которая жаловалась, что у нее нет выходной арии. Хабанера написана на музыку одной старинной испанской народной песни. Карлоса очень забавляла возможность мимоходом сказать певице: «Знаешь, между прочим, Хабанеру-то мы выкинули» — и посмотреть на ее реакцию. В конце концов Хабанеру, разумеется, оставили. Мы использовали вперемешку разговорные диалоги и речитативы — последние в количестве, необходимом для понимания происходящих событий. В постановке Франко оказалось очень много ярких, интересных деталей. Потасовка женщин в первом действии, например, была сделана мастерски, создавалось впечатление, что она не срежиссирована, а происходит на самом деле. Сцена была хаотичной, беспорядочной. В четвертом акте, во время корриды, Франко снова удалось создать ощущение страшного хаоса — при постановке массовых сцен этого очень трудно достичь: статисты почему-то всегда двигаются по сцене какими-то кучками. Некоторые считали, что здесь присутствует даже слишком много движения и экспрессии, но мне кажется, сцена получилась абсолютно правдивой. Микаэла и Хозе — выходцы из Наварры, которая находится в Стране Басков, где многие (взять хотя бы мою мать) красиво сложены, привлекательны, посему Франко решил «сделать» нас обоих блондинами. Это подчеркивало контраст между Хозе и Микаэлой, с одной стороны, и андалусийцами и цыганами, с другой, особенно контраст между Хозе и Кармен. Дзеффирелли разрешает импровизировать актерам, которым он доверяет. У Франко острый и точный глаз, он таким образом конструирует декорации, так располагает отдельные вещи вокруг актеров, что они как бы стимулируют игру, заставляют актеров думать, что и зачем они делают. Обрамление, орнаментика каждой сцены спланированы самым совершенным образом, поэтому при хорошо отработанном действии все выглядит просто великолепно. Франко внес самые незначительные изменения в мою трактовку роли Хозе. Как и Хозе, моя мать происходит из Страны Басков. В детстве я много времени проводил там, трактовку Хозе я всегда основывал на моем понимании наваррского темперамента. К тому же до венской постановки я много раз пел партию Хозе. Мой костюм в третьем действии был сделан по рисунку первой постановки «Кармен» 1875 года. На мне была calanes (шляпа с полями, загнутыми вверх, типично андалусская) и traje corto (костюм для верховой езды), на сцене я появлялся верхом на великолепной крупной белой лошади. Цыганская песня в интерпретации Клайбера оказалась одним из ярчайших музыкальных впечатлений моей жизни. Чтобы достичь наибольшего эффекта, надо начинать ее очень медленно. В музыке должны ощущаться лень жаркого вечера, его летаргическое спокойствие. Постепенно напряжение нарастает {accelerando и crescendo необходимо исполнять очень тонко, почти незаметно), а затем музыка «взрывается», песня заканчивается настоящим дионисийским буйством. Краски, которые Франко выбрал для декораций в этой сцене, создавали идеальный фон для музыки. После цыганской песни Карлосу устроили такую овацию, какой я, пожалуй, не слышал никогда. Спектакль был грандиозный, он как бы соответствовал масштабу «Штаатсопер» и подходу Карлоса к партитуре. Конечно, можно удачно поставить «Кармен» и при более камерной, интимной трактовке, но Франко пользовался теми ресурсами, которые были у него под рукой, и добился невероятного зрелищного эффекта. Первый спектакль транслировали по телевидению, и мне пришлось нелегко: надо было сохранять полную неподвижность минуты три или даже больше, пока слушатели аплодировали после арии с цветком. В начале 1979 года в течение двух недель я участвовал в трех разных постановках «Трубадура». 17 февраля я впервые пел в цюрихском оперном театре. Мне так не понравилась его акустика, что больше я уже никогда там не выступал. Сейчас театр реконструируют — вероятно, не только меня не устраивала его акустика,— и надеюсь, что когда-нибудь я еще спою в Цюрихе. Через четыре дня во Франкфурте я спел лучший спектакль «Трубадура» в своей жизни, а 3 марта в Вене дирижировал спектаклем, в котором очень интересную трактовку образа Леоноры дала Ева Мартон. Я считаю, что у Евы лучший вердиевский голос среди молодых певиц. Я неоднократно записывал пластинки с Лорином Маазелем, особенно часто мы встречались с ним в операх Пуччини, но в театре вместе не работали. Впервые я пел под его руководством на театральной сцене в том же году в «Ковент-Гарден» в опере «Луиза Миллер». Музыкальная эрудиция Маазеля глубока и всестороння. Дирижер он поистине изощренный, но иногда словно стесняется полностью отдать себя музыке. Есть дирижеры, которые считают, что достаточно подчинить музыку и музыкантов своей воле, что внутренний напор музыки передать ничего не стоит. В идеале необходимо равновесие между страстью и самоконтролем. Маазеля нельзя назвать холодным человеком; думаю, он сознательно решил держать себя в определенных рамках, «управлять» музыкой как бы снаружи, а не изнутри. Его новое назначение, а он теперь директор венской «Штаатсопер», связано с огромной административной работой. На его плечи легла колоссальная ответственность, поэтому, надеюсь, теперь, когда Маазель будет спускаться в оркестровую яму, чтобы продирижировать спектаклем, у него возникнет особенно сильное желание забыть обо всем и полностью отдаться наслаждению музыкой. Думаю, его выдающийся музыкальный талант только выиграет, если он до конца вручит себя власти свободного течения музыки. Во всяком случае, когда я недавно записывал с Маазелем фонограмму фильма «Кармен», мне показалось, что его самоотдача стала гораздо больше. В июне 1979 года мы с труппой «Ла Скала» должны были записывать «Богему» под руководством Клайбера. Однако Карлосу что-то не понравилось в середине первого акта, и он отказался продолжить запись. Позже он прослушал то, что мы уже записали, остался доволен и, скорее всего, даже не мог вспомнить, из-за чего же он так рассердился. В этом-то и есть весь Карлос. У нас оказалось свободное время, и мы записали «Реквием» Верди. Дирижировал Аббадо, в записи приняли участие Риччарелли, Верретт и Гяуров. Кроме того, мы дали благотворительный концерт для миланского Дома ветеранов сцены (музыкантов), который был основан Верди. Я исполнил в этом концерте арию Рудольфа из «Луизы Миллер» и вдвоем с Френи мы спели финальный дуэт из «Аиды». Кроме того, я дирижировал отрывком из «Риголетто», который исполнили Котрубас и Лео Нуччи. В июле я спел «Тоску» в итальянском городе Мачерата и посетил могилу Беньямино Джильи в его родном Реканати. После этого мне предстояло записать «Джоконду», но запись почему-то перенесли, и я решил, что смогу немного отдохнуть. Увы, этому не суждено было сбыться — из Буэнос-Айреса позвонил Пьеро Фаджиони: он ставил «Девушку с Запада» в театре «Колон» и у него заболел тенор. Ну что ж... Пришлось совершить маленький «прыжок» в Аргентину, спеть премьеру, вернуться через Атлантику, чтобы спеть с Котрубас в благотворительном концерте в Монте-Карло (я обещал принцессе Грейс принять участие в этом концерте), снова отправиться в Буэнос-Айрес, спеть там еще два спектакля «Девушка с Запада» и наконец вернуться в Европу, чтобы на несколько дней перевести дыхание. Думаю, на сей раз я особенно заслужил отдых! В первой половине сентября у меня было два дела в Вене: благотворительный концерт, организованный «ЮНИСЕФ», и запись «Риголетто» под руководством Джулини с участием Котрубас и Каппуччилли. Но в это же время меня попросили помочь в очередном «несчастье». На девятое сентября было назначено концертное исполнение нерепертуарной оперы Меркаданте «Клятва», а седьмого заболел тенор. Хотя я никогда не слышал этого произведения и даже не видел его партитуры, я принял вызов, началусиленно трудиться и спел оперу. Музыка «Клятвы» очень красивая, в стиле довердиевского бельканто. Мои труды не пропали даром: партия из «Клятвы» стала одной из ведущих в моем репертуаре. Ликвидировав последствия «несчастного случая», я вернулся в Вену для записи «Риголетто». Кое-кто считал, что в некоторых местах «Риголетто», как и ранее в. записи «Дон Карлоса», у Джулини слишком медленный темп. Могу сказать: когда у дирижера тяжелая рука или когда медленный темп является следствием усталости дирижера, тогда темп действительно превращается в свинцовый груз. Но когда такой мастер, как Джулини, берет медленный темп, будучи уверен в правильности своей трактовки, когда он наделяет этот темп необходимой энергией, тогда каждый такт становится столь же ярким и впечатляющим, как и при быстром темпе. Темп вообще вещь весьма относительная. Вспомните баркаролу Ричарда в «Бале-маскараде» или балладу Герцога в «Риголетто». Они по метру, ритму и структуре одинаковы, а баркарола между тем обычно исполняется гораздо медленнее, чем баллада Герцога. Их естественные темпы прекрасны, но можно привести убедительные примеры, когда баркаролу исполняют быстрее, а балладу Герцога медленнее, и результат получается замечательный. В значительной степени темп того или иного конкретного отрывка оперы зависит, во-первых, от текста, а во-вторых, от общего темпа сцены или даже целого акта. В самом начале «Риголетто» есть речитатив Герцога, который поется под аккомпанемент оркестра, расположенного за кулисами; Джулини не хотел, чтобы этот речитатив исполнялся с точностью метронома. Он просил меня петь фразу «С милой моей незнакомкою пора бы роман привести к желанной развязке» и следующие за этой фразой слова с естественностью речи, не растягивая темпа. Таким образом слова подчеркивались, но при этом я не делал особого ударения на начале и середине каждого такта. И Джулини был тысячу раз прав. Оркестр за кулисами автоматически подчеркивает эти доли такта, и, если тенор делает те же акценты, текст попросту пропадает, его не слышно. Я с восхищением наблюдал за удивительной работой Джулини со струнными, когда он готовил первую сцену Риголетто — Джильды. Как увлеченно он добивался красивого звука, небольших акцентов, тончайших штрихов! Тут ему пригодился прежний опыт игры на альте. Есть множество мельчайших деталей, которые нужно учесть, работая с ходовым оперным репертуаром,— научиться всему этому можно только у настоящих мастеров. По воле судьбы я имел возможность работать именно с такими музыкантами. Десять-двенадцать дирижеров, не более, стоят на самой вершине музыкального Парнаса, и попали они туда не по счастливой случайности, а по праву. В конце 1979 года я приехал в Вашингтон, чтобы принять участие в концерте, который давался по инициативе президента Картера в честь пяти великих американцев: Аарона Копленда, Эллы Фицджеральд, Генри Фонды, Марты Грэхем и Теннесси Уильямса. К сожалению, президент не смог присутствовать на концерте из-за прецедента с иранскими заложниками. В марте 1980 года «Метрополитен» выпустила новую постановку «Манон Леско», в которой я пел вместе с Ренатой Скотто. Впоследствии многие критики отмечали очень высокий уровень нашего актерского мастерства, они считали, что спектакль можно было показывать как драматический, без пения, и он бы воспринимался так же хорошо. Конечно, я был счастлив слышать столь высокую оценку нашей игры. К тому же спектакль впервые транслировали из «Метрополитен» на Европу, и мне, конечно, было очень приятно участвовать в нем вместе с одной из величайших певиц и актрис нашего времени. Дирижировал спектаклем Ливайн, а постановкой руководил Менотти. Талант Менотти-режиссера часто затеняется его славой композитора и организатора фестиваля в Сполето. Я уже работал с ним над постановкой «Богемы» в Париже. И тогда и сейчас его режиссерские идеи показались мне очень интересными и нешаблонными. К тому же я поклонник его композиторского творчества — говорю это не просто из вежливости. Менотти часто критикуют за то, что он подражает Пуччини. Но это естественно, ведь Менотти учился музыке в Милане в то время, когда Пуччини только что ушел из жизни и влияние великого итальянца было еще очень сильным. В наши дни так мало композиторов, которые пишут музыку, пригодную для пения, что, мне кажется, не стоит критиковать произведения Менотти за их бесспорные вокальные достоинства. Раз уж я начал это лирическое отступление, то, пожалуй, продолжу его. Я не верю, что и через пятьдесят лет обычное человеческое ухо сможет легко воспринимать музыку, которую сочиняет сейчас большинство композиторов. Музыка эта предназначена для специалистов. Если именно к такому результату и стремятся нынешние композиторы, ну что же — это их дело. Но если они думают, что публика, которая с удовольствием слушает произведения Баха, Шуберта, Верди, Стравинского, когда-нибудь сможет до конца понять и оценить академическую музыку наших дней, они глубоко ошибаются. Даже такая истинно театральная работа, как опера Берга «Лулу», сколь бы замечательна она ни была, не вошла и не войдет в число произведений популярного репертуара (я использую здесь слово «популярный» в его лучшем смысле), а ведь опера Берга написана уже лет пятьдесят назад. Мне искренне жаль, что композиторы, подобные Менотти, были разочарованы результатами своего оперного творчества, поэтому я специально заказал Менотти для себя оперу, основанную на биографии Гойи. 1 апреля 1980 года мои родители отмечали сороковую годовщину своей свадьбы. Марта, сыновья и я приехали в Мехико, чтобы провести вместе с ними этот день. Накануне годовщины мы пригласили родителей на ужин, а перед ужином заехали в церковь. Мы приготовили им сюрприз: заказали большую мессу, на которой присутствовало около двухсот друзей и родственников. Я пел во время богослужения, но настолько разволновался, что с трудом закончил свою партию. «Ужин» оказался большим торжественным банкетом, на который мы пригласили всех присутствовавших на мессе. В возрасте восьмидесяти девяти лет Федерико Морено Торроба, старинный друг нашей семьи, закончил оперу «Поэт». Написал он ее специально для меня, и я исполнил главную партию в ней на премьере, состоявшейся в Мадриде 19 июня. В опере есть прекрасные страницы, хотя сюжет в целом рыхловатый, не обладающий особым драматизмом. Оркестр под управлением Луиса Антонио Гарсиа Наварро играл великолепно, замечательно пела Анхелес Гулин. Мне было очень приятно, что я смог подарить нашему дорогому другу минуты восторга, которые испытывает автор в момент исполнения своего нового сочинения. Через два года, когда я давал концерт в Мадриде под открытым небом для аудитории в двести пятьдесят тысяч человек, я пригласил Морено Торробу на сцену и попросил его продирижировать одной из своих пьес. Энергия Федерико была абсолютно неправдоподобной, и он имел огромный успех. К сожалению, через два месяца композитор заболел и умер в сентябре 1982 года, в возрасте девяноста одного года, прожив яркую, прекрасную жизнь, которую он полностью посвятил музыке. Осенью 1980 года счастливый случай помог мне принять участие в импровизированной записи на пластинку с Джулини и его Лос-Анджелесским филармоническим оркестром. Дело происходило в «Метрополитен», они должны были исполнить публично и записать «Песнь о земле» Малера, но кто-то из солистов заболел, и затея заглохла. Поскольку в мои планы входило участие в благотворительном концерте с этим оркестром, представитель фирмы «Дойче граммофон» Гюнтер Брест предложил использовать запланированные сеансы грамзаписи, чтобы записать часть моей программы. Дирижеры ранга Джулини редко принимают участие в записи оперных арий, поэтому я чувствовал себя крайне польщенным. Когда мы репетировали фрагменты из опер, Джулини очень тепло говорил со мной, его слова бесконечно много для меня значили. Мне страстно хочется, чтобы Джулини добавил к своему репертуару оперы Пуччини. Я понимаю, у каждого есть свои симпатии и антипатии, но мне кажется, музыка Пуччини великолепно звучала бы в исполнении Джулини. Одна из самых больших потерь моей жизни заключается в том, что я крайне мало работал с Карлом Бёмом. Я записал с ним лишь Девятую симфонию Бетховена. В наши планы входила новая постановка «Отелло» в Вене, но мое расписание не позволило принять в ней участие. Мне предложили петь в «Ариадне на Наксосе» в постановке Бёма в Зальцбурге в 1979 году, но я, подумав, отказался. Рихард Штраус, столь щедрый на прекрасные женские партии, скуп в отношении теноров, и партия Бахуса была бы для меня и невыигрышной, и очень трудной вокально. Однако мне жаль, что я никогда не исполнял с Бёмом произведения Р. Штрауса, ведь Бём так хорошо знал этого композитора. Для меня Бём — сама музыка. Когда в 1980 году в Вене мы записывали Девятую симфонию, ему было восемьдесят семь лет. На сеанс Бём пришел в весьма жалком состоянии: выглядел он дряхлым, еле передвигал ноги. Но когда «включился» в музыку, то все его величие как бы вырвалось наружу. Каждый его палец, казалось, излучал энергию и силу. На меня произвел большое впечатление естественный темп, который он выбрал для части Alla marcia, где тенор поет соло. Обычно дирижеры либо с бешеной скоростью проносятся через этот эпизод, либо «убивают» певца чересчур медленным темпом, который сбивает дыхание. Темп, выбранный Бёмом, был очень точным. Вообще маэстро полностью контролировал каждый эпизод в записи, подавал предельно емкие реплики солистам и хору, выплетал оркестровое кружево, был все время максимально сосредоточен. Перед сеансом у нас состоялась фортепианная репетиция с ассистентом дирижера, на которой присутствовал и Бём. Он особенно долго и тщательно работал над трудными местами в последней части, где поет квартет. Я часто видел Бёма на сцене, имел возможность оценить его дирижерское мастерство в основных произведениях его репертуара, и это всегда было для меня огромным эмоциональным потрясением. После спектаклей я заходил к нему за кулисы, и он всегда находил для меня теплые слова. Во время премьеры новой постановки «Манон Леско» в Нью-Йорке он позвонил мне в антракте, чтобы узнать, как идет спектакль, и пожелать удачи. Я с любовью храню несколько телеграмм, которые Бём посылал мне в особо важные моменты моей творческой биографии. Он даже подарил мне собственный экземпляр клавира Девятой симфонии Бетховена — тот самый экземпляр, которым он пользовался на протяжении всей своей жизни. В мае 1981 года, когда Бём лежал в венской клинике, я навестил его. Он надеялся прийти на один из спектаклей «Андре Шенье», в которых я тогда пел, но ему это не удалось. 10 августа, за четыре дня до смерти, я снова навестил его. На сей раз Бём находился у себя дома, в Зальцбурге, но был уже без сознания. В день его кончины я пел в Зальцбурге в «Сказках Гофмана» и пришел в «Фестшпильхаус» довольно рано, чтобы распеться. В то время я готовился еще и к специальной передаче в Севилье, посвященной моему творчеству: мне предстояло исполнять в ней отрывки из некоторых опер, поэтому для распевания я выбрал арию Флорестана из «Фиделио», которую до этого никогда не пел. И вот, как раз в тот момент, когда в первый раз в жизни я спел очень грустную начальную фразу: «Боже, что за мрак!», двери моей гримерной открылись и заплаканный Ули Мэркле сообщил, что только что умер Бём. Карл Бём служил музыке скромно и честно. Он был одним из величайших дирижеров нашего времени.
Я ПОЮ «СКАЗКИ ГОФМАНА»
В 1980 году исполнилось сто лет со дня смерти Жака Оффенбаха, а в 1981 году отмечалось столетие со дня посмертной премьеры его незавершенной оперы «Сказки Гофмана». В связи с этими датами оперу начали ставить повсюду, и я исполнил партию Гофмана в четырех новых постановках. В целом с августа 1980 года по август 1982 года я принял участие в тридцати девяти спектаклях. Меня приглашали и в другие постановки «Сказок Гофмана», и, прими я все предложения, мне, пожалуй, в этот период ничего, кроме Гофмана, и не пришлось бы петь. Мне и раньше доводилось участвовать в юбилейных постановках, но ни одна торжественная дата не привлекала к себе такого внимания, как этот двойной юбилей. Думаю, подобный «взрыв» связан с тем, что «Сказки Гофмана» никогда не принадлежали к числу фаворитов оперного репертуара, а столетний юбилей как бы оправдал пересмотр отношения к великому произведению, которого боялись из-за огромных текстуальных проблем. Я как-то спросил Каллас, почему она никогда не пела сопрановые партии в «Сказках Гофмана». Ее просто не приглашали петь в этой опере — вот что она мне ответила. Действительно, существуют произведения, о которых все забывают, а затем, по той или иной причине, они как бы заново рождаются. Вот вам пример—«Симон Бокка-негра» Верди: многие десятилетия эта опера была раритетом на оперной сцене, а теперь ее ставят очень часто. Возможно, такой сдвиг произошел после превосходной постановки оперы в «Ла Скала», осуществленной Аббадо и Стрелером. То же самое можно сказать об опере Моцарта «Милосердие Тита» — она стала невероятно популярной после Зальцбургской постановки Ливайна и Поннеля, есть и фильм по этой постановке. Для меня загадка, почему партия Гофмана не привлекала внимания лучших теноров. Она была бы идеальной для Джильи, а возможно, и для Карузо, Пертиле, Флета. Позднее ее великолепно спел бы Бьёрлинг. Таккер и Кампора пели Гофмана. Когда я впервые собирался исполнить эту партию, многие отговаривали меня, предупреждали, что партия может неблагоприятно отразиться на голосе. Все это так, но Гофман мог причинить мне неприятности в том случае, если бы я пел партию слишком рано, в начале творческого пути, покуда еще не был достаточно технически подготовлен. Первое мое знакомство со «Сказками Гофмана» состоялось в Мехико в 1965 году, вскоре после того, как я покинул Тель-Авив. Не могу сказать, чтобы я особенно интересовался партией Гофмана, просто мне предложили заключить контракт — и я согласился. Мне было тогда всего двадцать четыре года, я, конечно, поступил крайне безрассудно, но в то время я вообще был весьма беззаботен и молниеносно принимал решения. Впрочем, в двадцать четыре года спешить можно, а иногда даже нужно. Раньше мне казалось, что партия Лоэнгрина сложна, потому что она в основном расположена в диапазоне между средним и верхним регистрами, а это требует от голоса большого напряжения. То же самое относится и к партии Гофмана. При исполнении последней возникает и другая проблема — попробую определить ее, хотя это довольно сложно: мне кажется, в опере есть какая-то неестественность французского стиля. «Сказки Гофмана» могут быть очень опасны для молодого вокалиста. В начале карьеры певцу следует ограничиваться произведениями Пуччини, поскольку они наиболее легки для исполнения. В определенном смысле оперы Пуччини можно петь как песню, потому что его великолепные мелодии имеют естественные приливы и отливы, подъемы и спады. Пуччини был тосканцем и писал свои арии, следуя естественной манере тосканской stornello*. Именно поэтому молодым певцам в самом начале карьеры легче всего петь «Богему» и «Тоску». Не буду комментировать, как они исполняют эти оперы, но они их все же поют. При этом ни один тенор никогда не смог бы начать свой творческий путь с «Аиды» или «Симона Бокка-негры», где теноровые партии требуют огромной концентрации на сжатой, «мускулистой» вердиевской «линии».
* Итальянская народная песня.— Прим. перев.
Меня удивляет, как мало людей разбирается в этих проблемах — я имею в виду не рядовых слушателей, а так называемых специалистов. Конечно, находятся «специалисты», которые утверждают, что теперь Доминго уже никак не лирический тенор, раньше он был им в большей степени. Но я вам говорю, что еще несколько лет назад не спел бы «сверхлирическую» партию Гофмана так успешно, как пою ее сегодня. Мой голос, моя техника изменились, мне теперь гораздо легче исполнять партии с высокой тесситурой. «Доминго поет драматические партии!»— с ужасом восклицают некоторые «специалисты», но они, кажется, и не замечают, насколько мне легче стало петь «Богему» и «Сказки Гофмана» после того, как я спел те самые драматические партии. Когда я исполнял Гофмана в 1965 году в Мехико, я не мог спеть дуэт с Джульеттой в нужной тональности: пришлось транспонировать его на полтона вниз. Нынче это не представляет для меня никаких проблем, хотя, согласно теориям так называемых «специалистов», должно было случиться обратное. Теперь я легко могу петь любую лирическую и драматическую партию. А как приятно выходить на сцену в «Сказках Гофмана» в тот день, когда чувствуешь себя совершенно здоровым, в идеальной вокальной и эмоциональной форме. И как замечательно петь, просто петь, просто музицировать и думать только об интерпретации образа, забывая о вокальных проблемах — а ведь в некоторых партиях эти проблемы исчезают лишь после многих лет исполнения. В такие дни мне нет нужды доказывать слушателям или самому себе, что я имею право браться за данную партию. Я просто пою и все время ощущаю, как это приятно. Но в 1965 году в Мехико у меня не было выбора — либо Гофман, либо ничего. Я принял предложение, не осознавая до конца всех связанных с ним трудностей. Ставил спектакль Тито Капобьянко, и его работа мне тогда очень нравилась. Возвращаясь мысленно к тем дням, я понимаю, что на самом деле она была не особенно убедительной, поскольку концентрировалась прежде всего на четырех баритоновых партиях. Норман Трайгл, представлявший четыре ипостаси злодея, обладал яркой индивидуальностью, поэтому понятно, что Капобьянко, ставя спектакль, ориентировался прежде всего на Трайгла, подчеркивая дьявольский аспект произведения. Злодеи оказались в центре внимания, и эпилог пришлось попросту отбросить. Спектакль кончался сценой доктора Миракля, а эту партию Трайгл пел фантастически. Одет Трайгл был во все черное, а в конце — это достигалось при помощи определенного светового эффекта — публика видела лишь белый скелет, который наносили на костюм Трайгла фосфоресцирующей краской. Когда я кричал: «Доктора, доктора!» — он появлялся в оркестровой яме, рядом с дирижером, и произносил свои последние слова: «Доктор здесь! Она мертва!» — на этом опера кончалась. В Мехико у меня были три замечательные партнерши: Олимпию пела добрая знакомая нашей семьи Эрнестина Гарфиас, певица с прелестным колоратурным сопрано, Джульетту исполняла Белен Ампаран, а Антонию—Роза Римоч. Я, если можно так выразиться, лишь пытался исполнить свою партию, потому что совершенно не был готов к ней вокально. Постановка имела огромный успех. Часть его пришлась и на мою долю, но, думаю, это была лишь вежливость со стороны публики, своего рода «добро пожаловать» по поводу моего возвращения домой. Как я уже рассказывал, среди критиков нашелся только один, который отличался особой язвительностью. Через три месяца после мексиканского спектакля я еще раз спел «Гофмана» в Академии музыки в Филадельфии. Я тогда выступал в «Нью-Йорк Сити Опера», «Сказки Гофмана» входили в мой ангажемент. Постановочная концепция этого спектакля в основном повторяла мексиканскую, так как режиссером снова был Капобьянко, а баритоновые партии пел Трайгл. Все сопрановые партии на сей раз исполняла Беверли Силлз. В последующие несколько лет меня иногда приглашали петь в «Сказках Гофмана», а в 1971 году я вместе с Джоан Сазерленд и Габриэлем Бакье под руководством Ричарда Бонинджа принял участие в записи оперы. Через два года я исполнил «Гофмана» в «Мет» с Сазерленд и Томасом Стюартом, снова под руководством Бонинджа. Ричард, который знает и любит французскую музыку, провел огромную работу, изучая партитуру и текст «Сказок Гофмана», и это дало прекрасные результаты.
* Цитаты из «Сказок Гофмана» даны в дословном переводе.— Прим. перев.
Бониндж предпочел версию, где в конце появляется Стелла. Септет из акта «Джульетта» перекочевал в эпилог и превратился в квартет — разумеется, с другими словами. Ричард даже умудрился «откопать» эффектное ми-бемоль для Джоан, чтобы она могла блеснуть в квартете. Хотя, конечно, петь квартет в самом конце, когда все уже спето и сыграно, невероятно тяжело. Тем не менее постановка оказалась мне ближе. Она потребовала от меня колоссальной работы, гораздо большей, чем предыдущие. Только участвуя в этом спектакле, я начал понимать масштаб партии Гофмана. Конечно, я всегда отдавал должное прекрасной музыке, но без эпилога художественное впечатление оставалось неполным. А теперь я всерьез задумался над интерпретацией образа Гофмана. Мне кажется, Гофман чем-то похож на Бетховена. Известно, что Эрнст Теодор Амадей Гофман был одним из самых горячих поклонников Бетховена среди современников великого композитора, но дело даже не в этом. Гофман, каким он показан в опере Оффенбаха,— это человек, который страдает от соприкосновения с действительностью. В нем слишком много идеализма, слишком много страсти, чтобы «нормально существовать» среди людей. Кроме того, он использует собственные заботы и беды как исходный материал, из которого творит высшие формы общения с действительностью, с людьми. А это такое неблагодарное занятие! Ведь мало кто по-настоящему понимает искусство, большинство воспринимает его лишь как способ развлечения. Даже Риголетто, на мой взгляд, менее трагичен, чем Гофман: окружающие смеются над Риголетто, издеваются над его физическим уродством, но и он в свою очередь отвечает им злобным, мстительным смехом, иронией, которую они ненавидят, но понимают. А Бетховен, Гофман — над ними смеются, осмеивают их личные трагедии, а они отвечают любовью, и люди, не способные понять этой любви, используют ее лишь как повод для развлечения. Моменты вдохновения, озарения — вот что остается таким, как Бетховен и Гофман, в этом их единственная «прибыль». Читатели, которые не знакомы с историей создания «Сказок Гофмана», с текстуальными проблемами оперы, лучше поймут особенности этого произведения, если я приведу короткий отрывок из заметок Жана-Луи Мартиноти, которые он поместил в программке к зальцбургскому спектаклю: «Оффенбах умер, не успев закончить оперу, и, когда наконец состоялась премьера, текст произведения был изуродован (например, не хватало целого акта). Оперу закончил Гиро, аутентичной рукописи не существует, а партитуры первых спектаклей, которые могли бы многое прояснить, погибли во время пожаров — в 1881 году в «Рингтеатре» в Вене и в 1887 году в «Опера Комик» в Париже. В первом печатном тексте «Сказок Гофмана» не были восстановлены купюры, сделанные для первого спектакля. Через несколько лет, когда из печати вышли второе, третье и четвертое издания (Шуденса), в них появился «Венецианский» акт, не вошедший в первое издание, однако поместили этот акт перед актом «Антония»... Наконец в 1978 году вышло великолепно подготовленное «критически пересмотренное издание» Фрица Эзера... Это издание впервые включило все ранее не издававшиеся части произведения и позволило подвергнуть переоценке определенные аспекты оперы... Что касается «Сказок Гофмана», лишь одно можно сказать с определенностью: в этой опере невозможно достичь определенности ни в чем. Решать все проблемы всегда приходится постановщику». «Сказки Гофмана» — произведение одновременно и сложное для постановки, и легкое. Сложное, потому что предстоит понять и освоить огромный материал, легкое, потому что в самом произведении много «игровых» эффектных элементов. В некоторых — довольно больших по протяженности — кусках оперы мы весьма смутно понимаем замысел Оффенбаха, иногда не понимаем его вообще. Любой постановщик может сказать, что он верен духу композитора, тогда как на самом деле он даже не приблизился к пониманию этого духа. Я давно пою партию Гофмана, много думал об интерпретации этого образа, как, впрочем, и всех других образов моего репертуара, но время от времени у меня возникает желание забыть все прежние находки, чтобы осознать и выстроить партию заново. После работы над «Сказками Гофмана» с Бонинджем я участвовал в чикагской постановке в 1976 году. В какой-то момент мне показалось, что партия Гофмана слишком «легкая» для моего голоса, и я решил не исполнять ее больше. Но потом все же одумался. Чикагская постановка опиралась на издание Шуденса, однако и здесь эпилог по какой-то причине был отброшен. Дирижировал оперой Бруно Бартолетти, постановку осуществлял Виргинио Пюхер. Женские партии исполняли Рут Уэлтинг, Виорика Кортес и Кристиан Эда-Пьер; партии злодеев пел Норман Миттелман. После этой постановки я еще больше полюбил «Сказки Гофмана». Столетний юбилей Оффенбаха и его оперы стремительно приближался, и я начал серьезно к нему готовиться. Вместе с Джимми Ливайном мы обсуждали проект постановки оперы в Зальцбурге. Хотя фестиваль в Зальцбурге посвящен Моцарту, там обычно исполняются и произведения других композиторов, в частности, мой зальцбургский дебют состоялся в опере Верди «Дон Карлос». Исполнение оффенбаховского творения в Зальцбурге не казалось мне святотатством. Я не был уверен, что нашим планам суждено сбыться; однако Джимми заразил своим энтузиазмом Поннеля, а поскольку дуэт Ливайн — Поннель прекрасно зарекомендовал себя в Зальцбурге постановками «Милосердия Тита» и «Волшебной флейты», администрация фестиваля решила рискнуть. Постепенно на моем письменном столе росла стопка интересных предложений: меня приглашали участвовать в различных постановках «Сказок Гофмана». Я согласился петь на сценах Кёльнской оперы, «Ковент-Гарден» и «Метрополитен-опера». Разумеется, после зальцбургской постановки. Зальцбургская премьера состоялась в августе 1980 года. Сцена театра «Гроссес фестшпильхаус» настолько необычна и по своим размерам, и по техническим особенностям, что на ней нужно работать очень осторожно. По-настоящему успешно ею «овладевают» лишь те артисты, которые хорошо изучили ее особенности. Жан-Пьер прекрасно знает этот театр, поэтому неудивительно, что ему удалось создать блестящее представление — это была одна из лучших его работ. Как и все зальцбургские спектакли, «Сказки Гофмана» не потребовали больших денежных затрат, но опера была поставлена так элегантно, с таким тонким вкусом, что казалась очень «богатой». Все было идеально спланировано, идеально выстроено; изящно расположенные зеркала, прекрасно отполированный пол создавали ощущение «роскошной» постановки. Я пел в ней три сезона, и в 1982 году она мне казалась такой же притягательной, как и в предыдущие годы. В 1983 году «Сказки Гофмана» вытеснил из репертуара какой-то балет. По-моему, это весьма странная замена. Мы долго обсуждали, какую редакцию оперы выбрать, и в конце концов решили так: надо использовать новое издание Эзера там, где оно содержит в себе больше смысла, и возвращаться к традиционному изданию Шуденса, несмотря на его ошибки, там, где Эзер, на наш взгляд, «перегибает палку». Мы, например, использовали трио Никлауса, Гофмана и Коппелиуса, которое включил в свое издание Эзер, но арию «Сияй, мой бриллиант», исключенную Эзером, все же оставили. Нельзя было выкидывать отрывки оперы, которые стали особенно популярны, даже если в некоторых случаях мы сомневались в их достоверности. Думаю, в основном решения наши носили верный характер, и так называемый «новый» материал представлял большой интерес, хотя в эпилоге достаточно второразрядной музыки. Это можно сказать, например, о сцене возвращения Стеллы. В этом месте, кстати, я всегда вспоминаю мотивы злодея из мультфильмов о Майти Маусе. Наиболее удачным изменением было возвращение в эпилог мотива «Кляйнцаха» из первой песенки Гофмана из пролога. Когда я пел в последний раз «Вот вам, вот вам Кляйнцах!», то — по замыслу Поннеля — показывал на самого себя, как бы говоря: «Кляйнцах — это я». Такое решение было гораздо интереснее традиционного, где Гофман повторяет: «О боже! Как я пьян!» Одна из интереснейших идей Жан-Пьера заключалась в его трактовке образа слуги: он представил слугу как пособника дьявола. В акте «Антония» слуга Франц был явно на стороне доктора Миракля. Обычно же он полон уважения к Креспелю и дружески настроен к Гофману. Во всей опере образ слуги трактовался как отрицательный; это был противный тип, и оставалось неясным, действительно он глух или притворяется. Антония виделась Поннелю не просто как наивная, романтическая девушка, увлеченная вокалом, он представлял ее себе очень нервной, взвинченной, доведенной почти до безумия страстным желанием петь. (Жан-Пьер поработал за свою жизнь с таким количеством певцов, что в этой интерпретации угадывался его собственный опыт.) Мне казалось, что в прологе Жан-Пьер несколько разрушал логику моего образа. В следующих, весьма реалистических, постановках оперы в Нью-Йорке и Лондоне я с самого начала появлялся на сцене почти пьяный, а атмосфера винного погребка только усиливала это впечатление. Но в Зальцбурге стол стоял в сквере перед театром, где играла Стелла. Поскольку постановка была сюрреалистической, появление Гофмана в пьяном виде сочли противоречащим общей концепции, и Жан-Пьер решил, что в течение пролога я останусь трезвым. Тогда почему же, спрашивается, если я не был пьян, я валялся посреди сцены и спал после того, как духи вина и пива дали мне выпить? С другой стороны, раз я не был пьян, я мог себя вести в прологе гораздо более естественно, органично, свободно. Трезвый Гофман мог быть более интересным. Но вот что меня действительно тревожило, так это мое долгое, безмолвное ожидание на сцене после незаметного появления — ожидание, которое длилось бесконечно, вплоть до первых слов моего героя. Публика слишком долго лицезрела безмолвного Гофмана, и это снижало последующее впечатление. Более того, в нашей постановке, где использовались столь различные издания с разнообразными текстовыми вариантами, слушатели недоумевали с самого начала: «Почему Гофман уже на сцене? Что он там делает? Что происходит?» Я привык, чтобы «Джульетта» шла второй сказкой, а «Антония» — третьей, но в Зальцбурге их поменяли местами. Мне кажется, так лучше. Три любовные истории, которые рассказываются в трех сказках,— это символы, обобщения всех любовных историй в жизни Гофмана. Первая — «Олимпия» — символ наивной, идеализированной любви, столь нереальной, что она доходит до грани иллюзии. Олимпия — кукла, символ чего-то чисто внешнего, поверхностного. Затем приходит реальная, страстная любовь к Антонии, может быть, несколько платоническая, но настоящая, сильная любовь. Для Гофмана Антония не просто женщина, она женщина с большой буквы. Умирает Антония — и его способность любить тоже умирает. Лишь после этого появляется Джульетта, куртизанка, к которой Гофман приходит уже опустошенный, даже циничный. «Друзья! — говорит Гофман.— Нежная, мечтательная любовь — это ошибка! Любовь среди веселья и вина — вот что прекрасно!» Разумеется, ни одна из любовных историй Гофмана не приводит его к гармонии: ему никогда не удается соединить, сочетать идеальную и плотскую сторону любви. В этом смысле порядок сказок не имеет значения. Но мне кажется, что с психологической и драматургической точек зрения последовательность Олимпия — Антония — Джульетта является более оправданной. Гофман пережил разочарование и отчаяние, и в конце он увлекается куртизанкой. А как бы он мог перейти к Антонии после Джульетты, после такого пагубного шага? По-моему, это было бы неубедительно. И с точки зрения вокальной — мне гораздо удобнее переходить от акта «Джульетта» к эпилогу. Я еще накален, заряжен, чего не бывает, когда я перехожу к эпилогу после акта «Антония». Хотя партия Гофмана в акте «Антония» труднее и выше по тесситуре, она проигрывает на фоне партии самой Антонии, на фоне трио Антонии, ее матери и Миракля. Гофман в какой-то момент исчезает со сцены и возвращается в самом конце, чтобы спеть всего одиннадцать слов. Поэтому чисто вокальный и эмоциональный переход к эпилогу после акта «Антония» для Гофмана неестествен. А после акта «Джульетта» я чувствую себя истощенным, выжатым как лимон, и это как раз то, что требуется для эпилога. Из всех трех актов оперы «Джульетта» осталась в наиболее незавершенном состоянии. Этот акт особенно труден для тенора, но зато в нем есть четыре самых замечательных для него же момента: куплеты, ария, дуэт и септет. Конечно, в акте «Антония» музыка в целом более совершенна, чем в акте «Джульетта». Тем не менее мне удобнее строить свой образ, делать его более логически выверенным, более совершенным, если перед эпилогом идет «Джульетта». Проработка акта «Джульетта» у Жан-Пьера была недостаточно глубокой, он слишком увлекся внешней стороной, которая, впрочем, получилась блестящей. Действие, разумеется, происходило в Венеции, и Жан-Пьер придумал роскошные «гондолы» — вокруг сцены протягивали куски ткани, а на них сидели люди. Все это было очень красиво. Но мне кажется, Жан-Пьер мог бы доработать, развить эту сцену. Было бы очень в стиле Жан-Пьера, если бы он посадил в «гондолу» епископа с молодой девушкой, но на сей раз он воздержался от этого, и правильно сделал. Джимми Ливайн гораздо реже дирижировал произведениями французских композиторов, чем итальянских или немецких, но он сумел прочувствовать, тонко понять «Сказки Гофмана» — его работа была открытой, искренней, радостной и вместе с тем очень драматичной в акте «Антония». Оркестр «Штаатсопер», несмотря на некоторую тенденцию «пережимать», звучал великолепно. В октябре 1980 года, вскоре после зальцбургской постановки, я принял участие в кёльнской. Из всех постановок «Сказок Гофмана», где мне довелось петь, в этой особенно слышался аромат театра «Опера Комик». Постановку осуществлял интендант кёльнской оперы Михаэль Хампе, и она оказалась очень «умной». Хампе по профессии виолончелист. Это серьезный музыкант, который глубоко продумывает всю свою работу. Правда, иногда его подводит стремление излишне интеллектуализировать, войти в материал глубже, чем тот допускает. Зато Хампе до мелочей все обдумывает и, подобно Фаджиони и Дзеффирелли, очень точно умеет показать певцам, чего от них ждет. Хампе попросил нас включить в спектакль разговорные диалоги. «Джульетта» и в этой постановке оказалась последней сказкой, а в конце спектакля, как и у Бонинджа, бедняжка умирала, отравленная ядом. Дирижировал постановкой Джон Причард, музыкант уверенный и утонченный. Причард прекрасно справился с работой, хотя мне лично показалось, что он не особенно увлекся «Сказками Гофмана». До этого я работал с ним один раз: в 1977 году мы записывали «Любовный напиток». Тогда Причард был просто великолепен, он выглядел воодушевленным, счастливым. В «Ковент-Гарден» «Сказки Гофмана» ставил Джон Шлезингер. Я получил огромное удовольствие от работы с ним, потому что Шлезингер очень тонко понимает и чувствует музыку. Еще до репетиций он признался мне, что безумно боится ставить «Сказки Гофмана», но я лично никогда не сомневался в его блестящих способностях. Интуиция, чутье Шлезингера таковы, что он не может ошибиться. Он решил придерживаться версии Шуденса — тут на него повлиял Карлос Клайбер, который собирался дирижировать этой постановкой. Но Карлос, к моему глубокому разочарованию, отказался. Представляю себе, какая бы это была работа! Как бы мне хотелось уговорить его дирижировать «Сказками Гофмана» в «Ла Скала»! Может быть, он рано или поздно согласится? К счастью, в «Ковент-Гарден» Клайбера заменил Жорж Претр. У Претра возникли определенные ансамблевые сложности, когда он попытался добиться изощренных rubati от хора, что практически невозможно в огромном зале «Ковент-Гарден». Однако Претр блестяще знал произведение, спектакль получился прекрасный и пользовался большим успехом. У Шлезингера сопрановые партии исполняли разные певицы: Олимпию пела Лучана Ceppa, Антонию — Илеана Котрубас, а Джульетту — Агнес Бальтса. Мне кажется, одна певица не должна петь все три сопрановые партии. Я говорю это, несмотря на то что участвовал в спектаклях с такими великолепными актрисами, как Джоан Сазерленд, Катерина Мальфитано, Эдда Мозер и Кристиан Эда-Пьер. В основе оперы лежит контраст между простодушным Гофманом и Линдорфом, духом зла — зла, которое подстерегает Гофмана повсюду. Каждая из женщин, наоборот, должна представлять совершенно особую личность, новый женский прототип, а одна певица практически не способна добиться подобного перевоплощения в течение одного спектакля. Кроме того, в каждом акте присутствуют свои серьезные вокальные трудности, и певица, которая великолепно споет Антонию, не обязательно будет столь же убедительной Олимпией или Джульеттой. Шлезингер решил, что партии злодеев тоже должны исполнять разные певцы: Линдорфа пел Роберт Ллойд, Коппелиуса — Герайнт Эванс, доктора Миракля — Никола Гюзелев и Дапертутто — Зигмунд Нимсгерн. Такое новшество было достаточно интересно — Линдорф появляся в конце каждого акта, словно держа события под своим контролем. Такое решение сделало символику еще более убедительной. Гофман был пьяным и каким-то хаотичным и в прологе, и в эпилоге. Это давало произведению большее драматическое единство. Венецианская сцена у Шлезингера получилась великолепно — вы присутствовали на настоящей оргии, где могло произойти все что угодно. К счастью, сохранилась видеозапись постановки. (Ее даже представили на приз «Грэмми», но приз получил диск Оливии Ньютон-Джон. Мне до сих пор непонятно, как эти две записи могли рассматривать в одной и той же категории.) В «Мет» «Сказки Гофмана» ставил Otto Шенк; должен сознаться, вначале постановка вызывала у меня недоумение. Акт «Олимпия» казался мне слишком веселым, забавным. Все в нем было чересчур неправдоподобным даже для такого простодушного и доверчивого человека, как Гофман. Я решил задачу, играя сцену с Олимпией так, будто считал, что Олимпия — девушка, которая хочет походить на куклу. Рут Уэлтинг была великолепна, она настолько напоминала куклу, что это просто пугало. Когда она пела свои высокие фа, Кошениль дотрагивался до нее и отшатывался, будто его ударяло током. Хор у Шенка очень активно участвовал в действии, бурно реагировал на все происходящее, сцена выглядела очень красиво. Шенк и Риккардо Шайи, дирижировавший постановкой, решили использовать издание Шуденса. Шайи дебютировал «Сказками Гофмана» в «Метрополитен», его интерпретация оказалась очень интересной. Впоследствии мы с ним записывали «Вертера», он столь же глубоко понял и это произведение, сумев тонко передать его особенности. Так что теперь у нас есть итальянский дирижер, который великолепно справляется с французским оперным репертуаром. Его «Сказки Гофмана» совершенствовались от спектакля к спектаклю, постепенно он привыкал к акустике театра, к его оркестру, все лучше понимал произведение в целом. Постановка имела громадный успех. «Сказки Гофмана» оказались «гвоздем» всего сезона в «Мет». Сотни людей стремились попасть на спектакль и не могли купить билеты. Я был счастлив: мне довелось петь в столь разных, непохожих друг на друга постановках «Сказок Гофмана». Но тем не менее до сих пор жалею, что не принимал участия в спектакле Патриса Шеро на сцене парижской «Гранд-Опера». Шеро весьма забавно решил акт «Олимпия»: на сцене «действовал» робот, а голос шел из-за кулис. Шеро использовал радио для подачи звука в робот. Мне рассказывали, что однажды что-то не сработало или сработало неверно и вместо очередного колоратурного пассажа Олимпии со сцены «Опера» раздался звук полицейской сирены, а голос Олимпии перенесся в полицейский автомобиль, который мчался в это время мимо театра к банку, где было совершено ограбление. Много бы я отдал, чтобы услышать это собственными ушами!
ВСТУПАЯ В ПЯТОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
21 января 1981 года мне исполнилось сорок лет. Я отпраздновал это событие в Милане, где принимал участие в репетициях новой постановки «Сельской чести» и «Паяцев». На приеме, кроме моей семьи и коллег по «Ла Скала», присутствовали Рената Тебальди, Мафальда Фаверо, Джульетта Симионато и Франко Дзеффирелли. Дирижером в новой постановке был Претр, а режиссером Дзеффирелли; кроме того, мы снимали фильм по этой постановке. (В «Сельской чести» принимали участие Елена Образцова и Маттео Манугуэрра, в «Паяцах» — Елена Маути Нунциата и Хуан Понс.) Франко соединял при съемках фильма три различных подхода. Во-первых, у нас было два полных съемочных дня в «Ла Скала», по одному дню на каждую оперу. Условия ничем не отличались от обычного спектакля, оркестр находился на своем месте в оркестровой яме. Единственное отличие от публичного представления состояло в том, что мы, если требовалось, повторяли какие-то места. Потом мы что-то досняли в студии. Все прошло превосходно. Но когда Франко видит, что работа сделана хорошо, он хочет, чтобы она стала еще лучше. И он решил доснять куски на натуре. Посему все мы отправились в Сицилию — в деревушку Виццини, где, по преданию, происходила история, описанная Вергой в его новелле «Сельская честь». Там я спел Застольную, Сицилиану, там мы сыграли некоторые сцены с Сантуццей. Конечно, вся эта идея представляла собой чистый эксперимент — надеюсь, зрители признают его удачным. Фильм нынче (в 1983 году) полностью готов, но его решили не показывать до выхода на экран нашей последней ленты — «Травиата». Дело в том, что «Травиата» очень кинематографична, а «Сельская честь» и «Паяцы» как фильм гораздо менее традиционны, вот Франко и решил, что лучше выпустить «Травиату» первой. В «Сельской чести» мы с Франко впервые разошлись в интерпретации моей роли. Франко видел в Туридду легкомысленного шалопая, который играет и с Лолой, и с Сантуццей, ни одну из них не воспринимая всерьез; Туридду думает только о своей внешности, уверен, что красивые глаза принесут ему новые победы над женскими сердцами, и получает даже известное удовольствие от распрей между двумя женщинами. Для меня же Туридду жертва — в той же мере, что и Сантуцца. Туридду любил Лолу, но, когда он был на военной службе, Лола вышла замуж за местного богача Альфио. Вернувшись, Туридду убеждается, что его предали, он раздираем одновременно и гневом и отчаянием. Мало-помалу Туридду смиряется и начинает встречаться с Сантуццей, вступает с ней в связь. Но Сантуцца постоянно жалуется, все время чего-то требует, и Туридду вскоре устает от нее. Я не пытаюсь представить Туридду как человека благородного и честного, но он для меня не однозначен, он способен на разные чувства. Обычно когда я пою эту партию, то стараюсь показать, что Туридду даже сочувствует Сантуцце, но — что поделаешь — он устал от нее и не может представить себе Сантуццу в ролибудущей жены. Кроме того, Туридду до сих пор испытывает влечение к Лоле. Ему тяжело оттого, что он потерял Лолу, и одновременно он чувствует себя виноватым перед беременной Сантуццей— все эти чувства терзают Туридду. В сцене в таверне перед нами человек, близкий к самоубийству. Впрочем, фильм у нас получился замечательный, и я рад, что остался «документ», подтверждающий, что я действительно исполнил в один вечер партии в обеих операх. Особенно это подтверждение важно потому, что когда я надеваю парик для роли Канио, то делаюсь лет на двадцать-тридцать старше, нежели в роли Туридду. Совершенно удивителен аромат подлинности, которого достигает Франко в обеих операх, уникальна предельная тщательность в разработке деталей костюмов, декораций, элементов окружающей среды. Работы Франко несут на себе печать его яркой индивидуальности, они совсем не похожи на работы других режиссеров. Новая постановка «Травиаты» в «Мет», осуществленная в марте, предоставила мне еще одну возможность поработать с Илеаной Котрубас, большим музыкантом и тонким художником, певицей, обладающей настоящим сценическим темпераментом и прекрасным голосом. Илеана Котрубас и ее муж, одаренный дирижер Манфред Рамин, к тому же очень приятны в общении. 1981 год для семьи Доминго оказался неудачным — ее преследовали болезни. В марте отцу сделали в Мехико операцию, к счастью, все кончилось благополучно. В июле в Барселоне Марте вырезали желчный пузырь, слава богу, тоже вполне успешно. Затем Альваро очень сильно повредил плечо, его пришлось отправить на операцию в клинику. К счастью, все быстро поправлялись. В остальном же год был для меня самый обычный — много выступлений, много путешествий. Например, в июне, после того как я спел четыре спектакля «Лючии» в Мадриде и одну «Тоску» в «Сентрал-парк» в Нью-Йорке (с Р. Скотто, Милнзом и Ливайном), я отправился в Буэнос-Айрес, где принял участие в пяти спектаклях «Отелло». А после каждого из трех последних спектаклей я проводил остаток ночи в студии грамзаписи — напел альбом танго (мне не хотелось снижать рабочий тонус). Я сознательно избрал такой метод работы: голос меньше устает, если я продолжаю петь сразу после спектакля. Гораздо труднее заново настраивать голос через два дня после выступления — соответственно за два дня до следующего. Все это время за мной по пятам ходили представители испанского телевидения: они снимали специальный сюжет для сериала «Триста миллионов». Незадолго до этого я записал «Турандот» с Гербертом фон Караяном. Караян достаточно редко дирижирует «Турандот», и я счастлив, что принял участие в этой записи,— у Караяна всегда есть чему поучиться. Венский филармонический оркестр звучал фантастически прекрасно. Аккорды, казалось, пронизывали вас насквозь, Караян добивался этого, растягивая слабые доли такта, так что аккорды на сильных долях звучали с особой полнотой и представали во всем богатстве голосов — от удвоенного баса до верхних звуков у флейт,— да, все это было просто неправдоподобно. Некоторые темпы маэстро могут показаться слишком медленными, но зато появляется возможность услышать такие тонкие нюансы, которые до Караяна редко раскрывались в оркестровой ткани. Картина обращения к луне в интерпретации Караяна — пример чрезвычайного самоконтроля, идеально сбалансированной интенсивности чувств Деловой стороной записи занимался мой европейский импресарио Мишель Глотц — не только прекрасный администратор, но и замечательный продюсер. Караян очень уважает Мишеля, ценит его мнение и всегда охотно реагирует на его шутки. На Брегенском фестивале в то лето я участвовал в трех спектаклях «Отелло», моими партнерами были Анна Томова-Синтова и Сильвано Карроли, дирижировал Санти, постановку осуществлял Фаджиони. В принципе мне нравится, как Пьеро использует вращающийся сценический круг, но в данном случае мне показалось, что он слишком часто к нему обращался. Некоторые слушатели жаловались мне потом, что от этого верчения у них кружилась голова. Когда в начале оперы я появлялся на сцене, у меня на голове был тюрбан. В последнем акте я входил в спальню опять-таки в тюрбане, потом медленно разматывал его, будто разматывая саму свою жизнь. Этот штрих оказался очень удачным. Кроме того, Пьеро хотел, чтобы во втором акте, «у себя дома», я ходил босиком. Отелло здесь таков, какой он есть, здесь он хозяин, а не псевдовенецианец. (Думаю, такая трактовка образа восходила к Отелло Лоренса Оливье.) В том же акте посреди сцены бил настоящий фонтанчик, из которого я пил, когда события принимали слишком крутой оборот. Конечно, при этом мне приходилось тщательно следить за своим гримом, иначе я рисковал стать первым полосатым Отелло в истории оперы. Как раз в те дни оперировали Марту и Альваро, и я мало репетировал с Пьеро. Надеюсь когда-нибудь вместе с ним еще раз вернуться к «Отелло». С середины декабря 1981 года до начала января 1982 года я с семьей жил в Севилье, сочетая рождественские каникулы со съемками фильма. Наш фильм рассказывал о месте Севильи в истории оперы. Идея фильма принадлежала мне. Поскольку Севилья является местом действия многих опер, почему было не составить и не снять программу из этих опер? Я «подкинул» идею Поннелю, а он в свою очередь предложил ее фирме «Унитель». В «Унитель» оценили идею и попросили нас найти подходящего дирижера, способного справиться со столь непростой задачей. Мы обратились к Джимми Ливайну, и он с радостью согласился. Жан-Пьера буквально обуревали интересные идеи. Арию Флорестана из «Фиделио» он снимал на развалинах римского амфитеатра в Италике, за городом, вступление к этой арии он сопровождал рисунками Гойи из «Ужасов войны». Дон Жуана, великого грешника, для которого не было ничего святого, он поместил на самый верх наиболее высокой башни Севильского собора, и оттуда Дон Жуан пел о своих победах. Финальный дуэт Кармен и Хозе Жан-Пьер снимал не около цирка, а внутри его, там, где проходила коррида, поскольку Кармен, как и бык, вышедший на арену, не может избежать своей судьбы. В дуэте Фигаро и Альмавивы из «Севильского цирюльника», в том месте, где герои поддевают друг друга, я один пел обе партии... Все эти детали сделали программу очень содержательной и интересной. Разумеется, мне никогда не удалось бы осуществить свою идею без сотрудничества с таким поистине гениальным человеком, как Поннель. Для всех нас это было прекрасное время. Как-то, когда Жан-Пьер, я и еще несколько человек из съемочной группы обедали в таверне неподалеку от Италики, к нам подошел старик, по всей видимости постоянный посетитель этого заведения. Он присел к нашему столику и на сочном андалусском диалекте начал рассказывать Жан-Пьеру об испанской актрисе, которая когда-то тоже снималась в этих местах и посещала ту же таверну. Жан-Пьер говорит по-французски, по-английски, по-итальянски и по-немецки, но испанским не владеет. Он долго слушал, улыбался, кивал, но потом обратился ко мне по-итальянски: «Пласидо, наверное, я больше не должен улыбаться, иначе мы проведем в этой таверне целый месяц, а наш любитель старины так и не узнает, что я ни слова не понял из его рассказа». В другой раз Соледад Бесеррил, которая была тогда министром культуры Испании, и кое-кто из друзей неожиданно нагрянули к нам, чтобы посмотреть, как проходят съемки, но начался страшный ливень, и в результате мы всей компанией засели в той же таверне. Вероятно, первоклассному ресторану пришлось бы туго при таких обстоятельствах, но нашей маленькой таверне все было нипочем! Тут же составили столы и вкусно нас накормили. В начале 1982 года в Гамбурге я спел два спектакля «Луизы Миллер» с Джузеппе Синополи, молодым итальянским дирижером, великолепно изучившим оперные традиции. К этому надо добавить, что он обладает прекрасным дирижерским темпераментом и чувством темпа. Джузеппе дает певцам достаточную свободу, но ту, которая не имеет ничего общего с ленью или беззаботностью. У Синополи все всегда тщательно спланировано и имеет под собой реальную основу. Синополи разделяет мои представления о роли слабой доли такта: слабые доли в медленных ариях с легким оркестровым аккомпанементом должны быть слегка — совсем слегка — растянуты для того, чтобы каждая фраза получила необходимый вес: в начале арии Рудольфа в «Луизе Миллер», например, у тенора четвертная пауза в конце каждой фразы. Если во время этих пауз, которые приходятся на слабые доли, оркестровое сопровождение «проскакивает» в обычном темпе, нарушается чувство абсолютного покоя. Хоть это и общее место, стоит повторить, что оркестр в таких случаях должен как бы дышать вместе с певцом, а дирижер обрести «длинные руки», чтобы помочь оркестрантам почувствовать фразу, ведь оркестровой яме и подмосткам надо «идти в одной упряжке». Когда спектакль ведет хороший дирижер, я не чувствую никакого напряжения, наоборот, ощущаю полную свободу, не «пережимаю», пою мягко, не опасаясь, что меня заглушит оркестр, потому что объем звука, точно так же как и темп оказываются верно рассчитанными. 16 января в Нью-Йорке я принял участие в передаче «Прямая трансляция из студии 8-Эйч». Передача посвящалась творчеству Карузо, на нее был приглашен Нью-Йоркский филармонический оркестр под управлением Меты. Волею случая эта телевизионная трансляция проходила в день двадцать пятой годовщины со дня смерти Тосканини, и велась она из той самой студии, где много лет маэстро дирижировал симфоническим оркестром «Эн-Би-Си». В Нью-Йорке в течение февраля и марта я репетировал, а затем выступил в первых спектаклях новой постановки «Сказок Гофмана». Кроме того, я пел в «Норме», «Богеме», «Реквиеме» Верди и вместе с Татьяной Троянос принял участие в концерте. На благотворительном гала-концерте, который назывался «Вечер ста звезд» (впоследствии его показали по телевидению), к моему списку примадонн добавилась новая партнерша: мисс Пигги из «Маппет-шоу».
1982 год прошел для меня под знаком «Травиаты». Я принял участие в экранизации оперы, осуществленной Франко Дзеффирелли. В роли Виолетты выступила Тереза Стратас, Жермона играл Корнелл Макнейл, оркестр и хор пригласили из «Метрополитен», дирижировал Джимми Ливайн — его работа была просто великолепной. Мой же путь к фильму оказался довольно извилистым. Сначала Франко и сэр Джон Тули предложили мне принять участие в фильме, который предполагалось снимать, базируясь на новой постановке «Травиаты» в «Ковент-Гарден». Но постановка не состоялась, да я и не смог бы в ней участвовать, даже случись это, поскольку время предполагаемой премьеры приходилось как раз на срок одного из моих ангажементов в «Метрополитен». Затем проект превратился в чисто кинематографический, но сроки, к сожалению, опять оказались для меня неприемлемы. Тогда на роль Альфреда пригласили Хосе Каррераса. Тот подписал контракт, но и у него возникли сложности с расписанием выступлений. Чтобы сниматься в фильме, ему надо было отказаться от нескольких спектаклей в парижской «Опера», однако администрация театра не разрешила Каррерасу отменить спектакли. Возникла довольно неприятная ситуация, и в конце концов Хосе пришлось расстаться с мыслью об участии в фильме. Франко вновь обратился ко мне, и, совершенно неожиданно, в тот момент я сумел помочь ему. Напомню, что три года назад я выручил театр «Колон», срочно заменив заболевшего тенора на трех спектаклях «Девушки с Запада». В мае 1982 года по плану я должен был спеть в Буэнос-Айресе семь спектаклей «Тоски», и мне показалось, что я вправе отказаться хотя бы от нескольких из этих спектаклей, чтобы принять участие в таком уникальном предприятии, как съемки фильма «Травиата». Администрация театра любезно пошла мне навстречу. Съемки проходили в Чинечитта в Риме и заняли больше времени, чем мы предполагали. В результате я мчался в Рим то из Буэнос-Айреса, то из Вены, то из Барселоны или Мадрида, где у меня были долгосрочные контракты. Работа над фильмом потребовала огромных усилий, большого напряжения, но результаты оправдали усилия. Киносъемки очень изматывают актера, но, поскольку фонограмму записывают заранее, голос не устает. Поэтому киноработа не мешает параллельно петь в театрах. Когда начались съемки, выяснилось, что в точности придерживаться заранее составленного графика съемок практически невозможно. Меня попросили отказаться от следующих контрактов. Я должен был ехать в Аргентину, но продюсеры фильма уговаривали меня остаться в Риме, поскольку началась война на Мальвинских (Фолклендских) островах, и у меня, таким образом, появился прекрасный предлог отказаться от аргентинских спектаклей. Все знакомые наперебой твердили, что в театре «Колон» работать будет, конечно же, невозможно, что ко мне, по всей видимости, резко изменится отношение со стороны аргентинцев, поскольку я часто выступаю в Англии и Соединенных Штатах. Но раньше я уже обращался к администрации театра с просьбой об отмене нескольких спектаклей, и мне это позволили. Помня о любезности руководства театра «Колон», я не хотел изменять своему слову и решил, что должен выполнить свои обязательства, ведь я ни за что не нарушил бы контракт с «Ковент-Гарден», если бы он пришелся на то же время. Моя родина не участвовала в военном конфликте, и я считал, что должен сохранять нейтралитет. Продюсеры предупредили меня, что, если я попаду в Аргентине в ловушку — не будет, например, работать аэропорт, или произойдет что-то непредвиденное,— компания, которая субсидирует съемки фильма, не заплатит мне ни гроша за дни простоя. Я обещал, что на всякий случай каждый день буду заказывать себе билеты на самолет, чтобы иметь возможность улететь немедленно. Случись что-то серьезное, я в конце концов улетел бы через Монтевидео (Уругвай). Буэнос-Айрес действительно пострадал от войны, но не физически, а морально. По-моему, война за территорию является пределом националистической инфантильности, особенно в наши дни. Я видел демонстрации «раздутого патриотизма» в Аргентине, читал в газетах о том, что нечто подобное происходит и в Англии,— все это страшно меня огорчило. Впрочем, между Аргентиной и Англией были существенные различия: в Великобритании служба в армии носит добровольный характер и население прекрасно обо всем информировано. В Аргентине же все не так: аргентинские мальчики, в обязательном порядке призванные под ружье, слабо представляли себе, что их ждет. Каждый вечер в театре происходили довольно дикие патриотические демонстрации, все пели гимн, размахивали национальным флагом. Впрочем, время шло, новости, официальные и неофициальные, становились все неутешительнее, и энтузиазм начал постепенно убывать. Как-то я спросил одного работника театра, особенно восторженно настроенного в начале войны, есть ли у него сын призывного возраста. «Да нет,— ответил он,— моему сыну двадцать, вряд ли его призовут». Но через несколько дней сын получил повестку, и патриотические чувства этого человека заметно потускнели. Вот трагедия патриотизма военного времени: он очень хорош, будучи абстрактным, но приобретает совсем другой смысл, когда дело касается твоих близких. Я верю в серьезность искусства, но чувствую, что задача исполнителя состоит и в отвлечении людей от их повседневных проблем, в создании для них более гармоничного мира. Поэтому работа артиста в целом приобретает особую важность во время кризисов в стране. Я спел в Аргентине четыре спектакля и благополучно вернулся в Европу, но сердце мое было разбито, потому что две страны, которые я искренне люблю, продолжали бессмысленно воевать. Полностью согласен с автором статьи, которую я прочел в газете «Интернэшнл геральд трибюн» через несколько дней после окончания футбольных игр на Кубок мира 1982 года. Автор писал, что территориальные распри должны быть ограничены спортивными матчами. Да: либо миссис Тэтчер и генералу Гальтиери следовало встретиться друг с другом в шахматном турнире, либо английской и аргентинской футбольным командам надо было попытаться завоевать пресловутые острова, забив за десять минут три блестящих гола. А через четыре года, например, можно было бы устроить матч-реванш. Это, конечно, шутка, но, уверяю вас, такая шутка разумнее, чем война. В обоих случаях результаты нулевые. Когда я вернулся в Рим, Тереза Стратас, которая работала без перерыва и очень самозабвенно, попросила отпустить ее на несколько дней отдохнуть. В ее отсутствие мы снимали сцены, в которых нет Виолетты, а потом все опять вошло в нормальное, привычное русло, если можно назвать нормальной жизнь, когда без конца мотаешься между Римом и другими городами, успеваешь во время съемок выступить в «Отелло», «Андре Шенье» и «Кармен» в Вене, в «Богеме» в Барселоне, в «Самсоне и Далиле» в Мадриде. В какой-то момент Франко понял, что фильм действительно может стать большим событием в истории оперы и кинематографа, и решил не спешить. Мы стали работать медленнее, тщательнее, расписание съемок изменилось, наконец-то мы могли вздохнуть чуть свободнее. В то время в Испании проходили футбольные матчи на Кубок мира, и на первых этапах первенства мои итальянские коллеги и я сочувствовали друг другу, поскольку наши команды играли довольно слабо. Вскоре испанская команда выбыла из игры, и мои римские друзья начали поддразнивать меня, но я не обиделся, тут же переключился и стал болеть за итальянскую команду, ведь Италия фактически стала моей второй родиной. Мне удалось попасть на финальный матч и приветствовать испанского короля Хуана Карлоса и президента Италии Сандро Пертини. В состоянии легкого помешательства, которое последовало за победой Италии, Пертини предложил мне лететь на следующее утро в Рим вместе с ним и итальянской командой, но я не смог принять его любезное приглашение, поскольку мне надо было вылетать гораздо раньше, чтобы успеть на съемки в Чинечитта. У всех солистов, не только у меня, время от времени возникали сложности с расписанием выступлений, поскольку работа растянулась и заняла очень много времени. То улетала, то возвращалась актриса, поющая Флору, отправлялся на спектакли в другие города актер, исполнявший партию Барона, и так далее и тому подобное. Ведь жизнь певцов рассчитана не только по дням, но и по часам. Совсем не так обстоят дела в мире кино, сроки работы там часто сдвигаются. Бывает, например, что съемки, запланированные на июнь, на самом деле начинаются порой только в сентябре. Ну да делать было нечего: каждому из певцов приходилось подгонять свое расписание под предложенные сроки. Так что самым сложным оказалось уладить, насколько это возможно, конфликт между миром оперы и миром кино. Франко решил сделать из меня блондина — прежде всего потому, что мои волосы при освещении в съемочном павильоне приобретали неприятный синий оттенок. Кроме того, по его просьбе я отрастил бороду. Пока мы снимали фильм, раз в десять дней мне красили волосы и раз в три дня бороду. Представляете, какая это была пытка! Во время съемок «Травиаты» я получил возможность еще больше оценить Дзеффирелли, мое восхищение его талантом непрерывно росло. Я испытывал огромное удовольствие, наблюдая, как он работает в двух, самых любимых им, видах искусства: опере и кино. Еще раз хочу подчеркнуть особенности таланта Дзеффирелли: как точно видит он мельчайшие детали, как удивительно, я бы сказал, изысканно, умеет заполнить пространство — чуть подвинет растение, стол, канделябр, и кадр приобретает неповторимую красоту. Хочу отметить и пластичность, тонкость нюансировок Дзеффирелли, удивительное освещение его фильмов. В нашем фильме были замечательные декорации, их сделали по эскизам Джанни Куаранта, художником по костюмам был Пьеро Този, а за свет и качество съемок отвечал Эннио Гварньери. Освещение, надо сказать, получилось просто волшебное. Този — художник очень образованный, тонкий и обладающий великолепным вкусом. Франко удалось сплотить вокруг себя по-настоящему способных людей, истинных профессионалов. Это касается всех сфер его жизни — у него везде трудятся великолепные специалисты, от технического персонала до секретарей и домашней прислуги. Дзеффирелли больше, чем любой другой режиссер, прислушивается к мнению окружающих. Допустим, Франко работает над какой-то сценой и в это время то ли хорист, то ли статист обращается к нему с вопросом. Франко вежливо просит того чуть-чуть подождать и, как только освобождается, тут же разыскивает задавшего вопрос (хочу подчеркнуть: Франко никогда не забывает это сделать!) и беседует с ним. Он выслушивает любого, тщательно взвешивает все советы. Конечно, далеко не всегда он следует им, но выслушивает абсолютно серьезно. Не знаю, смог бы Франко сыграть на сцене или в фильме, но показывает роли певцам или актерам он блестяще, причем может представить любую роль — Яго, Сантуццу, Кармен, Хозе, Альфреда, Виолетту. Франко необычайно точно схватывает самую суть образа. Моя семья очень сдружилась с Франко, мы останавливались у него дома, много времени проводили вместе. Когда мы садились ужинать, Франко предлагал нам огромные порции пасты*. «Ну вот, Франко,— говорил я в таких случаях,— ты хочешь, чтобы я был стройным, а сам ставишь передо мной такую порцию, от которой и корабль пошел бы ко дну!» «Ты сегодня много работал, не обедал и поэтому вечером можешь поесть от души»,— отвечал Франко. Действительно я редко обедал, пока мы снимали «Травиату». После еды я обычно чувствую себя каким-то вялым, клюю носом, а на съемках надо было сохранять форму в течение всего дня. Однажды Франко приготовил для спагетти фантастический соус с грибами и еще какими-то необычайно вкусными добавками. Но Альваро вдруг закапризничал и попросил самый простой томатный соус. «Альваро, ты просто ничего не смыслишь,— смеялся над ним Франко,— надеюсь, ты сам убедишься в этом». Он сделал томатный соус для Альваро, но, естественно, когда Альваро попробовал более изысканный соус с грибами, он отказался от своего простецкого. «Я же говорил, что ты поступаешь глупо»,— смеялся над ним Франко. В начале сезона 1982/83 года я должен был спеть в «Метрополитен» шесть спектаклей «Джоконды» с Мартон и Макнейлом. Однако я очень сильно простудился и вынужден был прервать последний из этих спектаклей, спев только первый акт. После того как я ушел из театра, там началось нечто невообразимое: казалось, зал наполняла не обычная публика «Мет», а любители оперы из южных стран. По-моему, не меньше двадцати тысяч человек по сей день уверяют, что они были тогда в театре и видели все собственными глазами. Но поскольку я при этом не присутствовал, мне не хотелось бы вступать в полемику с людьми, причастными к событиям, происшедшим в театре после моего ухода (особенно нет желания упоминать кое-кого из певцов), я попросту воздержусь от комментария. Моя роль в этой истории такова: я действительно очень сильно простудился и за день до спектакля предупредил администрацию театра, объяснив, что мне лучше не петь. Но меня вынудили выйти на сцену.
* Итальянское мучное блюдо — любая из разновидностей макарон, лапши или клецок.— Прим. перев.
Мне ничего не оставалось, как попробовать спеть. Когда кончился первый акт, я почувствовал, что наношу страшный вред своему голосу, хотя звучал он довольно прилично. Я твердо решил отказаться от дальнейшего пребывания на сцене. Могу только добавить, что Ева Мартон была великолепной Джокондой. В конце октября, на фоне репетиций в «Ковент-Гарден», я совершил небольшое путешествие в Рим, чтобы принять участие в благотворительном концерте в Ватикане, где присутствовало восемь тысяч человек. Во время этого визита в Рим Марта, мальчики и я имели честь получить аудиенцию у папы Иоанна Павла II, а президент Пертини на торжественной церемонии удостоил меня звания Командора Республики. Вместе с Мути, Френи, Брузоном и Гяуровым я в четвертый раз открывал сезон в «Ла Скала», участвуя в новой постановке «Эрнани», которую осуществил Лука Ронкони. На мой взгляд, постановка была весьма спорной. После того как мы всей семьей отдохнули в Барселоне, я вернулся в Милан, чтобы начать 1983 год участием в записи «Дон Карлоса» под руководством Аббадо с хором и оркестром «Ла Скала». Состав исполнителей включал Катю Риччарелли, Лео Нуччи, Лючию Валентини Террани и Руджеро Раймонди. Мы записывали оперу по-французски, поскольку Верди исходно написал ее для парижской «Опера». В запись включен тот материал, который композитор купировал для премьерного спектакля. Именно я предложил исполнять для пластинки оперу по-французски. Дело в том, что запись «Дон Карлоса», сделанная в 1970 году Джулини — я имел честь принимать в ней участие,— совершенна, и, чтобы новая работа имела смысл, надо было придумать нечто новое, нетривиальное. 21 января 1983 года, находясь в Майами и принимая участие в постановке «Андре Шенье», я отметил свой день рождения — мне исполнилось сорок два года. В тот день я понял, что если немедленно не закончу эту книгу, то придется придумывать для нее новое название...
ВНИМАНИЕ, ЗАПИСЬ!
В восьмидесятые годы певцы стали проводить все больше времени перед микрофонами, перед теле- и кинокамерами, поэтому мне хочется хотя бы вкратце познакомить читателей с этой областью нашей работы. Думаю, очень многие неверно представляют себе современный процесс грамзаписи, особенно записи опер. Некоторые считают, что современная техника записи способна сотворить чудо: плохой спектакль будет звучать великолепно, все недочеты легко устраняются. С огорчением должен сообщить, что записи очень часто делают в лихорадочной спешке, когда на счету каждая минута работы, и, естественно, в результате такой гонки страдает качество. Когда мы записываем оперу, которую параллельно играем на сцене, вот тогда получается по-настоящему качественная запись. Когда дирижер, оркестр, хор, солисты тщательно отрепетировали произведение, затем дали ряд спектаклей, тогда весь этот сыгранный ансамбль может сделать превосходную запись — естественную, звучащую идеально слитно. При такой работе доделывать, дочищать почти ничего не приходится. Но так мы работаем редко. В основном записи производятся быстро, урывками, и мы, исполнители, участвуя в них, испытываем огромное напряжение — ради справедливости отмечу, что результаты в основном бывают неплохие. В последнее время большая часть оперных записей была сделана в Лондоне. Это обусловлено не только экономическими выгодами или условиями контрактов — дело в том, что английские оркестранты великолепно читают с листа. Если опера не входит в ходовой репертуар (например, «Любовь трех королей» Монтемецци или «Жанна д'Арк» Верди, в каждой из которых я записывался), обычный трехчасовой сеанс работы начинается с оркестрового чтения какого-то определенного фрагмента. Сначала оркестр репетирует без солистов, затем вместе с солистами. После часовой репетиции — а вы помните, что оркестранты играют данный фрагмент впервые в своей жизни,— его записывают, и запись остается для будущих поколений. Ужасный метод работы! Все исполнители находятся в страшном напряжении, выматываясь до предела. Кроме того, такой метод записи не дает возможности произведению развиваться естественно, созревать в нас, исполнителях. Если же музыканты знакомы с сочинением, если певцы вместе исполняли его на сцене, если, наконец, мы начинаем запись не с отдельного уродливого наброска, вот тогда мы можем позволить себе роскошь подумать об интерпретации, о различных нюансах и тонкостях. Разумеется, все мы профессионалы, а это звание предполагает, что надо уметь работать в любых условиях. Но все же, каким бы профессионалом высокой пробы ни был актер или музыкант, в неблагоприятной обстановке он не может полностью подчинить себе роль, добиться подлинной глубины исполнения. Конечно, случалось и так: я записывал хорошо знакомую партию с ансамблем исполнителей, тоже прекрасно знавших данное произведение, а тот или иной критик утверждал, что я раскрыл свою партию весьма поверхностно. Бывало и обратное: меня хвалили за глубокое проникновение в суть образа, а опера на сей раз записывалась на скорую руку. Но для меня главный судья — я сам. Я должен быть уверен в своей способности хорошо исполнить роль. Я уже так долго нахожусь на профессиональной сцене, что умею верно оценивать свою работу. В случае когда оркестрантам приходится читать с листа незнакомое произведение, было бы идеально, если бы дирижер мог провести две-три предварительные оркестровые репетиции, чтобы поработать над всем произведением целиком, прежде чем приступать к сеансам записи. Такой метод существенно лучше, чем система записи кусками, которая доводит меня и многих моих коллег до отчаяния. Однако часто более или менее приемлемый метод записи становится нереален из-за занятости певцов. Многие уверены, что можно бесконечно улучшать запись, повторяя какие-то отдельные фрагменты произведения. Да, иногда такой повтор идет на пользу, но, если певец в день сеанса не звучит, никакое повторение не поможет. Допустим, я недоволен каким-то фрагментом и хочу переписать его: с каждым повтором мой голос все больше устает и шансы спеть лучше соответственно уменьшаются. Если певец не может выполнить что-то с первого раза, вряд ли у него это получится с десятого. В дни, когда я делал свои первые записи, я бесконечно повторял одни и те же арии, повторял их столько раз, сколько мне позволяли, думая, что таким путем добьюсь наилучшего результата. Этот метод работы только запутал меня: в одной записи лучше звучала одна фраза, в другой — иная, и в конце концов, бесконечно повторяя одно и то же, я терял единую нить, пропадала цельность, непрерывность исполнения. Теперь я стараюсь записывать целые арии или даже более протяженные фрагменты произведения подряд и вижу, что первые пробы в восьмидесяти процентах случаев звучат лучше. Если, прослушивая записанное, я нахожу серьезные дефекты в исполнении, то, конечно же, переписываю эти места, но, если в целом запись устраивает меня, я предпочитаю даже оставить некоторые вокальные шероховатости, чтобы сохранить непрерывность записи. Очень жаль, что мне не удалось сделать монофоническую запись. Монозвук дает большое преимущество голосу, в то время как стереофонические записи, честно говоря, певцам не льстят. От развития стереофонических записей преимущества получают оркестр, дирижер. Многие певцы мечтают, чтобы кое-какие записи с их участием были переписаны, так как в них не удалось достичь идеального звукового баланса между голосом и оркестром. Я отнюдь не считаю, что певец всегда должен «перекрывать» оркестр, просто мечтаю об истинном балансе, когда все будут звучать идеально по отношению друг к другу. Звуковой баланс контролируется техническими работниками, ответственными за процесс микширования, и именно во время этого процесса происходят иногда странные вещи. Я ухожу из студии, проверив качество записи и одобрив его. Но когда через несколько недель или месяцев я получаю ацетатные пробы, то слышу, как сильно изменилось качество записи, и отнюдь не в лучшую сторону. Не то что мне не нравится моя интерпретация или мой вокал — я имею в виду чисто технические проблемы, которые возникли уже после сеансов записи, во время подготовки первого оригинала. Например, когда я записывал «Отелло», я три раза спел «Esultate»*. Все остались довольны — и я, и Джимми Ливайн, и хор, и мои коллеги. Я прослушал запись и утвердил ее. А когда получил пробную пластинку, оказалось, что нота ми-диез — третий слог в слове «esultate» — просто куда-то исчезла, ее совсем не было слышно. Таким образом, вариант, который остался на пластинке, не соответствует тому, что я записал в студии и утвердил. Цифровая запись — замечательное достижение. Хотя она еще недостаточно распространена, преимущества ее уже очевидны. При цифровой записи легко решается проблема звукового баланса. Уже сейчас существуют системы, записывающие каждый голос на отдельную дорожку — певец находится в изолированной, звуконепроницаемой кабине, где он слышит только необходимое ему музыкальное сопровождение. Затем происходит процесс микширования — все голоса соединяются в точном балансе. У этой новой методики есть очень интересная особенность: дело в том, что при желании певцы будущего смогут петь дуэты с великими певцами наших дней. Если какой-нибудь знаменитый певец в 2025 году захочет спеть с Монсеррат Кабалье, то технический работник просто вырежет из записи дорожку Доминго и мое место займет тенор будущего. Когда я думаю об этом, то прихожу к выводу: лучше бы нам как-то решить проблемы с контрактами, урегулировать расписание, чем развивать искусство, опираясь на это новое изобретение! По-моему, лучше всего записывать оперу таким образом: дирижер должен тщательно отрепетировать все произведение с оркестром и хором, затем всем составом исполнить его два или три раза. Тогда удастся сохранить непосредственность живого исполнения, и вместе с тем материал будет достаточно проработан. В таком случае можно добиться идеального исполнения, конечно, с учетом возможностей музыкантов, которые принимают в нем участие. Сегодня, скажем, мы записываем «Тоску», через два дня мы заново записываем ее, еще через два дня мы делаем это в третий раз. В такой ситуации концентрация каждого исполнителя будет максимальной, исчезнут проблемы, связанные с расписанием актеров. А то при нынешней системе сопрано прилетает сегодня и отдельно записывает свои арии и ансамблевые сцены, а тенор прибывает завтра и дописывает свои куски. Нет, такого уже не случится. Каждый из участников — оркестр за сценой, колокольчики, контрабасы — должен будет присутствовать в студии все время, отведенное на запись,— это станет непременным условием.
* «Ликуйте» (итал.).
Многие, впервые услышав меня на сцене, говорят, что мой голос звучит гораздо лучше, чем на пластинках. Вот вам одно из преимуществ сегодняшних несовершенных методов записи. Возможно, технический прогресс изменит ситуацию. Что я могу сказать о собственных записях? Когда я слушаю в студии только что сделанную пробу, то обычно бываю доволен. Когда через некоторое время прослушиваю уже готовую пластинку, впадаю в отчаяние, а когда мне вновь попадается эта запись лет через пять или десять, я отношусь к ней уже вполне спокойно. В тех случаях, когда мне удавалось записать одно и то же произведение несколько раз, каждая новая запись оказывалась лучше предыдущей. Я решил, что впредь буду переписывать заново какое-то произведение только в том случае, если накоплю достаточно нового материала, новых идей, если смогу существенно улучшить запись. В последние годы опера развивалась еще в одном направлении — стали довольно частыми экранизации опер для телевидения. Я целиком поддерживаю это направление. Мне кажется также разумным показывать оперу по телевидению с субтитрами на языке той страны, где идет трансляция. Этот безмолвный синхронный перевод позволяет слушателям следить за подробностями сюжета, прорывает барьер непонимания, который считается одним из главных недостатков оперы. Я не думаю, что оперу надо петь в переводе. Кроме всего прочего, перевод и не решает проблемы «понятности», потому что слушатели часто не могут разобрать слов, поющихся даже на их родном языке. В высоких регистрах — особенно это касается женских голосов — дикция не слишком отчетлива. В 1982 году я смотрел по английскому телевидению полную запись «Кольца нибелунга» Вагнера в постановке Булеза и Шеро — ее транслировали из Байрейта, постановка мне очень понравилась. Должен отметить, что субтитры существенно помогли мне: я не настолько хорошо знаю немецкий, чтобы уследить за всеми подробностями сюжета. Меня радует — и как исполнителя, и как зрителя,— что в последнее время так возросла роль телевидения. Я человек театра и не верю, что телевидение заменит живой художественный процесс. Находясь в театре, ты присутствуешь при рождении произведения искусства, это создает особую психологическую атмосферу — ее невозможно воссоздать в телепередаче. По-моему, главная польза от трансляций опер по телевидению заключается в том, что они возвращают людей оперному театру, воспитывают новых поклонников жанра. Люди, испытавшие радость от общения с оперой в телепередаче, непременно придут в театр, чтобы еще раз пережить приятные мгновения, только более непосредственно, живо. Кроме того, любой желающий может слушать оперу, сидя дома у экрана своего телевизора. Ведь не каждый физически в состоянии прийти в театр — среди зрителей есть много людей больных, старых или просто живущих вдали от больших городов. Ну а человек, живущий в городе, где есть крупный оперный театр? Этот зритель благодаря телевидению может познакомиться с постановками других театров мира. Чаще всего я участвовал в телетрансляциях опер из четырех театров: «Метрополитен», «Ковент-Гарден», «Ла Скала» и венской «Штаатсопер». Кроме того, я появлялся на телеэкранах во время трансляций из оперных театров Парижа, Барселоны, Мадрида, Сан-Франциско, Токио, Мехико, Гвадалахары, Монтеррея и многих других городов. В каждом театре телетрансляция имеет свои особенности: многое зависит от размеров театра и других его характеристик. Когда собираются транслировать какую-нибудь новую постановку «Мет», телевизионный режиссер с самого начала работает в тесном контакте со своим театральным коллегой. В наши дни новый спектакль зачастую с самого начала ставят, учитывая возможность его телетрансляции, чтобы потом не пришлось что-то менять, подгонять специально для телепередачи. Так было, например, с «Манон Леско» и «Травиатой», которые создали для телевидения соответственно Кёрк Браунинг и Брайен Лардж. (Обе постановки транслировались по телевидению на Европу.) Телевизионные камеры стояли уже на репетициях, а перед тем спектаклем, который снимали для телевидения, операторы активно работали на протяжении целых двух спектаклей: репетировали, «настраивали» свое оборудование. Иногда, просматривая «рабочую» пленку какого-нибудь спектакля, который не транслировали по телевидению, я не могу удержаться, чтобы не воскликнуть: «Черт побери! Как жаль, что этот спектакль не показали. Кто знает, смогу ли я так блеснуть в следующий раз?» Но существуют определенные правила, утвержденные профсоюзами, и демонстрироваться на телеэкранах будет именно тот спектакль, который запланирован. Конечно, было бы гораздо лучше, если позволяли бы записывать на пленку несколько спектаклей, а потом показывали бы версию, составленную из самых удачных фрагментов разных записей. Я понимаю, что элемент непредсказуемости, который есть в живом спектакле, безусловно придает зрелищу дополнительный интерес, возбуждает, но если вы смотрите спектакль через какое-то время, то какая вам разница, монтированная это съемка или немонтированная? Если благодаря монтажу можно повысить качество представления, то я безусловно за монтаж! В «Метрополитен» — а это один из самых современных театров — можно ставить телекамеры в очень широких проходах между рядами. Они не мешают никому из зрителей, не загораживают сцену. Лондонский Королевский оперный театр построен раньше, он меньше по размерам, поэтому там сложно разместить телевизионные бригады и оборудование. Съемочные камеры загораживают многим зрителям сцену, и когда в зале устанавливают телекамеры, то на определенные места не продают билеты. Поэтому телекамеры размещают в зале непосредственно перед спектаклем, который транслируют. Таким образом, при трансляции оперы из «Ковент-Гарден» мы вынуждены много времени тратить на предварительные репетиции для того, чтобы съемочная группа могла как следует подготовиться. Телевизионщики устраивают репетиции по утрам в пятницу и субботу, убирая камеры после каждого прогона, а потом снова делают свои прикидки в воскресенье — утром, днем и вечером, поскольку в «Ковент-Гарден» нет воскресных спектаклей. Еще одна репетиция, если она необходима, проходит в понедельник утром. Наконец, вечером того же дня идет прямая трансляция. Короче говоря, система подготовки телетрансляций в «Ковент-Гарден» противоположна системе, которой пользуются в «Метрополитен». Я принимал участие в двух телепостановках «Ла Скала» (в 1976 и 1982 годах). В обоих случаях это было открытие сезона. Во время подготовки к первой премьере, которая всегда происходит 7 декабря, в день покровителя Милана святого Амброзия, весь театр «отдан во власть» постановки, открывающей сезон. Сезон 1982/83 года начинался оперой «Эрнани». Съемочные камеры стояли в театре в течение всего репетиционного периода, но во время спектакля их постарались расположить так, чтобы они не мешали зрителям. Цены на билеты были столь высоки, что администрации театра пришлось затратить невероятные усилия и расставить телекамеры так, чтобы ни один зритель не имел предлога для жалоб. На пленку было снято два спектакля «Эрнани». В Италии оперу показали на рождество, чуть позже — в других странах, а затем сделали видеодиск и пустили его в продажу. В Вене профсоюзные правила очень жесткие, и, когда я пел там «Кармен» и «Андре Шенье» — эти спектакли тоже открывали сезоны,— телевизионным съемочным группам разрешили снимать только генеральные репетиции. Затем состоялась прямая трансляция первого представления. В венском оперном театре существует множество разных правил и ограничений, касающихся телесъемок, так - что передачи из этого театра обходятся телекомпаниям недешево. Снимать спектакли достаточно трудно. Чего стоят одни только проблемы освещения! Ведь добиться абсолютно одинакового освещения на разных спектаклях практически невозможно. То же самое и с костюмами — сегодня костюм кого-нибудь из актеров выглядит слегка по-иному, чем вчера, и предыдущую пленку использовать уже нельзя, поэтому телезрителям можно показывать только один вариант записи. В результате, когда в конце съемок делается окончательный выбор, то меньше всего принимаются в расчет вокальные и музыкальные качества записи. Конечно, серьезные просчеты устраняют, но, если певец или дирижер предпочитают один из вариантов, руководствуясь музыкальной оценкой, к их доводам прислушиваются в последнюю очередь, ведь главное для телевизионщиков — качество изображения. Ситуация улучшится, если изменятся профсоюзные правила и если все, не только музыканты, но и телекомпании, поймут, что гораздо выгоднее снимать серию спектаклей, а затем отбирать самый лучший материал из этих записей. До сих пор оркестрантам, хористам, техническому персоналу согласно профсоюзным правилам оплачивают каждый снимаемый для телевидения спектакль, даже если в конце концов из всех этих спектаклей делается одна пленка. Можнодобиться практически идеального варианта телевизионного оперного спектакля, если, скажем, отснять шесть спектаклей, а затем из каждого отобрать лучшие фрагменты. Такой вариант будет прекрасен и с музыкальной, и с вокальной стороны. И все же окончательное решение должен принимать режиссер телевидения. Ведь сплошь и рядом бывает так: тенору больше нравится, как он звучал в дуэте на одном спектакле, в то время как сопрано удачнее выступила в том же дуэте на другом представлении. А баритон вообще лучше всего исполнил свою партию в ансамбле как раз в тот день, когда остальные пели хуже. Каждый, естественно, настаивает, чтобы показали тот спектакль, где он был в ударе. Должен сказать, что такие распри, иногда довольно яростные, вспыхивают частенько. Мне бы хотелось, чтобы театральные постановщики и режиссеры телевидения, готовящие телетрансляцию оперы, работали в тесном контакте. Работники телевидения обычно хорошо знают свое дело, но плохо разбираются в театральных и музыкальных вопросах. Вот вам пример: по телевидению транслируют «Отелло» — Яго произносит: «Ревности остерегайтесь,// Зеленоглазой ведьмы...», и телекамера показывает только его, а ведь в этот момент очень важно видеть лицо Отелло, следить за его реакцией, наблюдать, как постепенно начинает действовать яд клеветы. Конечно, в данной сцене обязательно надо показывать обоих героев. Точно так же в то время, когда Отелло говорит: «Платок достался матушке моей // В подарок от ворожеи-цыганки», оператору надо направить объектив камеры не только на Отелло, но и на Дездемону — зрители обязательно должны видеть ее ужас и смятение. Сохранять максимальную координацию между текстом и требованиями телевизионного показа совершенно необходимо. Когда спектакль транслируют по телевидению, приходится существенным образом менять всю систему освещения, чтобы приспособить ее для телекамер,— это происходит почти во всех оперных театрах мира (исключением является парижская «Опера», в которой установлена очень совершенная система освещения, позволяющая обходиться при трансляции почти без «подгонки»). Мы репетируем и исполняем спектакли при определенном освещении, оно создает для каждой сцены необходимую атмосферу, и поэтому, когда для съемок все «осветляют», атмосфера нарушается. Нас, исполнителей, это выбивает из колеи. Когда поешь в театре, где на тебя смотрят тысячи глаз, испытываешь огромное нервное напряжение, но оно становится еще больше, если спектакль транслируют по телевидению и ты понимаешь, что за тобой наблюдают миллионы. Мне очень мешает яркая телевизионная подсветка, надеюсь, со временем все оперные театры освоят систему освещения парижской «Опера». Будущее телевидения — это кабельная система. Но, конечно, существующая телевизионная сеть не сдастся без борьбы. Придет время, когда любители оперы смогут каждый день смотреть трансляции из «Ла Скала», «Метрополитен» и других оперных театров мира. А исполнители смогут оставить следующим поколениям не только звучащие, но и визуальные свидетельства своей работы. Придет время, и мы привыкнем к тому, что наши спектакли регулярно транслируют по телевидению — это станет обычным делом и не будет вызывать в исполнителях особого напряжения, нервозности. По мере того как видеодиск все больше и больше входит в обиход, цифровая запись, связанная с ним, также влечет за собой огромные изменения. Цифровая запись очень совершенна, и многие оперные театры хотят записывать спектакли новым способом, а затем продавать эти записи. У нас, исполнителей, однако, появляется новая проблема, я бы, пожалуй, назвал ее проблемой исключительности. Если я участвую в видеозаписи «Богемы» с какой-то оперной труппой, то вынужден подписать контракт, в котором оговаривается, что я не буду принимать участия в телетрансляции этой оперы с другой труппой в течение нескольких лет. Мы, певцы, предпочитаем не подписывать таких контрактов. Во-первых, это связано с заботой о своих интересах, во-вторых,с тем, что большие оперные театры начинают использовать телевидение как важный источник дохода, и, если наиболее популярные певцы смогут свободно принимать участие в любых телетрансляциях, этот источник дохода перестанет быть таким неисчерпаемым. Мое мнение в данном вопросе таково: если я пел, скажем, в «Богеме», которую транслировали из какого-то оперного театра, в дальнейшем театр может использовать запись по собственному усмотрению. Но никто не имеет права запретить мне участвовать в «Богеме», которую транслируют из другого театра. Я убежден, что польза от моего участия во второй «Богеме» будет гораздо существеннее, чем «вред», нанесенный мною же первому театру. По мере того как телевизионная опера развивается, проблема становится все острее, совершенно ясно, что оперные театры и видеокомпании со временем должны будут разработать совместное соглашение. Некоторые считают, что певцу не стоит появляться на экранах слишком часто, принимая участие в разных телеверсиях одной оперы, иначе он рискует надоесть зрителям. Я с этим не согласен. Ведь если фильм вам нравится, вы можете с удовольствием смотреть его несколько раз. А мы говорим о разных постановках одного и того же произведения. Даже если взять одну постановку, все равно каждый следующий спектакль отличается от предыдущего, ни один певец не звучит одинаково в разные дни. У большей части телевизоров динамики низкого качества, поэтому, когда транслируют концерт или оперу, звук воспроизводится хуже, чем изображение. Система видеодисков все изменит. Мы получаем цифровую звукозапись плюс великолепное визуальное воспроизведение. При желании зритель сможет выключить изображение и просто слушать музыку. К концу восьмидесятых годов такие системы будут стоить недорого, и многие любители музыки смогут приобрести их. Единственный недостаток заключается в том, что видеокомпании, используя новую технику, изготовят диски, где будет представлен весь ходовой репертуар, а произведения менее популярные останутся за бортом. При такой растущей популярности телеоперы певцам приходится все время быть на высоте. Лишь немногие самые известные певцы, обладающие редкими голосами, могут рассчитывать на то, что их всегда будут приглашать в телепостановки опер, как бы они ни выглядели. Но менее популярным вокалистам придется постоянно следить за своей внешностью, всегда быть в хорошей физической форме. Если вам, скажем, шестьдесят лет и вы весите сто пятьдесят килограммов и при этом играете Кармен или Хозе, то одно дело, когда вы выходите на сцену театра, оставаясь на расстоянии пятнадцати-двадцати метров от слушателей, и совсем другое, когда вас показывают крупным планом на телеэкранах. Певцов с самого начала необходимо обучать игре перед камерой, ведь в наши дни съемки занимают все большее и большее место в творческой жизни актера. Нам необходимо научиться определенной жестикуляции— при съемках жесты должны быть не такими «крупными», более экономными и тонкими, мы должны постоянно помнить о расположении съемочных камер, чтобы в ключевые моменты не заслонять своих коллег. Нам надо научиться «дисциплине глаз». Поясню, в чем тут дело: когда певец выступает, скажем, в «Метрополитен», то между ним и зрителями, даже сидящими в первом ряду, такое расстояние, что движения глаз совершенно неважны. Но когда нас показывают крупным планом на телеэкранах, «дисциплина глаз» очень существенна, мы должны учиться ей, как киноактеры. Если мы расслабимся хотя бы на секунду, то можем тем самым полностью разрушить театральную магию. Так что съемки требуют от нас огромной затраты сил, но в конце концов помогают нам стать более тонкими актерами. Когда я просматриваю видеозаписи «Манон Леско» из «Метрополитен» или «Девушки с Запада» из «Ковент-Гарден», то понимаю, что играю в этих спектаклях как драматический актер. Такое открытие, конечно же, радует меня. Если зритель говорит про себя: «Ну, этот парень умеет только петь», значит, постановка провалилась, и неважно, каким был спектакль с музыкальной точки зрения. Работа над оперой в кино существенным образом отличается от телесъемки. В фильме-опере сначала записывается фонограмма,— записывается и монтируется. Затем снимается фильм, а мы, певцы, во время съемок только открываем рот под фонограмму. Для меня это сложный процесс и вот почему: если я пою во время съемок по-настоящему, то не слышу фонограмму и не могу открывать рот синхронно с записанным звуком. С другой стороны, если я совсем не пою (чтобы лучше слышать фонограмму), пропадает убедительность: зритель смотрит на экран, видит певца, у которого не напрягаются ни губы, ни мышцы шеи, и слышит при этом мощные звуки, исходящие из его горла. Должен заметить, что когда я беру верхнее си-бемоль, то в этот момент я не в состоянии ангельски улыбаться. Но самое тяжелое при съемках фильма — это огромное количество дублей. Мы можем работать целый день, а в результате в фильме останутся всего четыре минуты из отснятого материала. Допустим, сняв пять-шесть дублей, вы наконец удовлетворены результатом, а тут вдруг выясняется, что надо изменить освещение или переставить цветы, которые стояли в вазе где-то на заднем плане. Особенно трудно сохранять необходимое внутреннее состояние, когда бессчетное количество раз снимают скорбную, печальную сцену, ведь вокруг толкутся сотни людей и к тому же перед включением мотора по радио громко объявляют о том, что идет съемка. Я в таких случаях стараюсь уединиться, чтобы сохранить необходимую концентрацию до последнего момента. Во время съемок одной из сцен «Травиаты» мне надо было плакать. Сцену снимали бесконечно, и после очередного дубля я сказал Дзеффирелли: «Франко, прости, мои ресурсы иссякли. Не могу выжать из себя больше ни одной слезинки». Дисциплина киноактера существенно отличается от дисциплины актера театра. Последний вводит себя в соответствующее состояние до спектакля, уже за день до выступления он готовится к выходу на сцену, внутренне концентрируется. День полностью посвящен подготовке к спектаклю; каждый актер проводит его по-своему. А потом он выходит на сцену, играет — и хорошо это или плохо, но через три-четыре часа занавес опускается. Чтобы сниматься в кино, прежде всего нужно находиться в великолепной физической форме. Вас могут вызвать гримироваться к половине седьмого утра, что для театрального актера, который обычно ложится спать в час, а то и в два ночи и утром встает довольно поздно, просто убийственно. Конечно, к работе на студии пытаешься как-то приспособиться, но это вовсе не просто, особенно когда в «кинодни» вклиниваются спектакли. Во время съемок «Травиаты» случалось, что я уходил из театра в час ночи, перекусывал на ходу, на пару часов засыпал, а потом меня везли в аэропорт, чтобы, прилетев в Рим, прямо из аэропорта отправиться в Чинечитта. Но со временем я привык к такому жесткому расписанию, к тому же мне повезло — моя нервная система пока что сбоев не дает. ...Вы репетируете какую-нибудь сцену, потом ждете, пока будет установлено нужное освещение. Технические работники просят сорок минут, значит, они будут возиться часа полтора. Потом вы снова репетируете перед камерами, и наконец съемка начинается. После нескольких дублей режиссер находит, что освещение надо изменить, или решает снимать все крупным планом. Вы опять ждете. Затем съемка начинается заново. Часто на какой-нибудь фрагмент в тридцать секунд уходит пять-шесть часов съемочного времени. Поэтому очень важно уметь отдыхать. Я научился быстро засыпать: уходил в гримерную и, пока налаживали освещение, час-полтора спал. Иногда я засыпал и прямо в декорациях, расположившись на одном из диванов Виолетты, который по ширине можно сравнить только с королевской кроватью. Когда снимаешься в кино, конечный результат так отдален от тебя во времени, что успех, признание как бы принадлежат уже другому человеку: ты видишь, Как зрители реагируют на твою работу, но сам ты уже забыл владевшие тобой чувства, состояние во время съемочного периода. В этом отношении работа в кино сопряжена с определенными стрессами, особенно для тех, кто привык выступать в театре, где исполнитель сразу получает непосредственную, прямую реакцию зала (даже если она не' всегда благоприятна). В театре актер ни на миг не теряет связи между собой и зрителем, между собственными ощущениями от своего исполнения и впечатлением, которое его работа производит на зрителей. Но, хотя фильм и не приносит исполнителю непосредственного удовлетворения, которое дает удачный спектакль, фильм — это документ, он остается на долгое время. И если во время съемок певец чувствует себя кем-то вроде пехотинца, находящегося на поле битвы мамонтов, то, когда фильм выходит на экран, он оказывается главной фигурой: его показывают крупным планом, зрители видят малейшее изменение в выражении его лица, каждый его жест, и видят это так близко, так подробно, как никогда не случается в театре. Тем не менее зрители (и я в том числе) запоминают какие-то особенные, сверхэмоциональные театральные спектакли. И причина не в том, что тот или иной певец в этот вечер особенно блестяще исполнил свою партию. Такое особое впечатление связано чаще всего с состоянием данного слушателя, с его сверхвосприимчивостью в день спектакля, которая максимально повышает его сопричастность тому, что происходит на сцене. Когда мы годы спустя с радостью вспоминаем какой-то спектакль, к нам возвращаются чувства, которые владели нами в тот вечер.
НЕСКОЛЬКО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СООБРАЖЕНИЙ
ПЕТЬ ЛИ ТЕНОРАМ ПАРТИЮ ДОН ЖУАНА?
Еще на заре своей оперной карьеры я спел в сорока двух спектаклях моцартовского шедевра— «Дон Жуана». Теноровая партия в «Дон Жуане» — Дон Оттавио. Дон Оттавио, жених Донны Анны, неплохой в общем парень, хотя и немного трусоват. Этот образ малоинтересен не только рядом с мощной фигурой протагониста, но и в сравнении с остальными персонажами оперы. Моцарт написал для Оттавио две красивые, но абсолютно традиционные арии и поместил их, для контраста, рядом с самой удивительной на свете музыкой, которая вообще когда-либо была сочинена. Образ Дон Жуана совсем другое дело. Тут перед нами личность мощная, обладающая одновременно и отталкивающими, и привлекательными свойствами, характер сложный, полный энергии,— конечно, любой певец-актер мечтает о такой роли. К большому огорчению теноров, Моцарт написал партию Дон Жуана для высокого баса или баритона. Некоторые тенора XIX столетия, например знаменитый Мануэль Гарсиа, пытались — и довольно успешно — справиться с этой партией, но в наши дни ни один тенор не поет Дон Жуана. В 1980 году, давая интервью в антракте во время телетрансляции «Манон Леско» из «Метрополитен», я открыл свою огромную пасть и сказал, что рано или поздно хочу попробовать спеть Дон Жуана, что задача, конечно, очень трудная, но, если бы я справился с ней, это было бы для меня огромным достижением. На следующий день я получил телеграмму от Герберта фон Караяна: он предлагал мне работать с ним над «Дон Жуаном», если, конечно, я не пошутил во вчерашнем интервью. Караян так зажегся этой идеей, что решил включить постановку «Дон Жуана» в Зальцбургский фестиваль 1983 года. Я ответил ему, что говорил о партии Дон Жуана совершенно серьезно, но хотел бы немного подождать с этой затеей. Чуть позже я объяснил Караяну, что твердо решил не петь партию до 1986 года. Это решение далось мне с большим трудом. Будучи и режиссером, и дирижером постановки, Караян, прими я в ней участие, имел право полностью подчинить меня своей точке зрения на драматическое и музыкальное решение образа. Дон Жуана изображают обычно либо весьма агрессивным, либо холодным, расчетливым соблазнителем. Обе эти трактовки образа кажутся мне мелковатыми. По-моему, Дон Жуан должен уметь весьма убедительно изобразить большую нежность, которую он испытывает к женщинам. Скорее всего, после многочисленных приключений в его душе этой нежности не осталось, но, если бы он не умел выразительно передавать все оттенки чувства, он не одержал бы стольких побед над женскими сердцами. Дон Жуан должен быть похож на сладкоречивого, изящного испанского дворянина, идальго. Когда он чувствует, что это необходимо для достижения его цели, он переигрывает и становится театральным, но лишь изредка, на короткое время. С вокальной стороны партия не представляет для меня особых трудностей. Я могу спеть все ноты, которые есть в партии, и в состоянии добиться необходимой гладкости исполнения. Сложность в другом: то, что блестяще звучит у баритона, у тенора так не звучит. В фильме, посвященном Севилье, я пел в исходной тональности арию Дон Жуана с шампанским. Все места арии, написанные в низкой тесситуре, не трудны, но тем не менее они меня беспокоили, потому что я не мог достичь того качества звука, к которому стремился. В опере есть два момента, которые могут быть действительно опасными для меня с вокальной точки зрения,— это две сцены, где участвуют Дон Жуан, Лепорелло и Командор. Первая сцена — в начале оперы, она кончается смертью Командора, вторая — в самом конце, когда Командор возвращается в качестве Каменного гостя и тащит Дон Жуана в ад. В обеих этих сценах меня могут заглушить более глубокие, мощные голоса Командора и Лепорелло. Сцены, где участвуют Дон Жуан и Лепорелло, не столь опасны для тенора, если правильно подобран исполнитель партии Лепорелло. Кстати, мне кажется, что в любом случае Лепорелло не подходит слишком мощный голос, он вступает в противоречие с характером героя. Дуэт «Ручку мне дашь свою ты» и серенада не представляют для меня никаких трудностей. Конечно, очень хотелось бы спеть Дон Жуана, но прежде, чем решиться на такой шаг, надо серьезно все обдумать.
КАК ПЕТЬ ВЕРИСТСКИЕ ОПЕРЫ
Когда я пою двойной спектакль Cav-Pag*, то думаю о весьма интересном, но каком-то лихорадочном периоде в истории итальянской оперы. В это время стали очень популярными веристские композиторы, даты рождения которых приходятся на 1850—1860 годы. Театральная ситуация в Италии, где в основном идут спектакли традиционного репертуара, достаточно сложна и в наши дни. Но в то время, когда композиторы буквально сражались за признание у широкой публики, атмосфера, по-видимому, была просто чудовищная. Чтобы иметь возможность поставить свои произведения, композиторы-веристы должны были соревноваться друг с другом, добиваясь поддержки крупных издателей. Это была борьба за выживание, где неудачник выбывал из игры навсегда. Я люблю «Сельскую честь» и «Паяцы». В свое время Джильи исполнял обе оперы в один вечер, но сейчас, по-моему, я единственный тенор, который берет на себя такую нагрузку. Певцов в основном отпугивает не то, что надо за один вечер сыграть два столь различных характера, и даже не объем музыкального материала. (Хотя если посчитать, то надо спеть Сицилиану, дуэт с Сантуццей, Застольную, арию Туридду, прощание с мамой Лючией в «Сельской чести», а затем «Большое готовлю для вас представленье», ариозо «Сердце Недды», небольшой дуэт с Неддой, «Ты наряжайся» и «Нет! Я не паяц» в «Паяцах» — музыкальные фрагменты, различные по характеру, но все очень важные.) Самое сложное не это; труднее всего войти в один характер, в одну жизнь, выйти из нее, а потом, тут же, начать выстраивать другую судьбу. Когда я кончаю петь «Сельскую честь», когда я уже прожил трагедию Туридду, я эмоционально истощен, выжат, а мне надо еще воплотиться в Канио и снова совершить полный жизненный круг.
* В оперном мире так принято называть «Сельскую честь» и -Паяцы»_по первым слогам итальянских названий.— Прим. перев.
Что касается вокала, партия Канио более выигрышна, чем партия Туридду, однако создать образ Туридду сложнее. Характер Канио ясен с самого начала и не меняется: по мере того как разворачиваются события, он просто становится все более угрюмым и на передний план выступает какая-то грубая сила. А Туридду испытывает самые разнообразные чувства, причем многое ему приходится скрывать. Он любит, лжет, изменяет и при этом всегда понимает, что он делает. Я пел обе партии в один вечер в Гамбурге, Вене, Барселоне, Сан-Франциско, Мюнхене, Вероне, в таких театрах, как «Метрополитен», «Ла Скала», «Ковент-Гарден» и так далее. Теперь я решил, что буду вести этот изматывающий «турнир» лишь в особых случаях. (Хочу сказать пару слов критикам: когда я отдаю этим партиям все свое сердце и свои легкие, мне неприятно читать рецензии, в которых написано следующее: «Как обычно, партии Туридду и Канио исполнил один и тот же тенор». Начнем с того, что подобное утверждение неверно, и думаю, самый скромный человек был бы уязвлен подобным сообщением, если учесть то, о чем я писал выше.) «Сельская честь» всегда исполняется перед «Паяцами»— по-моему, это довольно странно. Однажды, во время генеральной репетиции в «Скала», я поменял оперы местами, и получилось прекрасно. Я слегка опасался вокальных сложностей, но они не возникли. По-видимому, принятый порядок опер сохраняется из-за того, что в «Сельской чести» сразу возникает напряженная атмосфера, а «Паяцы», как известно, кончаются словами «Комедии конец». Музыка Масканьи в «Сельской чести» значительнее, чем музыка Леонкавалло в «Паяцах». Но я очень признателен Масканьи за то, что он не превратил свой шедевр в трех-четырехактный спектакль. Певцам попросту не удалось бы справиться с оперой. Я никогда не пел ни одной из других опер Масканьи, хотя меня приглашали принять участие в «Маленьком Марате» в «Метрополитен» в сезоне 1982/83 года. Постановку выкинули из плана, что очень разочаровало меня, хотя, честно говоря, я нахожу эту оперу, так же как и другие оперы Масканьи — «Ирис» и «Вильям Ратклиф», например,— очень вредными для голоса. Драматический элемент здесь так силен, что вызывает постоянное перенапряжение. А некоторые оперы Леонкавалло, наоборот, очень хороши. Особенно мне нравится его «Богема», которая не выдержала конкуренции с «Богемой» Пуччини. Я записал две арии из «Богемы» Леонкавалло и хотел бы когда-нибудь исполнить эту оперу целиком. Из оперного наследия Умберто Джордано я пел «Андре Шенье» и «Федору». «Шенье» недооценивали в последние годы, потому что из-за пошлых, утрированных постановок сложилось во многом неверное представление о веристских операх. Кроме того, некоторые музыкальные интеллектуалы вообще весьма пренебрежительно относятся к произведениям веристов. Тем не менее, на мой взгляд, произведения композиторов этого направления в высшей степени оригинальны и таят россыпи прекрасных мелодий. В «Андре Шенье» партия баритона (Жерар) гораздо интереснее, чем партия Шенье. Характер Жерара все время изменяется, развивается, углубляется. В начале первого акта Жерар — лакей, слуга, а в конце действия, вдохновленный речами Шенье, он порывает с привычным бытом, сбегает от хозяев. Потом он вступает в войско революционной Франции, чтобы отомстить классу, виновному в его лакейском положении. Жерар злоупотребляет властью, проходит через ряд тяжких событий и в конце концов приходит к прозрению, к осознанию своей человеческой сущности. К концу оперы Жерар становится по-настоящему благородным человеком с тонкими чувствами. Шенье — законченный идеалист, всегда витающий в облаках. Разумеется, как личность он более совершенен, но с точки зрения драматургической не столь интересен. Его арии, сцена с Руше во втором акте, дуэты с Мадлен делают партию Шенье одной из интереснейших в репертуаре тенора lirico-spinto*. Музыка оперы, за небольшими исключениями, великолепна, «Андре Шенье» принадлежит к произведениям, которые я пою с наибольшим удовольствием. Как было бы замечательно, если бы в основе роли Шенье лежала более интересная драматургия! «Федора» намного слабее. Первое действие носит повествовательный характер, и, пока мы добираемся до сути, уходит уйма времени.
* Традиционное итальянское обозначение лирико-драматического тенора.— Прим. перев.
Если не считать нескольких неудачных мест, второй акт написан мастерски; третий менее интересен. Но в целом это произведение не первого ряда, оно сильно проигрывает в сравнении с «Шенье». Когда-нибудь мне хотелось бы принять участие в исполнении более поздней оперы Джордано «Ужин шуток». «Адриенна Лекуврер» — единственная опера Франческо Чилеа, в которой я пел. В этой опере состоялся мой дебют в «Метрополитен» в 1968 году, в ней же за шесть лет до того я одержал столь важную для меня победу в Мехико. На следующий день после спектакля в одной из газет появилась статья, где по-латыни провозглашалось: «Habemus Тепогет» («У нас есть тенор») по аналогии с тем, как Коллегия кардиналов объявляет «Habemus Рарат» после избрания папы римского. В музыке «Адриенны» есть блестящие места, но в основном качество ее невысоко. В первом действии предостаточно банальных повторов. Однако теноровая партия — за исключением трудной, бессмысленной арии в третьем действии — великолепна. Я пел также знаменитый, исключительный по красоте плач Федерико из «Арлезианки» Чилеа, но целиком эту оперу не знаю; не знакомы мне и другие произведения композитора.
СКОЛЬКО СТОИТ БИЛЕТ В ОПЕРУ?
Крупным оперным театрам мира необходимо пересмотреть систему цен на билеты. Я согласен с утверждением, что публика должна посещать оперу, видеть хорошие постановки, даже если в них не участвуют певцы экстракласса. Тем не менее ведущие оперные театры обязаны «обеспечивать» слушателей самыми лучшими певцами. Когда администрация этого не делает, она теряет право продавать билеты по безумным ценам. Если большую часть главных партий, или даже все эти партии, исполняют певцы, еще не заслужившие высокой международной репутации, то посетители «Мет», «Ковент-Гарден», «Ла Скала» и других крупнейших оперных театров получают полное право на недовольство. В спорте, например, цены на мероприятия разных категорий различны. Тот же принцип безусловно надо ввести в театральную практику. Хочу добавить, что мероприятия категории «С» могут быть столь же интересными и качественными, как и мероприятия категории «Л», но ничего не поделаешь: как ни верти, это мероприятия разных категорий.
КТО ГЛАВНЫЙ В ОПЕРЕ?
По-моему, споры о том, кто в опере главный — певцы, дирижер, режиссер или сценограф,— бессмысленны. Опера, если она хорошо поставлена,— самое прекрасное на свете зрелище. Чтобы получился по-настоящему хороший спектакль, все в нем должно быть сделано великолепно. Тем не менее опера не может существовать без певцов. Можно воссоздать в воображении декорации, когда сцена на самом деле пуста; можно убедить себя, что постановка, в которой исполнители расположились рядком, как кружочки колбасы на блюде, действительно воспроизводит драматическую ситуацию; можно в конце концов слушать оперу под аккомпанемент фортепиано, если нет оркестра. Но, повторяю, без певцов опера существовать не может. Однако признаюсь: когда оркестр играет плохо, то и я не лучшим образом исполняю свою партию — уменьшается моя самоотдача; если у оркестрантов грешит интонация, и моя тоже не может быть безупречной. Если постановка не самого высшего качества, нет никакого смысла занимать в ней первоклассных исполнителей.
КАК МЫ НАЧИНАЕМ НЕНАВИДЕТЬ ОПЕРУ
Я знаю, что есть интеллигентные люди, которые любят музыку и не признают оперу. По-видимому, их первое знакомство с оперой было неудачным — они попали на плохую постановку. Кто же может бросить в них камень за то, что они возненавидели этот вид искусства? Нет ничего более фарсового, чем плохой оперный спектакль. Конечно, поклонники оперы легко прощают любимому жанру многочисленные недостатки. Поэтому я советую им, когда они берут с собой друзей или родственников— в особенности если это молодые люди,— первый раз направляющихся в оперу, очень осмотрительно выбирать спектакль. Когда я вижу посредственный оперный спектакль, в котором все сделано не лучшим образом, я чувствую не только разочарование, но и стыд. Мне стыдно за наш жанр — ведь люди, впервые пришедшие В театр, могут получить неверное представление о том, что такое опера, или по крайней мере о том, какова она должна быть.
СОВЕТ РЕЖИССЕРАМ
Работая с Поннелем и Дзеффирелли, я понял одну вещь: их преимущество перед другими режиссерами состоит в том, что они сами являются сценографами своих постановок. В их постановках такое единство действия и «среды», которого трудно, а может быть, и невозможно достичь, когда над постановкой работает один человек, а над декорациями — другой. Фаджиони теперь тоже все чаще выступает как сценограф своих постановок. И я думаю, что именно поэтому ему удается все более совершенно и полно воплощать свои идеи. Мне кажется, постановщикам следует избегать также слишком интеллектуализированных, слишком абстрактных решений спектаклей. Слушатели не должны поминутно заглядывать в программки, чтобы разобраться в происходящем на сцене. По-моему, любая интерпретация должна прояснять действие, а не усложнять его. Если же какая-то деталь в постановке запутывает, а не разъясняет суть произведения, если ее не способен понять четко мыслящий человек, значит, она неверно использована. Вот вам интересный пример. Патрис Шеро поставил в Байрейте «Кольцо нибелунга» Вагнера. Вначале многие жаловались, что постановка слишком сложна для восприятия. Затем Шеро написал книгу об этой постановке, и тут же все наперебой стали восхищаться спектаклем. До выхода книги критика была довольно суровой. Для меня это, во-первых, типичное проявление снобизма, а во-вторых, при таком способе общения режиссера со зрителями отрицается непосредственное воздействие театра на человеческие чувства.
ИСПАНСКАЯ МУЗЫКА В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ; ПОЧЕМУ Я ИСПОЛНЯЮ ПОПУЛЯРНУЮ МУЗЫКУ
Я много думаю об испаноязычном населении Соединенных Штатов, у меня есть проекты, связанные с этими людьми. Мне кажется, их культурное наследие никем просто не принимается в расчет, о нем забыли самым постыдным образом. Испаноязычная популяция в США сейчас насчитывает около девятнадцати миллионов человек. Многие из этих людей справедливо чувствуют себя обиженными, ведь в стране, где они живут, бог весть что выдается за их культурное наследие: бесконечные телевизионные сериалы, преимущественно для домохозяек, грубые ритмы музыки Карибского бассейна — вот и все, пожалуй. Вряд ли это адекватно отражает такую богатую многонациональную культуру. Конечно, кого-то устраивают эти малоинтересные передачи, но я уверен, что многие оценили бы и полюбили совсем другое, будь им предоставлена такая возможность. Если мне приходится весь день иметь дело с английским языком, то отдохнуть, расслабиться я мечтаю, говоря на родном языке или слушая родную испанскую речь. И коли единственное развлечение, доступное испаноязычному населению США,— это передачи, о которых я говорил выше, то, разумеется, все будут, за неимением лучшего, смотреть и слушать эти передачи. Как-то исправить сложившуюся ситуацию пытается Рене Ансельмо, директор Испанской национальной международной телесети. В настоящее время я провожу в США примерно треть своего времени, и мне бы хотелось оказать реальную музыкальную помощь испаноязычному населению Соединенных Штатов. Во-первых, существует сарсуэла. Я уже планирую поставить несколько сарсуэл в Лос-Анджелесе во время Олимпийских игр 1984 года — надеюсь, они привлекут внимание к испаноязычной культуре. Но, кроме сарсуэлы, жанра, который родился в Испании, я постараюсь заинтересовать испаноязычных американцев музыкой их собственных стран — здесь, безусловно, можно отыскать настоящие сокровища. Конечно, эта музыка требует соответствующего исполнения. Еще в молодости я был очарован Хорхе Негрете, лучшим исполнителем мексиканской песни, и Карлосом Гарделем, который занимал аналогичное положение в аргентинской музыке. Песни, которые они пели, любили не только в их странах, но и по всей Латинской Америке. Примерно в то время, когда я начинал свой творческий путь в Мехико, Хорхе Негрете и Педро Инфанте, другой знаменитый мексиканский певец, ушли из жизни. Считалось, что я должен стать их последователем и сниматься в популярных мексиканских фильмах — петь там мексиканские песни, как это делали Негрете и Инфанте. Однако именно тогда начался мой роман с оперой, и пути назад не было. Конечно, если бы мне не удалась карьера оперного певца, скорее всего, я стал бы последователем Негрете, Инфанте, Гарделя. Я очень люблю мексиканскую и аргентинскую музыку, поэтому в последние годы записал пластинки с мексиканскими и аргентинскими песнями. Я также напел несколько американских песен с Джоном Денвером. Вот как родилась эта запись. Мильтон Окун, независимый продюсер грамзаписи, и его жена, Розмари, случайно увидели меня в телевизионном шоу под руководством Джонни Карсона. В тот вечер я пел по-испански отрывок из мюзикла «Моя прекрасная леди». Они тут же начали уговаривать меня записать пластинку популярных песен. Должен сказать, они проявили редкую настойчивость. Как обычно, я был страшно занят, но Мильтон и Розмари оказались настолько упорны, что в конце концов пришлось всерьез задуматься над их предложением. Когда мы наконец решили определить репертуар, появилась идея записать «Песню Анни», которую сначала с большим успехом исполнял Джон Денвер, а потом Джеймс Гэлвей. Обдумывали, не записать ли песню в исполнении всех троих — меня, Денвера и Гэлвея. Этому плану не суждено было осуществиться. Но Денвер, большой друг семьи Окун, пришел в студию и спел мне свою песню «Может быть, любовь», которую он тогда собирался записать на пластинку. Песня мне сразу очень понравилась, и мы тут же начали петь вместе, варьируя подголоски. Мильтон поразился огромным возможностям дуэта Денвер — Доминго. Наш проект осуществился, и пластинка под названием «Может быть, любовь» была продана за полтора года в количестве одного миллиона пятисот тысяч экземпляров. Мильтон выступил продюсером в этой авантюре, но впоследствии он стал моим близким другом. Мне очень пригодились его советы в той области творчества, где у меня не было никакого опыта. Благодаря Мильтону я заключил контракт с фирмой «Си-Би-Эс Кроссовер» на участие в ее серии «Шедевры». Успех моих записей латиноамериканской и североамериканской популярной музыки радует меня по двум причинам: первая — достаточно эгоистичная, вторая — гораздо более альтруистична. С одной стороны, я могу петь для тех, кто не любит оперу, появляется возможность завоевать и их любовь — значит, моя популярность становится шире. С другой стороны, при помощи этих записей я привлекаю интерес к опере. В частности, я получал письма из Англии — мои корреспонденты писали, что еще полгода назад они не слышали даже имени Пласидо Доминго и не имели понятия об опере. Наша пластинка возбудила их любопытство, они пошли в «Ковент-Гарден» послушать меня в «Сказках Гофмана», и опера так понравилась им, что они стали регулярно посещать оперный театр, слушать другие оперы с другими певцами. «Благодаря Вам мы всей душой полюбили оперу»,— писали они. И таких писем было много, значит, эксперимент оказался успешным во многих отношениях.
МУЗЫКА В ИСПАНИИ И В МЕКСИКЕ
В самой Испании бытует ошибочное мнение, что испанцы немузыкальны или что, во всяком случае, Испания может обойтись без музыки. Музыкальность испанцев долгое время недооценивалась. Я испытал это на себе летом 1982 года, когда давал концерт под открытым небом в Мадридском университете. Попасть на концерт было очень трудно, а многим из тех, кто на него все-таки пришел, негде было даже присесть. Мест хватило на двадцать тысяч человек, остальные стояли, для них не нашлось даже травки! Тем не менее на концерте присутствовало около двухсот пятидесяти тысяч человек! Многие простояли на ногах целых два часа, и тем не менее бурно выражали свой восторг. А ведь часть слушателей, скорее всего, впервые встретилась с серьезной музыкой. Для меня этот концерт был очень важен. Конечно, меня глубоко тронула реакция моих соотечественников, но, помимо того, успех концерта, думаю, убедил людей, обладающих властью, в необходимости изменить отношение к музыке и обеспечить Мадриду в частности и Испании в целом богатую, насыщенную музыкальную жизнь. Давайте рассмотрим ситуацию с оперой в Мадриде. «Реал» был когда-то великолепным театром, но несколько лет назад его переделали в концертный зал. Зал этот сам по себе прекрасен, но перестройка помещения была ошибкой. Почти все столицы мира имеют большие оперные театры, но в Испании за последние десятилетия опера потеряла свой престиж. Минувшие двадцать лет оперные сезоны проходили в Театре сарсуэлы, и я, начиная с 1970 года, постоянно выступал там. Театр сарсуэлы сам по себе неплох, но он слишком мал и неважно оборудован для постановок крупных опер. До недавнего времени каждая опера игралась только два раза в сезон, и билеты стоили неимоверно дорого. Я убедил администрацию театра давать третий спектакль по доступным ценам. Результат превзошел все ожидания — чтобы попасть на спектакль, люди стояли за билетами по нескольку дней. Тогда мы добавили еще один, четвертый спектакль, а в 1982 году стали играть каждую оперу по пять раз — энтузиазма не убавилось. Люди записывались в очередь за двадцать дней до начала продажи билетов! В Мадриде собираются построить новый концертный зал, а театр «Реал» снова вернуть опере. Конечно, еще одна переделка здания потребует времени, но я верю, что когда-нибудь вновь увижу прекрасный оперный театр «Реал». Думаю, это произойдет в конце восьмидесятых годов. Барселона — город с богатыми оперными традициями. Многие великие итальянские оперы XIX века были поставлены в театре «Лисео» почти сразу после их премьеры на итальянской сцене. Я, однако, могу рассказать только о ситуации, которая существует там с середины шестидесятых годов, то есть о том, что я видел собственными глазами. Когда я жил в Барселоне, у меня были самые тесные контакты с театром «Лисео». Его тогдашний директор Хуан Антонио Памиас, человек по-настоящему преданный сцене, тратил собственные деньги на организацию театра и жил только его интересами, то есть походил на классических импресарио прошлого столетия. Его карман был достаточно глубок, но не бездонен, поэтому репетиций всегда не хватало и оперы в бешеном темпе сменяли друг друга на афише. Памиас мог запланировать по двадцать — двадцать два спектакля на три месяца, причем репертуар включал такие названия, которые не часто можно встретить в афише крупного оперного театра. Через три дня после «Тристана» шел «Вильгельм Телль», а «Девушка с Запада» стояла на афише рядом с «Парсифалем». Хотите послушать «Трубадура»? Прекрасно — поставим его для вашего удовольствия; а вот вам новинка— «Богема» Леонкавалло. Кстати, а почему бы нам не исполнить «Роберта Девере»? Главной целью Памиаса было угодить богачам, которые могли себе позволить купить любое место, любую ложу в театре. Памиас хотел предоставить им разнообразный, постоянно меняющийся репертуар. В то время в Барселоне жили многие испанские певцы — Кабалье, Арагаль, Лавирхен, Сардинеро, Понс и я сам (Каррерас тогда только начинал петь), все мы старались освободиться на несколько недель, чтобы провести рождество со своими семьями, поэтому собирались в Барселоне и пели вместе в замечательных спектаклях. Пока театр полностью не прогорел, мы провели там много счастливых дней. Мы давали «Бал-маскарад», «Аиду», «Сицилийскую вечерню» — впрочем, я уже рассказывал об этих постановках. Но сейчас вспоминаю те дни с большой теплотой. Однако ситуация постепенно, но неизбежно ухудшалась, я уже рассказывал почему. Оркестр был измотан, и отдача становилась соответствующей, хор звучал грубо, исполнители второстепенных партий пели как бог на душу положит, времени на сценические репетиции не хватало — впрочем, я рассказываю о положении в театре еще в слишком мягких выражениях. Дело дошло до предела на представлении «Африканки», в котором я пел вместе с Монсеррат. Некоторые из спектаклей театра «Лисео» транслировали по телевидению, но я попросил Памиаса, чтобы «Африканку» не показывали — постановка была очень низкого качества. «Африканка» — длинная опера, и я считал, что можно снять для телевидения несколько самых интересных фрагментов, а потом включить их в передачу, которая длится примерно час. Памиас согласился, но потом, не поставив меня в известность, начали транслировать всю оперу. Этот эпизод окончательно открыл мне глаза на положение дел в «Лисео», и я решил, что с меня хватит. Я не возвращался на сцену «Лисео» несколько лет. За это время Памиас умер. Сейчас покровителем театра «Лисео» является промышленник Луис Портабелла, мой личный друг. Многие годы он руководил работой Дворца музыки в Барселоне и устраивал там великолепные музыкальные празднества (например, концертное исполнение «Валькирии» с Биргит Нильсон, Кабалье и Викерсом) и гастроли лучших оркестров мира. В театре «Лисео» он каждый год планирует два разных сезона — один, регулярный, проходит с ноября до апреля, а второй, фестивальный,— поздней весной и в начале лета. Я уже принимал участие в фестивальном сезоне. Думаю, сейчас происходит возрождение театра «Лисео». Ежегодные оперные сезоны проходят также в Бильбао, Овьедо, Валенсии, Сарагосе и Лас-Пальмасе, в них участвуют знаменитые певцы. К сожалению, в последние годы я не пел там из-за полного отсутствия свободного времени. Мадридская постановка «Самсона и Далилы», осуществленная в 1982 году, имела такой грандиозный успех, что я предложил дирижеру Гарсиа Наварро и режиссеру Луису Паскуалю объехать с этим спектаклем всю Испанию (для чего нам надо «выкроить» два свободных месяца), чтобы продемонстрировать провинциальным городам уровень, к которому они должны стремиться. Моя мечта на будущее — найти время для такого турне. Есть идея устроить летний оперный фестиваль в Италике, римском амфитеатре в пригороде Севильи. Будет прекрасно, если этот проект осуществится. Уверен, что посвящение фестиваля, хотя бы частично, музыке, родившейся в Севилье или вдохновленной Севильей, на многие годы сделает Италику центром притяжения для любителей музыки. Относительно будущего музыкальной жизни Испании в целом я настроен оптимистически. Мне кажется, музыка постепенно начинаетзанимать достойное место в культурной жизни страны. Но нам всем предстоит еще очень много работы. Конечно, поддержку должно оказать и правительство, и частные лица. Финансовые вклады со стороны промышленников и деловых людей должны соответственно привести к снижению налогов, как это практикуется в США и во многих других странах. Кроме того, необходимо поднять уровень музыкального образования. Хотя я испанец и чувствую себя дома именно в Испании, конечно, я очень люблю и Мексику. Ведь тринадцать наиболее важных лет моей жизни, когда я формировался как личность, прошли в Мехико. Мои родители, сестра и некоторые родственники до сих пор живут там, и я сохранил самые тесные связи с этой страной. В музыкальном отношении Мексика сделала огромные успехи за последние несколько лет. Были образованы новые оркестры и театры, в самом Мехико музыкальная жизнь бьет ключом. Правда, не всегда удается подняться до самого высокого уровня исполнения, но уверен, со временем и эта проблема будет решена.
ТЕНОРА
Когда я был юношей, я часто слушал записи теноров прошлого, особенно Карузо и Джильи, и это сильно подстегивало мое честолюбие. Слушая Карузо, я всегда восхищаюсь его способностью максимально выкладываться, полностью отдавать себя образу, что бы он ни исполнял. Сила его голоса особенно впечатляла в диапазоне от фа до си-бемоль; а в пении Джильи больше всего привлекает его мягкий, «плавящийся» звук. Юсси Бьёрлинга часто обвиняли в холодности, но ни одна из его записей никогда не оставляла меня равнодушным. Меня всегда вдохновляли королевский звук, элегантная фразировка Бьёрлинга. Мигуэль Флета — мой соотечественник, в нем я особенно ценю темперамент, а в Тито Скипе — утонченность. Записи Аурелиано Пертиле, любимца Tocканини в «Ла Скала» двадцатых годов, примечательны прежде всего современностью его стиля, Пертиле великолепно звучал бы на сцене любого оперного театра сегодня, чего нельзя сказать о большей части его современников. Хочу подчеркнуть, что пример легендарных певцов прошлого — источник вдохновения, а не страха и зависти. Слушая их записи, ставишь перед собой все новые и новые задачи. Как и в других областях творчества, каждая индивидуальность несет в себе что-то новое, уникальное. Жизнь продолжается, и каждый ищет в ней свой собственный путь. В 1968 году, когда я дебютировал в «Метрополитен», в том же театре перед публикой впервые предстали два других тенора — Лучано Паваротти и Хайме (Джакомо) Арагаль. В чем-то их голоса похожи — неправдоподобно красивы, у обоих есть особая легкость в верхнем регистре. Лучано стал одним из самых знаменитых теноров нашего времени, в то время как Хайме не снискал того признания, которого он заслуживает. Что касается проблемы соперничества между Паваротти и Доминго, столь активно обсуждаемой сегодня, она существует скорее в умах определенных журналистов и фанатиков, нежели в жизни. Альфредо Краус и Хосе Каррерас, как и Арагаль,— мои соотечественники. Альфредо — великий стилист, представитель истинного бельканто с несравненными высокими нотами. В Хосе меня восхищает не только красивый голос, но и мужество — он идет своим путем, несмотря на многочисленные попытки диктовать ему, что он должен делать, а чего не должен.
МОИ СЫНОВЬЯ
Я всегда надеялся, что хотя бы один из трех моих сыновей выберет профессию, связанную с театром. Но за последние два-три года желание видеть сыновей служителями искусства значительно поостыло. Что такое наша жизнь? Постоянные странствия, предельно напряженная работа. Лишь бесконечные выдумки журналистов изображают наш мир совсем не таким, каков он есть на самом деле. Так что я уже не мечтаю о театральной карьере для своих сыновей. Если же они будут любить искусство так сильно, что не смогут выбрать себе других способов существования,— тогда другое дело. Конечно, я благодарен судьбе за дар, которым она меня наградила, радуюсь своим творческим успехам, но моя жизнь — сплошная цепь личных жертв, принесенных карьере. Природа наградила меня крепкой, устойчивой психикой и внутренним равновесием, поэтому все, что происходит вокруг— хорошее или плохое,— не в состоянии изменить мой характер, мое отношение к людям. Но где гарантия, что сыновья устроены так же, как я? Кстати, и они, и Марта уже многим пожертвовали ради моей карьеры. Наша профессия может очень пагубно повлиять на людей, которым не хватает стойкости, жизнелюбия; она способна принести им большое разочарование и даже отразиться на психике. Естественно, такого я своим сыновьям не желаю. Мне бы хотелось, чтобы они прожили свою жизнь радостно. Пепе, который обосновался в Англии и зовется теперь Джо, интересуется в основном фотографией — я полностью поддерживаю его в этом увлечении. Для собственного удовольствия он играет на гитаре. Когда эта книга выйдет в свет, ему уже исполнится двадцать пять, и я уверен, что его ждет насыщенная жизнь. Пласи, которому скоро будет восемнадцать, и Альваро, который подходит к пятнадцати, учатся в школе в Швейцарии. Ни тот, ни другой не стремятся продолжать потом учебу в колледже, но это обстоятельство не особенно меня тревожит. В деловом мире все более острой становится проблема безработицы, и выпускники колледжей при устройстве на работу не получают никаких преимуществ. Если вдруг кто-то из моих сыновей проявит серьезный интерес к искусству, к театру, я сделаю все возможное, чтобы помочь ему. Думаю, сыновьям повезло, что их отец не бизнесмен, хотя бы потому, что в семьях бизнесменов профессия наследуется. В мире музыки, в театре вы можете быть Людвигом ван Бетховеном-младшим или Уильямом Шекспиром-младшим, но имя само по себе не принесет вам никаких успехов. Альваро немного интересуется профессией режиссера, а Пласи, безусловно, обладает незаурядным музыкальным талантом: на фортепиано он может сыграть на слух все что угодно — от Верди до новейшей поп-музыки. Он написал для меня одну песню (я записал ее, когда делал альбом «Моя жизнь для песни»), а сейчас сочиняет новые. Я не удивлюсь, стань он третьим в нашей семье Пласидо Доминго, посвятившим жизнь музыке. А может быть, он вместе с Альваро займется каким-нибудь шоу-бизнесом. Ну что же — музыка у них в крови. Как любой отец, я могу часами рассуждать о будущем моих детей, но в конце концов они сами выберут себе дорогу в жизни.
ЗАМЫСЛЫ НА БУДУЩЕЕ
Я заканчиваю последнюю главу этой книги, готовясь к новой постановке «Манон Леско» в «Ковент-Гарден» (весной 1983 года), главную женскую партию будет петь Кири Те Канава, дирижером выступит Джузеппе Синополи, а режиссером — Гётц Фридрих. Осенью я появлюсь на сцене «Ковент-Гарден» в «Отелло», дирижером будет сэр Колин Девис. Мой дебют в Англии в качестве дирижера состоится в «Летучей мыши». В «Мет» осенью 1983 года я вместе с Джесси Норман и Татьяной Троянос буду открывать юбилейный, сотый сезон; мы исполним «Троянцев» Берлиоза под управлением Ливайна в постановке Фабрицио Мелано. Позднее в том же сезоне я спою в новой постановке «Франчески да Римини» Дзандонаи и приму участие в весенних гастролях театра, посвященных его столетию. Я уже дал согласие выступить в спектакле, открывающем следующий сезон «Мет»,— это будет «Лоэнгрин» под управлением Ливайна. Эльзу споет Анна Томова-Синтова, а Ортруду — Ева Мартон. Постановщиком станет выдающийся человек, крупнейший знаток театра Август Эвердинг. Кроме того, в 1984 году я буду дирижировать в «Метрополитен» «Богемой». Меня ждет и очень насыщенный год в «Ла Скала». В декабре 1983 года я в пятый раз буду участвовать в открытии оперного сезона в Милане, пойдет «Девушка с Запада». Вместе со мной в спектакле будут заняты Розалинд Плоурайт и Сильвано Карроли; дирижером выступит Лорин Маазель, а постановщиком — Луи Малль, знаменитый кинорежиссер. Месяц спустя мне предстоят записи «Трубадура» с Джулини и труппой «Ла Скала». Я приглашен также на открытие следующего оперного сезона в «Ла Скала», где под управлением Аббадо мы исполним «Кармен». В какой-то момент, когда у меня было оптимистическое настроение, я договорился с администрацией «Ла Скала» на постановку «Отелло» — премьера назначена на 5 февраля 1987 года — день столетней годовщины премьеры оперы. Прежде чем эта книга выйдет в свет, я приму участие в съемках фильма «Кармен» в постановке Франческо Рози (дирижер Маазель, Кармен исполняет Джулия Михенес-Джонсон, Микаэлу — Фейт Эшем, а Эскамильо — Руджеро Раймонди). Я собираюсь сниматься и в других фильмах — «Аиде» Дзеффирелли, «Турандот» Караяна и, может быть, в киноверсии «Веселой вдовы». Одна из самых привлекательных перспектив — это, конечно, съемки фильма «Сказки Гофмана», тем более что режиссером должен быть Ингмар Бергман. Дирижером выступит Сейджи Озава, с которым я пел только вердиевский «Реквием». Остальных участников фильма пока еще не нашли. Съемки планируется провести в 1984—1985 годах. Бергман говорит, что это будет его последний фильм. Я люблю немецкие Lieder* настолько, что не хотел бы петь их,пока не отшлифую каждую ноту. Вот еще один проект на будущее. В настоящее время я ограничиваю свою концертную деятельность в основном оперным репертуаром.
* Песни (нем.).
ПРЕДИСЛОВИЕ К МОИМ СЛЕДУЮЩИМ СОРОКА ГОДАМ
Жизнь мою можно назвать счастливой, и, работая над книгой, я с удовольствием вновь пережил ее события. Мне бы хотелось закончить мою историю, доверив вам заветную мечту: я мечтаю когда-нибудь основать серьезную оперную школу. Я часто с радостью вспоминаю дни, которые провел в Гамбурге в конце шестидесятых годов. Мы с дирижером Нелло Санти подолгу беседовали о вокальных стилях, обсуждали, как Карузо и Джильи поют отдельные фразы. Я с восторгом слушал рассказы Нелло о работе Тосканини, о том, как маэстро часами учил таких певцов, как Стабиле и Вальденго, исполнять два слова «un' acciuga» (анчоус) в вердиевском «Фальстафе». Конечно, мы с Нелло не ставили перед собой столь серьезных задач, но наши занятия привели к тому, что я совсем по-другому стал воспринимать искусство пения. Таких дней мне очень не хватает в нынешней жизни. Сегодня все ругают певцов — за их вечную спешку, нехватку времени на настоящую работу с дирижером и решение специфически музыкальных вопросов. Но плотное расписание вокалистов является лишь частью проблемы, и, может быть, не самой главной ее частью. Ведь у дирижеров не менее напряженное рабочее расписание, у них тоже нет времени решать с певцами какие-то вопросы интерпретации. Кроме того, все больше репетиционного времени стало уходить на решение постановочных задач. Это время проходит для певцов впустую, у нас слишком много сценических репетиций. Причем порою мы просто сидим на сцене, ничего не делая. В последнее время постановки в крупнейших оперных театрах бывают достаточно сложными и, естественно, требуют тщательной подготовки, но, к сожалению, в основном это происходит за счет музыки — музыкальной стороне спектакля зачастую уделяют слишком мало внимания и времени. Мы, певцы, теряем драгоценные часы, слоняясь по театру, пока хористы разучивают различные танцевальные па или репетируют сцены, в которых мы не заняты. Когда я писал эту книгу, то хотел прежде всего высказать некоторые свои соображения относительно подготовки певца к карьере в опере. Хорошая оперная школа позволила бы мне осуществить мои идеи на деле. После строгих прослушиваний я бы отобрал пятнадцать-двадцать молодых певцов из всех стран мира. Последнее слово при отборе принадлежало бы мне — я стану основывать свой выбор не только на вокальном потенциале и музыкальности певца, которые, конечно, должны быть самого высокого уровня, но прежде всего на интеллигентности, уме, способности учиться. Мне надо будет поверить, что каждый из отобранных певцов сможет достичь самого высокого уровня. Разумеется, поступающие в школу молодые люди должны быть уже достаточно подготовлены вокально, хорошо ориентироваться в смежных областях искусства и практически готовы начать самостоятельную карьеру. В течение года я работал бы с ними над вокальной техникой, готовил бы их к выступлениям, второй учебный год мы посвятили бы репетициям и выступлениям. Школа может функционировать при оперном театре, и молодые певцы стали бы получать полные стипендии. Каждый год школа может быть открыта восемь-девять месяцев. У студентов тогда появится вкус к работе, ведь им придется тяжко трудиться в течение двух лет обучения. Тем не менее жизнь их была бы прекрасной. Однако если в ком-нибудь из студентов я замечу хоть признак лени, то неминуемо расстанусь с ним. Десять студентов первого года обучения могут проходить подготовительный курс, а остальные, второго года обучения,— исполнять различные оперные партии. Для наших постановок мы бы получали из оперного театра все, что необходимо,— оркестр, хор, технический персонал. Каждый студент-второкурсник мог бы спеть раз тридцать-сорок за год, участвуя в нескольких постановках. Например, в первый год полезно раза два исполнить партию Сюзанетты, а на следующий год три раза выступить в роли Лауретты. Но безусловно, не это способствует окончательному формированию истинно профессиональной певицы. Главное — как можно больше работать, оперному артисту надо все время исполнять новые и новые партии. Мне бы хотелось привлечь к работе в школе настоящих профессионалов. Педагогами должны стать наиболее компетентные в своей области люди — музыканты, преподаватели иностранных языков, режиссеры, танцовщики, специалисты, обучающие движению и мимике. Конечно, певцам было бы полезно познакомиться и с технической стороной оперных постановок, им надо разбираться во всем — в гриме, костюмах, освещении. Я бы хотел привлечь к нашей работе и молодых дирижеров. Хорошие оперные дирижеры — редкость, хотя сегодня в мире есть много молодых дирижеров, уже достаточно подготовленных, которые мечтают работать в опере, но не могут найти возможности приобрести практический опыт. Школа обучала бы и режиссеров-постановщиков, сценографов и других специалистов оперного театра. Короче говоря, такая школа принесла бы большую пользу всему оперному миру. Школа могла бы помогать театрам двояко. С одной стороны, у меня была бы возможность обратиться к администрации «Метрополитен» или любого другого оперного театра: «Я вижу, у вас проблемы с певцами, вы ищете меццо-сопрано, лирического тенора и баса. Через два года они у вас будут, причем самого высокого класса». С другой стороны, мы могли бы принимать в школу молодых певцов, уже поющих в оперных театрах, но стремящихся совершенствовать свое дарование. Думаю, вы удивились бы, если бы узнали, сколько раз певцы, уже имеющие репутацию в оперном мире, приходили ко мне или к кому-нибудь из моих коллег за советом, за конкретной технической помощью. В школе можно было бы давать консультации подобного рода. Идеальное место для школы — Монако. Я рассказал о своем проекте принцессе Грейс незадолго до ее смерти, и она очень заинтересовалась проектом. Разумеется, меня привлекают не только климат и удобное расположение Монте-Карло — там находится замечательный оперный театр, подлинная жемчужина, но в настоящее время его не используют по-настоящему. Естественно, школу можно открыть и в моей родной Испании. Я уже обсуждал эту возможность с принцем Альфонсом Гогенлоэ, под чьим попечением процветает искусство в Марбелле, на побережье Коста-дель-Соль. Мы говорили с ним о размещении школы именно там. Администрации двух оперных театров (один из них — красивейший театр «Филармонико» в Вероне) обращались ко мне со своими предложениями. Конечно, у школы будут и чисто дидактические, учебные задачи. В каком бы городе, в конце концов, ни была открыта школа, мне бы хотелось, чтобы спектакли посещали дети и подростки, конечно соответствующим образом подготовленные. Они увидят, что многие из исполнителей ролей на сцене всего на несколько лет старше их самих, а между тем эти молодые певцы уже на пути к международной карьере — и по праву. Согласитесь, такой опыт очень полезен для подрастающего поколения. Некоторые друзья советуют мне не особенно распространяться по поводу моей идеи, пока я не буду готов полностью ее реализовать. Но, рискуя показаться тщеславным, я все же скажу, что мой личный вклад в обучение будет самым важным элементом программы, поскольку я всю жизнь отдал театру и накопил колоссальный опыт. Разумеется, я сам не смогу, да и не буду, вести всю административную и учебную работу, но мои идеи, уже давно оформившиеся в систему, мое участие в работе школы будут определять всю ее деятельность. Я верю, что у меня есть нюх (в нашем случае, скорее, слух) на настоящий талант. Бесполезно тратить усилия на людей, которые никогда не смогут достичь подлинных высот или — что более трагично — максимально развить природный талант. Разумеется, нельзя рассчитывать на стопроцентный успех, но, надеюсь, знания и чутье помогут мне избежать грубых ошибок. Конечно, эта цель в известной степени относится к области идеального, но мечта моя все же осуществима. Если бы я захотел, то мог бы уже сейчас, немедленно приступить к реализации своей программы. Однако я не тороплюсь. Мне бы не хотелось открывать школу, пока я пою на сцене. Лишь закончив исполнительскую деятельность, я смогу отдавать большую часть времени и энергии школе. Надеюсь, тогда я буду и больше дирижировать. Но ведь дирижерский труд не требует постоянной сосредоточенности на физической форме, на самочувствии, а певец много времени уделяет именно этим проблемам. Иногда я спрашиваю себя, насколько тяжело мне будет оставить сцену, когда придет время. Разумеется, я не хочу очутиться среди певцов, про которых говорят: «Господи, он все еще поет! Да он просто себя не уважает!» Могу представить, что лет через пятнадцать буду участвовать в мюзикле — например, исполнять роль профессора Хиггинса в испанской версии «Моей прекрасной леди», которую очень люблю, или петь другие партии в классических произведениях этого жанра. Хотя уверен, что не должен заниматься школой до тех пор, пока окончательно не уйду со сцены. Тогда я смогу делить время между дирижерской деятельностью и школой. Два этих дела целиком заполнят мою жизнь. Я смотрю в будущее с предвкушением новых радостей. Март 1983
АННОТИРОВАННЫЙ ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Аббадо, Клаудио (р. 1933) — итальянский дирижер. Закончил консерваторию им. Верди в Милане, совершенствовался в венской Академии музыки и сценического искусства. Победитель Конкурса им. Кусевицкого (1958). Победитель Конкурса молодых дирижеров им. Митропулоса (1963), что дало ему возможность на протяжении 5 месяцев работать с Нью-Йоркским филармоническим оркестром. Дебютировал в опере на Зальцбургском фестивале (1965). Музыкальный руководитель Европейского молодежного оркестра (с 1977), Лондонского симфонического оркестра (с 1983), «Ла Скала» (1971 —1986), венской «Штаатсопер» (с 1986). Удостоен Моцартовской медали (1973), крупнейших премий за грамзаписи. Обращается к музыке разных эпох и стилей, в т. ч. к произведениям композиторов XX в. (Шёнберг, Ноно, Берио, Штокхаузен), известен постановками опер Верди. Гастролировал в СССР с театром «Ла Скала» (1974). 100, 103, 108, 111, 117, 122, 124, 130, 153, 173, 175—178, 183, 190, 215, 248. Адлер, Курт Герберт (1905—1988) — австрийский дирижер И оперный администратор. Учился в Вене. Как дирижер дебютировал в театре М. Рейнхардта, затем дирижировал в венской «Фольксопер», театрах Германии, Италии, Чехословакии. Был ассистентом Тосканини в Зальцбурге (1936). С 1938 г. начал работу в США (Чикагская опера). С 1943 г. связывает свою судьбу с оперным театром Сан-Франциско. Организовал фонд для финансирования экспериментальных постановок, подготовки молодых певцов, спектаклей вне театра. 107, 178. Алъбанезе, Линия (р. 1913) — итальянская певица (сопрано). Дебютировала в миланском «Театро лирико» (1934). Считалась одной из лучших исполнительниц партии Баттерфляй. С 1945 г. живет в США. Участвовала в записях Тосканини для «Эн-Би-Си» (Виолетта, Мими). Ушла со сцены в 1966 г., продолжая периодически выступать в концертах. 106. Альва, Луиджи (р. 1927) — итальянский певец (лирический тенор), перуанец по происхождению. Начинал артистическую карьеру в сарсуэле (Лима, 1949). На оперной сцене — с 1952 г. (в Италии — с 1954). Пел в «Ла Скала», «Ковент-Гарден», «Метрополитен». Лучшие исполнительские достижения — партии в операх Моцарта и Россини, пел в современных итальянских операх (Малипьеро, Шайи). Гстролировал в СССР с театром «Ла Скала» (1974). 100. Амара, Люсин (р. 1927) — американская певица (сопрано). Училась в Сан-Франциско, пела в оперном хоре. Как солистка дебютировала в 1946 г. Спела более 40 ролей: Леонора, Аида, Баттерфляй, Мими, Татьяна, Донна Анна — в крупнейших театрах мира (венская «Штаатсопер», Глайндборнский фестиваль и др.). 106. Арройо, Мартина (р. 1936) — американская певица (сопрано). Училась в Нью-Йорке. В 1958 г. вместе с Г. Бамбри победила в конкурсном прослушивании для «Метрополитен», где исполняла сначала второстепенные роли. После европейского турне (1963— 1968) становится одной из ведущих солисток «Мет» в операх Верди, Пуччини, а также Моцарта и Вагнера. Поет в исполнении кантатно-ораториальных произведений, проявляет интерес к современной музыке («Моменты» Штокхаузена — Донауэшинген, 1965). 83, 93, 128, 129, 142. Архента, Атаульфо (1913—1958) — испанский дирижер. Учился в Мадридской консерватории как пианист, затем дирижированию— в Бельгии и Германии. С 1945 г. дирижер Национального оркестра Испании. В 1948 г. дебютировал с Лондонским симфоническим оркестром. Пропагандировал испанскую музыку, в частности творчество Гранадоса. 20. Бакье, Габриэль (р. 1924) — французский певец (баритон). Учился в Парижской консерватории. На оперной сцене дебютировал в 1950 г., выступал в «Гранд-Опера», на Глайндборнских фестивалях, в «Ковент-Гарден», «Метрополитен». Кавалер ордена Почетного легиона (1975). Исполнитель партий в операх Глюка, Моцарта, Россини, Верди, Мусоргского. 166, 167, 193. Бальтса, Агнес (р. 1944) — греческая певица (меццо-сопрано). Закончила Афинскую консерваторию. Лауреат конкурса им. Энеску (1964). Получив стипендию им. Каллас, училась в Мюнхене. Выступала в спектаклях Ж.-П. Поннеля (Цюрих, 1982), на Зальцбургском фестивале с Г. Караяном (1984 — 1985), Р. Мути (1983). В репертуаре партии Кармен, Амнерис, Розины, Эболи, Керубино, Октавиана, Иродиады. 201. Бамбри, Грейс (р. 1937) — американская певица (меццо-сопрано, сопрано). Училась в США (пению — у Лотты Леман). Выступала на сценах «Гранд-Опера», Байрейта, «Ковент-Гарден», венской «Штаатсопер», Зальцбургского фестиваля, «Метрополитен», «Ла Скала». Владеет репертуаром широкого стилистического диапазона. Исполнительница главной роли в фильме-опере «Кармен» (дирижер и постановщик — Г. Караян, 1968). Удостоена медали им. Вагнера (1963). Почетный член ряда университетов США. 80, 92, 112. Барбъери, Федора (р. 1920) — итальянская певица (меццо-сопрано). Дебютировала во Флоренции (1940). Выступала в «Ла Скала», «Метрополитен», «Ковент-Гарден». В репертуаре — более 100 ролей. Наибольший успех ей принесли выступления в операх Монтеверди, Перголези, Глюка, а также исполнение драматических партий в операх Верди. 105. Баренбойм, Даниель (р. 1942) — израильский дирижер и пианист. Закончил Академию «Санта-Чечилия» (Рим), стажировался у Э. Фишера, Н. Буланже, И. Маркевича, И. Крипса. Дебютировал как дирижер с Израильским симфоническим оркестром (1962). Гастролирует в крупнейших музыкальных центрах мира, ставит оперы (Байрейт, Эдинбург, Люцерн, Зальцбург), выступал в ансамбле с А. Рубинштейном, И. Стерном, Д. Фишером-Дискау, Дж. Бейкер, П. Цуккерманом, И. Перлманом, Жаклин дю Пре. Музыкальный директор «Оркестр де Пари» (с 1975). Удостоен Бетховенской медали (1958), медали Падеревского (1967) и многих других наград, в т. ч. за грамзаписи. Неоднократно выступал в СССР. 11, 178. Бартолетти, Бруно (р. 1926) — итальянский дирижер. Был ассистентом А. Родзинского, Д. Митропулоса, Т. Серафина во флорентийском «Театро коммунале», где дебютировал в 1953 г. Работал с оркестром «Маджио музикале» (1957—1964), ставил оперы классического итальянского репертуара в Датской Королевской опере (1957—1960), Чикагской лирической опере (1964). Дирижер «Театро дель опера» (Рим) (1965—1973). Известен как первый исполнитель сочинений современных авторов (Рокка, Малипьеро, Мортари, Хинастера). 168, 196. Бейкер, Дженет (р. 1933) — английская певица (меццо-сопрано). Училась пению в Лондоне. На оперной сцене дебютировала в Оксфорде (1956). Получила известность как исполнительница ролей в доклассических операх (Монтеверди, Перселл, Вивальди, Гендель), пела в операх Бриттена (специально для нее он написал партию Кейт Джулиан в телеопере «Оуэн Уингрейв», 1971), а также операх Доницетти, Берлиоза, Р. Штрауса. В камерном репертуаре — произведения Баха, Шуберта, Малера, Вольфа, Элгара. Удостоена Шекспировской премии (Гамбург, 1971), Пулитцеровской премии (за исполнение вокального цикла Д. Ардженто «Из дневника Вирджинии Вульф», Миннеаполис, 1975) и многих других. Почетный член университетов Лондона, Бирмингема, Оксфорда. Написала автобиографическую книгу «Полный круг» (1982). 98. Бём, Карл (р. 1894) — австрийский дирижер. Учился в Вене у Э. Мандычевского и Г. Адлера. Как оперный дирижер дебютировал в Граце (1917). По приглашению Б. Вальтера работал я мюнхенской «Штаатсопер» (1921 —1927). Музыкальный руководитель оперных театров в Дармштадте (1927), Гамбурге (1931—1933), Дрездене (1934—1943), венской «Штаатсопер» (1943 — 1945, 1954—1956). Проводил сезоны немецкой оперы в театре «Колон» (Буэнос-Айрес, 1950—-1953). С 1956 г. дирижировал во всех крупнейших музыкальных центрах мира. В 1971 г. участвовал в московских гастролях венской «Штаатсопер». Удостоен званий почетного дирижера Венского филармонического оркестра, генеральмузикдиректора Австрии, президента Лондонского симфонического оркестра. Выдающийся интерпретатор австро-немецкой музыки (Моцарт, Вагнер, Р. Штраус, Берг). 114, 174, 188, 189. Берганса, Тереса (р. 1935) — испанская певица (меццо-сопрано). Училась в Мадридской консерватории (фортепиано), потом пению — у Лолы Родригес-Арагон. На оперной сцене выступает с 1957 г. Известна как блестящая исполнительница виртуозных партий в операх Моцарта, Россини, в доклассических операх, а также произведениях Верди, Бизе (Кармен). Удостоена множества премий за выступления и грамзаписи. Написала книгу «Цветок одиночества и молчания» (1984). 100, 101, 175, 176. Бернстайн, Леонард (р. 1918) — американский дирижер, композитор, пианист, лектор. Закончил Гарвардский университет и Музыкальный институт Кёртис (Филадельфия). Ассистент Кусе-вицкого в Беркширском музыкальном центре (1942). Художественный руководитель Нью-Йоркского филармонического оркестра (1958—1969). Президент Баховского фестиваля в Великобритании (с 1977). Дирижирует крупнейшими оркестрами мира (гастролирует с 1944). Автор мюзиклов для Бродвея, в т. ч. «Чудесный город» (1953), «Кандид» (1956), «Вестсайдская история» (1957), опер «Волнения на Таити» (1952), «Тихое место» (1983), популярных книг по музыкальному искусству. 101. 109, ПО. Бинг, Рудольф (р. 1902) — административный деятель в области музыкальной культуры (австриец по происхождению). Генеральный директор Глайндборнской оперы (1935—1949), художественный директор Эдинбургского фестиваля (1947—1949), генеральный директор «Метрополитен» (1950—1972), директор-распорядитель фирмы «Коламбиа артисте» (с 1973). Автор книги «5000 вечеров в опере» (1972). 88, 89, 91, 92, 98, 111. 117—119, 128. Боджанкино, Массимо (р. 1922) — итальянский администратор, пианист, музыковед. Учился в Риме (у Казеллы), Париже (у Корто). Преподавал в Питсбурге, Пезаро, Риме. Руководил изданием итальянской театральной энциклопедии (1957—1962). Художественный директор Римской филармонической академии (1960—1963), «Театро дсль опера» (1963—1968), фестиваля в Сполето (1968—1971), театра «Ла Скала» (1972—1974), генеральный директор «Театро коммунале» во Флоренции (с 1975). 122. Бониндж, Ричард (р. 1930) — австралийский оперный дирижер. Закончил консерваторию в Сиднее как пианист. Дирижирует с 1962 г., в опере — с 1963 г. Гастролирует в крупнейших театрах мира. Художественный руководитель оперного театра в Ванкувере (1974—1978), Австралийской оперы (1975—1985). Записал на пластинки множество опер и балетов, а также концертные программы с Дж. Сазерленд, Р. Тебальди, Л. Пава-ротти и другими выдающимися певцами. 44, 193—195, 200. Брувенстийн, Гре (р. 1915) — датская певица (сопрано). Училась в Амстердаме. Дебютировала на оперной сцене в 1940 г. Во время второй мировой войны пела на радио. Солистка Нидерландской оперы (с 1946). Как известная исполнительница партий драматического сопрано в операх Верди, Вагнера, выступала в «Ковент-Гарден», Байрейте, Буэнос-Айресе, Штутгарте, Глайндборне, Чикаго. В 1971 г. закончила сценическую деятельность. 105. Брузон, Ренато (р. 1936) — итальянский певец (баритон). Учился пению в Падуе. Дебютировал на оперном фестивале в Сполето (1961). Поет во многих итальянских театрах (в «Ла Скала» — с 1972), выступал на сценах «Метрополитен», Эдинбургского фестиваля, «Ковент-Гарден». Получил известность как один из лучших исполнителей партий баритона в операх Доницетти, Беллини, Верди. 178, 215. Брукс, Патриция (р. 1937) — американская певица (сопрано). Училась как пианистка и танцовщица у Марты Грэхем. Выступала на драматической сцене. Карьеру певицы начала в 1960 г. («Нью-Йорк Сити Опера»). Гастролирует в театрах США и Европы. В репертуаре партии Джильды, Недды, Лючии, Манон, Мелизанды, Лулу. 75, 76, 136. Булез, Пьер (р. 1925) — французский дирижер, пианист и композитор. Учился в Париже (у О. Мессиана и Р. Лейбовица). Дирижер в театре Ж.-Л. Барро (1948). Главный дирижер оркестра «Би-Би-Си» (1971 —1975), музыкальный директор Нью-Йоркского филармонического оркестра (1971 — 1977). Наиболее значительные оперные постановки: «Воццек» (Париж, Франкфурт, 1965), «Парсифаль» (Байрейт, 1966), «Кольцо нибе-лунга» (Байрейт, 1976). Один из лидеров европейского композиторского авангарда в 1950—1960 гг. Автор симфонических, вокальных, инструментальных, электронных произведений, ряда книг по проблемам музыки (в т. ч. «Ориентации», 1986). Директор Института исследований акустики и музыки в Париже (с 1976). 220. Бьёрлинг, Юхан (Юсси) (1911—1960) — шведский певец (тенор). Учился в Стокгольме. Дебютировал на оперной сцене в 1930 г. Солист Шведской Королевской оперы (1931 —1933), «Метрополитен» (1938—1940), «Ковент-Гарден.» (1951 — 1952). Широко гастролировал в Европе и Америке. Признан одним из выдающихся исполнителей XX в. Спел более 50 партий (Ленский, Герцог, Альфред, Манрико, Радамес, Канио, Каварадосси и др.). 38, 142, 191, 245. Бьонер, Ингрид (р. 1927) — норвежская певица (сопрано). Училась в Осло и Франкфурте. Концертную деятельность начала в 1952 г., на оперной сцене — с 1957 г. С начала 1960-х гг. выступает в крупнейших театрах мира («Ла Скала», «Ковент-Гарден», «Метрополитен», венская «Штаатсопер»). Наибольший успех имела в операх Вагнера (Сента, Брунгильда, Гутруна) и Р. Штрауса (Фельдмаршальша, Ариадна). 104. Бьюкенен, Изабель (р. 1954) — английская певица (сопрано). Закончила Шотландскую Королевскую академию музыки и драмы (1974). Солистка Австралийской оперы (1975—1978). Выступала на сценах Глайндборна, венской «Штаатсопер», Нью-Йорка, Парижа. 180. Ван Дам, Жозе (р. 1940) — бельгийский певец (бас, баритон). Учился в Брюсселе. Победитель конкурса вокалистов в Париже (1960). Дебютировал в «Гранд-Опера» (1960—1964). Солист Женевской оперы (1965—1967), западноберлинской «Дойче Опер» (1968). Выступает в крупнейших театрах мира — Зальцбург, «Ковент-Гарден», «Метрополитен»,— с ведущими дирижерами (Г. Караян, Дж. Шолти, Дж. Ливайн). В репертуаре партии Фигаро, Лепорелло, Дон Жуана, Зарастро, Эскамильо, Князя Игоря, Бориса Годунова. Первый исполнитель заглавной партии в опере О. Мессиана «Св. Франциск Ассизский» (Париж, 1984). Гастролировал в СССР (Большой театр, концерты с оркестром, 1987). 135. Верретт, Ширли (р. 1931) — американская певица (меццо-сопрано, сопрано). Училась в Джульярдской школе. На профессиональной сцене дебютировала в 1957 г. Поет в крупнейших театрах США и Европы (с 1959). Известность получила как исполнительница партии Кармен. С конца 1970-х гг. включает в свой репертуар партии сопрано (Тоска, Норма). Выступает с сольными программами (Шуберт, Брамс, Малер, Мийо, спиричуэле). 100, 103, 105, 134, 135, 183. Визи, Жозефина (р. 1930) — английская певица (меццо-сопрано). Пела в хоре «Ковент-Гарден» (1949), с 1955 г.— его солистка. При поддержке Дж. Шолти освоила большой репертуар (Моцарт, Глюк, Верди, Вагнер, Р. Штраус), с которым выступала в «Метрополитен», в Зальцбурге, в «Гранд-Опера». 93. Викерс, Джон (р. 1926) — канадский певец (тенор). Учился в Торонто. Дебютировал в 1956 г. Пел в «Ковент-Гарден» (с 1957), Байрейте (с 1958), «Метрополитен» (с 1960). Участвовал в спектаклях Г. Караяна, О. Клемперера, постановках Л. Висконти, пел с М. Каллас. Признан одним из лучших драматических теноров своего поколения (Тристан, Зигмунд, Отелло). 105, 128, 244. Викселл, Ингвар (р. 1931) — шведский певец (баритон). Учился в Стокгольме. Поет на оперной сцене с 1955 г. Выступал в «Ковент-Гарден», Глайндборне, Западном Берлине, Зальцбурге, «Метрополитен». В репертуаре партии в операх Доницетти, Россини, Верди, а также Генделя, Моцарта, Чайковского, Хенце. 169. Винай, Рамон (р. 1912) — чилийский певец (баритон, тенор). Учился в Европе и Мексике. Начал выступать в опере с 1931 г. (Риголетто, Граф ди Луна). Как тенор прославился исполнением партии Отелло, а также партий в операх Вагнера (Тристан, Парсифаль, Тангейзер, Зигмунд — Байрейт, 1952—1957). В 1960-х гг. вернулся к репертуару баритона. 44, 45, 82, 83, 155. Вотто, Антонио (р. 1896) — итальянский дирижер. Закончил консерваторию в Неаполе по классам фортепиано и композиции. Дирижирует с 1923 г. («Ла Скала», ассистент Тосканини). Выступал во многих итальянских театрах, в Европе и Америке. Признанный интерпретатор итальянских опер, в частности произведений композиторов-веристов. В «Ла Скала» дирижировал спектаклями, поставленными Л. Висконти с участием М. Каллас («Весталка», 1954; «Норма», 1955; «Сомнамбула», 1957 и др.). 100. Гавадзени, Джанандреа (р. 1909) — итальянский дирижер, композитор, музыковед. Учился в Риме и Милане. Начав дирижерскую деятельность в опере, пропагандировал произведения композиторов-веристов и современных итальянских авторов— Малипьеро, Петрасси, Даллапикколы, Пиццетти. Автор оперы «Паоло и Вирджиния» (1935). В конце 1940-х гг. прекращает композиторскую деятельность и целиком посвящает себя дирижированию. Художественный руководитель «Ла Скала» (1965—1968). Широко гастролировал: Зальцбург, Глайндборн, Чикаго, Нью-Йорк, Москва. Автор книг об оперном театре и творчестве Доницетти, Беллини, Бетховена, Мусоргского, Пиццетти. 130—132. Гарсиа, Мануэль дель Пополо Висенте (1775 — 1832) — испански и певец (тенор), гитарист, композитор, педагог вокала, импресарио. /Дебютировал в Париже (1808), выступал в городах Италии, в Лондоне (1816—1825). Организовав гастрольную труппу из учеников основанной им в Лондоне школы пения, совершил поездку с ними в США (1825). Считался выдающимся оперным актером как драматический тенор, иногда исполнял партии баритона. С 1829 г. преподавал вокальное искусство в организованной им в Париже школе пения. Автор песен, балетов, более 40 опер, главным образом комических. Отец знаменитых певиц Марии Малибран, Полины Виардо-Гарсиа и выдающегося певца и вокального педагога Мануэля Патрисио Гарсиа. 231. Гедда, Николай (р. 1925) — шведский певец (тенор), русский по происхождению. Учился пению в Стокгольме, где дебютировал на оперной сцене в 1952 г. Уже в начале творческой деятельности выступал в крупнейших театрах мира с партиями лирического плана: в «Ла Скала», «Гранд-Опера», «Ковент-Гарден», «Метрополитен». Записал на пластинки более 100 произведений (оперы, оратории, оперетты). Ведет концертную деятельность, часто исполняя русскую музыку (Чайковский, Мусоргский). Неоднократно гастролировал в СССР. 142. Глоссоп, Питер (р. 1928) — английский певец (баритон). С 1952 г. пел в хоре «Сэдлерс-Уэллс». Выступал как солист в «Ковент-Гарден», «Ла Скала», «Метрополитен». В 1970-х гг. пел в Зальцбурге под руководством Г. Караяна. 72, 142. Гобои, Turno (1913—1986) — итальянский певец (баритон). Учился пению в Риме (у Дж. Крими). Дебютировал в опере в 1935 г. Победитель международного конкурса вокалистов в Вене (1936). Выступал в крупнейших театрах — «Театро дель опера» (Рим), «Ла Скала», «Ковент-Гарден», в Сан-Франциско, Зальцбурге. Участвовал в спектаклях, поставленных Л. Висконти («Дон Карлос», 1958), Г. Караяном («Дон Жуан», 1952). Выдающиеся вокальные данные и актерское мастерство принесли ему славу одного из лучших певцов своего времени. Исполнил более 100 партий, в т. ч. Риголетто, Скарпиа, Джанни Скикки, Симона Бокканегры, Воццека (первое исполнение в Италии, 1942), а также партии в современных итальянских операх, премьеры которых состоялись в Риме в 1940 — 1950-е гг. Снимался в 26 кинофильмах. Автор нескольких книг. 105, 106. Горовиц, Владимир (р. 1904) — американский пианист (уроженец Украины). Ученик В. Пухальского, С. Тарновского, Ф. Блу-менфельда. Окончил Киевскую консерваторию (1921). Выступает на концертной эстраде с 1922 г. В 1925 г. уехал из СССР, с 1928 г. живет в Нью-Йорке (гражданство получил в 1942). По разным причинам прекращал концертную деятельность или редко выступал в 1936—1938, 1953—1965, 1969—1974 гг. Мировую славу вновь приобрел с конца 1970-х гг., активно концертируя в США, Европе (с 1982), Японии. Посетил СССР (1986). Выдающийся пианист XX в., обладающий феноменальной техникой. Высокая степень оригинальности музыкального мышления особенно ярко проявилась в сделанных им транскрипциях музыки XIX—XX вв. В программе произведения Моцарта, Бетховена, Шумана, Шопена, Листа, Мошковского, Скрябина, Рахманинова, Прокофьева. 154. Грасси, Паоло (1919—1981) — итальянский театральный администратор. Вместе с режиссером Дж. Стрелером был организатором «Пикколо-театро» в Милане (1947), в котором утверждались новые принципы драматического искусства. Генеральный директор «Ла Скала» (1972—1977). Президент Итальянской национальной корпорации радио и телевидения (1977—1980). Руководил гастролями «Ла Скала» в Москве (1974). 122, 174, 175. Грист, Рери (р. 1932) — американская певица (сопрано). С детских лет выступала в мюзиклах (была в первом составе исполнителей «Вестсайдской истории», 1957). В 1959 г. дебютировала в опере и сразу получила приглашение выступать в Европе: Кёльн, Цюрих, «Ковент-Гарден», затем в США — Сан-Франциско, «Метрополитен». Известность получила как блестящая исполнительница партий колоратурного сопрано в операх Моцарта, Россини, Р. Штрауса, Римского-Корсакова. Записывалась с К. Бёмом (Церлина) и О. Клемперером (Сюзанна). Ведет концертную деятельность. 152. Грэхем, Марта (р. 1893) — американская танцовщица, хореограф, педагог. Одна из основоположниц национальной сценической хореографии США, оказавшая большое влияние на весь балетный театр XX в. Со своей труппой «Грэхем дане груп» (основана в 1929) гастролировала во многих странах мира. Школа современного танца Грэхем (основана в 1927, Нью-Йорк)— крупнейший центр танца модерн. Закончила выступления на сцене в 1969 г. Ведет курсы танцевального мастерства в США и Великобритании. 185. Гуаданьо, Антон (р. 1925) — итальянский дирижер. После окончания Академии «Санта-Чечилия» стажировался в зальцбургском «Моцартеуме», где получил первую премию за дирижирование (1948). Начинал исполнительскую деятельность в Южной Америке и Мексике. Дебютировал в США в 1952 г. Был музыкальным директором Филадельфийской оперы и летних оперных сезонов в Цинциннати. Дирижирует операми итальянского классического репертуара в венской «Штаатс-опер», «Ковент-Гарден», «Арена ди Верона». Записал на пластинки почти все оперы Пуччини. 73, 74, 112. Гяуров, Николай (р. 1929) — болгарский певец (бас). Учился в Софии, Ленинграде и Москве. Получил Гран-при на Международном конкурсе певцов в Париже (1955). Выступает на оперной сцене с 1956 г., пел на сценах «Ла Скала», «Ковент-Гарден», «Метрополитен», в Зальцбурге, венской «Штаатсопер», «Гранд-Опера», Большом театре. Признанный мастер оперной сцены с большим диапазоном творческих возможностей (Дон Базилио, Лепорелло, Мефистофель, Филипп II, Борис Годунов). Неоднократно гастролировал в СССР. 80, 99, 103, 158, 178, 183, 215. Дайаманд, Питер (р. 1913) — театральный администратор, консультант по вопросам музыкальной культуры. Закончил Берлинский университет как правовед. Секретарь А. Шнабеля (1934—1938), ассистент директора Нидерландской оперы (1946—1948), секретарь Голландского музыкального фестиваля (1947—1965), директор Эдинбургского фестиваля (1965—1978), генеральный директор Королевского филармонического оркестра в Лондоне (с 1978). За деятельность в области оперы отмечен правительствами Нидерландов, Австрии, Великобритании. 176. Дауне, Эдвард (р. 1924) — английский дирижер. Учился в Бирмингеме и Лондоне, стажировался у Г. Шерхена. Дирижировал в «Ковент-Гарден» с 1954 г. Музыкальный руководитель Австралийской оперы (1972—1976). Дирижер Северного симфонического оркестра «Би-Би-Си» (с 1980). Известен как пропагандист русской музыки (автор английских переводов либретто «Хованщины», «Катерины Измайловой», «Войны и мира») и произведений современных английских авторов (Дейвис, Берт-вистл, Брайен). 87, 113. Декстер, Джон (р. 1925) —английский режиссер. Известность получил постановками пьес Уэскера в «Инглиш стэйдж компани» (1960—1962). Один из руководителей Национального театра в Лондоне (1963—1966, 1971 —1975). Ставил спектакли в Западном Берлине, Москве, Лос-Анджелесе, Цюрихе, Париже, Гамбурге. Работал в «Ковент-Гарден» (с 1966), осуществил первую в Лондоне постановку оперы Пендерецкого «Дьяволы из Лудена» (1973). Режиссер «Метрополитен» (1974—1981), консультант этого театра (1981 —1984), в числе его постановок здесь: «Диалоги кармелиток», «Лулу», «Дон Паскуале», «Похищение из сераля», «Парад». 118, 142, 152, 164, 166. Дель Монако, Марио (1915—1982) — итальянский певец (тенор). Учился в консерватории Пезаро. Победитель конкурса в Римской оперной школе (1935). Дебютировал на оперной сцене в 1941 г. Широкое признание получил после исполнения партии Радамеса в Вероне и партий Каварадосси, Канио, Пинкертона в «Ковент-Гарден» (1945—1946). Выступал в крупнейших театрах мира, гастролировал в СССР (1959). Один из легендарных теноров XX в., выдающийся исполнитель роли Отелло. Награжден почетными премиями «Золотой Орфей» (1957), «Золотые тропы» (1959). 44, 45, 56, 66, 122, 142, 155. Де Сабата, Виктор (1892—1967) — итальянский дирижер и композитор. Учился в Миланской консерватории. Начал дирижировать в 1912 г. Выступал в Лондоне, Вене, Берлине, Нью-Йорке, Байрейте. Художественный директор «Ла Скала» (1953—1957), консультант этого театра (с 1957). Особое внимание уделял произведениям Вагнера, Р. Штрауса, Дебюсси, Равеля, Сибелиуса, Пуччини, а также операм таких итальянских композиторов XX в., как Джордано, Монтсмецци, Респиги, Вольф-Феррари, Томмазини. 121. ДеФабрициис, Оливеро (р. 1902) — итальянский дирижер и композитор. Учился в Римской консерватории. Дебютировал как дирижер в римском «Театро национале» (1920). Художественный секретарь «Театро дель опера» в Риме (1932—1943). Дирижировал премьерами опер Масканьи, Пиццетти, Росселли-ни, Зафреда, спектаклями с участием Т. даль Монте и Б. Джильи (с ним выступал во многих городах Европы и Америки, делал записи на пластинки). Известен интерпретациями итальянских опер XIX в., в частности Верди. 110. Джильи, Беньямино (1890—1957) — итальянский певец (тенор). Дебютировал в 1914 г. Первый большой успех — исполнение партии Фауста в «Мефистофеле» Бойто («Ла Скала», 1918). Солист «Метрополитен» (1920—1932), где исполнил более 60 ролей. Широко гастролировал в городах Италии, Европы, Америки. Лучшие творческие достижения — партии лирико-романтического плана в операх Доницетти, Беллини, Гуно, Верди, Чилеа. 38, 44, 81, 184, 190, 233, 245, 249. Джонс, Гвинет (р. 1937) — английская певица (сопрано). Училась пению как меццо-сопрано (Лондон, Цюрих, Женева). В 1962 г. выступала в Цюрихе, где Н. Санти посоветовал ей петь более высокие партии. Выступала на сценах «Ковент-Гарден», «Метрополитен», Байрейта, Вены. Обладает сильным голосом большого диапазона. Наибольшее признание получила как исполнительница ролей в операх Вагнера (Зиглинда, Брун-гпльда, Кундри, Сента, Елизавета, Ева, Венера), а также Моцарта, Пуччини, Р. Штрауса. 80, 93, 113, 132, 134. Джонсон, Эдвард (1878—1959) — канадский певец (тенор) и оперный импресарио. Учился музыке в Нью-Йорке, по рекомендации Карузо дебютировал в Италии (Флоренция, 1909). Пел в Чикагской опере и «Метрополитен». Генеральный директор «Метрополитен» (1935—1950). В последние годы жизни возглавлял Королевскую консерваторию в Торонто. Был лауреатом множества премий, почетным членом музыкальных обществ стран Европы и Америки. 117. Джулини, Карло Мария (р. 1914) — итальянский дирижер. Закончил Академию «Санта-Чечилия» в Риме (альт, композиция), дирижированию учился у Б. Молинари. Дебютировал в 1946 г. как дирижер Римского, а в 1950 г. Миланского радио. Первое выступление в опере — Бергамо (1950). В 1953 г. был приглашен Тосканини и Де Сабата в «Ла Скала». Дирижировал исполнением ряда современных произведений (Барток, Стравинский), спектаклями с участием М. Каллас. С середины 1950-х гг. выступает в крупнейших музыкальных центрах Европы и Америки. Критика сравнивает его с Тосканини по динамизму и глубине интерпретаций, с Фуртвенглером — по следованию исполнительским традициям XIX в. (особенно в темпах). 61, 93, 105, 106, 184, 185, 187, 188, 215, 248. Дзеффирелли, Франко (р. 1923) — итальянский режиссер и сценограф. Начинал свою театральную деятельность как ассистент Л. Висконти. С 1948 г. самостоятельно работает в драматическом и оперном театре, режиссером кино и телевидения (с 1953). Его постановки отличаются богатством деталей оформления, воссоздающих атмосферу эпохи, многоплановостью и свободой сценического действия. Ставит спектакли в крупнейших театрах Европы и Америки: в 1953 — «Золушка» Россини и «Травиата» с участием М. Каллас. Среди фильмов: «Ромео и Джульетта» (1967), «Брат солнце, сестра луна» (1973), «Иисус Назарет» (1977); фильмы-оперы: «Травиата» (1983; П. Доминго, Т. Стратас), «Сельская честь» (1983; П. Доминго, Е. Образцова), «Отелло» (1986; П. Доминго, К. Риччарелли). 8, 10, 11, 98, 104, 130, 131, 139, 150, 151, 168—171, 175, 180—182, 200, 203, 204, 209, 212—214, 228, 238, 248. Ди Стефано, Джузеппе (р. 1921) — итальянский певец (тенор). Учился пению в Милане. Дебютировал на оперной сцене в 1946 г., пел на сценах «Ла Скала», «Метрополитен», «Ковент-Гарден»; был партнером М. Кал\ас в сезоне 1973—1974 гг. Носитель лучших традиций к\ассического бельканто. Известен исполнением партий в операх Визе, Верди, Масканьи. 37, 38, 42, 47, 78, 79, 122, 137, 142. Заваллиш, Вольфганг (р. 1923) — немецкий дирижер и пианист (ФРГ). Учился в Мюнхене. Дебютировал как дирижер в Аугсбурге (1947). Музыкальный руководитель театров в Ахене, Висбадене, мюнхенской «Штаатсопер» (с 1971). Дирижирует многими оркестрами мира. Выступает как концертирующий пианист, в т. ч. в ансамбле с вокалистами (Э. Шварцкопф, Д. Фишер-Дискау, Г. Прей). Признание получили его интерпретации опер Вагнера, Р. Штрауса. 104. Зингер, Георг (р. 1908) — израильский дирижер, композитор. Учился в Немецкой музыкальной академии в Праге (1924 — 1926) как пианист и композитор (у А. Цемлинского). Дирижирует в опере с 1926 г. Один из основателей Израильской национальной оперы (1947). Выступал во многих странах мира (СССР, 1965). Первый исполнитель многих опер и симфонических произведений израильских композиторов. Среди его сочинений симфоническая и камерная музыка. 61. Инбал, Элиаху (р. 1936) — израильский дирижер. Учился в Париже (1960—1963) и Сиене (1961 —1962). Лауреат премии «Гвидо Кантелли» (1963). Карьеру дирижера оперы начал в Италии в «Ла Скала» (1965). С конца 1960-х гг. выступает в крупнейших музыкальных центрах Европы — Зальцбурге, Западном Берлине, Люцерне, Лондоне, Вероне. Дирижер оркестра Франкфуртского радио (с 1974). Записал на пластинки все оркестровые произведения Шумана и Шопена (с пианистом К. Аррау). 96. Истомин, Евгений (р. 1925) — американский пианист. Учился в Нью-Йорке. Победитель юношеского конкурса, организованного Филадельфийским оркестром (1943). С 1956 г. широко гастролирует во многих странах. В 1961 г. организовал трио, в которое вошли И. Стерн и Л. Роуз. Специализируется главным образом на исполнении музыки XIX в. 112. Иохум, Ойген (р. 1902) — немецкий дирижер (ФРГ). Закончил Мюнхенскую музыкальную академию. Дебютировал как дирижер в 1926 г. (Мюнхен). Работал в театрах Киля, Любека, Мангейма, Дуйсбурга (1926—1932). Музыкальный руководитель государственной оперы в Гамбурге (1934—1949). Основатель оркестра Баварского радио (1949). С 1950 г. широко гастролирует во всем мире. Выдающийся интерпретатор произведений Баха, Гайдна, Бетховена, Брамса, Вагнера, Брукнера. Лауреат многих наград и премий. Президент немецкой секции международного Брукнеровского общества (с 1950). 5, 164. Кабайванска, Райна (р. 1934) — болгарская певица (сопрано). Училась в Болгарии и Италии. С 1961 г. солистка Софийской народной оперы и театра «Ла Скала». Выступает в крупнейших театрах Европы и Америки. Известность получила исполнением лирико-драматических партий в операх Верди (Леонора, Дездемона, Елизавета) и Пуччини (Тоска, Баттерфляй). Лауреат Димитровской премии (1959). 99, 168. Кабалье, Монсеррат (р. 1933) — испанская певица (сопрано). Училась пению и дебютировала в Барселоне (1956). Пела в Базеле, Бремене (1956—1959). Впервые выступила на сцене «Ла Скала» во второстепенной роли (1960). Заменяя М. Хорн в концертном исполнении оперы Доницетти «Лукреция Борджа», имела сенсационный успех в Нью-Йорке (1965), с которого началась ее блестящая оперная карьера в крупнейших театрах мира. Одна из звезд первой величины современной оперной сцены. Специально для нее ставят редко исполняемые оперы Доницетти, Россини. Владеет репертуаром широкого диапазона (итальянская, испанская, немецкая, чешская, русская музыка). Среди партий — Норма, Мария Стюарт, Амелия, Виолетта, Леонора. Гастролировала в СССР с театром «Ла Скала» (1974). 68, 96, 97, 105, 106, 128, 132, 135, 141, 219, 243, 244. Каллас (Калойеропулос), Мария (1923—1977) — греческая певица (сопрано). Училась в Афинской консерватории (у Э. де Идальго). Дебютировала на оперной сцене в Афинах (1938). Первый большой успех — выступление в партии Джоконды в Вероне (1947), за которым последовали дебюты в крупнейших театрах мира: в Милане («Ла Скала»), Лондоне, Чикаго, Нью-Йорке. С 1965 г. прекращает выступления на оперной сцене. В 1973 —1974 гг. возвращается к артистической деятельности и совершает большое гастрольное турне по Европе и США. Выдающаяся певица XX в., обладавшая голосом большого диапазона и редчайшим артистическим дарованием. Спектакли с ее участием в «Ла Скала» (1950-е гг.) открыли новую эпоху в истории европейского музыкального театра. Триумфальный успех принесли певице партии Нормы, Медеи, Анны Болейн, Лючии, леди Макбет, Виолетты, Тоски. 5, 13, 60, 98, 103, 104, 121, 190. Кампора, Джузеппе (р. 1925) — итальянский певец (тенор). Дебютировал в «Ла Скала» (1950), пел на сцене «Метрополитен». Гастролирует в странах Европы и Америки. Наиболее известен как исполнитель партий в операх Пуччини (Каварадосси, Рудольф, Калаф). 191. Капекки, Ренато (р. 1923) — итальянский певец (баритон). Учился в Лозанне и Милане. Дебютировал в театре «Реджио Эмилия» (1949), пел в «Метрополитен», «Ковент-Гарден». В репертуаре около 300 партий. Пользуется большой популярностью как исполнитель комических ролей (Бартоло, Джанни Скикки). Участвовал в первых представлениях современных итальянских опер (Малипьеро, Гедини), премьерах советских опер в Италии («Война и мир» Прокофьева, 1953; «Нос» Шостаковича, 1964). Ведет педагогическую деятельность, выступает как ведущий телепрограмм. 61. Каппуччилли, Пьеро (р. 1929) — итальянский певец (баритон). Учился в Триесте. Сценическую деятельность начал исполнением эпизодических ролей в Театре им. Верди. Первое значительное выступление — в миланском «Театро Нуово» (1957). Выступал в «Ла Скала», «Ковент-Гарден», Чикагской опере. Считается одним из лучших итальянских баритонов своего поколения. Известность получил исполнением партий в операх Верди (Риголетто, Яго, Симон Бокканегра) и Пуччини. 96, 97, 99, 103, 131, 134, 152, 158, 169, 178, 179, 184. Караян, Герберт фон (р. 1908) — австро-немецкий дирижер. Выдающийся музыкант XX века. Учился в зальцбургском «Мо-цартеуме» и венской Академии музыки и сценических искусств. Работу дирижера начинал в театрах Ульма (1927—1933), Ахена (1933—1940), Берлина (1938—1942). Первый большой успех-постановка «Тристана и Изольды» в берлинской «Штаатсопер» (1937). Ведущий дирижер фестивалей в Зальцбурге, Байрейте, Эдинбурге (1953—1954), Люцерне (1947—1956). В 1950— 1960-е гг. его называли «генеральмузикдиректором Европы». Возглавляет Филармонический оркестр Западного Берлина (с 1955), Зальцбургский фестиваль (с 1964), венскую «Штаатсопер» (с 1976). Учредитель Фонда им. Караяна (1969), на средства которого проводятся научные конференции и конкурсы дирижеров. Записал на пластинки практически весь свой обширный репертуар, основу которого составляет австро-немецкая музыка от Баха до Орфа. Дирижер и постановщик фильмов «Паяцы», «Кармен», «Девятая симфония Л. Бетховена». 114, 116, 146, 155—159, 170, 178, 179, 205, 206, 231, 232, 248. Карильо, Хулиан (1875—1965) — мексиканский композитор, теоретик, дирижер, педагог. Учился в Национальной консерватории Мексики, консерваториях Гента и Лейпцига. Играл на скрипке в оркестре «Гевандхауз» под управлением А. Никита. Ранние музыкальные сочинения Карильо традиционны, с конца 20-х гг. экспериментировал в области микротоновой музыки (написал ряд произведений для специально сконструированных им инструментов). Создал свою музыкальную систему Sonido 13 (с целью ее пропаганды издавал журнал «Эль Сонидо 13»), согласно которой октава делится на 96 микроинтервалов. Ввел специальную нотацию. Автор ряда атональных произведений. 28. Каррерас, Хосе (р. 1946) — испанский певец (тенор). Учился как пианист и вокалист в Барселонской консерватории, после окончания которой дебютировал на оперной сцене. При поддержке М. Кабалье и Р. Ф. дс Бургос выступал в Мадриде (1970) и Лондоне (1971). После победы на конкурсе им. Верди получил приглашения от крупнейших театров мира: «Нью-Йорк Сити Опера», Сан-Франциско (1973), «Ковент-Гарден» (1975), «Метрополитен» (1975). Популярнейший современный тенор лирического плана (критика сравнивает его с Бьёрлингом и Ди Стефано). 158, 178, 209, 243, 246. Карузо, Энрико (1873—1921) — итальянский певец (тенор). Один из величайших певцов в истории оперы. Учился у Г. Верджине. Дебютировал в неаполитанском «Театро Нуово» (1894). Первый большой успех принесло ему исполнение партии Лориса в опере Джордано «Федора» (Милан, 1898). С 1902 г. широко гастролировал в Европе и Америке. Первый исполнитель теноровых партий в операх Чилеа «Арлезианка» (1897), «Адриенна Лекуврер» (1902), опере Пуччини «Девушка с Запада» (1910). Славу величайшего певца получил исполнением лирических партий во французских и итальянских операх (прежде всего Верди). Разработал собственную методику развития голосовых данных, владел совершенной вокальной техникой, выдающимся актерским мастерством. 5, 12, 13, 38, 142, 154, 190, 208, 245, 249. Кассили, Ричард (р. 1927) — американский певец (тенор). Учился в Балтиморе. Артистическую деятельность начал в 1954 г. Пел на сценах «Нью-Йорк Сити Опера», Чикагской оперы, Женевы, «Ковент-Гарден», венской «Штаатсопер», «Ла Скала», «Гранд-Опера», «Метрополитен». Известный исполнитель партий драматического тенора (Тангейзер, Отелло, Самсон, Радамес). Пел Аарона в гамбургской постановке оперы Шёнберга «Моисей и Аарон» (1974) и участвовал в ее записи под руководством П. Булеза. 100. Клайбер, Карлос (р. 1930) — аргентинский дирижер (немец по происхождению). Учился в Буэнос-Айресе. Дирижер в Потсдаме (<1954), «Дойче Опер ам Райн» (1956—1964), Штутгарте (с 1966), Мюнхене (с 1968). Ставил спектакли в венской «Штаатсопер» (1973), на Байрейтском фестивале (1974), в «Ковент-Гарден» (1974). Известен интерпретациями опер Вебера, Бизе, Верди, Вагнера, Р. Штрауса, Берга (в т. ч. «Воццека», премьерой которого в 1925 г. дирижировал его отец Э. Клайбер). 108, 122, 138, 165, 169, 171 — 175, 179—183, 200, 201. Клева, Фаусто (1902—1971) — американский дирижер, итальянец по происхождению. Учился в консерваториях Триеста и Милана. Дебютировал в Милане. Эмигрировав в США (1920), до конца жизни был одним из ведущих дирижеров «Метрополитен». Музыкальный директор летних оперных сезонов в Цинциннати (1934—1963), дирижер оперы в Сан-Франциско (1942 —1943, 1949—1955), художественный директор Чикагской оперы (1944—1946). Широко гастролировал во всем мире. Отмечен правительством Италии за заслуги в области музыкального искусства. 68, 90, 118. Койе, Мари (1927—1971) — австралийская певица (сопрано). Училась в Мельбурне и Милане. Начинала сценическую карьеру как актриса музыкальной комедии. С 1956 г. солистка театра «Ковент-Гарден», в котором спела 293 спектакля. Выступала в театрах Великобритании и США. Наибольшую известность принесли ей партии Тоски, Аиды, Баттерфляй, Манон. Первая исполнительница роли Катерины Измайловой в опере Шостаковича на сцене «Ковент-Гарден» (1963). 113. Колдуэлл, Сара (р. 1924) — американский дирижер, режиссер, административный деятель. Как музыкант училась игре на скрипке в консерватории Новой Англии, Беркширском музыкальном центре. Глава оперного коллектива Бостонского университета (1952—1960). В режиссуре дебютировала постановкой «Похождений повесы» Стравинского (1953). В 1957 г. участвовала в организации оперного театра в Бостоне (затем его художественный руководитель и дирижер). Первая женщина-дирижер, выступившая в «Метрополитен» (1976); дирижировала крупнейшими оркестрами США. Завоевала большой авторитет как продюсер и постановщик опер XX в., смелый интерпретатор популярных опер XVIII — XIX вв. Считает себя последователем принципов В. Фельзенштейна. Организатор фестиваля советской музыки в Бостоне (1988). 71, 72. Конья, Шандор (р. 1923) — венгерский певец (тенор). Учился в Будапеште, Детмольде, Милане. Дебютировал на оперной сцене в 1952 г. Пел в театрах Дармштадта, Западного Берлина. Известный исполнитель партии Лоэнгрина. Среди других его ролей — Вальтер фон Штольцинг, Парсифаль, Калаф, Дон Кар-лос. 91. Корелли, Франко (р. 1921) — итальянский певец (тенор). Учился в Пезаро. Впервые выступил на оперной сцене в Сполето (1952). Пел в театрах «Ла Скала», «Ковент-Гарден», «Метрополитен», венской «Штаатсопер». Один из лучших представителей современной культуры бельканто. Наибольшее признание получил в партиях Хозе, Манрико, Радамеса, Туридду, Альваро, Калафа. 69, 73, 74, 89—91, 101, 119, 128. Корзаро, Фрэнк (р. 1924) — американский режиссер, актер, драматург. Дебютировал как режиссер в нью-йоркском «Черри Лэйн тиэтр». Ставит оперные спектакли с 1956 г. (США, Италия, Великобритания). С 1966 г. один из ведущих режиссеров «Нью-Йорк Сити Опера»: «Мадам Баттерфляй», «Паяцы», «Сельская честь» (1967), «Князь Игорь», «Риголетто» (1969), «Дон Жуан», «Пелеас и Мелизанда» (1973), «Манон Леско» (1974), «Мертвый город» (1975). 75, 76, 14.9. Кортес, Виорика (р. 1941) — румынская певица (меццо-сопрано). Училась в консерватории в Яссах, совершенствовалась в Бухаресте. Дебютировала как концертная певица (1955). Солистка Румынского театра оперы и балета с 1965 г. Известность получила исполнением партии Кармен («Ковент-Гарден», «Ла Скала», «Метрополитен»). Среди ролей — Амнерис, Эболи, Далила, Кундри, Шарлотта. Владеет большим камерным репертуаром (от Баха до Дебюсси). 131, 132, 196. Коссотто, Фъоренца (р. 1935) — итальянская певица (меццо-сопрано). Училась в Турине. Дебютировала в «Ла Скала» (1957). С 1958 г. поет в крупнейших театрах мира («Ковент-Гарден», «Метрополитен», венская «Штаатсопер»), одна из ведущих певиц современной оперной сцены (Азучена, Эболи, Амнерис, Сантуцца). Выступала в СССР с театром «Ла Скала» (1964, 1974), Гамбургской оперой (1982). 96—98, 148. Котрубас, Илеана (р. 1939) — румынская певица (лирическое сопрано). Закончила Бухарестскую консерваторию. Дебютировала в Румынском театре оперы и балета (1964). Стажировалась в Академии музыки и сценического искусства в Вене (1967). Выступала на сценах Франкфуртской оперы, Глайндборнских фестивалей, «Ковент-Гарден», венской «Штаатсопер», «Ла Скала» (1975). Считается одной из лучших исполнительниц партий в операх Моцарта (Сюзанна, Церлина), большой успех имела в ролях лирического плана (Джильда, Виолетта, Манон, Мими, Татьяна, Мелизанда). 165, 183, 184, 201, 204, 205. Краузе, Том (р. 1934) — финский певец (бас-баритон). Изучал медицину в Хельсинки, интересовался джазом и танцевальной музыкой. Пению учился в Академии музыкального и сценического искусства в Вене. Как оперный певец дебютировал в Западном Берлине (1958). Известность получил, выступая в ведущих партиях опер Моцарта, Верди, Вагнера на сцене Государственной оперы в Гамбурге. Пел в Байрейте, Глайнд-борне, «Метрополитен», «Гранд-Опера», «Ла Скала», «Ковент-Гарден». Ведет концертную деятельность. 175, 176. Краус, Альфредо (р. 1927) — испанский певец (тенор). Ученик М. Ллопарт. Дебютировал в Турине (1956) в партии Альфреда («Травиата»), с исполнения которой началась его успешная карьера на лучших сценах мира: «Ковент-Гарден», «Ла Скала», «Метрополитен». Блестящий лирический тенор (Герцог, Альмавива, Дон Оттавио, Де Грие, Вертер), один из лучших испанских певцов XX в. 246. Креспеп, Режин (р. 1927) — французская певица (драматическое сопрано). Училась в Парижской консерватории. Дебютировала в опере в 1950 г. Выступала во многих театрах Франции, на Байрейтском фестивале, в Глайндборне, «Ковент-Гарден», «Метрополитен». Получила широкую известность исполнением ролей во французских операх (Берлиоз, Бизе, Массне, Форс), операх Вагнера (Эльза, Брунгильда, Кундри), Р. Штрауса (Фсльд-маршалыпа, Ариадна). Ведет активную концертную деятельность. 106, 107. Крипе, Йозеф (1902—1974) — австрийский дирижер и скрипач. Учился в венской Академии музыки и сценического искусства (у Мандычевского, Вейнгартнера). Дебютировал как дирижер в 1921 г. Работал хормейстером и концертмейстером в венской «Фольксопер» (1921—1924). Музыкальный руководитель театров Дортмунда (1925—1926) и Карлсруэ (1926—1933). Дирижер венской «Штаатсопер» (1933—1938 и с 1945). Профессор венской Академии музыки и сценического искусства (с 1935). Участвовал в возрождении музыкальной жизни Вены после второй мировой войны. Возобновил фестивали в Зальцбурге (1946). 50. Кубелик, Иероним Рафаэль (р. 1914) — швейцарский дирижер и композитор, уроженец Чехословакии. Учился в Пражской консерватории. Как дирижер дебютировал с Чешским филармоническим оркестром (1934). Музыкальный руководитель Национального театра в Брно (1939—1941) и Чешского филармонического оркестра (1941 —1948), Чикагского симфонического оркестра (1950—1953), театра «Ковент-Гарден» (1955—1958), «Метрополитен» (1971 —1973), главный дирижер оркестра Баварского радио (1961 — 1980). Автор опер «Вероника» (1947), «Корнелия Фароли» (1972), симфонических и кантатно-ораториальных произведений. Считается одним из лучших интерпретаторов музыки Малера, Яначека, Бриттена. Подданный Швейцарии с 1973 г. 102, 118. Лаури-Вольпи, Джакомо (1892—1979) — итальянский певец (тенор). Учился на юридическом факультете и в Академии «Санта-Чечилия». Дебютировал в опере под псевдонимом Джакомо Рубини в 1919 г. Приглашен Тосканини в «Ла Скала» в 1922 г. Пел в «Метрополитен», где участвовал в первых постановках «Турандот» Пуччини (1926) и «Луизы Миллер» Верди (1929). Выступал на сцене до 1959 г. во многих театрах мира. Среди наиболее значительных партий — Отелло, Маприко, Рауль («Гугеноты»), Арнольд («Вильгельм Телль»). Был также историком и теоретиком вокального искусства. 143. Лейнсдорф, Эрих (р. 1912) — американский дирижер (австриец по происхождению). Дирижированию учился в зальцбургском «Моцартеуме» (1930) и венской Академии музыки и сценического искусства (1931 —1934). Ассистент Б. Вальтера в Зальцбурге (1934). С 1937 г. живет в США (гражданство получил в 1942). Дебютировал в «Метрополитен» постановкой «Валькирии» (1938). Музыкальный руководитель оркестров Кливленда (1944), Рочестера (1947—1955), Бостона (1961 — 1969), театра «Нью-Йорк Сити Опера» (1956), дирижер оркестра Западноберлинского радио (1977—1980). С 1979 г. член Национального Совета США по вопросам искусств. Широко гастролирующий дирижер, признанный интерпретатор опер Вагнера, Р. Штрауса, симфонических произведений Бетховена, Шумана, Брамса. Автор книг и статей о музыке. 79, 93. Либерман, Рольф (р. 1910) — швейцарский композитор и оперный администратор. Учился в консерватории и университете Цюриха. Работал секретарем Г. Шерхена (1937—1938), продюсером на Цюрихском и Северонемецком (ФРГ) радио. Генеральный директор Государственной оперы в Гамбурге (1959 — 1973), «Гранд-Опера» (1973—1980). Автор опер, кантатно-ораториальных, симфонических произведений (использовал до-декафонную технику). Написал книгу «Действия и антракты» (1976). Активно способствовал постановке новых произведений для музыкального театра, сыграл большую роль в творческом становлении многих певцов. 76— 78, 86, 134, 162—164. Ливайн, Джеймс (р. 1943) — американский дирижер, пианист. Учился в Джульярдской школе (у Р. Левиной, Ж. Море-ля). Ассистент Дж. Шелла в Кливлендском оркестре (1964 — 1970). В опере дирижирует с 1970 г. (Сан-Франциско), в «Метрополитен»—с 1971 г. (с 1986 — художественный руководитель). Владеет обширным репертуаром (сочинения разных эпох и стилей). Выступает с ведущими оркестрами и оперными коллективами мира. Ставит оперы в Лондоне, Гамбурге, на Зальцбургском и Байрейтском фестивалях. Как пианист чаще выступает с вокалистами. 84, 107—111, 118, 120, 139, 160, 164, 186, 190, 196, 200, 205, 206, 209, 219, 248. Лигендца, Катарина (р. 1937) — шведская певица (сопрано). Училась в Вюрцбурге, Вене и Саарбрюкене. Дебютировала в Линце (1965), пела на сценах «Ла Скала», Байрейта, «Метрополитен», «Ковент-Гарден», Стокгольма. Признана одной из лучших исполнительниц ролей в операх Вагнера (Брунгильда, Изольда, Сента). 164. Ллойд, Роберт (р. 1940) — английский певец (бас), критик. Закончил «Кэбл-колледж» в Оксфорде как историк. Учился пению в лондонском Центре оперы (1968—1969). Дебютировал на оперной сцене в 1969 г. Солист театров «Сэдлерс-Уэллс Опера» (1969—1972), «Колизеум», «Ковент-Гарден» (1972— 1982). Выступает в крупнейших театрах Европы и Америки. Известен как исполнитель партий Филиппа II, Бориса Годунова и др. Автор статей в английском журнале «Опера», ведет передачи об опере на радио. 201. Лоренгар, Пилар (р. 1928) — испанская певица (сопрано). Училась в Мадриде. Дебютировала как певица сарсуэлы (1949). На оперной сцене выступает с 1955 г.— в «Ковент-Гарден», Глайндборне, западноберлинской «Дойче Опер», «Метрополитен». Владеет обширным и разнообразным репертуаром (Эври-дика, Памина, Керубино, Донна Анна, Виолетта, партии в операх Гранадоса, де Фальи, Хиндемита). 61. Льюис, Генри (р. 1932) — американский дирижер. С 16 лет — контрабасист Филармонического оркестра в Лос-Анджелесе. В Штутгарте дирижировал Симфоническим оркестром армии США (1956). Организатор Камерного оркестра Лос-Анджелеса, музыкальный руководитель Симфонического оркестра Нью-Джерси (1968—1976). Дирижировал в «Ла Скала», «Метрополитен», «Гранд-Опера». Выступает во многих городах США и Европы. Муж известной певицы Мерилин Хорн, с которой сделал множество записей (особенно произведений Россини). 98. Людвиг, Криста (р. 1928) — немецкая певица (меццо-сопрано), ФРГ. Начинала вокальную карьеру в театрах Франкфурта, Дармштадта, Ганновера, затем пела в венской «Штаатсопер», «Метрополитен», «Ковент-Гарден». Широко гастролировала в Европе и Америке, в т. ч. с камерным репертуаром. Выдающаяся исполнительница драматических партий в операх Бетховена (Леонора), Верди (Эболи, Амнерис, леди Макбет), Вагнера (Фрика, Венера, Кундри), Р. Штрауса (Фельдмаршальша, Октавиан), а также Бартока, фон Айнема. Награждена медалями им. Моцарта, Вольфа, Малера, удостоена званий «Каммерзенгерин» (Вена, 1962), почетной солистки венской «Штаатсопер» (1981). 80, 104, 158, 164. Маазель, Лорин (р. 1930) — американский дирижер и скрипач. Учился в Лос-Анджелесе дирижированию у В. Бакалейни-кова. В 9 лет впервые дирижировал Нью-Йоркским филармоническим оркестром, с 1941 г.— целыми программами с рядом крупных оркестров. Как солист-скрипач выступает с 1945 г. Изучал языки, математику, философию, исследовал музыку эпохи барокко. Дирижировал в «Метрополитен», «Ковент-Гарден». Первый американец, ставивший оперы в Байрейте («Лоэнгрин», 1960; «Кольцо нибелунга», 1968—1969). Художественный руководитель западноберлинской «Дойче Опер» (1965—1971), музыкальный руководитель оркестра Западноберлинского радио (1965—1975), Кливлендского оркестра (1972 — 1982), венской «Штаатсопер» (1982—1984). Ведет музыкальные программы на телевидении. Дирижер-постановщик фильмов-опер «Кармен» (1985), «Отелло» (1986). Удостоен ордена Почетного легиона (1981). 10, ПО, 117, 138, 139, 183, 248. Макнейл, Корнелл (р. 1922) — американский певец (баритон). Учился пению в Хартфорде. С 1946 г. исполнял второстепенные роли в мюзиклах на Бродвее. По приглашению Дж. К. Менот-ти пел в его опере «Консул» (Филадельфия, 1950). Став солистом «Нью-Йорк Сити Опера» (1952), освоил итальянский репертуар. Международное признание получил в 1959 г., выступив в «Ла Скала» (Дон Карлос в «Эрнани») и «Метрополитен» (Риголетто). Гастролирует во многих театрах мира. Считается одним из лучших исполнителей партий в операх Верди (ди Луна, Макбет). Исполнитель роли Жермона в фильме-опере Ф. Дзеффирелли «Травиата» (1983). 37, 69, 88, 164, 209, 214. Малибран, Мария Фелисита (1808—1836) — французская певица (колоратурное меццо-сопрано), одна из блестящих представительниц культуры бельканто начала XIX в. Выступала на сцене в Неаполе с 6-летнего возраста. Училась пению у своего отца — известного тенора Мануэля Гарсиа. Дебютировала в роли Розины (Лондон и Нью-Йорк, 1825). Пела в итальянских труппах Парижа и Лондона (1827—1832), с 1832 г.— в Италии, гастролируя в крупнейших театрах Европы. Славу ей принесли партии в операх Моцарта, Россини, Беллини (одна из первых исполнительниц роли Нормы). 44. Малъфитано, Катерина (р. 1948) — американская певица (сопрано). Училась в Нью-Йорке. Дебютировала в опере в 1972 г. Выступает в крупнейших театрах Европы и Америки. В репертуаре — более 30 партий колоратурного и лирико-драматического сопрано (Церлина, Сюзанна, Памина, Виолетта, Розина, Мими, партии в операх Вайля, Менотти, Хенце). 201. Манугуэрра, Маттео (р. 1925) — французский певец (баритон), тунисец по происхождению. Учился в консерватории Буэнос-Айреса, куда поступил в возрасте 35 лет. Дебютировал как тенор. С 1963 г. живет во Франции. Солист Лионской оперы (1963—1965). Пел в «Гранд-Опера», «Метрополитен», во многих театрах мира (французский и итальянский классический оперный репертуар). 203. Маркевич, Игорь (1912—1983) — французский дирижер, пианист и композитор, русский по происхождению. Учился в Париже у А. Корто, Н. Буланже, затем у Г. Шерхена. Выступал с исполнением собственного фортепианного концерта в сезонах Дягилева («Ковент-Гарден», 1929), для которых написал также балеты «Ребус», «Полет Икара». Как дирижер дебютировал в Амстердаме (оркестр «Консертгебау», 1930). Музыкальный руководитель флорентийского театра «Маджио музикале» (1944). Выступал с крупнейшими оркестрами Европы и Америки. Давал уроки дирижирования в зальцбургском «Моцартеуме» (1948—1956), Мехико (1957—1958), Москве (1963), Мадриде (1965 —1969), Монте-Карло (с 1969). С Лондонским филармоническим оркестром записал все симфонии Чайковского (1960-е гг.), активно пропагандировал современную музыку. Автор нескольких книг. 28, 137. Мартинелли, Джованни (1885—1969) — итальянский певец (тенор). Учился в Милане, где дебютировал в 1910 г. В 1912 г. с триумфом выступал в «Ковент-Гарден» и «Ла Скала». Спел более 100 спектаклей (36 опер) на сцене «Метрополитен» (1913—1946). Последний раз выступал в роли Императора («Турандот») в возрасте 82 лет. В Нью-Йорке считался преемником Карузо в партиях драматического тенора (Отелло, Манрико, Радамес, Хозе, Самсон). 155. Мартон, Ева (р. 1943) — венгерская певица (сопрано). Училась в Будапеште. Дебютировала в 1968 г. (Шемаханская царица). Пела на сценах Франкфурта, венской «Штаатсопер», Бай-рейта, «Метрополитен», «Ла Скала». Одна из ведущих певиц современной оперной сцены, обладающая голосом большой силы и широкого диапазона. Наибольшую известность ей принесли партии Леоноры («Фиделио»), Брунгильды, Елизаветы, Эльзы, Тоски, Турандот. 182, 214, 215, 248. Мата, Эдуардо (р. 1942) — мексиканский композитор и дирижер. Учился в Мексиканской национальной консерватории. Возглавляет музыкальный факультет Мексиканского университета (с 1965). Дирижирует оркестрами в Мексике и США (Даллас, 1977). 28. Менотти, Джан Карло (р. 1911) — американский композитор, режиссер (итальянец по происхождению). Учился в Миланской консерватории, затем в Музыкальном институте Кёртис. Получил известность как автор опер «Амелия на балу» (1936), «Старая дева и вор» (1939), «Медиум» (1946), «Телефон» (1947), «Консул» (1950), «Амаль и ночные гости» (1951), а также симфонических, кантатно-ораториальных, камерных произведений и песен. Ставил оперные спектакли в Сполето, «Гранд-Опера», Гамбурге, Мюнхене, Вашингтоне, «Метрополитен». Удостоен множества премий, в т. ч. Пулитцеровских (1950, 1954). В своем творчестве не использует радикальных музыкальных средств (остается в традициях Верди, Пуччини), большое внимание уделяет своей работе либреттиста и режиссера, тщательно продумывая драматургию произведений. Одна из последних его опер — «Гойя», первым исполнителем главной роли в которой был П. Доминго (Вашингтон, 1986). 152, 186, 187. Меррил, Роберт (р. 1919) — американский певец (баритон). Учился пению в Нью-Йорке. Солист «Метрополитен» (с 1945), один из ведущих исполнителей театра в итальянском и французском репертуаре. Участвовал в записях с Тосканини. Ведет большую концертную деятельность. Автор книги «Еще раз сначала» (1965). 106. Мета, Зубин (р. 1936) — индийский дирижер. Сын Мели Меты, основателя Бомбейского симфонического оркестра. В детстве учился игре на скрипке и фортепиано, затем дирижированию (у Г. Сваровского) в венской Академии музыки и сценического искусства, в оркестре которой играл на контрабасе. Победитель конкурса дирижеров в Ливерпуле (1958). Дирижер оркестров в Монреале (1960—1967) и Лос-Анджелесе (1960, с 1962 — музыкальный руководитель). Возглавляет Нью-Йоркский филармонический оркестр (с 1976), музыкальный руководитель Израильского симфонического оркестра (с 1970). Важнейшие дебюты в опере: «Метрополитен» (1965), «Ковент-Гарден» (1977). В репертуаре — классическая и современная музыка. Широко гастролирует, неоднократно бывал в СССР (с Нью-Йоркским филармоническим оркестром—1988). 92, 94, 98, 116, 208. Милнз, Шерил (р. 1935) — американский певец (баритон). Учился в университетах США. Пел в хоре оперного театра Санта-Фе, выступал в эпизодических ролях. Карьеру солиста начал в Бостонской опере (1960). Пел на сценах миланского «Театро Нуово», «Нью-Йорк Сити Опера», «Метрополитен», «Ковент-Гарден». Ведущий баритон американского оперного театра. В репертуаре — партии Риголетто, ди Луна, Эскамильо, Дон Жуана, Фигаро, Яго. 82, 92, 98, 105, ПО, 111, 119, 138, 161, 162, 165, 168, 205. Миттелман, Норман (р. 1932) — американский певец (баритон). Закончил Музыкальный институт Кёртис (1959). Выступает в театрах Европы и Америки: в Цюрихе, Флоренции, Чикагской опере, Гамбурге, «Ла Скала». В числе партий — Риголетто, Скарпиа, Фальстаф. 196. Мозер, Эдда (р. 1941) — австрийская певица (сопрано). Училась в консерватории Западного Берлина. На оперной сцене дебютировала в 1962 г. Выступала в «Метрополитен», Зальцбурге, Вене, Гамбурге. Поет в операх Моцарта, Верди, Вагнера, Пуччини, значительное внимание уделяет современному репертуару (Хенце, Фортнер, Циммерман, Ноно). 201. Молинари-Праделли, Франческо (р. 1911) — итальянский дирижер и пианист. Учился в Болонье и Риме (Академия «Санта-Чечилия»). Как дирижер дебютировал в 1938 г. Последующая его исполнительская деятельность почти целиком связана с оперой. Дирижер театров в Болонье, Бергамо, Брешии, «Ла Скала» (с 1946), «Ковент-Гарден» (с 1955), Сан-Франциско (с 1957), венской «Штаатсопер» (с 1959), «Метрополитен» (с 1966). Известен интерпретациями опер Доницетти, Верди, Пуччини. С ним лучшие свои партии итальянского репертуара пели Р. Тебальди и Б. Нильсон. 106, 107. Молль, Курт (р. 1938) — немецкий певец (бас). Учился в Кёльнской высшей музыкальной школе. Дебютировал в Ахене (1961). Пел в театрах Майнца, Вупперталя. Солист Государственной оперы в Гамбурге (с 1972). Исполнитель ведущих басовых партий в операх Моцарта, Вебера, Вагнера, Массне («Дон Кихот»). 104. Монкайо, Хосе Пабло (1912—1958) — мексиканский композитор и дирижер. Выпускник Городской консерватории Мехико (ученик Чавеса). Участник «Группы четырех», пропагандировавшей новую мексиканскую музыку. Художественный директор Национального симфонического оркестра Мехико (1944—1947), дирижер Мексиканского национального оркестра (1949—1952). Автор популярной сарсуэлы «Мулатка из Кордовы» (1948), симфонических произведений. 69. Морено Торроба, Федерико (1891 —1982) — испанский композитор, дирижер, критик. Начал композиторскую деятельность в 1920-е гг. как автор пьес для оркестра. Наибольшую известность приобрели его музыка для гитары и многочисленные сарсуэлы, в т. ч. «Луиза Фернанда» (1932), «Сеньор Наварра» (1936), «Мария-Мануэла» (1953). 18, 22, 32, 187. Моффо, Анна (р. 1934) — американская певица (лирико-колоратурное сопрано), по происхождению итальянка. Училась в Филадельфии и Риме. Дебютировала в Сполето (1955). Пела в театрах Италии (1955—1959). Выступает в крупнейших театрах мира: «Метрополитен», «Ковент-Гарден», венской «Штаатсопер», на Зальцбургских фестивалях. Известность получила как блестящая исполнительница партий со сложной колоратурой и как незаурядная актриса (Джильда, Виолетта, Маргарита, Ма-нон, Мелизанда). 47. Мути, Риккардо (р. 1941) — итальянский дирижер. Учился как пианист, дирижер и композитор в Неаполитанской консерватории, изучал философию в Неаполитанском университете. Победитель международного конкурса дирижеров им. Кантелли (1967). Дебютировал с оркестром Итальянского радио (1968). Дирижирует крупнейшими оркестрами мира (в опере — с 1970). Известен блестящими интерпретациями опер Россини, Спонтини, Мейербера, Верди, музыки композиторов XX в. (Бриттен, Шостакович, Даллапиккола, Лигети, Петрасси). Музыкальный руководитель «Ла Скала» (с 1986). 108, 116, 132—134, 141, 179, 215. Нильсон, Биргит (р. 1918) — шведская певица (драматическое сопрано). Училась в Стокгольме. Дебютировала в Шведской Королевской опере (1946). Пела на сценах Глайндборна, Вены, Байрейта, «Ковент-Гарден», «Метрополитен». В 1950 — 1970-е гг.— одна из ведущих солисток мировой оперной сцены в операх Вагнера и Р. Штрауса (Брунгильда, Зиглинда, Изольда, Саломея, Электра), Верди и Пуччини (леди Макбет, Амелия, Аида, Турандот). В 1964 г. в составе труппы «Ла Скала» выступала в Москве. 89, 92, 94— 96, 101, 128, 244. Нимсгерн, Зигмунд (р. 1940) — немецкий певец (баритон). Учился в Саарбрюкене. Дебютировал в 1965 г. Солист «Дойче Опер ам Райн» (1972). Поет в «Ковент-Гарден», на Зальцбургских фестивалях, в «Ла Скала», Вене, Монреале, Сан-Франциско. Наибольший успех ему принесли партии в операх Вагнера (Тельрамунд, Парсифаль) и Р. Штрауса. 201. Нуччи, Лео (р. 1942) — итальянский певец (баритон). Один из ведущих солистов современной оперной сцены в итальянском репертуаре (Риголетто, ди Луна, Амонасро). Поет в «Ла Скала», «Ковент-Гарден», «Метрополитен», венской «Штаатсопер». 183, 215. Оливеро, Магда (р. 1913) — итальянская певица (сопрано). Училась в Турине. Дебютировала в 1933 г. и пела в театрах Италии до 1941 г. По просьбе Чилеа в 1951 г. вернулась на сцену. Гастролировала в крупнейших театрах мира («Ковент-Гарден», «Метрополитен»). Считалась одной из лучших исполнительниц партий в операх Чилеа (Адриенна Лекуврер), Верди (Виолетта), Пуччини (Тоска, Мими, Баттерфляй). 104. Паваротти, Лучано (р. 1935) — итальянский певец (тенор). Дебютировал в «Театро Реджио Эмилия» (1961). Поет в «Ла Скала», «Метрополитен». Один из наиболее популярных певцов современной оперной сцены (постоянный партнер Дж. Сазерленд), обладает голосом необыкновенно красивого тембра, блестящей вокальной техникой. Поет преимущественно в классических итальянских операх (Доницетти, Беллини, Верди). В составе труппы «Ла Скала» в 1964, 1974 гг. выступал в Москве. 128, 245, 246. Паскалис. Костас (р. 1929) — греческий певец (баритон). Учился в Афинской консерватории (фортепиано, композиция), брал уроки пения. Дебютировал в Афинской опере (1951). Выступал в венской «Штаатсопер», Глайндборне, «Метрополитен», Зальцбурге, «Ла Скала», «Ковент-Гарден». Получил известность как исполнитель партий Дон Жуана, Риголетто, Макбета, Скарпиа, Яго. 80. Патане, Джузеппе (р. 1932) — итальянский дирижер. Учился в Неаполитанской консерватории. Дебютировал как дирижер в «Театро Меркаданте» (1951). В 1960-х гг. работал главным образом в Австрии и ФРГ. Получил широкое признание, выступая в «Ла Скала», «Ковент-Гарден». В дирижерском искусстве считается одним из последователей Тосканини. Известен интерпретациями опер Беллини, Россини, Верди, Пуччини. 68, 83, 153. Перайя, Мюррей (р. 1947) — американский пианист, дирижер. Учился в Нью-Йорке. Победитель конкурса пианистов в Лидсе (1972). Широко гастролирует во всем мире (Москва, «Декабрьские вечера», 1985). Получил признание как интерпретатор классического фортепианного репертуара (Моцарт, Шопен, Шуман, Мендельсон). Выступает в ансамблях с инструменталистами и вокалистами. 103. Пертиле, Аурелиано (1885—1952) — итальянский певец (тенор). Дебютировал в 1911 г. в Милане. Пел в «Ла Скала» (1916—1937), театрах «Колон», «Метрополитен», «Ковент-Гарден». Имел триумфальный успех в партии Фауста («Мефистофель» Бойто) под управлением Тосканини («Ла Скала», 1922). Первый исполнитель партии Нерона в одноименных операх Бойто (1924) и Масканьи (1935). В последние годы сценической деятельности был известным исполнителем роли Отелло. С 1945 г. преподавал в Миланской консерватории. 142, 190, 245. Пешков, Димитр (р. 1919) — болгарский композитор, административный деятель. Учился в Софии, совершенствовался в аспирантуре Московской консерватории. Директор Софийской оперы (1954—1962 и с 1975). Президент Болгарского союза композиторов (с 1972). Автор кантатно-ораториальных произведений и песен. В 1969 г. удостоен Димитровской премии. 96. Пирс, Жан Джэкоб Пинкус Перельмут (р. 1904) — американский певец (лирико-драматический тенор). Играл на скрипке в танцевальном оркестре и пел на радио (1932). Дебютировал в опере в 1938 г. Солист «Метрополитен» (1941 — 1968). Широко гастролировал в США и Европе. Первый американский певец, выступивший на сцене Большого театра после второй мировой войны (1956). Участвовал в концертах Тосканини и был приглашен им на записи опер «Богема», «Травиата», «Фиделио», «Бал-маскарад», «Риголетто». Играл роль Тевье в бродвейской постановке мюзикла Бока «Скрипач на крыше» (1971). 106. Пицци, Пьер Луиджи (р. 1930) — итальянский режиссер и сценограф. Театральную деятельность начинал оформлением спектаклей в «Пикколо Театро» Генуи (1951). Художник-постановщик оперных спектаклей во многих театрах Италии. Как режиссер ставил оперы в «Ла Скала» («Лючия ди Ламмермур», 1983), Женеве, мюнхенской «Штаатсопер» и других крупнейших театрах. Постановщик фильмов-опер (с 1977): «Дьяволы из Лудена», «Искатели жемчуга», «Дон Жуан», «Риголетто». 95. Поннель, Жан-Пьер (р. 1932) — французский режиссер и сценограф. Изучал философию и историю искусств в Сорбонне, брал уроки живописи у Ф. Леже. По просьбе своего друга X. В. Хенце сделал оформление к первой постановке его оперы «Бульвар одиночества» в Государственной опере в Гамбурге (1952). Как режиссер дебютировал постановкой пьесы Камю «Калигула» (Дюссельдорф, 1961). Один из ведущих режиссеров современного театра. Ставит и оформляет драматические пьесы, оперы, балеты, мюзиклы в Мюнхене, «Ла Скала», «Гранд-Опера», венской «Штаатсопер», в Сан-Франциско, на Голландском фестивале, Зальцбургском фестивале (здесь впервые поставил оперу Шёнберга «Моисей и Аарон», 1987—1988). 100, 146, 148—150, 168, 169, 179, 180, 190, 196—199, 206, 207, 238. Понс, Лили (1904—1976) — американская певица (лирико-колоратурное сопрано), француженка по происхождению. Училась как пианистка в Парижской консерватории. Дебютировала на оперной сцене в 1927 г. Пела в провинциальных театрах Франции. Триумфальный успех сопутствовал ее первому выступлению в «Метрополитен» (1931). Широко гастролировала в Америке, выступала в театрах «Ковент-Гарден», «Колон». Считалась одной из лучших исполнительниц партий колоратурного сопрано: Лючия, Джильда, Лакме, Олимпия («Сказки Гофмана»). 44, 56, 243. Прайс, Леонтин (р. 1927) — американская певица (сопрано). Окончила Джульярдскую музыкальную школу. Дебютировала в бродвейской постановке оперы В. Томсона «Четверо святых» в 1951 г. Первый большой успех — Тоска в телепостановке оперы Пуччини (1955). Пела на сценах Сан-Франциско, «Арена ди Верона», Вены, «Ковент-Гарден», «Ла Скала», Зальцбурга, «Метрополитен». Выступала в Москве в 1964 г. Признана классическим сопрано для опер Верди (Леонора, Аида, Амелия), выступала также в операх Монтеверди, Генделя, Моцарта, Чайковского, Пуччини. 69, 92, 93, 98, 128, 164. Прайс, Маргарет (р. 1941) — английская певица (сопрано). Дебютировала в Уэльской национальной опере (1962). Пела в «Ковент-Гарден», «Гранд-Опера», в Сан-Франциско, Кёльне. Наибольшее признание получила исполнением партий в операх Моцарта (Памина, Донна Анна, Фьёрдилиджи, Керубино, Констанца), а также Генделя, Чайковского (Татьяна), Верди (Дездемона), Бриттена (Титания). Большое внимание уделяет камерному репертуару, который исполняет на языке оригинала (Мусоргский, Шёнберг). 166, 178. Превитали, Фернандо (р. 1907) — итальянский дирижер, композитор. Учился в Туринской консерватории как виолончелист, органист и композитор. Участвовал в организации флорентийского оркестра «Маджио музикале». Главный дирижер оркестра Римского радио (1936—1943, 1946—1953), дирижер и художественный консультант Академии «Санта-Чечилия» в Риме (с 1953), с оркестром которой выступал во многих странах мира. Художественный директор театров в Турине и Генуе. Ставил оперы в Неаполе, Сан-Карло, Буэнос-Айресе, Далласе. Известный педагог, активный пропагандист музыки Бузони. Первый исполнитель ряда современных опер (Гедини, Даллапиккола). 129. Прей, Герман (р. 1929) — немецкий певец (лирический баритон), ФРГ. Училсяв Берлинской Высшей музыкальной школе. Дебютировал на оперной сцене в Висбадене (1952). Солист Гамбургской оперы (с 1953). Выступал на сценах венской «Штаатсопер», «Ковент-Гарден», в Зальцбурге. Один из лучших певцов своего поколения в постановках опер Моцарта (Фигаро, Папагено, Гульельмо) и Вагнера (Вольфрам фон Эшенбах). 100. Претр, Жорж (р. 1924) — французский дирижер. Учился в Парижской консерватории (труба, композиция, дирижирование). Дебютировал как оперный дирижер в Марселе (1946). Работал в парижской «Опера комик» (1956—1959). Дирижер «Гранд-Опера» (с 1960). Ставил спектакли с участием М. Каллас («Тоска», «Кармен»). Активный пропагандист французской музыки (Лало, Пуленк). Широко гастролирует в Европе и Америке. 100, ПО, 135, 201, 203. Причард, Джон (р. 1921) — английский дирижер. Учился как пианист, скрипач и дирижер в Италии. Участвовал в первых послевоенных постановках Глайндборнской оперы и Эдинбургского фестиваля (1947—1949). С начала 1950-х гг. выступает в крупнейших театрах и на концертных эстрадах Европы и Америки: в венской «Штаатсопер», «Ковент-Гарден», в театре «Колон», Чикагской опере. Музыкальный директор Королевского ливерпульского филармонического оркестра (1957—1963), Лондонского филармонического оркестра (1962—1966), Глайндборнской оперы (1969—1979), Хаддерсфилдского хорового общества (с 1973), главный дирижер оперы в Кёльне (с 1978). Широко пропагандирует современную музыку: дирижировал премьерами опер Типпета, Бриттена, Хенце. Удостоен Шекспировской премии (Гамбург, 1975). 200. Пюхер, Виргинио (р. 1927) — итальянский режиссер. Учился в Миланском университете, работал журналистом. С 1948 г. ассистент Дж. Стрелера в миланском «Пикколо-театро». Редактор радио (1952—1954). Самостоятельно ставит спектакли в драматическом театре и опере с 1956 г. 196. Раймонди, Руджеро (р. 1941) — итальянский певец (бас, баритон). Дебютировал в Сполето (1967). Выступает на сценах Глайндборна, в «Метрополитен», «Ковент-Гарден». Один из ведущих певцов современной оперной сцены. Владеет голосом широкого диапазона, обладает большими актерскими возможностями. Известность получил исполнением партий классического итальянского репертуара. Снимался в фильмах-операх: Дон Жуан («Дон Жуан», реж.— Дж. Лоузи, 1983), Эскамильо («Кармен», реж.—Ф. Рози, 1985). 9, 105, 215, 248. Резник, Регина (р. 1921) — американская певица (лирико-драматическое сопрано, меццо-сопрано). Училась в Нью-Йорке. Дебютировала в бруклинской Академии музыки (1942). Солистка «Метрополитен» (с 1944). Одна из звезд мировой оперной сцены 1950—1960-х гг. Выступала в Байрейте, Вене, Зальцбурге, Лондоне, городах США. Исполнительница разноплановых ролей (от комических до трагических): Квикли («Фальстаф»), Леонора («Фиделио»), Иродиада («Саломея»), Леонора («Трубадур»), Эболи, Марина Мнишек, Катерина Измайлова. Пела в операх Барбера, Бриттена, Айнема. Ставила спектакли как режиссер: «Кармен» (Гамбург, 1971), «Электра» (Венеция, 1971). 82. Ризанек, Леони (р. 1928) — австрийская певица (драматическое сопрано). Училась в Вене. Дебютировала в Инсбруке (1949). Солистка театра в Саарбрюкене (1950—1952). Выступала на первом послевоенном Байрейтском фестивале (1951). Ведущая солистка мюнхенской «Штаатсопер» (с 1951). С конца 1950-х гг. гастролировала в Европе и Америке, выступая преимущественно в «Метрополитен» и венской «Штаатсопер». Одна из лучших исполнительниц послевоенного времени в операх Вагнера и Р. Штрауса, пела также в итальянском репертуаре (леди Макбет, Турандот, Тоска). В 1971 г. с труппой венской - Штаатсопер» гастролировала в Москве. 128. Ринальди, Маргерита (р. 1935) — итальянская певица (сопрано). Дебютировала в Сполето (1958). Выступала в Дублине, Далласе, в «Ла Скала» (1966). Поет в театрах Италии, Испании, Л встрии, США. Среди лучших творческих достижений — виртуозные партии высокого сопрано в операх Моцарта, Доницетти (Лючия), Беллини (Амина), Верди (Джильда, Виолетта), Р. Штрауса. 145. Риччарелли, Катя (р. 1946) — итальянская певица (сопрано). Училась в Венеции. Дебютировала в Мантуе (1969). Лауреат премии имени Верди для молодых певцов (1970). Одна из ведущих певиц современной оперной сцены: выступает в «Ла Скала», «Ковент-Гарден», венской «Штаатсопер», Париже, гастролировала в СССР (сольные концерты, 1986). В репертуаре— партии Леоноры, Амелии, Луизы Миллер, Дездемоны, Мими. 152, 161, 162, 183, 215. Родзинский, Артур (1892—1958) — американский дирижер (поляк по происхождению). Дебютировал в опере во Львове (1920), работал хоровым и оперным дирижером в Варшаве (1921 —1925), с 1925 г. жил в США. Сыграл большую роль в формировании и улучшении деятельности ряда известных американских оркестров — Кливлендского, Чикагского, Ныо-Иоркского филармонического. Выступал в Зальцбурге (1936), Вене (1937). Осуществил в Италии первую постановку оперы Прокофьева «Война и мир» (1953), в США — первую постановку «Катерины Измайловой» Шостаковича (1935). 118. Ронкони, Лука (р. 1933) — итальянский режиссер, актер. Закончил в Риме Национальную академию драматического искусства. Дебютировал как режиссер в 1963 г. Директор секции театра и музыки Венецианской биеннале (с 1974). Оперные спектакли ставит с 1975 г. («Валькирия»). В 1977 г. основал в Прато экспериментальную лабораторию по изучению театрального искусства. 178, 215. Руделъ, Юлиус (р. 1921) — американский дирижер (австриец по происхождению). Учился в венской Академии музыки и в Нью-Йорке (эмигрировал в США в 17-летнем возрасте). Большую роль сыграл в деятельности «Нью-Йорк Сити Опера», где работал концертмейстером (с 1943), дебютировал как дирижер (1944), был назначен художественным руководителем (1957). Музыкальный директор Карамурского фестиваля (штат Ныо-Иорк) и первых четырех сезонов Центра им. Кеннеди в Вашингтоне. Дирижирует ведущими оркестрами США, гастролирует в Европе. 67, 134, 180. Сазерленд, Джоан (р. 1926) — австралийская певица (лирико-колоратурное сопрано). Училась в Сиднее, где дебютировала в оперном театре в 1950 г. С 1952 г. поет в «Ковент-Гарден», с которым связаны ее первые триумфальные успехи: Джильда (1957), Лючия (1959). Выступает в крупнейших театрах мира. Завоевала славу одной из лучших певиц современной оперной сцены. Владеет феноменальной колоратурной техникой и выдающимся актерским мастерством. Поет преимущественно в операх классического итальянского и французского репертуара (Доницетти, Беллини, Россини, Верди, Бизе, Массне, Оффсн-бах). С 1960 г. живет в Швейцарии. 43, 44, 109, 128, 193, 194, 201. Санти, Нелло (р. 1931) — итальянский дирижер. Учился в Падуе, здесь же дебютировал как дирижер (1951). С 1958 г. выступает в ведущих театрах Европы и Америки: Цюрих, Мюнхен, Вена, Зальцбургский фестиваль, «Ковент-Гарден», «Метрополитен». Признанный мастер итальянского оперного репертуара (Доницетти, Беллини, Верди). 68, 77, 84, 85, 87, 142, 206, 249. Свобода, Иозеф (.р. 1920) — чешский художник театра. Главный художник Национального театра в Праге (с 1948). Широкую известность получили его работы в театре «Латерна магика». Художник-постановщик спектаклей в «Метрополитен», Ковент-Гарден», Байрейте. Профессор Академии изобразительных искусств Чехословакии. Лауреат Государственной премии ЧССР (1954), народный артист ЧССР (1968). 152, 166. Селл, Джордж (1897—1970) — американский дирижер (венгр по происхождению). Учился в Вене (у Мандычевского, Регера). Дебютировал как дирижер с Венским симфоническим оркестром в возрасте 16 лет. Приглашен Р. Штраусом в Берлинскую оперу (1915). Дирижер театров в Дармштадте (1921), Дюссельдорфе (1922). Музыкальный директор Немецкой оперы и филармонии в Праге (1929—1937). С 1939 г. жил в США, выступая со многими оркестрами и в «Метрополитен» (1942—1946). Музыкальный директор Кливлендского оркестра (1946—1970). В послевоенное время широко гастролировал за пределами США. Классическими признаны его интерпретации австро-немецкой музыки (от Гайдна до Р. Штрауса). 108. Серафин, Туллио (1878—1968) — итальянский дирижер. Учился как скрипач в Миланской консерватории. Дебютировал как дирижер в Ферраре (1900). Дирижировал в «Ковент-Гарден» (с 1907), «Ла Скала» (1909—1914, 1917—1918, 1945—1946), «Метрополитен» (1924—1934). Художественный директор римского «Театро реале» (1934—1943), дирижер Чикагской оперы (1956—1958), консультант и дирижер «Театро дель опера» в Риме (с 1960). Выдающийся интерпретатор классического оперного репертуара, инициатор постановок в Италии опер Р. Штрауса, Берга, Бриттена, в США — опер Мусоргского, Пуччини, Джордано. Сыграл большую роль в творческом становлении ряда выдающихся певцов (Т. Гобби, М. Каллас, Дж. Сазерленд). 121. Ceppa, Лучана (р. 1946) — итальянская певица (сопрано). Дебютировала в Будапеште (1966). Известность получила в конце 1970-х гг., выступая в театрах Италии, Лондоне и Гамбурге. По виртуозности исполнения партий высокого сопрано в операх Доницетти, Беллини, Делиба, Обера, Оффенбаха ее сравнивают с Дж. Сазерленд. 201. Силлз, Беверли (р. 1929) — американская певица (сопрано). Дебютировала в Филадельфии (1947), выступала во многих городах США с гастрольными труппами, давала сольные концерты. Ведущая солистка «Нью-Йорк Сити Опера» (с 1955). Широкую известность приобрела в конце 1960-х гг., исполнив партии в операх Генделя (Клеопатра) и Доницетти (Мария Стюарт, Анна Болейн, Елизавета). Выступала в Вене, «Ла Скала», «Ковент-Гарден», «Метрополитен». Одна из лучших в ее репертуаре — партия Манон в опере Массне. Активный административный деятель американской оперы. Директор «Нью-Йорк Сити Опера» (с 1979). 67, 72, 74, 107, 110, 193. Симионато, Джульетта (р. 1910) — итальянская певица (меццо-сопрано). Победитель конкурса вокалистов во Флоренции (1933). Пела во многих театрах Италии (в «Ла Скала» — с 1939), на Эдинбургском фестивале, в «Ковент-Гарден», «Метрополитен», в Чикагской опере. Гастролировала в Москве в 1964 г. Считалась одной из лучших исполнительниц партий колоратурного меццо в операх Россини, Беллини, Доницетти, драматических ролей в операх Верди (Азучена, Амнерис), Визе (Кармен), Массне (Шарлотта). Закончила выступления на сцене в 1966 г. 203. Синополи, Джузеппе (р. 1946) — итальянский композитор, дирижер. Учился в Венецианской консерватории (дирижированию — в Вене у Сваровского, 1972), участвовал в композиторских семинарах Б. Мадерны и К. Штокхаузена в Дармштадте (с 1968). Организовал в Венеции Ансамбль современной музыки (1975). Автор оркестровых, хоровых, сольных вокальных произведений, электронной музыки. 207, 208, 248. Сичилиани, Франческо (р. 1911) — итальянский театральный администратор, композитор. Учился во Флорентийской консерватории. В 1930-е гг. получил известность как автор хоровых произведений. Художественный директор театров в Сан-Карло, Неаполе (1940—1948), Флоренции (1948—1957), «Ла Скала» (1957—1966), консультант Итальянского радио (с 1966). 122. Скотто, Рената (р. 1934) — итальянская певица (сопрано). Брала частные уроки пения в Милане у Э. Джирардини и М. Ллопарт. Дебютировала в «Театро Нуово» (1953). Пела в «Ла Скала». С триумфальным успехом выступила в Лондоне (1957). Поет в «Ковент-Гарден» (с 1962), «Метрополитен» (с 1965), венской «Штаатсопер», театре «Колон». Гастролировала в СССР с театром «Ла Скала» (1964). Среди партий — Виолетта, Лючия, Баттерфляй, Норма, Анна Болейн, Мими, Манон. Признана одной из лучших итальянских певиц своего поколения. Ставит оперные спектакли как режиссер («Мадам Баттерфляй» — «Арена ди Верона», 1987). 111, 177, 178, 186, 205. Стивене, Ризе (р. 1913) — американская певица (меццо-сопрано). Училась в Джульярдской школе, затем в Европе. Дебютировала в Нью-Йорке (1931). Пела в театрах Вены и Праги. Солистка «Метрополитен» (с 1938). Среди лучших партий — Кармен, Октавиан, Керубино, Миньон. В 1964 г. ушла со сцены. Активно занимается административной деятельностью в области оперы. 88. Стратас, Тереза (р. 1938) — канадская певица (сопрано). Училась в Торонто. Дебютировала в Канадской опере (1959), выступала в «Метрополитен». Гастролировала в Европе: Афины, «Ковент-Гарден», «Ла Скала», Зальцбург, а также в Париже, Гамбурге, Мюнхене, Москве. Среди партий — Жанна д'Арк (Верди), Лиза, Татьяна, Виолетта, Недда, Мими. Создала ряд значительных образов в операх XX в. (Мелизанда, Лулу). Виолетта в фильме-опере «Травиата» (реж.— Ф. Дзеффирелли, 1983). 8, 9, 209, 211. Стрелер, Джордже (р. 1921) — итальянский режиссер. Актерскую и режиссерскую деятельность на драматической сцене начал в 1940 г. Основатель «Пикколо-театро» в Милане (1947). Первая постановка оперы—«Травиата» в «Ла Скала» (1947). Один из организаторов экспериментальной оперной студии в Милане — «Пикколо Скала» (1955). Режиссер-новатор, разрушивший устаревшие каноны псевдореалистических интерпретаций оперы. В своих работах опирается на синтез элементов театральных систем разных эпох (комедия дель арте, театр барокко, классицизм), использует приемы монтажа, коллажа, развивает принципы театра Брехта. Известен постановками опер Моцарта, Верди, современных авторов («Гранд-Опера», «Ковент-Гарден», венская «Штаатсопер»). 151, 190. Стюарт, Томас (р. 1928) — американский певец (баритон). Учился в Джульярдской школе. Дебютировал в 1954 г. Продолжил учебу в Европе, после чего выступал в крупнейших театрах: западноберлинской «Дойче Опер», «Ковент-Гарден», «Метрополитен». Выступал на Зальцбургском фестивале с Г. Караяном, в Байрейте. Лучшие партии его репертуара — в операх Моцарта (Дон Жуан) и Вагнера (Вотан, Гунтер, Ганс Сакс). 193. Сьепи, Чезаре (р. 1923) — итальянский певец (бас, баритон). Брал частные уроки пения. Дебютировал в 1941 г., выступал в «Ла Скала». Солист «Метрополитен» (1950—1974). Как баритон наибольший успех имел в операх Моцарта (Фигаро, Дон Жуан), в постановках которых выступал под управлением Фуртвенглера (Зальцбург, 1953), Шолти («Ковент-Гарден», 1962). В басовом репертуаре — партии Мефистофеля, Бориса Годунова, Филиппа II. 48, 80, 128. Таккер, Ричард (1913—1975) — американский певец (тенор). Начинал петь в синагогах и на радио. Исполнил более 30 ролей на сцене «Метрополитен» (1945—1975). Выступал в Вероне (с М. Каллас, 1947), Флоренции, Вене, Лондоне, Буэнос-Айресе, во многих городах США, в т. ч. как камерный певец. Обладал уникальными вокальными данными (его часто сравнивали с Карузо). Известность получил исполнением партий в итальянских операх (Радамес, Энцо, Канио). 99, 111, 119, 128, 142, 143, 191. Тальвела, Марши (р. 1935) — финский певец (бас). Учился в Музыкальной академии г. Лахти и Стокгольме. Дебютировал в Финской национальной опере, с 1961 г. солист Стокгольмской оперы, с 1962 г. выступал в западноберлинской «Дойче Опер», на Байрейтском фестивале, в крупнейших театрах Европы и Америки. Наибольший успех получил в операх Мусоргского, Верди, Вагнера. Исполнитель роли Бориса Годунова в первой на сцене «Метрополитен» постановке оперы Мусоргского по авторской партитуре (1974). Художественный руководитель оперного фестиваля в Савонлинне (с 1972). Выступал с гастролями в СССР. 103. Таманьо, Франческо (1850—1905) — итальянский певец (тенор). Знаменитый оперный артист конца XIX в. Учился в Турине. Начинал как хорист, затем компримарио в «Театро Реджио». В 1870 г. там же дебютировал в опере «Полиевкт» Доницетти. С 1874 г. солист «Театро Беллини» в Палермо. Выступал во многих городах Италии в операх Доницетти, Верди, Мейербера, Массне, Понкиелли. В 1877 г. дебютировал в «Ла Скала» (Васко да Гама в «Африканке» Мейербера). Гастролировал в Буэнос-Айресе, Лондоне, Чикаго, Мадриде, Мюнхене, Париже, Москве, Петербурге, Нью-Йорке. Был первым исполнителем партии Отелло (1887), которая считалась его лучшим созданием. Оставил сцену в 1904 г. 155. Тауризлло, Антонио (р. 1931) — аргентинский композитор, дирижер. Учился как пианист у Р. Спивака, В. Гизекинга, композиции — у А. Хинастеры. Дирижировать начал в 1958 г. Работал в театре «Колон» (с 1958), Чикагской опере (с 1965), выступал в театрах Вашингтона, Нью-Йорка. Как композитор считается одним из лидеров аргентинского авангарда. Автор симфонических, камерных произведений, оперы. За свои сочинения удостоен ряда европейских и американских премий. 70. Тебальди, Рената (р. 1922) — итальянская певица (сопрано). Училась в Пармской консерватории, затем в Пезарском лицее им. Россини. Дебютировала на оперной сцене в 1944 г. По приглашению Тосканини стала солисткой «Ла Скала» (1946). Выступала во многих театрах Италии, Европы, Америки. В 1975 г. выступала с концертами в СССР. Признана одной из лучших итальянских певиц XX в. В репертуаре — партии в операх Генделя, Моцарта, Россини, Верди (Виолетта, Дездемона, Жанна д'Арк), Пуччини (Тоска, Мими), Чилеа (Адриенна Лекуврер). Удостоена приза «Золотой Верди» (1973). В 1976 г. прекратила артистическую деятельность. 67, 72, 88— 90, 98, 121, 203. Те Канава, Кири (р. 1944) — новозеландская певица (сопрано). Как призер множества конкурсов в Новой Зеландии и Австралии продолжила учебу в лондонском Центре оперы. Дебютировала в «Ковент-Гарден» (1970). Пела в Лионской опере, в Сан-Франциско, в Глайндборнс, в «Гранд-Опера», «Метрополитен». Большой успех имела в операх Моцарта (Графиня, Донна Эльвира, Фьёрдилиджи), Верди (Дездемона, Амелия). Одна из ведущих певиц современной оперной сцены. Донна Эльвира в фильме-опере «Дон Жуан» (реж.— Дж. Лоузи, 1983). 135, 248. Томова-Синтова, Анна (р. 1941) — болгарская певица (лирико-драматическое сопрано). Училась в Софийской консерватории. Дебютировала в партии Татьяны в г. Стара-Загора в 1965 г., гастролировала в Лейпциге, Западном Берлине, Зальцбурге, с 1972 г. солистка Немецкой государственной оперы (ГДР). Международную известность получила после выступлений и записей с Г. Караяном (с 1973). Поет в крупнейших театрах мира («Ковент-Гарден», «Ла Скала», венская «Штаатсопер», «Метрополитен»), в операх Моцарта (Донна Анна, Графиня), Верди (Дездемона, Аида, Амелия), Вагнера (Эльза, Елизавета), Р. Штрауса (Фельдмаршальша, Ариадна), Пуччини (Тоска). Неоднократно выступала в СССР. 206, 248. Торроба, Федерико — см. Морено Торроба, Федерико. Тосканини, Артуро (1867—1957) — итальянский дирижер. Выдающийся музыкант XX в. Учился в Парме. Начинал профессиональную деятельность как виолончелист в оркестрах «Театро Реджио» и «Ла Скала» (1887). Дирижирует с 188G г., выступая во многих театрах Италии. Первый исполнитель известных веристских опер: -Паяцы» (1892), -Богема» (189(>). Пропагандировал в Италии музыку Вагнера, Р. Штрауса, Дебюсси. Художественный директор «Ла Скала» (1898—1903, 1906—1908, 1920—1929), «Метрополитен» (1908—1915), главный дирижер Нью-Йоркского филармонического оркестра (1926—1936), оркестра «Эн-Би-Си» (1937—1954), выступал на Зальцбургских и Байрейтских фестивалях. Оставил в записях образцы выдающихся интерпретаций музыки Бетховена, Вагнера, Верди. Первый исполнитель Седьмой симфонии Шостаковича в США (1942). 45, 100, 106, 121, 208, 2,45, 249. Трайгл, Норман (1927—1975) — американский певец (бас, баритон). Учился в Луизиане. Дебютировал в Нью-Орлеане. Ведущий солист «Нью-Йорк Сити Опера» (1953— 1973). С 1973 г. гастролировал в Европе (Гамбург, Лондон, Милан). Критика особенно отмечала его незаурядные актерские способности. Исполнитель партий Дон Жуана, Мефистофеля (Гуно и Бойто), Бориса Годунова. 69, 74, 192, 193. Тройнос, Татьяна (р. 1938) — американская певица (сопрано). Начинала сценический путь в хоре на спектаклях бродвейских мюзиклов. Как оперная певица дебютировала в «Нью-Иорк Сити Опера» (1963). По приглашению Р. Либермана (1966) выступала в театрах Европы (Гамбург, Вена, Лондон) и завоевала международное признание. Пела в «Метрополитен», «Ла Скала». Одна из ведущих певиц современной оперной сцены. Владеет обширным репертуаром (от Генделя до Пендерецкого). 169, 208, 248. Тули, Джон (р. 1924) — английский оперный администратор. Учился в Кембридже. Работает в театре «Ковент-Гарден» с 1955 г. (генеральный директор с 1970). Сыграл важную роль в координации деятельности ведущих оперных театров Европы и Америки. Организовал в «Ковент-Гарден» регулярные общедоступные концерты для молодежи. Отмечен правительством Великобритании за заслуги в области музыкальной культуры (1979). 104, 125, 126, 209. Туччи, Габриэлла (р. 1932) —итальянская певица (сопрано). Училась в Риме. Дебютировала в Сполето (1951), пела в «Ла Скала», «Ковент-Гарден», «Метрополитен». Гастролировала в СССР в 1964 г. Считается одной из лучших современных пепиц в классическом итальянском и французском оперном репертуаре (Виолетта, Дездемона, Маргарита, Баттерфляй). 112. Уэбстер, Дэвид (1903—1971) — английский музыкальный администратор. Глава Ливерпульского филармонического общества (1940—-1945), генеральный директор «Ковент-Гарден» (1945—1970), лондонского Центра оперы (1962—1970), глава Британской ассоциации оркестровых музыкантов (1948—1970). За заслуги в области музыкальной культуры отмечался правительством Великобритании (1961, 1970). 125. Фаверо, Мафальда (р. 1905) — итальянская певица (сопрано). Училась в Болонье. Дебютировала в Кремоне (1926). Пела на сценах «Ла Скала», «Ковент-Гарден», «Метрополитен». С успехом выступала в постановках Тосканини. 203. Фаджиони, Пьеро (р. 1936) — итальянский режиссер. Участвовал как актер в постановках Дж. Стрелера, работал ассистентом Ж. Вилара и Л. Висконти. Первая самостоятельная оперная постановка — «Богема» (Венеция, 1963). Ставил спектакли в венской «Штаатсопер», «Гранд-Опера», в Японии, США, ФРГ. 148, 150—152, 166, 175, 176, 184, 200, 206, 238. Фассбендер, Иригитте (р. 1939) — немецкая певица (меццо сопрано), ФРГ. Училась в Нюрнбергской консерватории. Дебютировав в мюнхенской «Штаатсопер». Пела в «Ковент-Гарден», «Метрополитен», выступала также на Зальцбургских фестивалях, в Сан-Франциско, Париже, Токио. Большое внимание уделяет камерному репертуару. Шарлотта в фильме-опере «Вертер» (реж. П. Вайгль, 1985). 177. Фишер-Дискау, Дитрих (р. 1925) — немецкий певец (баритон), ФРГ. Учился в Берлине. Дебютировал на концертной сцене в 1947 г., пел на сценах венской «Штаатсопер», Мюнхена, Лондона, Зальцбурга, Байрейта, «Ковент-Гарден». В 1977 г. гастролировал в СССР. Один из выдающихся певцов XX в. Исполнитель партий в операх Моцарта, Верди, Вагнера, Р. Штрауса, Вузами, Хиндсмита, Берга, Хенце. Мировую славу завоевал как камерный певец первоклассными интерпретациями классического австро-немецкого репертуара (Бетховен, Шуберт, Шуман, Брамс, Р. Штраус, Вольф, Малер). Автор нескольких книг, посвященных исполнению камерной музыки. 5—7, 164. Флета, Мигель (1893—-1938) — испанский певец (тенор). Один из знаменитых оперных певцов первой половины XX в. Учился в Барселонской консерватории. Дебютировал в Триесте (1919). Выступал в Вене, Риме, Мадриде, в «Метрополитен», «Ла Скала» (1921). Пел преимущественно в итальянских и французских онерах (Хозе, Радамес, Каварадосси, Де Грие), первый исполнитель партии Калафа в «Турандот» Пуччини (1926). 16, 38, 142, 190. Франк, Джозеф (р. 1948) — американский певец (тенор). Учился в Музыкальном институте Кёртис. Дебютировал в Сан-Франциско (1974). Ведет активную концертную деятельность. Выступает в «Метрополитен» и крупнейших театрах США. В репертуаре — более 70 ролей, в т. ч. характерных. 169. Френи, Мирелла (р. 1935)—- итальянская певица (лирическое сопрано). С 10-летнего возраста участвовала в вокальных конкурсах. Училась в Болонье. Дебютировала в Модене (1955). Пела на сценах Нидерландской оперы, Глайндборна, «Ковент-Гарден», «Ла Скала», «Метрополитен». Выступала в спектаклях, поставленных Л. Висконти, Г. Караяном, Ф. Дзеффирелли. Одна из ведущих певиц современной оперной сцены. Среди партии — Виолетта, Мими, Сюзанна, Баттерфляй, Дездемона, Татьяна. Неоднократно гастролировала в СССР. 149, 158, 169, 175, 178, 183, 215. Фридрих, Гётц (р. 1930) — немецкий оперный режиссер (ГДР). После окончания Театрального института в Веймаре (1953) на протяжении 20 лет работал в «Комише Опер» (ГДР) с В. Фельзенштейном. Первую собственную постановку осуществил в 1959 г. С 1973 г.— режиссер Гамбургской оперы, профессор Гамбургского университета. Ставил спектакли в Байрейте (1972), венской «Штаатсопер» (1973), «Ковент-Гарден» (1974—1976). В своих работах развивает принципы «поэтического театра», большое внимание уделяет выразительности деталей действия. 765, 166, 248. Хайнс, Джером (р. 1928) — американский певец (бас), композитор, ученый. Изучал точные науки в Калифорнийском университете, брал уроки пения у Дж. Курчи. Дебютировал в Сан-Франциско (1941). Получив премию им. Карузо, выступал в «Метрополитен» (1946). Работал с Тосканини. Европейскую известность приобрел, выступая на Глайндборнских и Эдинбургских фестивалях, в «Ла Скала», Байрейте. Исполнил партию Бориса Годунова в Большом театре (1962). Написал автобиографическую книгу (1968). Автор оперы «Я — путь» (о жизни Христа), поставленной рядом театров США, а также нескольких трудов по математике. 69. Хампе, Михаэль (р. 1935) — немецкий оперный администратор, режиссер, актер, критик (ФРГ). Начинал работу режиссера в Цюрихе и Мюнхене. Генеральный директор оперного театра в Мангейме (1972—1975), Кёльнской оперы (с 1975). Ставил спектакли в «Ковент-Гарден», «Ла Скала», «Гранд-Опера», Эдинбурге, Зальцбурге («Дон Жуан», 1987—1988, с Г. Караяном). Профессор Кёльнской высшей музыкальной школы. Автор статей в журналах «Опернвельт», «Театер хойте». 200. Херц, Иоахим (р. 1924) — немецкий оперный режиссер (ГДР). Учился в дрезденской Академии музыки и театра (1960). Главный режиссер «Комише Опер» (1976—1981), дрезденской «Земперопер» (с 1981), для открытия которой в 1985 г. поставил «Волшебного стрелка» и «Кавалера розы». Развивает принципы театральных систем Брехта и Фельзенштейна. Ставил спектакли в крупнейших театрах мира: Вена, Лондон, Стокгольм, Москва. Автор ряда работ об оперном искусстве. 84. Хессе, Рут (р. 1936) — немецкая певица (меццо-сопрано), ФРГ. Училась в Вупперталс. Дебютировала в Любеке (1958). Выступала на Байрейтском фестивале, в Вене, Лондоне, Стокгольме, Париже, Западном Берлине. В репертуаре — партии Кармен, Эболи, Амнерис. Профессор Мюнхенской высшей музыкальной школы (с 1982). 80. Хинастера, Альберто (1916—1983) — аргентинский композитор и педагог. Учился в Буэнос-Айресе. Начал сочинять музыку в 1930 г. Многие из его произведений для музыкального театра поставлены в Аргентине и США. Автор опер «Дон Родриго» (1964), «Бомарсо» (1967), «Беатрис Ченчи» (1971), «Варавва» (1977), балетов, симфонических, хоровых, камерных произведений, музыки к 11 кинофильмам. 67, 70. Хорн, Мерилин (р. 1929) — американская певица (меццо-сопрано). Училась в университете Южной Каролины, брала уроки пения у Лоты Леман. Дебютировала в Лос-Анджелесе (1954). Пела в Венеции, Сан-Франциско, «Ковент-Гарден», «Метрополитен», «Ла Скала». Ведет большую концертную деятельность. Известность получила, выступая в ролях Кармен, Адальжизы («Норма», с Дж. Сазерленд), Марии («Воццек»), а также исполнением партий в операх Россини, Вагнера. 98, 164. Хоррес, Курт (р. 1932) — немецкий оперный режиссер (ФРГ). Закончил Кёльнский университет и Дюссельдорфскую консерваторию. С 1964 г. работал в театрах Любека, Вупперталя, Дармштадта. Режиссер Государственной оперы в Гамбурге (с 1982). Ставит классические и современные произведения для музыкального театра. 177. Хоттер, Ганс (р. 1909) — австрийский певец (бас, баритон), немец по происхождению. Учился в Мюнхене, работал органистом и хормейстером в церкви. Брал уроки пения у М. Рёмера. Дебютировал как солист в 1930 г. Выступал в Праге, Гамбурге, Мюнхене. Первый большой успех — исполнение партий Дон Жуана (1947) и Ганса Сакса (1948) в «Ковент-Гарден». Пел в «Метрополитен», на Байрейтских фестивалях. В 1950 — 1960-е гг. один из ведущих певцов мировой оперной сцены в постановках опер Вагнера. Как режиссер поставил в «Ковент-Гарден» «Кольцо нибелунга» (1961 —1964). Закончил карьеру певца в 1972 г. 80. Христов, Борис (р. 1918) — болгарский певец (бас). Народный артист НРБ (1975). Окончил юридический факультет Софийского университета. Пел в студенческом академическом хоре. Решил стать певцом, побывав на концерте Ф. Шаляпина в Софии в 1934 г. Учился в Италии, где дебютировал как оперный певец в 1945 г. в г. Реджо-ди-Калабрия. Известность получил исполнением партий Пимена в Риме и в «Ла Скала» (1947), Бориса Годунова в «Ковент-Гарден» (1949), США (1956), Филиппа II («Ковент-Гарден», 1958). В Болгарии и многих странах мира пел в операх Генделя, Вагнера, Верди. В концертной деятельности большое внимание уделял болгарской и русской народной и культовой музыке. Один из лучших певцов мировой оперной сцены в 1950—¦ 1900-е гг. 105. Хэммонд, Артур (р. 1904) — английский дирижер. Начал профессиональную деятельность в 1928 г. Работал в театрах Глазго (1928—1932) и Дублина (1936—1947). Музыкальный директор «Ковент-Гарден» (1948—1957). Консультант (с 1973), один из руководящих работников (с 1982) Министерства искусств Великобритании. Профессор Лондонского Королевского музыкального колледжа (198.0). 58. Чавес, Карлос (наст, имя и фамилия Падуа Чавес-и-Рамирсс, Карлос Антонио де) (1899—1978) — мексиканский композитор, дирижер, педагог, музыкально-общественный деятель. Сыграл большую роль в развитии мексиканской музыкальной культуры XX в. Организатор концертов современной музыки в Мехико (1925—1926). Основатель симфонического оркестра Мехико (1928), который он возглавлял до 1949 г. Директор Национальной консерватории (1928—1934), один из основателей Мексиканского музыкального издательства (1945), основатель журнала «Нуэстра музика» (1946). Генеральный директор Национального института изящных искусств Мексики (1947—1952). Выступал как дирижер в Америке и Европе, пропагандируя творчество мексиканских и латиноамериканских композиторов. Автор оперы, балетов, симфонической и камерной музыки. 28. Чилеа, Франческа (1866—1950) — итальянский композитор, педагог. Закончил Неаполитанскую консерваторию (1889). Директор консерваторий в Палермо (1913—-1916) и Неаполе (1916—-1920). Автор нескольких опер, самая известная из которых — «Адриенна Лекуврер» (впервые поставлена в Милане с участием А. Пандольфини и Э. Карузо, 1902). 50, 236. Шайи, Лучано (р. 1920) — итальянский композитор. Учился в Ферраре, Милане, Болонье, стажировался в Зальцбурге у Хиндсмита. Директор музыкальных программ Итальянского телевидения (1951 — 1967), художественный директор «Ла Скала» (1968—1971), «Театро Реджио» в Турине (с 1972). Преподаст композицию в Миланской консерватории (с 1969). Автор более 10 опер, в т. ч. на сюжеты из произведений Чехова и Достоевского, балетов, симфонической, хоровой и камерной музыки. 99, 122. Шайи, Риккардо (р. 1953) — итальянский дирижер. Закончил консерваторию в Риме. Дирижер-ассистент в «Ла Скала», Чикагской опере (1974—1978), дебютировал самостоятельными работами в «Ла Скала» (1978), «Ковент-Гарден» (1979), США (1980). Главный дирижер оркестра Западноберлинского радио (с 1982). Выступает с крупнейшими оркестрами и оперными коллективами мира. 122, 202. Шварцкопф, Элизабет (р. 1915) — немецкая певица (сопрано), ФРГ. Закончила Немецкую высшую музыкальную школу. Дебютировала в Берлинской опере (1938). Одна из выдающихся певиц XX века, завоевавшая широкое признание в мире в первые послевоенные десятилетия. Дала классические примеры интерпретации партий в операх Моцарта, Бетховена, Вагнера, Р. Штрауса. С большим успехом выступала в итальянском и французском оперном репертуаре, а также в операх современных композиторов (Типпет, Стравинский). Выдающимся мастерством отмечено ее исполнение австро-немецкой камерно-вокальной музыки (Шуберт, Шуман, Брамс, Вольф, Малер). С 70-х годов ведет активную педагогическую деятельность в Европе и США. Отмечена правительством ФРГ за заслуги в области музыкального искусства. Почетный доктор музыки Кембриджского университета. 74. Шенк, Отто (р. 1930) — австрийский режиссер, актер. Учился в Вене. Первую оперную постановку осуществил на Зальцбургском фестивале («Волшебная флейта», 1957). Известность получил спектаклями в венской «Штаатсопер» (с 1963), Мюнхене, Штутгарте, Западном Берлине. Первые работы в других крупнейших театрах мира: «Фиделио» («Метрополитен», 1970), «Свадьба Фигаро» («Ла Скала», 1974), «Бал-маскарад» («Ковент-Гарден», 1975). Главное внимание уделяет работе с актерами, широко опираясь в общей постановочной концепции на театральные традиции разных эпох. В 1988 г. с дирижером Дж. Ливайном осуществил первую в истории «Метрополитен» полную постановку вагнеровского цикла «Кольцо нибелунга». 153, 166, 202. Шеро, Патрис (р. 1944) — французский режиссер. Спектакли начал ставить в Париже (1964). С 1966 г. работал с разными драматическими труппами Франции. Как режиссер музыкального театра известен постановками в «Гранд-Опера» («Сказки Гофмана», 1974; «Лулу», 1979), Байрейте («Кольцо нибелунга», 1976—1981). 202, 220, 238. Шлезингер, Джон (р. 1926) — английский режиссер. Известен работами в кино, за которые удостоен премий крупнейших кинофестивалей (в Каннах, Венеции, Западном Берлине), а также американских премий «Оскар». Среди его фильмов — «Полуночный ковбой» (1968—1969), «Кровавое воскресенье» (1971), «Янки» (1978). Ставил спектакли в драматических театрах, оперы в «Ковент-Гарден» («Сказки Гофмана», 1980; «Кавалер розы», 1984). 200, 201. Шолти, Джордж (р. 1912) — английский дирижер (венгр по происхождению). Учился в Академии им. Листа (у Донаньи, Бартока, Кодая). Выступал как пианист, работал концертмейстером в Будапештской опере, где дебютировал как дирижер в 1938 г. Победитель международного конкурса пианистов в Женеве (1942). Музыкальный директор мюнхенской «Штаатсопер» (1946—1952), генеральмузикдиректор Франкфурта (с 1952). В Великобритании работает с 1949 г.: Эдинбургский фестиваль (1952), Глайндборн (1954), «Ковент-Гарден» (1959). Музыкальный директор «Ковент-Гарден» (1961 —1971), «Оркестр де Пари» (с 1971), художественный директор Лондонского филармонического оркестра (с 1979). Выдающийся интерпретатор опер Вагнера, Р. Штрауса, симфонической музыки Бетховена, Элгара. Дирижировал английскими премьерами опер Шёнберга, Бриттена. Отмечен правительством Великобритании за заслуги в области музыкального искусства. 108, 134—136, 166. Штих-Рандаля, Тереза (р. 1927) — американская певица (сопрано). Училась в Хартфордской музыкальной школе и Колумбийском университете. Дебютировала на оперной сцене в 1947 г. Участвовала в записях опер Верди под управлением Тосканини (1949—1950). Лауреат международного конкурса вокалистов в Лозанне (1951). Выступала в венской «Штаатсопер», Зальцбурге, Экс-ан-Провансе, Чикагской опере, «Метрополитен». Наибольший успех имела в операх Моцарта (Фьёрди-лиджи, Донна Анна, Памина), в исполнении кантатно-ораториальных произведений Баха и Генделя. Первая из американских певиц, удостоенная в Вене почетного звания «Каммерзенгерин» (1962). 48. Эванс, Герайнт (р. 1922) — английский певец (баритон). Учился в Гамбурге и Женеве. Дебютировал в «Ковент-Гарден» (1948). Пел в «Ла Скала», венской «Штаатсопер», на Глайндборнских фестивалях, в Зальцбурге, «Метрополитен». Лучшие партии в его репертуаре — Дон Жуан, Фальстаф, Воццек. 201. Эвердинг, Август (р. 1928) — немецкий оперный администратор, продюсер, режиссер. Учился в университетах Бонна и Мюнхена. Художественный директор мюнхенского театра «Каммершпиле» (1960), управляющий Государственной оперы в Гамбурге (с 1973), мюнхенской «Штаатсопер» (1977, генеральный директор — с 1982). С 1965 г. ставит оперные спектакли в ФРГ и других странах (Австрия, США). Президент немецкой (ФРГ) секции Международного института театра, вице-президент Театральной ассоциации ФРГ, консультант Института исследований музыкального театра в Байрейтском университете. В числе его постановок на Байрейтском фестивале — «Летучий Голландец» (1968), «Тристан и Изольда» (1974). Последние работы — «Риголетто» (Мюнхен, 1987), «Золото Рейна» и «Валькирия» (Варшава, 1988). 160—162, 170, 248. Эда-Пъер, Кристиан (р. 1940) — французская певица (сопрано). Училась в Парижской консерватории. Выступает на ведущих французских оперных сценах, а также в Гамбурге, Эдинбурге, Лондоне, Нью-Йорке, Барселоне. Известность получила как исполнительница блестящих колоратурных партий (Царица ночи, Цербинетта). Первая исполнительница партии Ангела в опере Мессиана «Святой Франциск Ассизский». 196, 201. Элиас, Розалинд (р. 1931) — американская певица (меццо-сопрано). Училась в США и римской Академии «Санта-Чечилия». Поет в «Метрополитен», театре Санта-Фе, «Нью-Йорк Сити Опера» и других театрах США, гастролирует в Европе. В репертуаре — партии Гензель («Гензель и Гретель»), Сузуки («Мадам Баттерфляй»), Бабы-турчанки («Похождения повесы»), Клитемнестры («Электра»). Лауреат ежегодных премий Академии искусства и науки США. 67. Янку, Хана (р. 1940) — чешская певица (сопрано). Училась в Брно, где дебютировала в 1960 г. Выступала в «Ла Скала», венской «Штаатсопер», Мюнхене, Гамбурге, Буэнос-Айресе. Поет в операх чешских композиторов (Сметана, Дворжак, Яначек), а также партии Эльзы, Ариадны, Дездемоны, Тоски, Турандот. 110.
Ю. Прокошин
ОПЕРЫ И KAHTATHO-ОРАТОРИАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПАРТИИ В КОТОРЫХ ИСПОЛНИЛ ПЛАСИДО ДОМИНГО*
Беллини В. «Норма». Поллион. 21 сентября 1981 г., Нью-Иорк, «Метрополитен». ГЗ: 1972 г. (дир.— Г. Чилларпо). Берлиоз Г. «Беатриче и Бенедикт». Бенедикт. ГЗ: 1979 г. (дир.— Д. Баренбойм). Берлиоз Г. «Осуждение Фауста» (оратория). ГЗ: 1978 — 1979 гг. (дир.— Д. Баренбойм). Берлиоз Г, Реквием. ГЗ: 1979 г. (дир.— Д. Баренбойм). Бетховен Л. Девятая симфония. 10 августа 1962 г., Мехико. ГЗ: 1969 г. (дир.—Э. Лейнсдорф), 1980 г. (дир.—К. Бём). Бетховен Л. Торжественная месса. 23 мая 1970 г., Рим (дебют в этом городе). Собор св. Петра. Бизе Ж. «Искатели жемчуга». Надир. 21 января 1964 г., Тель-Авив. Бизе Ж. «Кармен». Ремендадо. 15 октября 1960 г., Монтеррей. Хозе. 25 июня 1963 г., Тель-Авив; 8 июля 1965 г., Вашингтон (дебют в этом городе). ГЗ: 1975 г. (дир.— Дж. Шолти), 1978 г. (дир.— К. Аббадо). Фильм-опера, 1985 г. (дир.— Л. Маазель, реж.— Ф. Рози). Бойто А. «Мефистофель». Фауст. ГЗ: 1973 г. (дир.— Ю. Рудель). Вагнер Р. «Лоэнгрин». Лоэнгрин. 14 января 1968 г., Гамбург. Вагнер Р. «Нюрнбергские мейстерзингеры». Вальтер фон Штолъцинг. ГЗ: 1976 г. (дир.— О. Нохум). Вебер К. М. «Оберон». Оберон. ГЗ: 1970 г. (дир.— Р. Кубелик). Верди Дж. «Аида». Радамес. 1 1 мая 1967 г., Гамбург. ГЗ: 1971 г. (дир.— Э. Лейнсдорф), 1974 г. (дир.— Р. Мути), 1981 г. (дир.— К. Аббадо). Верди Дж. «Бал-маскарад». Ричард. 31 мая 1967 г., Западный Берлин (дебют в этом городе). ГЗ: 1975 г. (дир.— Р. Мути), 1980 г. (дир,—К. Аббадо). Верди Дж. «Дон Карлос». Дон Карлос. 19 мая 1967 г., Вена (дебют в Австрии). ГЗ: 1970 г. (дир.— К. М. Джулини). Верди Дж. «Жанна д'Арк». ГЗ: 1972 г. (дир.— Дж. Ливайн). Верди Дж. «Ломбардцы». ГЗ. 1971 г. (дир.— Л. Гарделли).
* В списке партии указываются даты первого исполнения (а также даты важнейших для певца дебютов), город, в необходимых случаях — театр или концертный зал. В сведениях о дискографии (ГЗ) приводите* фамилия дирижера, иод руководством которого осуществлялась запись»
Верди Дж. «Луиза Миллер». Рудольф. 4 ноября 1971 г.. Нью-Йорк, «Метрополитен». ГЗ: 1979 г. (дир.— Л. Маазель), «Мелодия» (С 10— 14781—86). Верди Дж. «Макбет». Макдуф. ГЗ: 1976 г. (дир.— К. Аббадо). Верди Дж. «Набукко» («Навуходоносор»). Пемаэлъ. ГЗ: 1982 г. (дир.— Дж. Синополи). Верди Дж. «Отелло». Кассио. 12 октября I960 г., Монтеррей. Отелло. 28 сентября 1975 г., Гамбург. ГЗ: 1978 г. (дир.— Дж. Ливайн). Фильм-опера, 1986 г. (дир.— Л. Маазель, реж.— Ф. Дзеффирелли). Верди Дж. Реквием. 20 мая 19G9 г., Лондон (дебют в Великобритании). ГЗ: 1970 г. (дир.—-Л. Бернстайн), «Мелодия» (С 10 — 08441—4); 1979 г. (дир.—К. Аббадо). Верди Дж. «Риголетто». Борса. 23 сентября 1959 г. (первое выступление на оперной сцене), Мехико. Герцог. 2 января 1969 г., Гамбург. ГЗ: 1979 г. (дир.—К. М. Джулини). Верди Дж. «Сила судьбы». Альваро. 18 января 1969 г., Гамбург. ГЗ: 1976 г. (дир.— Дж. Ливайн). Верди Дж. «Симон Бокканегра». Габриель Адорно. ГЗ: 1973 г. (дир.— Дж. Гавадзени). Верди Дж. «Сицилийская вечерня». Арриго. 3 апреля 1974 г., Париж. ГЗ: 1973 г. (дир.— Дж. Ливайн). Верди Дж. «Травиата». Гастон. 8 октября I960 г., Монтеррей. Альфред. 19 мая 1961 г., Мехико. ГЗ: 1976—1977 гг. (дир.— К. Клайбер), 1982 г. (дир.— Дж. Ливайн). Фильм-опера, 1983 г. (дир.—-Дж. Ливайн, реж.— Ф. Дзеффирелли). Верди Дж. «Трубадур». Манрико. 15 марта 1968 г., Нью-Орлеан. 20 мая 1973 г., Париж (дебют в «Гранд-Опера»). ГЗ: 1969 г. (дир.—3. Мета). Верди Дж. «Эрнани». Эрнани. 7 декабря 1969 г., Милан (дебют в «Ла Скала»). ГЗ: 1982 г. (дир.—Р. Мути). Гайдн И. «Сотворение мира» (оратория). 23 февраля 1967 г., Бостон. Гендель Г. Ф. «Мессия» (оратория). 10 декабря 1965 г.. Бостон (дебют в этом городе). Гуно Ш. «Ромео и Джульетта». Ромео. 28 сентября 1971 г., Нью-Йорк, «Метрополитен». Гуно Ш. «Фауст». Фауст. 12 марта 1963 г., Тель-Авив. ГЗ: 1978 г. (дир.—Ж. Претр). Джордано У. «Андре Шенье». Аббат. Щеголь. 15 августа 1961 г., Мехико. Шенье. 3 марта 1966 г., Нью-Орлеан. ГЗ: 1976 г. (дир.— Дж. Ливайн). Джордано У. «Федора». Дезире. Барон. 2 июля 1961 г., Мехико. Лорис. 15 февраля 1977 г., Барселона. Дзандонаи Р. «Франческа да Римини». Паоло. 22 марта 1973 г., Нью-Йорк, «Карнеги Холл» (концертное исполнение). Доницетти Г. «Анна Болейн». Перси. 15 ноября 1966 г., Нью-Йорк (концертное исполнение, дебют в «Карнеги Холл»). Доницетти Г. «Лючия ди Ламмермур». Норман. 5 октября 1960 г., Монтеррей. Артур. 28 октября 1961 г., Гвадалахара. 16 ноября 1961 г. (дебют в США). Эдгар. 26 ноября 1962 г., Форт-Уорт. Доницетти Г. «Роберто Девере». Роберто. 15 октября 1970 г., Нью-Йорк, «Нью-Йорк Сити Опера». Доницетти Г. «Любовный напиток». Неморино. ГЗ: 1977 г. (дир.— Дж. Причард). Леонкавалло Р. «Паяцы». Канио. 9 августа 1966 г., Нью-Иорк, стадион «Ливайсон» (первое выступление с коллективом «Метрополитен»), 2 сентября 1976 г., Токио (дебют в Японии). ГЗ: 1971 г. (дир.—Н. Санти). Масканьи П. «Сельская честь». Туридду. 21 января 1965 г., Тель-Авив. ГЗ: 1979 г. (дир.— Дж. Ливайн). Фильм-опера, 1983 (дир.— Ж. Претр, реж.— Ф. Дзеффирелли). Массне Ж. «Вертер». Вертер. 18 декабря 1977 г., Мюнхен. ГЗ: 1979 г. (дир.—Р. Шайи), «Мелодия» (С 10— 15197 — 202). Массне Ж. «Манон». Де Грие. 20 февраля 1969 г., Нью-Йорк, «Нью-Йорк Сити Опера». Массне Ж. «Наваррьянка». ГЗ: 1975 г. (дир.— Г. Льюис). Массне Ж. «Сид». Родриго. 8 марта 1976 г., Нью-Йорк, «Карнеги Холл» (концертное исполнение). ГЗ: 1976 г. (дир.— И. Квелер). Мейербер Дж. «Африканка». Васко да Гама. 30 октября 1972 г., Сан-Франциско. Мендельсон Ф. «Илия» (оратория). 26 мая 1966 г., Мехико. Менотти Дж. К. «Амелия на балу». Муж Амелии. 28 июня 1961 г., Мехико. Менотти Дж. К. «Гойя». Гойя. 15 ноября 1986 г., Вашингтон (мировая премьера). Меркаданте С. «Клятва». 9 февраля 1979 г., Вена. Монтемецци И. «Любовь трех королей». Авито. ГЗ: 1976 г. (дир.— Н. Санти). Морено Торроба, Ф. «Поэт». 19 июня 1980 г., Мадрид. Моцарт В. А. «Дон Жуан». Дон Оттавио. 21 сентября 1963 г., Тель-Авив. Моцарт В. А. «Так поступают все». Феррандо. 10 мая 1962 г., Мехико. Мусоргский М. «Борис Годунов». Шуйский. Юродивый. 8, 10 августа 1961 г., Мехико. Оффенбах Ж. «Сказки Гофмана». Гофман. 7 сентября 1965 г., Мехико. ГЗ: 1971 г. (дир.— Р. Бониндж). Понкьелли А. «Джоконда». Энцо. 14 мая 1970 г., Мадрид (дебют в этом городе). Пуленк Ф. «Диалоги кармелиток». Капеллан. 21 октября 1959 г., Мехико. Пуччини Дж. «Богема». Рудольф. 4 марта 1962 г., Мехико. 29 декабря 1962 г. (дебют в Израиле). ГЗ: 1973 г. (дир.— Дж. Шолти). Пуччини Дж. «Виллисы». Роберт. ГЗ: 1979 г. (дир.— Л. Маазель). Пуччини Дж. «Девушка с Запада». Дик Джонсон. 25 ноября 1974 г., Турин. ГЗ: 1977 г. (дир.—3. Мета). Пуччини Дж. «Джанни Скикки». Ринуччо. ГЗ: 1976 г. (дир.— Л. Маазель). Пуччини Дж. «Ласточка». Руджеро. ГЗ: 1982 г. (дир.— Л. Маазель). Пуччини Дж. «Мадам Баттерфляй». Горо. 15 сентября 1961 г., Мехико. Пинкертон. 7 октября 1962 г., Торреон. 17 октября 1965 г., «Нью-Йорк Сити Опера» (дебют в Нью-Йорке). 11 ноября 1965 г., Марсель (дебют в Европе). ГЗ: 1978 г. (дир.— Л. Маазель). Пуччини Дж. «Манон Леско». Де Грие. 15 февраля 1968 г., Хартфорд. ГЗ: 1971 — 1972 гг. (дир.—Б. Бартолетти). Пуччини Дж. «Плащ». Луиджи. 8 марта 1967 г., «Нью-Йорк Сита Опера». ГЗ: 1971 г. (дир.—Э. Лейнсдорф), 1977 г.(дир.— Л. Маазель). Пуччини Дж. «Тоска». Сполетта. 21 августа 1961 г., Мехико. Каварадосси. 30 сентября 1961 г., Мехико. 8 января 1967 г., Гамбург (дебют в ФРГ). 1 мая 1968 г., Ванкувер (дебют в Канаде). 8 декабря 1971 г., Лондон (дебют в театре «Ковент-Гарден»). 8 июня 1974 г., Москва (дебют в СССР с театром «Ла Скала»). ГЗ: 1972 г. (дир.—3. Мета), 1980 г. (дир.— Дж. Ливайн). Пуччини Дж. «Турандот». Император Альтоум. 11 сентября 1960 г., Мехико. Панг. 10 октября 1960 г., Монтеррей. Калаф. 16 июля 1969 г., Верона (дебют в Италии). ГЗ: 1981 г. (дир.— Г. фон Караян). Рамо Ж.-Ф. «Ипполит и Арисия». Ипполит. 6 апреля 1966 г., Гвадалахара. Сен-Санс К. «Самсон и Далила». Самсон. 30 июля 1965 г., Чотоква. ГЗ: 1978 г. (дир.— Д. Баренбойм), «Мелодия» (С 10 — 15163 — 8). Хинастера А. «Дон Родриго». Дон Родриго. 10 марта 1966 г., «Нью-Йорк Сити Опера» (открытие нового здания театра в Центре им. Линкольна, первое исполнение оперы в США). Чайковский П. И. «Евгений Онегин». Ленский. 5 сентября 1964 г., Тель-Авив. Чилеа Ф. «Адриенна Лекуврер». Морис* Саксонский. 17 мая 1962 г., Мехико. 28 сентября 1968 г., Нью-Йорк (дебют в «Метрополитен»). ГЗ: 1977 г. (дир.— Дж. Ливайн). Шарпантье Г. «Луиза». Жюльен. ГЗ: 1976 г. (дир.— Дж. Претр). Штраус Р. «Кавалер розы». Итальянский певец. ГЗ: 1971 г. (дир.— Л. Бернстайн).
* У испанцев этому имени соответствует Маурицио (см. с. 91).
СОДЕРЖАНИЕ
А.ПАРИН. МАСТЕР ПЕНИЯ ПЛАСИДО ДОМИНГО 5
МАДРИД И МЕХИКО 14
ОТ МАРТЫ К «МЕТРОПОЛИТЕН» 43
В ИТАЛИИ, АНГЛИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ 91
БОЛЬШАЯ ЧЕТВЕРКА 114
ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ И АЭРОПОРТЫ 128
ВЕНЕЦИАНСКИЙ МАВР 160
Я ПОЮ СКАЗКИ ГОФМАНА 190
ВСТУПАЯ В ПЯТОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 203
ВНИМАНИЕ. ЗАПИСЬ! 216
НЕСКОЛЬКО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СООБРАЖЕНИЙ 231
АННОТИРОВАННЫЙ ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 254 ОПЕРЫ И КАНТАТНО-ОРАТОРИАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПАРТИИ В КОТОРЫХ ИСПОЛНИЛ ПЛАСИДО ДОМИНГО 298
* Первые четыре главы переведены Ю. Прокошиным, остальные И. Париной
ОБ ИЗДАТЕЛЯХ И ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
ПЛАСИДО ДОМИНГО / Мои первые сорок лет / My First Forty Years / Перевод с английского Penguin Books 1984 / Москва / «Радуга» 1989 Предисловие А. В. Парина Перевод И. В. Париной, Ю. С. Прокошина Аннотированный именной указатель Ю. С. Прокошина Редактор О. А. Сахарова Доминго П. Мои первые сорок лет / Пер. с англ.; Предисловие А. Парина. - М.: Радуга, 1989. - 304 с. Редактор О. Л. Сахарова, Художник А. П. Купцов, Художественный редактор Л. И. Алтунин, Технические редакторы И. К. Дергунова, Н. И. Должикова, Корректор В. Ф. Пестова ИБ № 4786 Сдано в набор 1 1.05.88. Подписано в печать 3.01.89. Формат 84X108 1/32. Бумага офсетная. Гарнитура баскервиль. Печать офсетная. Условн. печ. л. 16,38. Усл. кр.-отт. 17,01. Уч.-изд. л. 17,21. Тираж 50.000 экз. Заказ № 0613. Цена 1 р. 80 к. Изд. № 4928 Издательство «Радуга» В/О «Совэкспорткнига» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 1 19859,Москва, ГСП-3 Зубовский бульвар, 17 Ордена Трудового Красного Знамени Московская типография № 7 «Искра революции» В/О «Совэкспорткнига» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103001, Москва, Трехпрудный пер., 9. Отпечатано с готовых пленок Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28. ББК 85.335.41 Д66 4905000000-284 Д-85-89 ББК 85.335.41 030(01)-89 © Placido Domingo, 1983 © Перевод на русский язык, предисловие, аннотированный именной указатель «Радуга», 1989 ISBN 5-05-002422-6 ISBN 0 14 00.7367 I
Последние комментарии
8 часов 33 минут назад
1 день 37 минут назад
1 день 9 часов назад
1 день 9 часов назад
3 дней 15 часов назад
3 дней 20 часов назад