Посвящаю моей матери Александре Владимировне
ПРЕДИСЛОВИЕ
Издавна человек хотел постигнуть мир прекрасного. Он находил прекрасное в жизни и создавал Искусство, которое стало одной из интереснейших форм человеческой деятельности. Искусство всегда помогало людям в их неустанном стремлении к высоким целям, к социальной справедливости, к лучшей, светлой жизни. Искусство, в том числе живопись, помогает воспитывать гармонично развитую личность, является своеобразным летописцем времени. Потому человек, приобщившийся к искусству, делается не только добрее, нравственнее, но и активнее принимает участие в жизни общества. Не только эстетически воспитывается и учится образно мыслить, но и воодушевляется, познает, как многогранна и богата жизнь и какая благородная задача — обустраивать ее. Особенно возрастает роль искусства в условиях общества развитого социализма. Высоко ценил классическое культурное наследие Владимир Ильич Ленин, призывавший использовать ценности культуры, созданной человечеством. Настоящее искусство всегда идет от жизни, от природы, оно оптимистично. Замечательный русский и советский художник М. В. Нестеров говорил так: "Природу и человека надо любить, как мать родную…" Искусство живет именно такой любовью. Подлинное искусство всегда реалистично, ему чужды оторванные от жизни изыски абстракционизма и других формалистических течений в живописи. Оно способствует воспитанию любви к своему Отечеству, приобщает нас к историческому прошлому. Мы идем в Третьяковскую галерею, смотрим "Трех богатырей" Виктора Васнецова и лучше понимаем былинную жизнь, нашу историю. Картина Василия Сурикова "Переход Суворова через Альпы" рождает в нас гордость за русских солдат, помогает воспитывать патриотизм и мужество. Талантливые картины наших художников помогают лучше осознать силу и красоту нашего народа. Знакомство с произведениями живописи зарубежных мастеров прошлых веков приобщает нас к сокровищнице мировой культуры. История живописи рассказывает нам, что художник состоится как мастер и гражданин, если его талант не потрачен впустую, если он постоянно ведет диалог со своим современником, живет интересами общества, учится у природы. Сегодня мы встречаем человека с мольбертом на ударных стройках, на заводах, в колхозах и совхозах. Советские живописцы частые гости трудовых коллективов. Мастера культуры черпают свое вдохновение в героическом труде советских людей, осуществляющих предначертания Коммунистической партии. Книга "Краски времени" — сборник популярных очерков о русских, зарубежных и советских художниках. Она не дает полного представления о всех значительных мастерах живописи. Но она, несомненно, привлечет внимание читателя к живописи, ее мастерам, поможет увидеть за картиной художника и его эпоху. Т. Сапахов, народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССРСЛЕДУЯ СВОЕМУ ГЕНИЮ (О западноевропейских художниках)
У каждого из нас свой путь к искусству. Для одних это "малая третьяковская галерея", для других — внимательное рассматривание альбомов репродукций, чтение книг о художниках, но главное — посещение выставок, музеев. Наша книга тоже своеобразное посещение музея. Пусть заочно, пусть в книге, пусть выбор художников и картин соответствует прежде всего симпатиям автора. Но все это напомнит, а может быть, откроет молодым читателям, страницы истории культуры, истории изобразительного искусства, воссоздаст образы замечательных людей, творцов, художников. Из десятков тысяч произведений мировой живописи автор отобрал лишь чуть более десятка. Их авторы жили давно, некоторые — сотни лет назад. Однако эхо их искусства, голос его звучит и теперь. В этом голосе — и сам художник, и его время. Время, в котором живет художник, его "век", неизбежно отражается в его творчестве вообще и в каждом его произведении. Настоящий художник — всегда человек своего времени. Его мысль бьется над разрешением самых злободневных вопросов, его взгляды отражают идеи века. Энгельс писал о людях эпохи Возрождения (рассказы о великих художниках этой эпохи открывают раздел): "Но что особенно характерно для них, так это то, что они почти все живут всеми интересами своего времени, принимают участие в практической борьбе, становятся на сторону той или иной партии и борются кто словом и пером, кто мечом, а кто и тем и другим". Микеланджело создал статую Давида, по словам современника, как бы в назидание властям Флоренции, в знак того, что этот герой защитил свой народ и справедливо им правил: "так и правители города должны мужественно его защищать и справедливо им управлять". Когда же, рассказывает Микеланджело, "войска папы Климента и испанцы обложили Флоренцию, — я велел втащить орудия на башни и этим продолжительное время сдерживал неприятеля. Почти каждую ночь я что-нибудь придумывал… Вот чему может послужить искусство живописца!.." И после поражения Микеланджело не в силах оставаться равнодушным: "…да вспряну против зла, преодолев сомнения и боли". А спустя четыре с половиной столетия замечательный художник нашего времени Пабло Пикассо писал: "Не глуп ли художник, если он имеет только глаза, или музыкант, если он имеет только уши?.. Художник — это одновременно и политическое существо, постоянно живущее потрясениями, страшными или радостными, на которые он всякий раз должен давать ответ. Как можно не чувствовать интереса к другим людям и считать своим достоинством железное безразличие, отделение себя от жизни, которая так многообразно предстает перед нами? Нет, живопись делается не для украшения жилища. Она — инструмент войны для атаки и победы над врагом". "Вечное в искусстве не противостоит "современному", а как рчз наоборот — является высшей точкой ого развития. Что бы ни создазал настоящий художник, в его произведениях непременно жизет дух времени. Крупнейший советский искусствовед М. В. Алпатов писал: "Знакомство с историей искусств… расширяет кругозор, внушает уважение к творчеству предков и народов мира, пробуждает симпатию к художественному творчеству. В наши дни преобладания и даже гегемонии техники гуманитарная основа эстетического образования особенно много значит. Для формирования личности современного человека привлекается ценнейший опыт, накопленный человечеством за много столетий… История должна помогать нам понять внутренний смысл отдельного произведения искусства. Но эго не должно означать, что в искусстве нас занимает только непосредственно отражение, воспроизведение того, что творилось в жизни. В музеи водят экскурсии школьников, которые рассматривают картины больших мастеров в качестве наглядных пособий при прохождении курса истории. Искусство может быть использовано и для этих целей. Но эти цели имеют мало общего с историческим объяснением искусства. Картина Веласкеса "Сдача Бреды" весьма малодостоверный источник для того, чтобы судить по ней о военном могуществе Испании при Филиппе IV (которое, кстати сказать, катастрофически клонилось тогда к упадку). Но вместе с другими его шедеврами, как более поздние "Менины" и "Ткачихи", она дает представление о мировоззрении и эстетических идеалах испанцев его времени… Произведения Рембрандта, как и другие шедевры мировой живописи, возвещают о сложных, многозначительных процессах, происходивших где-то вне поля нашего зрения. Как обломки разбитых бурей и прибитых к берегу судов, они напоминают нам о далеких странах, откуда они прибыли. Изучение творчества великих мастеров должно воспитывать в современном человеке понимание разных путей художественного творчества, из которых каждый непохож на другой, но все ведут к совершенству. Само собою разумеется, что прежде, чем мы сможем сказать, что все наши пожелания уже осуществлены, должно пройти много времени в естественных попытках приблизиться к нашей конечной цели". …Мы приходим в картинную галерею. Идем от полотна к полотну, от скульптуры к скульптуре. Они о многом рассказывают нам, поражают неведомым, создают настроение, иные из них — наши старые друзья. И каждый раз мы совершаем для себя, пусть малое, но открытие. Нам помогает знание эпохи, истории живописи, судеб художников… Знакомство с жизнью мастеров показывает: дерзание в творчестве неотделимо от дерзания в жизни. Картина или скульптура лишь тогда становится своеобразным знаменем и воодушевляет людей, когда сам автор выступает защитником светлых социальных идеалов. "Каждое свойство в живописи, — говорил Леонардо да Винчи, — следует за собственным свойством живописца". Вот о чем хотелось рассказать в этой книге, в частности, в первом разделе ее. Не всегда в очерках прослеживается весь творческий путь художника, иногда это лишь повествование об одной его картине. Потому очерки дополнены рассказами художников — о себе, о своих современниках, мастерах живописи.ТАЙНА СДЕРЖАННОГО СЕРДЦА
Он был до такой степени исключителен и всеобъемлющ, что, по справедливости, можно было его назвать чудом природы…Леонардо да Винчи (1452 — 1519) — великий мастер Высокого Возрождения. Рисовальщик и архитектор, скульптор, поэт, музыкант, философ, теоретик искусства. Фридрих Энгельс писал, что он был "…не только великим живописцем, но и великим математиком, механиком и инженером, которому обязаны важными открытиями самые разнообразные отрасли физики". Джоконду" копировали многократно и безуспешно: она даже отдаленным подобием не возникала на чужом полотне, оставаясь верной своему создателю. Ее пытались разъять на части, отобрать и повторить хотя бы вечную ее улыбку, но на картинах учеников и последователей улыбка выцветала, становилась фальшивой, погибала, словно существо, заточенное в неволю. Эпитеты "сверхъестественная", "словно созданная не рукой человека", "загадочная" — неизбежны, когда говорят о "Джоконде". Да и сама женщина, спокойно сидящая в кресле, на фоне фантастического "лунного" противоречивого пейзажа, — незнакомка. До сих пор неизвестно — перед нами портрет двадцатишестилетней жительницы Флоренции Моны Лизы Гёрардини или он, как и портрет ее мужа, который также якобы писал Леонардо да Винчи, невозвратно утерян. Называются другие имена — женщин просвещенных и именитых, известных своей эпохе, но называются недоказательно… У скромно одетой женщины, изображенной на портрете, — спокойный, притягивающий взгляд, убегающая и вновь возникающая улыбка, голова покрыта тончайшей "вдовьей" вуалью. Чудесные, мягкие, удивительно "женственные" руки. Ее не назовешь красавицей, и в то же время она прекрасна. Чудится: грустит, но глубоко не страдает, — может быть, потому, что только умом воспринимает печаль. Ее взгляд проникает в вашу душу и сердце — и вас пленяет, захватывает. Самое ошеломляющее: вы не понимаете, что это и зачем, не знаете — сопротивляться или радоваться. А "Джоконда" смотрит с тихим лукаво-сожалеющим торжеством, словно уверена заранее: вы не устоите перед ее обаянием, ибо обязаны понять "возвышенную печаль или изысканную утонченность души". "Джоконда" — многолика, запомнить ее, "сфотографировать" и унести в памяти невозможно — остается одно-единственное впечатление. Ибо на каждое свидание она "приходит" иной, в зависимости от вашего и ее, Моны Лизы, настроения, как ни странно это звучит. Перед вами "живой" портрет. Об этом писал еще Джорджо Вазари, видевший картину в ее первозданной красе: "…в этом лице глаза обладали тем блеском и той влажностью, какие мы видим в живом человеке… Ресницы же благодаря тому, что было показано, как волоски вырастают на теле… не могли быть изображены более натурально. Рот, с его особым разрезом и своими концами, соединенными алостью губ… казался не красками, а живой плотью. А всякий, кто внимательнейшим образом вглядывался в дужку шеи, видел в ней биение пульса…" С той поры картина потемнела и покрылась сетью трещинок, потому биение пульса уже не различишь, но по-прежнему во внимательных глазах пульсирует жизнь и не исчезает улыбка, которую называли непонятной, смущающей и даже беспощадной. Существует предположение, что в "Джоконде" художник запечатлел свое душевное состояние, свою "идею", свое мировоззрение и мировосприятие. Даже ее высокий, чуть сдавленный лоб, увеличенный почти полным отсутствием бровей (мода того времени), называют "лбом Леонардо да Винчи". Художник задавался вопросом: "Проявляется ли сознание в движениях?" Может быть, сказал своим портретом: я не тот, за кого себя выдаю, вот я, настоящий. Тогда портрет Моны Лизы — вызов тем современникам, о которых он сказал столь язвительно и резко: "Эти люди, наряженные в дорогие одежды и украшенные драгоценностями… обязаны природе слишком малым, ибо только потому, что они имеют счастье носить одежду, их можно отличить от стада животных". Леонардо — художник и скульптор, архитектор и ученый — и все это в превосходной степени! — человек, отличающийся "царственной величавостью и благородством", вынужден был всю жизнь выказывать себя царедворцем, и если не льстить, что натуре его претило, то, во всяком случае, казаться приятным — правителям, князькам, папам, королям и их присным. Единственное, что Леонардо да Винчи мог себе позволить, — оберегать свой талант от узких рамок предписанного заказчиком поведения, от поденщины: "возвышенные таланты тем более преуспевают, чем менее они трудятся. Они творят умом свои замыслы…" Это — проповедь силы творчества, торжествующей над бесплодием канцелярщины, столь угодной правителям. Несмотря на "придворную" жизнь, а скорее именно потому — великий художник любил и ценил свободу. Покупал на рынке птиц, выпускал их из клетки на волю. И наверное, в ту минуту был не менее счастлив, чем когда завершал очередное полотно. А трудиться он умел. Когда ум уже сотворял замысел, он, по свидетельству Банделло, "от восхода солнца до темного вечера не выпускал из рук кисти". И звучит в портрете Моны Лизы предупреждающая, отчуждающая нота. Кажется, что женщина эта все о нас знает, предстает она некой безжалостной истиной, вызывает волнение и заставляет нас задумываться о себе, о своем бытии — и даже терзаться. Резким высвечиванием и в то же время гордой отстраненностью она нас словно бы останавливает… Никто из живописцев мира не достигал такого мастерства в передаче эмоционального мира человека, его психологической характеристики. Вазари рассказывает: во время изнуряющих сеансов Леонардо да Винчи приглашал музыкантов, тихая ласковая музыка услаждала слух модели, раскрепощала, облегчала ей труд неустанного позирования. По мнению иных — и освобождала от суетных, мимолетных мыслей, погружала в мир размышлений, в мир больших и глубоких чувств. Художник явил себя в "Джоконде" великим мастером дымчатой светописи — сфумато: "…чтобы тени и свет сливались без линий и контуров". И в самом деле: когда смотришь на полотно, то видишь, как благодаря нежнейшим теням все в нем движется, меняет очертания в зависимости от движения: "символ непрерывной жизни". Ко времени написания портрета Леонардо да Винчи уже мог носить титул "отца, князя и первого из всех живописцев". Прошло двадцать лет с той поры, как он создал портрет очаровательной Цецилии Галлерани. Тогда он хотел понять характер своей модели, передать его в позе, жесте, выражении лица… Его модель — семнадцатилетняя девочка-женщина — была блестящей и остроумной. И он тогда слыл мужчиной "обольстительной наружности": русые волосы, отливающие красной медью, голубые глаза, правильные черты лица, вьющаяся ухоженная борода. Он умел играть на лире, останавливать на скаку лошадей, сминать подковы. Она еще не знала, эта девочка, что судьба ее заключалась в словах Леонардо, как бы невзначай приписанных в конце письма миланскому герцогу: "Могу работать в качестве скульптора над мрамором, бронзою и глиною, а также в живописи могу делать все, что только можно сделать — по сравнению с кем угодно". Тогда он увидел Цецилию Галлерани задумчивой, но не рассеянной. Доверчивой, но не простодушной, приветливо ожидающей неожиданное будущее. Восхитился, но не был ослеплен прелестью лица. Тщательно вылепил его, собрав с пестрого луга краски самые нежные. И луг вокруг обеднел — стал темным фоном. А лицо задышало теплым трепетом кожи. Ожили ясные карие глаза, поднялись тонкие дуги бровей. Отбросила тень нитка бус. Рыжеватые волосы облегли голову. Умиротворенностью и покоем повеяло от лица, а в уголках чуть припухлых губ загорелся огонек лукавой иронии. Рука заскользила по серебристой шерстке зверька. Крупная, с длинными пальцами, рука музыканта, привычная к перу. Цецилия Галлерани сохранилась для нас благодаря волшебной кисти Леонардо. Портрет ее известен под названием "Дама с горностаем". Писатели называли эту молодую женщину "современной Сафо". Имя ее ставили в ряд наиболее просвещенных женщин эпохи Возрождения, во всяком случае, недалеко от самой выдающейся из них — Изабеллы д'Эсте. К достоинствам Цецилии Галлерани относили свободное владение латинским языком, интерес к наукам и искусствам. Она обладала талантом организатора и привлекала интересных людей — ученых, поэтов, музыкантов — не только обаянием, но и художественным чутьем. К тому же она, могущественная метресса герцога Лодовико Моро, отличалась скромностью. У нее было свое женское счастье: любила и ей отвечали взаимностью. Родила сына — это событие праздновал весь Милан. Правда, в любви постоянно сохранялся привкус горечи: герцог, изворотливый и хитрый удельный князек, не был рыцарем без страха и упрека. Образование и ум позволяли ей понимать и свою роль — этакой куклы герцога, царящей в эфемерном салоне. …С той поры прошло целых двадцать лет. Возрастало мастерство Леонардо, его желание почувствовать и передать пульсирующую, ежечасно меняющуюся жизнь. Мастер перешагнул пятидесятилетний рубеж, написал портреты Изабеллы д'Эсте, Лукреции Кривелли, знаменитую "Тайную вечерю", которую французский король все порывался содрать со стены трапезной миланского монастыря Санта-Мария делле Грацие. В эти годы жизни во Флоренции Леонардо да Винчи представляется усталым и размышляющим человеком. Умирает его отец, и мысли художника должны устремиться в прошлое, он словно взбегает, как в юности, на гору Монте-Албано и разглядывает свое поселение. Очень давно он ушел оттуда. Чему радоваться ему, что оплакивать? Его привечали при дворах, ценя умение устраивать зрелища и удивлять "монстрами", например, ящерицей, переделанной в подобие "дракона": шевелила наполненными ртутью крыльями и приклеенными рогами… Отчасти, конечно, это могло тешить тщеславие… Инженерные дела? В какой-то мере — да, но в основном они служили войне, а войну он ненавидел. В начинаниях, свершениях, раздумьях мастер возносится титаном, повелевающим громами и молниями, но иногда напоминает и великана, забавляющегося бумажными корабликами. Судьба столь богато одарила его словно затем, чтобы еще более глубоко ранить. Как было не отчаиваться? Солдаты варварски разрушают "Коня" (конную статую Франческо Сфорца), на его создание потрачено пятнадцать лет… Великое творение — "Тайная вечеря" — начало разрушаться, на глазах "поплыла" "Битва при Ангиари". В научных открытиях никто не нуждался… Художник должен был переживать глубокую трагедию. И, если выглядел благостным, благоуханным и улыбающимся, стоило ему это дорого. Он "божественно пел импровизации", был "обворожителен в беседе", но порой, наверное, чувствовал себя шутом и фигляром. Гений Леонардо да Винчи называли легким и подвижным, а жизнь неуловимой. Подвижным — да, легким — вряд ли, иначе исключительно могучий организм не сдался бы столь быстро в борьбе с болезнями. А неуловимой он творил свою жизнь сам, сообразуясь с обстоятельствами. Действительность отторгла его: суета мелких княжеств, мишура пышных дворцов, кровавые пятна заговоров и повальная нищета… Художник скитался вечным странником, часто менял покровителей, зная их ненадежную устойчивость и не видя между ними существенной разницы. Искал лишь укрытия для работы. С ним слуга, два ученика, холсты да небольшая библиотека: тридцать любимых книг. Его жизнь не омрачена нечестными поступками, как, впрочем, не отличилась и поступками героическими. Он не протестовал, не восставал, стремился обеспечить свою старость — в чем, правда, не очень-то преуспел. Но вся его деятельность, подвижническая работа, даже сам факт существования несли в себе революционное начало, ибо он постоянно рождал новое, неведомое, в нем постоянно клокотал дух переустройства и дерзания. Биографы отмечали: Леонардо да Винчи "умел и любил сходиться с простыми людьми". Есть основания думать, что и они, как и окружающие его домочадцы, отвечали ему тем же. После смерти мастера ученик Леонардо Франческо Мельци писал: "Пока не распадется мое тело, я буду постоянно чувствовать это горе". И верно, печаль о своем учителе он хранил до глубокой старости. Кому, как не им, простым людям, сочинял Леонардо да Винчи знаменитый "Атлантический кодекс", чьи страницы испещрены рисунками людей, зверей, трав и цветов, чертежами храмов и географических карт. Гигантский свод наблюдений и научных изысканий, который он писал, наивно зашифровывая от недоброго глаза, левой рукой — справа налево. Леонардо думал о пользе общечеловеческой — строительстве домов, ирригации полей, создании машин, облегчающих труд… Его называли "великим магом XVI века", а он провозглашал: "О удивительная, о изумительная необходимость! Ты заставляешь своими законами все действия проистекать кратчайшими путями из их причин. Вот настоящие чудеса". Подивимся же могучей силе воли этого человека, много претерпевшего, но не изменившего принятому распорядку жизни. Упрямо пренебрегавшему удовольствиями легкоперой славы для наслаждения трудами своими — найденным цветом или строкой, занесенной в "Кодекс"… "…Каждое свойство в живописи следует за собственным свойством живописца". Судя по всему, Леонардо да Винчи знал истинную цену своему таланту — тем чувствительнее были для него неудачи и потери. …В "Джоконде" отразились вера и сомнение, скепсис и раздумье о быстротечности жизни: картина далеко ушла от юности Леонардо да Винчи — в ней не сыщешь следа былого безоблачного оптимизма. Была ли таковой его модель на самом деле? Надежда раскрыть загадку почти утеряна. Да и какая разница? — говорят. Но разница есть. Не только для истории искусства — для постижения сложной личности художника. Что именно воодушевило его в модели, высекло первую искру, какую струну в сердце затронуло?.. А если перед нами "синтетический" образ, как предполагают, то каковы его составные части?.. Скорее всего "Джоконда" свидетельствует о переломе в жизни "Гомера живописи". Она как веха, обозначающая начало новой эры. Да поздно — "уж осень на дворе"… Перед нами торжество всемогущества и надвигающаяся трагедия великого мастера, пронзительно понимающего, как много он мог сделать. "Джоконду" называли сфинксом, замечали в ней "тайну сдержанного сердца". Определение поэтично, если к тому же предположить, что изображенная женщина любима и расстается со своим любимым: назывались конкретные имена и ситуации. Но тайна сдержанного сердца — скорее вся жизнь художника. А "странная ясность" взгляда может быть обращением в будущее — через затмевающие фигуры, через эпохи. Не потому ли Леонардо да Винчи никогда не расставался с этим портретом и постоянно его совершенствовал. Портрет словно познавал мудрость жизни вместе с художником, впитывая "целые миры идей". А мастер все считал его неоконченным, хотя работал над ним целых четыре года. Он дорожил портретом, как жизнью и честью, берег как зеницу ока, как последнюю надежду, как свое кредо, как послание к нам, ныне живущим.Краткая биография Леонардо да Винчи

ХУДОЖНИКИ ОБ ИСКУССТВЕ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
Если живописец пожелает увидеть прекрасные вещи, внушающие ему любовь, то в его власти породить их, а если он пожелает увидеть уродливые вещи, которые устрашают, или шутовские и смешные, или поистине жалкие, то и над ними он властелин и бог. И если он пожелает породить населенные местности в пустыне, места тенистые или темные во время жары, то он их и изображает, и равно — жаркие места во время холода. Если он пожелает долин, если он пожелает, чтобы перед ним открывались с высоких горных вершин широкие поля, если он пожелает за ними видеть горизонт моря, то он властелин над этим, а также если из глубоких долин он захочет увидеть высокие горы или с высоких гор глубокие долины и побережья. И действительно, все, что существует во вселенной как сущность, как явление или как воображаемое, он имеет сначала в душе, а затем в руках, которые настолько превосходны, что в одно и то же время создают такую же пропорциональную гармонию в одном-единственном взгляде, какую образуют предметы… Если ты назовешь живопись немой поэзией, то и живопись сможет сказать, что поэзия — это слепая живопись. Теперь посмотри, кто более увечный урод: слепой или немой?.. Если поэзия распространяется на философию морали, то живопись распространяется на философию природы. Если первая описывает деятельность сознания, то вторая рассматривает, проявляется ли сознание в движениях… Что побуждает тебя, о человек, покидать свое городское жилище, оставлять родных и друзей и идти в поля через горы и долины, как не природная красота мира, которой, если ты хорошенько рассудишь, ты наслаждаешься только посредством чувства зрения?.. Музыку нельзя назвать иначе, как сестрою живописи, так как она является объектом слуха, второго чувства после глаза… Между живописью и скульптурой я не нахожу иного различия, кроме следующего: скульптор производит свои творения с большим телесным трудом, чем живописец, а живописец производит свое творение с большим трудом ума. Доказано, что это так, ибо скульптор при работе над своим произведением силою рук и ударами должен уничтожать лишний мрамор или камень, торчащий за пределами фигуры, которая заключена внутри его, посредством механических действий, часто сопровождаемых великим потом, смешанным с пылью и превращенным в грязь, с лицом, залепленным этим тестом, и весь, словно мукой, обсыпанный мраморной пылью, скульптор кажется пекарем… Первая картина состояла из одной-единственной линии, которую окружала тень человека, отброшенная солнцем на стену… Как живопись из века в век склоняется к упадку и теряется, когда у живописцев нет иного вдохновителя, кроме живописи, уже сделанной… Живописец спорит и соревнуется с природой… Ум живописца должен быть подобен зеркалу, которое всегда превращается в цвет того предмета, который оно имеет в качестве объекта, и наполняется столькими образами, сколько существует предметов, ему противопоставленных… Жалок тот мастер, произведение которого опережает его суждение; тот мастер продвигается к совершенству искусства, произведения которого превзойдены суждением… Будь, таким образом, готов терпеливо выслушивать мнение других; рассмотри хорошенько и подумай хорошенько, имел ли этот хулитель основание хулить тебя или нет; если ты найдешь, что да, — поправь, а если ты найдешь, что нет, то сделай вид, что не понял его, или, если ты этого человека ценишь, то приведи ему разумное основание того, что он ошибается… Я напоминаю тебе, живописец, что если ты собственным суждением или по указанию кого-либо другого откроешь какую-нибудь ошибку в своих произведениях, то исправь их, чтобы при обнародовании такого произведения ты не обнародовал вместе с ним и своего несовершенства…МЕЛОДИИ БОЛЬШОГО ДЖОРДЖО
Природа наделила его талантом столь легким и счастливым… что многие из тогдашних мастеров признавали в нем художника, рожденного для того, чтобы вдохнуть жизнь в фигуры…Джордже Барбарелли да Кастельфранко, прозванный Джорджоне (1477 — 1501) — один из крупнейших мастеров Высокого Возрождения. Жил и работал в Венеции. Джорджоне очень любил жизнь — настолько, чтобы не довольствоваться малым, а наслаждаться бытием, порою и неосторожно. Он устремляется к любимой, заведомо зная о свирепствующей чуме, и чума не щадит его: он погибает тридцатитрехлетним. В своих картинах-притчах Джорджоне рассказывает о рае земном, но с какой задумчивой печалью взирают на этот рай благородные герои его портретов. Мечтательная влюбленность, как дымка, окутывает тревожное размышление о мире и о себе. В картинах художника словно отблески прощального пира. Художника прозвали Большой Джорджо. За доброту и одарение друзей душевным теплом и яркостью дарований. Он был большим, приветливо объемлющим многое — живопись, музыку, товарищей, словесные поединки, любовь… Его невозможно представить метром, указующим и наставляющим, но легко — воодушевленным, взволнованным судьбами родины и близких. Джорджоне славили как щедрого душой человека и как превосходного живописца, за короткое время шагнувшего от росписи свадебного сундука до "Мадонны Кастель-франко". Постоянно испытывая "недоверие к самому себе", как признавался Джорджоне, он был абсолютно уверен в силе своего таланта. Высокое чувство собственного достоинства подвигало на спор с Синьорией, когда та попыталась уменьшить плату за роспись Немецкого подворья. Помог старый учитель, справедливый Джованни Беллини, один из арбитров, — присудил еще двадцать дукатов. Хотя что такое сто пятьдесят дукатов? — чуть меньше давали за лошадь, победившую в скачках… Джорджоне спорил со скульпторами: может ли живописец, подобно им, показать фигуру объемно? И доказал, что может, показав на картине отражение фигуры мужчины в водной глади, вороненом панцире и зеркале. В своих портретах он изображал людей, пришедшихся ему по нраву, благородных, преданных избранному идеалу, исполненных глубокой задумчивости, словно созерцающих мир с далекого островка сосредоточения и самоуглубления. Клятва верности избранному пути, своему делу и назначению звучит в "Мужском портрете" — предполагаемом портрете поэта Антонио Броккардо. "О, высшее и восхитительное счастье человека, которому дано владеть тем, чем пожелает, и быть тем, кем захочет!" Философ Возрождения Джованни делла Ми-рандола возглашал лозунг, которому охотно следовали и Джорджоне, и его друзья по литературному кружку, гуманисты. Этот лозунг — далекий идеал, ибо очевидно было интеллигентам того времени: события неумолимо и жестоко идут своим чередом. И потому есть в портретах Джорджоне мужество противостояния, мотив даже некой жертвенности. Он изображает человека, который будет утверждать гуманизм даже тогда, когда жизнь возведет перед ним неодолимую преграду. Предполагается, что на одном из портретов изображен Лудовико Ариосто. Он изящен и благороден. Аскетическое лицо освещено невидяще-озирающимся взором грустных глаз. Он полуобернулся, и есть в этом движении нечто от прощания. Любопытно сопоставить этот портрет с автопортретом Джорджоне: красивое, полноватое лицо художника так же мечтательно, но более скорбно, более небрежно, менее собранно. Роднит их ощутимое во взгляде и чертах лица выражение. Только у Ариосто это понимание неизбежности происходящего, печаль его бесконечна, но светла, а у Джорджоне — мучающее понимание несовершенства окружающей жизни и желание вопреки всему остаться хозяином хотя бы своего внутреннего мира. "И что слова! — восклицал современник, земляк и знакомец Джорджоне, поэт Пьетро Бембо. — Не в них, а в чувствах дело". В картинах Джорджоне высокое напряжение и смятение чувств, тем более драматичное, что происходит оно без внешней аффектации, без вскрика, без надрыва. Попытка соединить настоящее с мечтанием о будущем, проникнуть в тайну бытия. А. В. Луначарский находил в творчестве художника "стихию трагизма" и подлинно шекспировскую психологию… Джорджоне — выходец из "смиреннейшего рода" или, как еще переводят, он "самого низкого происхождения". Смиреннейший, но не смиряющийся. Низкий родом, но возвышенный духом. Его мечты о красоте, покое, вольной жизни — это мечты и передовых людей времени, и мечты суконщиков, кожевенников, матросов, мастеровых, носилыциков-"фаччино"… Историк и философ Маккиавелли писал о жителях Венеции: "…Их нельзя убедить, даже под страхом смерти, отказаться от имени венецианца". Какая ни есть, а Венеция — республика. Венецианец — синоним гордости и верности. Художник любил белокурых, стройных, гордых людей, удерживавших на своих плечах мощь купеческой республики, водивших около трех тысяч торговых кораблей во все известные тогда моря и океаны, оборонявших страну от французских и имперских войск. Джорджоне мог сказать вслед за Лудовико Ариосто:В а з а р и
Пусть служит, кто стремится к рабской доле,
Хоть герцогу, хоть папе, хоть царю.
Тогда как я не вижу в этом соли.
Я репу дома у себя сварю.
И, уписав с подливой без остатка,
Не хуже брюхо ублаготворю,
Чем кабаном чужим иль куропаткой.
Не надо мне парчовых одеял,
Когда и под обычным спится сладко…
Над изумрудного волной,
В стране прекрасной и счастливой,
Где травы были свежи и нежны, —
Стоял пастух в тени лесной…
Таится радость в неизбывном горе:
Он, словно голубь, взмыл за облака
И принял гибель в голубом просторе, —
Но именем его уже века
Необозримое грохочет море.
А чья могила столь же велика?


ВОЙДИ В ОГОНЬ, В КОТОРОМ Я ГОРЮ
…Учил нас всегда красотой попирать безобразие.Микеланджело Буонарроти (1475 — 1564) — один из величайших мастеров эпохи Возрождения. Скульптор, живописец, архитектор, поэт. Жил и работал во Флоренции и Риме. Микеланджело любил людей, но жил в одиночестве. Даже Рафаэль, парируя его язвительную насмешку над своей свитой, словно пена прибоя вздымавшейся вокруг знаменитого художника, бросил как-то: "А ты в одиночестве, как палач". Он хотел обидеть этим зловещим словом, а по существу, угадал — Микеланджело всегда хотел стать для пап и тиранов "лезвием суда и гирей гнева". Что же касается одиночества, то подумаем о его неисчерпаемом вдохновенном воображении, которое лишь частично отразилось в статуях, фресках, зданиях и стихах: "Никогда не был он… менее одинок, чем когда был один". Так он писал. Его гнев не громыхал по пустякам. Когда гонфалоньер (глава Флорентийской республики) Пьетро Содериик, придирчиво бродя вокруг "Давида", промямлил важно: "Нос у него, кажется мне, великоват", — скульптор не стал спорить. Незаметно сгреб пригоршню мраморной пыли, помахал у Давидова носа резцом и ссыпал на Содеринисобранную пыль. Тот изрек напыщенно и удовлетворенно: "Вы придали больше жизни". Но иногда цепь глупых прихотей тяжело сковывала руки, и тогда Микеланджело смело восставал, дерзил главному заказчику — папе, и убегал на родину. Рим ссорился из-за него с Флоренцией. Художник позволял себе пренебрегать заказами богатых и влиятельных "людей; похожих на нужники". Высмеивал их, например, папского церемониймейстера Биаджо да Чезену, завопившего у картины "Страшный суд": "Полное бесстыдство — изображать на месте столь священном… голых людей, которые… показывают свои срамные части, такое произведение годится для бань и кабаков". Непросвещенный Чезена не знал, что именно с кабаком сравнивал тогдашнюю Италию великий Данте… Микеланджело не отказал себе в удовольствии поместить высокопоставленного чиновника среди дьяволов, да еще и обвил его змеем. До сих пор, неумный и злобный, торчит он в нижнем углу фрески. Да, очевидны победы эпохи Высокого Возрождения, означавшей крушение средневековых устоев и утверждение раннекапиталистических отношений, провозглашавшей культ человека… Но властители-то оставались хищниками, "разумными волками". По велению Лоренцо Великолепного, восклицавшего: "Счастья хочешь — счастлив будь!" — покрывают позолотой живого мальчишку, изображавшего в карнавальном шествии "конец железного и воскресение золотого века". Мальчик умирает. Мельчайшее событие (почти и не событие) на фоне моря крови, проливавшейся в угоду князьям церкви и прочим государям… Микеланджело мог бы спокойно существовать, сунув голову под крыло своей творческой занятости, — он учит родственников: "Будьте первыми в бегстве". Но как только возникает баррикада, он, несуразнейший человек, взбирается на баррикаду.В а з а р и
…дивным светом
Мой город блещет.
Мне сладко спать, а пуще камнем быть,
Когда кругом позор и преступленье…
Капелла Медичи — его реквием свободе.
…да вспряну против зла,
Преодолев сомнения и боли.
Кто жить страшится смертью и неволей, —
Войди в огонь, в котором я горю.
И высочайший гений не прибавит
Единой мысли к тем, что мрамор сам
Таит в избытке.

ВОЛШЕБНЫЕ КНИГИ ТИЦИАНА
В колорите он не имеет себе равных… Среди современных ему такого нельзя найти. Потому что… он идет в ногу с самой природой.Тициан Вечеллио (1477 — 1576) — итальянский живописец, мастер мифологических, аллегорических, религиозных картин, пейзажа и портрета. Жил и работал в Венеции.Лодовико Дольчи
* * *
 Странные люди! Они не опасались позировать Тициану. Более того, упорно и настойчиво добивались этой чести. А он бесцеремонно врывался в чужую душу и сердце, как в собственный дом, широко распахивал окна и двери, жадным взглядом обшаривал уголки, вытаскивая наружу тщеславие, злобу, лицемерие, опасения, интриги сильных мира сего. Неистовствовал, блуждая в потемках внутреннего мира своих моделей. Уже сам взгляд его, говорят, вызывал у позирующего смутное беспокойство, резкое ощущение власти художника.
Очень точно выразил суть портретов кисти Тициана А. В. Луначарский. Он назвал их волшебными книгами и открыл в них "чистое золото глубочайшей психологии". И верно, волшебные книги — порой Тициан кажется прорицателем, чьи предвидения сбываются.
Портрет папы Павла III с Алессандро и Оттавиано Фарнезе напоминает сцену из драмы.
Папа — этакий старичок-паучок, величайший интриган своего времени, разбрасывает очередную сеть-ловушку. На остреньком лисьем личике старого хитреца нетерпение недоброго вдохновения. Смиренно, льстиво, с видимым удовольствием склоняется к нему внимающий его речам внук Оттавио. Идиллия змеиного гнезда! Присматриваемся и ощущаем в позе, выражении лица, взгляде внука явно враждебный интерес к самому папе. Испытывающее касание острием меча. А в злобной фигуре папы — затравленность.
Тициан "угадал" неизбежность поединка: Оттавио возглавит заговор против папы.
Кисть Тициана — объективная кисть. За это называли его естествоиспытателем, с явной любовью изучающим и ядовитое растение, и целебную траву. Хотя в то же время и замечали: некрасивую заказчицу по ее желанию превращал в прекрасную даму. Но суть в другом. И в душе самого отъявленного льстеца, шута или тирана находил художник (если, разумеется, обнаруживал качества человеческие) хоть малую склонность к раздумью или искорку сожаления. Все, засыпанное трухой мелких помыслов и мелких желаний, таящееся за могучими засовами.
Тициан срывал засовы.
Потому лица его моделей не однозначны — в них множество самых разнообразных чувств и качеств.
Все биографы Тициана рассказывают трогательную историю, как фактический властитель Европы Карл V благоговейно поднял однажды уроненную художником кисть: признал высокую власть мастера.
Взглянем на портрет императора. Повелевающий судьбой народов; огнем и мечом карающий непокорных; обрушивающий на противников армады войск; человек, ленивейший жест которого мог и вознести и уничтожить, — этот человек в темной одежде устало и одиноко сидит в кресле. Он еще жесток, решителен, властен, но уже нерадостен и пуст его взор. Все ближе, почти незаметной мышкой, столь страшной для слона, подкрадывается сомнение: а для чего? В чем смысл не жизни вообще, а его конкретной жизни? Еще спокоен император, но зреет в нем внутренняя борьба, поднимается душевная смута.
Тициан показал душу императора, и Карл V нарек его апостолом своего века.
А ведь целых два года пройдет, прежде чем император соберется с мыслями, отречется от престола и уйдет в монахи — спасать свою душу и замаливать грехи.
Кто знает, не ускорил ли это решение Тицианов портрет, где так зримо обнажилась тщета императорской жизни.
И император и папа мечтали назвать художника своим придворным живописцем. Но странная вещь, Тициан, с удовольствием принимавший титулы и награды, склоняющийся в низком поклоне перед купцом-заказчиком, наотрез отказывался служить у папы и императора. Хотел быть первым художником своей республики. Окончив где-либо заказную работу, тут же, не мешкая, удалялся восвояси, в прекрасную Венецию. А впрочем, и республике знал, наверное, истинную цену. Чтобы убедиться в том, достаточно взглянуть на портрет Пьетро Аретино — писателя, памфлетиста, друга художника,
Аретино — частый гость в особняке Тициана на Бири Гранде. Там он расточает ему похвалы, осыпает комплиментами. Зато в других домах, случается, говорит совершенно противоположное. "Все знают, — заявляет Аретино о своем друге Тициане, — что он возвысился благодаря мне".
Аретино — друг-враг. Желчь и лесть на кончике его талантливого бойкого пера. "Бич царей" — таково прозвище Аретино, и действительно, он смело обличал пороки иных августейших особ, его смех сравнивали с дьявольским. Но вот небольшая, характеризующая его деталь: памфлетист очень любит, чтобы ему присылали деньги, опрысканные ароматнейшими духами. И больше хвалит тех, кто ему платит, и больше ругает тех, кто им пренебрегает.
Таким знаменитый Аретино и возникает на полотне Тициана — массивным, энергичным, властным и самодовольным; в роскошных одеждах, опутывающих динамичный, удалой, неукротимый характер… Да и тяжелая золотая цепь, выставленная напоказ, явно мешает ему. А писатель не понимает этого, принимая роскошь за благо. И потому нагловато, чувственно не знающее сомнений лицо Пьетро Аретино, которого стоит бояться, уважать и презирать. Пьетро Аретино — верный сын Венецианской республики, много грабившей и успешно торговавшей; олицетворение ее стремления наслаждаться всем: знанием, красотой, богатством; воплощение ее циничной потребительности: презиралось все, что не приносило прибыли и удовольствия.
Многие правды говорил Тициан, не льстя и не окарикатуривая, но обнажая в портрете — психологическом исследовании сложную, противоречивую жизнь своих героев.
Вазари писал: "…от неба он не получал ничего, кроме счастья и благополучия".
Получал. К концу своих лет он пережил трагедию прощания с идеями и иллюзиями эпохи Высокого Возрождения.
Ранние портреты — галерея умных, уверенных, красивых и сильных людей. Портреты поздние… Человек остается наедине с самим собой. Он вынужден ступить с островка, на котором еще трепещет стяг Возрождения, в трясину окружающего мира, где льется кровь, где в венецианских свинцовых тюрьмах задыхаются узники, где шныряют иезуиты и бесчинствуют инквизиторы, где "люди гибнут за металл" и один угнетает другого. Чем дальше человек удаляется от заповедного острова, тем сильнее им овладевает тревога, тем чаще он обращает взоры внутрь себя, надеясь в себе одном найти жизненную опору. "Портрет Ипполито Риминальди" позже называли портретом Гамлета. Встревоженный, слегка растерянный глубоко задумавшийся человек. Помыслы его благородны Мысль беспокойна и грустна. Он смотрит на вас и не видит, внутренняя сосредоточенность свидетельствует об интеллектуальной силе и глубоко переживаемой нравственной драме. "Быть или не быть?"
С годами подобный вопрос все более тревожит и самого Тициана.
Между двумя его автопортретами — пропасть, которую мастер перешагнул, но многое утратил.
На первом автопортрете он — само нетерпение. Тициан неиссякаемый. Повелевающий богами, императорами, героями, мыслителями, прекрасными женщинами, громами небесами, деревьями и цветами… Создающий портреты, которым, "казалось, недоставало только дыхания". Тициан, устраивающий настоящее пиршество красок, позволяющий себе писать картины соком цветов! Неповторимый колорист, не имеющий себе равных.
И последний автопортрет. Жить мастеру предстоит еще одиннадцать лет, а он уже очень стар, начинает как бы растворяться в коричневом фоне. Правда, усохшее желтоватое лицо с упрямой выпуклостью лба исполнено силы и наблюдательности. Но невесел художник. И спокойно-трагичен. Тициан, провожающий свою эпоху. Тициан, хоронящий идеалы и друзей. И в то же время твердо знающий, чего он достиг и что защищает. Присутствует на судилище и не боится судилища. Сам судит себя.
Тициан, что-то хоронящий, но и чем-то обновляющийся. Резко меняющий манеру письма. Переживаемую художником драму отразила кричащая тревога, наполняющая картины, где цветовая дерзость перешла мыслимые в те времена границы. Мазок стал напряженным, вибрирующим, будто стегающим холст. Гладкописи нет и в помине, вблизи картина — бесконечное движение мазков, цветовые фантасмагории, хотя прежнюю яркость сменили тона приглушенные.
Заказчики считали картины неоконченными. И тогда мастер сердито возражал: "Тициан сделал, сделал".
…Тициан живописал прекрасных женщин и достиг в изображении красоты тела и великолепия одежд высочайшего совершенства. Широко известны его "Урбинская Венера" и "Красавица".
Он признан и лучшим пейзажистом своего времени.
Тициана чтили всегда, Тинторетто находил в его картинах средоточие всех тайн живописи, Веронезе именовал отцом искусства, Веласкес — знаменосцем живописи. Александр Иванов называл одну из его картин бриллиантовой.
…Каждый день художник выходил на свое поле боя. Смотрел на начатые полотна так, "словно они были его смертельными врагами, желая найти в них какие-либо недостатки" (слова современника). Постоянно искал и предвидел новые открытия.
Чума оборвала его творческий порыв на полуслове… Но он и прекрасные его творения бессмертны.
Странные люди! Они не опасались позировать Тициану. Более того, упорно и настойчиво добивались этой чести. А он бесцеремонно врывался в чужую душу и сердце, как в собственный дом, широко распахивал окна и двери, жадным взглядом обшаривал уголки, вытаскивая наружу тщеславие, злобу, лицемерие, опасения, интриги сильных мира сего. Неистовствовал, блуждая в потемках внутреннего мира своих моделей. Уже сам взгляд его, говорят, вызывал у позирующего смутное беспокойство, резкое ощущение власти художника.
Очень точно выразил суть портретов кисти Тициана А. В. Луначарский. Он назвал их волшебными книгами и открыл в них "чистое золото глубочайшей психологии". И верно, волшебные книги — порой Тициан кажется прорицателем, чьи предвидения сбываются.
Портрет папы Павла III с Алессандро и Оттавиано Фарнезе напоминает сцену из драмы.
Папа — этакий старичок-паучок, величайший интриган своего времени, разбрасывает очередную сеть-ловушку. На остреньком лисьем личике старого хитреца нетерпение недоброго вдохновения. Смиренно, льстиво, с видимым удовольствием склоняется к нему внимающий его речам внук Оттавио. Идиллия змеиного гнезда! Присматриваемся и ощущаем в позе, выражении лица, взгляде внука явно враждебный интерес к самому папе. Испытывающее касание острием меча. А в злобной фигуре папы — затравленность.
Тициан "угадал" неизбежность поединка: Оттавио возглавит заговор против папы.
Кисть Тициана — объективная кисть. За это называли его естествоиспытателем, с явной любовью изучающим и ядовитое растение, и целебную траву. Хотя в то же время и замечали: некрасивую заказчицу по ее желанию превращал в прекрасную даму. Но суть в другом. И в душе самого отъявленного льстеца, шута или тирана находил художник (если, разумеется, обнаруживал качества человеческие) хоть малую склонность к раздумью или искорку сожаления. Все, засыпанное трухой мелких помыслов и мелких желаний, таящееся за могучими засовами.
Тициан срывал засовы.
Потому лица его моделей не однозначны — в них множество самых разнообразных чувств и качеств.
Все биографы Тициана рассказывают трогательную историю, как фактический властитель Европы Карл V благоговейно поднял однажды уроненную художником кисть: признал высокую власть мастера.
Взглянем на портрет императора. Повелевающий судьбой народов; огнем и мечом карающий непокорных; обрушивающий на противников армады войск; человек, ленивейший жест которого мог и вознести и уничтожить, — этот человек в темной одежде устало и одиноко сидит в кресле. Он еще жесток, решителен, властен, но уже нерадостен и пуст его взор. Все ближе, почти незаметной мышкой, столь страшной для слона, подкрадывается сомнение: а для чего? В чем смысл не жизни вообще, а его конкретной жизни? Еще спокоен император, но зреет в нем внутренняя борьба, поднимается душевная смута.
Тициан показал душу императора, и Карл V нарек его апостолом своего века.
А ведь целых два года пройдет, прежде чем император соберется с мыслями, отречется от престола и уйдет в монахи — спасать свою душу и замаливать грехи.
Кто знает, не ускорил ли это решение Тицианов портрет, где так зримо обнажилась тщета императорской жизни.
И император и папа мечтали назвать художника своим придворным живописцем. Но странная вещь, Тициан, с удовольствием принимавший титулы и награды, склоняющийся в низком поклоне перед купцом-заказчиком, наотрез отказывался служить у папы и императора. Хотел быть первым художником своей республики. Окончив где-либо заказную работу, тут же, не мешкая, удалялся восвояси, в прекрасную Венецию. А впрочем, и республике знал, наверное, истинную цену. Чтобы убедиться в том, достаточно взглянуть на портрет Пьетро Аретино — писателя, памфлетиста, друга художника,
Аретино — частый гость в особняке Тициана на Бири Гранде. Там он расточает ему похвалы, осыпает комплиментами. Зато в других домах, случается, говорит совершенно противоположное. "Все знают, — заявляет Аретино о своем друге Тициане, — что он возвысился благодаря мне".
Аретино — друг-враг. Желчь и лесть на кончике его талантливого бойкого пера. "Бич царей" — таково прозвище Аретино, и действительно, он смело обличал пороки иных августейших особ, его смех сравнивали с дьявольским. Но вот небольшая, характеризующая его деталь: памфлетист очень любит, чтобы ему присылали деньги, опрысканные ароматнейшими духами. И больше хвалит тех, кто ему платит, и больше ругает тех, кто им пренебрегает.
Таким знаменитый Аретино и возникает на полотне Тициана — массивным, энергичным, властным и самодовольным; в роскошных одеждах, опутывающих динамичный, удалой, неукротимый характер… Да и тяжелая золотая цепь, выставленная напоказ, явно мешает ему. А писатель не понимает этого, принимая роскошь за благо. И потому нагловато, чувственно не знающее сомнений лицо Пьетро Аретино, которого стоит бояться, уважать и презирать. Пьетро Аретино — верный сын Венецианской республики, много грабившей и успешно торговавшей; олицетворение ее стремления наслаждаться всем: знанием, красотой, богатством; воплощение ее циничной потребительности: презиралось все, что не приносило прибыли и удовольствия.
Многие правды говорил Тициан, не льстя и не окарикатуривая, но обнажая в портрете — психологическом исследовании сложную, противоречивую жизнь своих героев.
Вазари писал: "…от неба он не получал ничего, кроме счастья и благополучия".
Получал. К концу своих лет он пережил трагедию прощания с идеями и иллюзиями эпохи Высокого Возрождения.
Ранние портреты — галерея умных, уверенных, красивых и сильных людей. Портреты поздние… Человек остается наедине с самим собой. Он вынужден ступить с островка, на котором еще трепещет стяг Возрождения, в трясину окружающего мира, где льется кровь, где в венецианских свинцовых тюрьмах задыхаются узники, где шныряют иезуиты и бесчинствуют инквизиторы, где "люди гибнут за металл" и один угнетает другого. Чем дальше человек удаляется от заповедного острова, тем сильнее им овладевает тревога, тем чаще он обращает взоры внутрь себя, надеясь в себе одном найти жизненную опору. "Портрет Ипполито Риминальди" позже называли портретом Гамлета. Встревоженный, слегка растерянный глубоко задумавшийся человек. Помыслы его благородны Мысль беспокойна и грустна. Он смотрит на вас и не видит, внутренняя сосредоточенность свидетельствует об интеллектуальной силе и глубоко переживаемой нравственной драме. "Быть или не быть?"
С годами подобный вопрос все более тревожит и самого Тициана.
Между двумя его автопортретами — пропасть, которую мастер перешагнул, но многое утратил.
На первом автопортрете он — само нетерпение. Тициан неиссякаемый. Повелевающий богами, императорами, героями, мыслителями, прекрасными женщинами, громами небесами, деревьями и цветами… Создающий портреты, которым, "казалось, недоставало только дыхания". Тициан, устраивающий настоящее пиршество красок, позволяющий себе писать картины соком цветов! Неповторимый колорист, не имеющий себе равных.
И последний автопортрет. Жить мастеру предстоит еще одиннадцать лет, а он уже очень стар, начинает как бы растворяться в коричневом фоне. Правда, усохшее желтоватое лицо с упрямой выпуклостью лба исполнено силы и наблюдательности. Но невесел художник. И спокойно-трагичен. Тициан, провожающий свою эпоху. Тициан, хоронящий идеалы и друзей. И в то же время твердо знающий, чего он достиг и что защищает. Присутствует на судилище и не боится судилища. Сам судит себя.
Тициан, что-то хоронящий, но и чем-то обновляющийся. Резко меняющий манеру письма. Переживаемую художником драму отразила кричащая тревога, наполняющая картины, где цветовая дерзость перешла мыслимые в те времена границы. Мазок стал напряженным, вибрирующим, будто стегающим холст. Гладкописи нет и в помине, вблизи картина — бесконечное движение мазков, цветовые фантасмагории, хотя прежнюю яркость сменили тона приглушенные.
Заказчики считали картины неоконченными. И тогда мастер сердито возражал: "Тициан сделал, сделал".
…Тициан живописал прекрасных женщин и достиг в изображении красоты тела и великолепия одежд высочайшего совершенства. Широко известны его "Урбинская Венера" и "Красавица".
Он признан и лучшим пейзажистом своего времени.
Тициана чтили всегда, Тинторетто находил в его картинах средоточие всех тайн живописи, Веронезе именовал отцом искусства, Веласкес — знаменосцем живописи. Александр Иванов называл одну из его картин бриллиантовой.
…Каждый день художник выходил на свое поле боя. Смотрел на начатые полотна так, "словно они были его смертельными врагами, желая найти в них какие-либо недостатки" (слова современника). Постоянно искал и предвидел новые открытия.
Чума оборвала его творческий порыв на полуслове… Но он и прекрасные его творения бессмертны.

БУНТ,ДАРМОЕДА"
Чего только не изображает он, даже то, что невозможно изобразить, — огонь, лучи, гром, зарницы, молнии, пелену тумана, все ощущения, чувства, наконец, всю душу человека, проявляющуюся в телодвижениях: едва ли не самый голос.Альбрехт Дюрер (1471 — 1528) — немецкий график и живописец. Жил и работал в городе Нюрнберге. Создал десятки картин, около 360 гравюр и сотни рисунков. Дюрер — странник. На своем гербе он распахнул дверь и не закрыл ее, словно нетерпеливо зашагал навстречу великолепию и загадочности окружающего мира. Дюрер жаден до впечатлений. При всей его внешней неторопливой ясности и безмятежности, домашней уютности и обаятельности живет в вечной погоне. Стремится запихнуть в свою заплечную котомку впечатления от увиденного. А увидеть он хочет все. Равно привлекают, его метеорит, длиннохвостая обезьяна, сросшиеся близнецы, туша кита… Дюрер счастлив, он находит то, что утешает его сердце. Бродит на выставке диковин из далекой заморской Мексики, разглядывает и записывает: "…не видел ничего, что бы так радовало мое сердце, как эти вещи". Дюрер счастлив, когда первооткрывателем ступает на неведомую землю. Он не любит тайн: ищущему должно быть открыто все. Устремляется к художнику Якопо де Барбари, узнав, что последний будто бы изобрел новый метод в живописи и графике. Но встреча приносит разочарование, Барбари уклоняется от ясных ответов. Дюрер огорчен: "Я в то время более желал узнать, в чем состоит его способ, нежели приобрести королевство…" Забыв о техштюберах и пфеннигах, расходу которых ведет в своих записных книжках поистине бухгалтерский учет, художник меняет королевство на коня, уносящего его к заветной цели. Узнать! Дюрер пил из источника, не утоляя жажды. В восхищающих его снах он видит работы грядущих мастеров. Проникнуть бы в будущее наяву! "Я думаю, что я мог бы тогда исправить свои недостатки", — признается художник. Узнать! Знаменитый Андреа Мантенья, художник, зовет его к себе в Италию. Дюрер торопится и не успевает — жизнь Андреа обрывается. Несостоявшееся свидание немецкий художник считал печальнейшим событием в своей жизни. Работы Дюрера хвалит старик Беллини, учитель Джорджоне и Тициана. Узнать! Дюрер словно странствовал в необъятном космосе, стремительно перелетая от звезды к звезде. Его уносило упоение отчаяния: вокруг расстилалось Множество других созвездий. Может быть, это черта гения — обладать космическим пространством внутри себя? "Намерен я весь век учиться", — напишет он позже в своем стихотворении и выполнит эту программу. На рубеже XV–XVI веков по мощным стенам феодальной системы зазмеилась сеть трещин. Развиваются наука и торговля, промышленность и просвещение, начал "проклевываться" капитализм. В Нюрнберге, где Дюрер прожил всю жизнь, рождаются первые карманные часы, глобус, астрономические приборы, здесь развито книгопечатное дело. По артериям торговых путей вместе с товарами сюда прибывают беспокоящие мысли и редкие книги. Дюрер читает Платона, Витрувия, Плиния Старшего, своих земляков — "Корабль дураков" Себастиана Бран-та, "Похвалу глупости" Эразма Роттердамского, диалоги Ульриха фон Гуттена… Составляет астрономические карты, увлекается геометрией, оптикой, архитектурой, почти в совершенстве постигает естественные и математические науки. Эпоха Возрождения посылала миру человеколюбцев-гуманистов. Ее небосвод вышит прекрасной и яростной вязью их удивительных слов. Эти люди среди друзей художника. Иоганн Черте, инженер и архитектор, возвращаясь от Дюрера, решает теорему и тут же отсылает художнику — как продолжение разговора. Никлас Крат-цер, астроном и математик, просит нарисовать инструменты "для измерения расстояний в длину и ширину"… Иоаким Камерарий, филолог, руководитель высшего учебного заведения, впоследствии переведет трактаты художника на латинский язык и напишет к ним предисловие. Эразм Роттердамский, философ и писатель, просит выгравировать его портрет. Виллибальд Пиркгеймер, писатель и политический деятель, — друг детства… Наука, считает Дюрер, поможет обнаружить искусство в природе. Он уверяется в свое правоте и… жестоко ошибается. Живопись Дюрера празднична, гармонична, краски ярки и в то же время нежны, градации их бесчисленны. Художник владеет светотенью, умело передает воздушную среду. Человеческие фигуры объемны, приобретают индивидуальное выражение, активно "сотрудничают" с природой. Пейзажи сочетают поэтику и точность. Рисунки и акварели доносят до нас волшебную прозрачность природы и благородную чистоту силуэтов. Рука Дюрера — рука властелина линии. Вычерченное им полагали сотворенным при помощи циркуля и линейки. Но в узде постулатов и теорем начинает задыхаться бунтующая фантазия творчества. Правильные фигуры иногда кажутся роботами. Мраморность математики не греет. Художник постепенно приходит к мысли, что наука — не самоцель, но основа нравственности, она "учит отличать добро от зла". А Дюрер — человек добра. Он казался большим ребенком: если верил — то чистосердечно, если огорчался — впадал в меланхолию, если веселился, вокруг радовались все. Людей жалел, старался никого не обижать, плохую работу собрата оценивал так: он сделал все, что мог. Но из мягкого человека Дюрера ничего нельзя было слепить. Он не подличал, не лицемерил, был в высшей степени справедлив. Другим готов был услужить (не угодить!) и щедро раздаривал свое обаяние, речь его почитали "сладостной и остроумной". Ко всему — скромен. Даже когда пришла слава и стала столь велика, что сам Рафаэль прислал ему свой рисунок, а лучшие живописцы Антверпена вставали, приветствуя его словно цезаря, — в Дюрере нельзя было заметить и тени спеси. Замечали достоинство мастера. Тот, кого толстосумы, богачи города, называли "дармоедом", стал мыслителем, ученым, гуманистом. "Искусство божественно и истинно". На автопортрете 1500 года "сверкающие глаза" проповедующего художника горят вдохновением, фанатичным, очищающим огнем. "Это я, Дюрер, мастер и человек, кому столько дано и который жаждет еще больше отдать". "Это я, Дюрер, пришел сказать вам слово истины и повести за собой". Человек с высоким лбом мыслителя "всегда полон образов" и ощущает материальную силу времени, понимая свое творчество как ее неотъемлемую часть.Эразм Роттердамский
 Шел XVI век и гремела Реформация.
Ученый монах Лютер метнул молнию (по образному выражению Фридриха Энгельса) в католическую церковь — молния угодила в пороховой погреб. Лютер выступил против поборов, беззакония, бесстыдной лжи церковных властей. Дюрер поверил Лютеру как богу. Лютер "обличал нехристей пап, что у нас грабят плоды нашей крови и нашего пота".
Но Дюрер ведь — "Вашей мудрости покорный гражданин" (как писал он бургомистру и совету города Нюрнберга). Дюрер осторожен, но отважен ли Дюрер? Однажды корабль, на котором находился художник, уносило в открытое море. Началась паника. Дюрер единственный воодушевил вопящего корабельщика. Они подняли "малый парус" и стали приближаться к берегу.
Реформация требует "больших парусов". И просыпается у Дюрера дерзость, ибо "одна лишь истина остается вечно". В гравюрах-иллюстрациях к "Апокалипсису" Дюрер швыряет папу, епископов, императора, придворных вельмож под копыта лошадей апокалипсических всадников — Мора, Голода, Войны, Смерти. Земля очищается от нечисти… Художник уже давно говорит с народом языком гравюры — самого массового и популярного вида искусства в те времена. Гравюры расхватывались на ярмарках и праздниках, проходивших в Нюрнберге и других городах.
Гравюры понятны и впечатляющи. Серии "страстей", больших и малых, — по существу, рассказ не о библейских событиях, а о жизни народа.
Дюрер примыкает к сторонникам Реформации и шлет Лютеру в подарок свои гравюры…
В своей знаменитой гравюре "Иероним в келье" он воспевает мудрый покой уединения. Уютная комната напоена светом, а нимб вокруг головы старого Иеронима — мягкое зарево неустанно трудящейся мысли… "Меланхолию", другую "мастерскую" гравюру, называли духовным портретом художника. Крылатая женщина, уже пытавшаяся настигнуть ускользающую истину, задумчиво всматривается в даль, которую предстоит разведать. Все приобретенное бессильно рассыпалось вокруг богини: наука, знания, опыт, но опущенные крылья все-таки сохраняют упругую силу.
Таков этот противоречивый Дюрер — желающий и остерегающийся, мечтающий о покое и сомневающийся…
Тщательно скрываемое в самом себе явно проскальзывает в портретах. Еще в конце XV века в портрете купца Освальда Крелля отражено душевное горение человека, живо откликающегося на события. Ему вторит дрезденский "Портрет молодого человека": получено желанное известие, рождается энергия, способная противостоять препонам и созидать.
Люди на качелях колеблющегося равновесия бытия. Они пытаются осмыслить хаос бытия и провидеть будущее: неукротимый Виллибальд Гиркгеймер, восторженный Филипп Меланхтон.
Любопытна история двух портретов Эразма Роттердамского. Как на всякую праведную душу, мир обрушивался на Эразма Роттердамского, писателя и философа XVI века, всей своей жестокостью, невежеством, подлостью.
Дюрер видел в Эразме воина Справедливости. Этот бастард, незаконнорожденный, гонимый многими сильными мира сего, писал о папах и королях: "…обезьяны, рядящиеся в пурпур, и ослы, щеголяющие в львиной шкуре…"
Брезгливо обличал придворных вельмож: "Нет, пожалуй, ничего раболепнее, низкопоклоннее, пошлее и гнуснее их…"
Открывал людям глаза: "…ненавистна истина царям".
Сорбонна наложила вето на его "Жалобу мира" — книгу, протестующую против войны…
По мотивам "Книжечки воина Христова", написанной этим отважным проницательным человеком, Дюрер создал свою гравюру "Рыцарь, смерть и дьявол". Рыцарь — каленое железо. Долг и Верность ведут его сквозь тернии трудностей, угроз, искушений. Он бесстрашно ищет Правду, но Правда и в нем самом.
Наверное, таким Дюрер видел Эразма. Но последний был не только таким — и это блестяще отразил художник в первом портрете.
На портрете вы не замечаете душевной боли, приводящей на баррикады. Живое, живущее, сотканное из постоянного движения лицо, по которому, как по без-брежнему морю, плывет, исчезая и возникая, вечный кораблик ироничной усмешки: "вся жизнь человеческая… некая Комедия".
Портрет не вздымающего знамя, а всезнающего философа. Портрет неосознанного противоречия и безоговорочного восхищения человеком, в чьих устах каждое слово тогда загоралось маленьким солнцем. Портрет рисован в Брюсселе, а еще раньше философ и художник встречаются в антверпенском кружке гуманистов. Они понравились друг другу, сблизились, но сближение стало и началом отчуждения… Их объединила и разобщила Реформация.
В Нидерландах, где странствует Дюрер, настигает его ложная весть об аресте Лютера. Тогда и появляется в записной книжке страстный призыв-вопль: "О, Эразм Роттердамский, где ты?., защити правду, заслужи мученический венец… Ты можешь повергнуть Голиафа".
Но Эразм, как, впрочем, и с ам Дюрер, не хочет мученического венца и, пожалуй, не верит в то, что справится с Голиафом. Он предпочитает лз относительно спокойного далека жалить своей улыбкой дураков, которые "держат в своих руках кормило государственного правления и вообще всячески процветают". В отличие от слепо восхищающегося художника Эразм не видит в Реформации избавления от всех бед. И не очень верит Лютеру. Почувствовав это, Дюрер охладевает к столь похожему на него самого Эразму. И хотя последний прямо или косвенно настойчиво напоминает о своем желании иметь гравированный портрет: "кто не мечтает о портрете работы столь великого художника", — великий художник тянет, отмалчивается. И лишь через пять лет создает гравюру на меди Эразм на ней постаревший. Ушло молодое, задорное ощущение жизни, резко углубились морщины, лицо увяло и поскучнело. Не всесильный, не всезнающий, не играющий с жизнью — Эразм похож на человека, пришедшего написать несколько грустных прощальных слов в толстом фолианте. Конечно, не было перед художником живого Эразма, портрет рисован с медали. Но не было прежнего молодого задора и у самого художника.
…Снятся Дюреру огромные потоки воды, падающие с неба. Он просыпается в страхе. Сон — вещий. Всемирного потопа, правда, не случилось, но потекли вокруг него реки крестьянской крови. Вспыхнувшая по всей Германии великая Крестьянская война была подавлена. Дюрер, наверное, никогда бы не встал под знамя, на котором изображался крестьянский башмак с развевающимися шнурками. Он учил остерегаться чрезмерного. Он устрашился, но желание оставаться рыцарем Истины победило. Написанный им трактат "Руководство к измерению" спешно дополняется "Проектом памятника в честь победы, одержанной над крестьянами". Дюрер заговорил эзоповым языком.
Проект мнимого памятника — сплошная насмешка. Колонна из горшков, навозных вил, клети с курами, снопа. На вершину вознесен крестьянин, пронзенный предательским ударом меча в спину. Не деревенский неотесанный мужлан, чьи повадки Дюрер замечал прежде с превосходством горожанина, но ровня художнику, человек труда, глубоко задумавшийся о бурных событиях века, о нелегком пути к свободе, равенству и братству. Крах чаяний, запах крестьянской крови заставили его тяжело уронить голову на ладонь. Тут-то его, безоружного, и настиг вражеский меч.
Это был приговор и феодальной системе, и Лютеру, предавшему движение, и даже самой Реформации, превращавшейся в погоню за инакомыслящими, в бесконечные споры о библейской букве.
Дюрер пишет свою последнюю картину-завещание "Четыре апостола". Он послал к нам, далеким потомкам, своих современников — людей мятежа и преобразований, мыслителей и борцов, сознающих высшее назначение своего существования. Людей Реформации и великой Крестьянской войны. Грубая мужицкая сила органично соединяется с тончайшими проявлениями ума и силой страсти. Струится к нам ток напряженнейшей человеческой мысли, и мы садущаем ее беспокойство и величие.
Дюрер подписал картину: "Все мирские правители в эти опасные времена пусть остерегаются, чтобы не принять за божественное слово человеческие заблуждения".
Божественное слово истины выше тиранов и лжепророков.
Курфюрст Максимилиан I, в чьи руки впоследствии попала картина, велел подпись отпилить, понял ее точный смысл… Дюрер грустно улыбается, вспоминая пылкие слова гуманиста Ульриха фон Гуттена: "…умы пробуждаются, науки расцветают, как радостно жить!" Заря рассвета, забрезжившая было так недавно, уже погасла. Пора восторгов прошла. Лучших учеников художника высылают из города за сочувствие и помощь крестьянскому движению, лучшего резчика заточают в темницу. Дюрер перестает шутить. Уже не рисует по углам паутину, чтобы добродушно посмеяться, когда доверчивые служанки станут сметать ее. Откладывает в сторону кисть и резец, садится за стол и начинает книгу о могуществе, законах, славе и поражениях "…великого, обширного, бесконечного искусства истинной живописи…". Успевает сочинить лишь трактат о пропорциях и "Наставление об укреплении городов" (может быть, желая хоть чем-то помочь убережению городов-республик). Высоко вздымая знамя своего творчества, он заявляет: "Судить об искусстве живописи не может никто, кроме тех, которые сами хорошо пишут".
Слова эти хлещут заказчиков — бюргеров, сановников церкви, князей и императоров. Не им возвышать или ниспровергать мастера, протягивающего нить времени в будущее…
Дюрер скончался весной 1528 года. Он был слишком изящен для исполина, но им стал. Вечный странник в стране искусства, он соединил в своем творчестве редкий талант художника с глубокой человечностью. Гений и злодейство несовместимы. Дюрер являет пример нерасторжимости гения и добра.
Шел XVI век и гремела Реформация.
Ученый монах Лютер метнул молнию (по образному выражению Фридриха Энгельса) в католическую церковь — молния угодила в пороховой погреб. Лютер выступил против поборов, беззакония, бесстыдной лжи церковных властей. Дюрер поверил Лютеру как богу. Лютер "обличал нехристей пап, что у нас грабят плоды нашей крови и нашего пота".
Но Дюрер ведь — "Вашей мудрости покорный гражданин" (как писал он бургомистру и совету города Нюрнберга). Дюрер осторожен, но отважен ли Дюрер? Однажды корабль, на котором находился художник, уносило в открытое море. Началась паника. Дюрер единственный воодушевил вопящего корабельщика. Они подняли "малый парус" и стали приближаться к берегу.
Реформация требует "больших парусов". И просыпается у Дюрера дерзость, ибо "одна лишь истина остается вечно". В гравюрах-иллюстрациях к "Апокалипсису" Дюрер швыряет папу, епископов, императора, придворных вельмож под копыта лошадей апокалипсических всадников — Мора, Голода, Войны, Смерти. Земля очищается от нечисти… Художник уже давно говорит с народом языком гравюры — самого массового и популярного вида искусства в те времена. Гравюры расхватывались на ярмарках и праздниках, проходивших в Нюрнберге и других городах.
Гравюры понятны и впечатляющи. Серии "страстей", больших и малых, — по существу, рассказ не о библейских событиях, а о жизни народа.
Дюрер примыкает к сторонникам Реформации и шлет Лютеру в подарок свои гравюры…
В своей знаменитой гравюре "Иероним в келье" он воспевает мудрый покой уединения. Уютная комната напоена светом, а нимб вокруг головы старого Иеронима — мягкое зарево неустанно трудящейся мысли… "Меланхолию", другую "мастерскую" гравюру, называли духовным портретом художника. Крылатая женщина, уже пытавшаяся настигнуть ускользающую истину, задумчиво всматривается в даль, которую предстоит разведать. Все приобретенное бессильно рассыпалось вокруг богини: наука, знания, опыт, но опущенные крылья все-таки сохраняют упругую силу.
Таков этот противоречивый Дюрер — желающий и остерегающийся, мечтающий о покое и сомневающийся…
Тщательно скрываемое в самом себе явно проскальзывает в портретах. Еще в конце XV века в портрете купца Освальда Крелля отражено душевное горение человека, живо откликающегося на события. Ему вторит дрезденский "Портрет молодого человека": получено желанное известие, рождается энергия, способная противостоять препонам и созидать.
Люди на качелях колеблющегося равновесия бытия. Они пытаются осмыслить хаос бытия и провидеть будущее: неукротимый Виллибальд Гиркгеймер, восторженный Филипп Меланхтон.
Любопытна история двух портретов Эразма Роттердамского. Как на всякую праведную душу, мир обрушивался на Эразма Роттердамского, писателя и философа XVI века, всей своей жестокостью, невежеством, подлостью.
Дюрер видел в Эразме воина Справедливости. Этот бастард, незаконнорожденный, гонимый многими сильными мира сего, писал о папах и королях: "…обезьяны, рядящиеся в пурпур, и ослы, щеголяющие в львиной шкуре…"
Брезгливо обличал придворных вельмож: "Нет, пожалуй, ничего раболепнее, низкопоклоннее, пошлее и гнуснее их…"
Открывал людям глаза: "…ненавистна истина царям".
Сорбонна наложила вето на его "Жалобу мира" — книгу, протестующую против войны…
По мотивам "Книжечки воина Христова", написанной этим отважным проницательным человеком, Дюрер создал свою гравюру "Рыцарь, смерть и дьявол". Рыцарь — каленое железо. Долг и Верность ведут его сквозь тернии трудностей, угроз, искушений. Он бесстрашно ищет Правду, но Правда и в нем самом.
Наверное, таким Дюрер видел Эразма. Но последний был не только таким — и это блестяще отразил художник в первом портрете.
На портрете вы не замечаете душевной боли, приводящей на баррикады. Живое, живущее, сотканное из постоянного движения лицо, по которому, как по без-брежнему морю, плывет, исчезая и возникая, вечный кораблик ироничной усмешки: "вся жизнь человеческая… некая Комедия".
Портрет не вздымающего знамя, а всезнающего философа. Портрет неосознанного противоречия и безоговорочного восхищения человеком, в чьих устах каждое слово тогда загоралось маленьким солнцем. Портрет рисован в Брюсселе, а еще раньше философ и художник встречаются в антверпенском кружке гуманистов. Они понравились друг другу, сблизились, но сближение стало и началом отчуждения… Их объединила и разобщила Реформация.
В Нидерландах, где странствует Дюрер, настигает его ложная весть об аресте Лютера. Тогда и появляется в записной книжке страстный призыв-вопль: "О, Эразм Роттердамский, где ты?., защити правду, заслужи мученический венец… Ты можешь повергнуть Голиафа".
Но Эразм, как, впрочем, и с ам Дюрер, не хочет мученического венца и, пожалуй, не верит в то, что справится с Голиафом. Он предпочитает лз относительно спокойного далека жалить своей улыбкой дураков, которые "держат в своих руках кормило государственного правления и вообще всячески процветают". В отличие от слепо восхищающегося художника Эразм не видит в Реформации избавления от всех бед. И не очень верит Лютеру. Почувствовав это, Дюрер охладевает к столь похожему на него самого Эразму. И хотя последний прямо или косвенно настойчиво напоминает о своем желании иметь гравированный портрет: "кто не мечтает о портрете работы столь великого художника", — великий художник тянет, отмалчивается. И лишь через пять лет создает гравюру на меди Эразм на ней постаревший. Ушло молодое, задорное ощущение жизни, резко углубились морщины, лицо увяло и поскучнело. Не всесильный, не всезнающий, не играющий с жизнью — Эразм похож на человека, пришедшего написать несколько грустных прощальных слов в толстом фолианте. Конечно, не было перед художником живого Эразма, портрет рисован с медали. Но не было прежнего молодого задора и у самого художника.
…Снятся Дюреру огромные потоки воды, падающие с неба. Он просыпается в страхе. Сон — вещий. Всемирного потопа, правда, не случилось, но потекли вокруг него реки крестьянской крови. Вспыхнувшая по всей Германии великая Крестьянская война была подавлена. Дюрер, наверное, никогда бы не встал под знамя, на котором изображался крестьянский башмак с развевающимися шнурками. Он учил остерегаться чрезмерного. Он устрашился, но желание оставаться рыцарем Истины победило. Написанный им трактат "Руководство к измерению" спешно дополняется "Проектом памятника в честь победы, одержанной над крестьянами". Дюрер заговорил эзоповым языком.
Проект мнимого памятника — сплошная насмешка. Колонна из горшков, навозных вил, клети с курами, снопа. На вершину вознесен крестьянин, пронзенный предательским ударом меча в спину. Не деревенский неотесанный мужлан, чьи повадки Дюрер замечал прежде с превосходством горожанина, но ровня художнику, человек труда, глубоко задумавшийся о бурных событиях века, о нелегком пути к свободе, равенству и братству. Крах чаяний, запах крестьянской крови заставили его тяжело уронить голову на ладонь. Тут-то его, безоружного, и настиг вражеский меч.
Это был приговор и феодальной системе, и Лютеру, предавшему движение, и даже самой Реформации, превращавшейся в погоню за инакомыслящими, в бесконечные споры о библейской букве.
Дюрер пишет свою последнюю картину-завещание "Четыре апостола". Он послал к нам, далеким потомкам, своих современников — людей мятежа и преобразований, мыслителей и борцов, сознающих высшее назначение своего существования. Людей Реформации и великой Крестьянской войны. Грубая мужицкая сила органично соединяется с тончайшими проявлениями ума и силой страсти. Струится к нам ток напряженнейшей человеческой мысли, и мы садущаем ее беспокойство и величие.
Дюрер подписал картину: "Все мирские правители в эти опасные времена пусть остерегаются, чтобы не принять за божественное слово человеческие заблуждения".
Божественное слово истины выше тиранов и лжепророков.
Курфюрст Максимилиан I, в чьи руки впоследствии попала картина, велел подпись отпилить, понял ее точный смысл… Дюрер грустно улыбается, вспоминая пылкие слова гуманиста Ульриха фон Гуттена: "…умы пробуждаются, науки расцветают, как радостно жить!" Заря рассвета, забрезжившая было так недавно, уже погасла. Пора восторгов прошла. Лучших учеников художника высылают из города за сочувствие и помощь крестьянскому движению, лучшего резчика заточают в темницу. Дюрер перестает шутить. Уже не рисует по углам паутину, чтобы добродушно посмеяться, когда доверчивые служанки станут сметать ее. Откладывает в сторону кисть и резец, садится за стол и начинает книгу о могуществе, законах, славе и поражениях "…великого, обширного, бесконечного искусства истинной живописи…". Успевает сочинить лишь трактат о пропорциях и "Наставление об укреплении городов" (может быть, желая хоть чем-то помочь убережению городов-республик). Высоко вздымая знамя своего творчества, он заявляет: "Судить об искусстве живописи не может никто, кроме тех, которые сами хорошо пишут".
Слова эти хлещут заказчиков — бюргеров, сановников церкви, князей и императоров. Не им возвышать или ниспровергать мастера, протягивающего нить времени в будущее…
Дюрер скончался весной 1528 года. Он был слишком изящен для исполина, но им стал. Вечный странник в стране искусства, он соединил в своем творчестве редкий талант художника с глубокой человечностью. Гений и злодейство несовместимы. Дюрер являет пример нерасторжимости гения и добра.

ЕСЛИ ЖИВОПИСЕЦ ПОЖЕЛАЕТ УВИДЕТЬ
Если исключить моего земляка Альбрехта Дюрера… то могу поручиться — только тебе наш век отводит первое место в живописи…Лукас Кранах Старший (1472 — 1553) — живописец и график, внес большой вклад в становление немецкого Ренессанса. Работал при дворе саксонского курфюрста в Виттенберге. По городу Виттенбергу в самом начале XVI века художник Лукас Кранах Старший ходил уверенной походкой уважающего себя человека. Встречные кланялись ему, и он кланялся им с достоинством. Причиной тому было не только раннее признание мастерства живописца, но и деловая предприимчивость, позволившая ему основать художественное предприятие, мастерскую с многочисленными учениками. Он купил типографию для печатания своих гравюр и книжную лавку, где их продавали; приобрел дома и земельный участок. Не исключено, что именно поэтому бюргеры почитали бюргера Кранаха; более того, доверяли ему посты штадткеммерера (главного финансиста) и, наконец, даже бюргермейстера города Виттенберга. Недурно звучит: великий художник Лукас Кранах Старший — бюргермейстер. Но вот два автопортрета, разделенные сроком в сорок лет. Кранах с семьей: жена и дети на первом плане придают группе спокойный, почти идиллический характер, а поза человека в красном берете, главы семьи, напряжена. Похоже, он ждет: что-то должно свершиться, тревожное и неведомое… А через сорок лет нити волос любовно выписанной бороды на темном фоне одежды не серебрятся, они голубоваты, как ручейки утекающей жизни. Благообразный старец, несомненно волевой и упрямый, трезво измеряющий действительные величины происходящих событий, глядя на собеседника, не видит его, но вопрошает себя: так ли прожиты ушедшие годы? Вряд ли знал Кранах высказывания своего современника "безграничного" Леонардо да Винчи: "Если живописец пожелает увидеть прекрасные вещи, уродливые вещи… или шутовские и смешные, или поистине жалкие, то и над ними он властелин и бог". Может быть, сомневался Кранах: все ли совершил, чтобы стать таковым, исповедовал ли истину, когда бурные события сотрясали почти все провинции его страны — и Швабию, и Франконию, и Тюринго-Сак-сонскую область?.. Бюргерам Кранах представлялся только обаятельным, разговорчивым, услужливым, исключительно приятным в общении человеком. Но монограмма Кранаха, отличительный знак художника, которым метит он свои полотна, — крылатый змей или дракон. Случайность? Змей, очевидно, знак мудрости; дракон — олицетворение силы. Может быть, и в этой малости художник выразил свой истинный темперамент и характер? Эпоха Возрождения напитала людей жаждой приподнять завесу, скрывающую и тайны природы, и тайны развития человеческого общества. Просвещение, надев семимильные сапоги (семь миль для того времени — расстояние значительное), пересекало границы немецких княжеств, сражалось с религиозным суеверием и социальной несправедливостью. Создаются университеты, рождаются мыслители, их называют гуманистами, ибо они просвещают, пекутся о благе других. Еще в Вене пишет. Кранах портреты этих близких ему по духу людей и, в частности, Куспиниана, врача, поэта, философа, общественного деятеля, придворного историографа. Лицо гуманиста одухотворено, в руках у него массивная книга, он размышляет о прочитанном, об увиденном. Художнику нравятся его отрешенность, мечтательность, желание увидеть в будущем то, о чем немногие только начинают говорить… Кранах рисовал гуманистов и понимал: ему выпало родиться и жить во времена необычные, ярко проявляющие самобытную силу и науки, и каждого человека. Движение Реформации началось не с того момента, когда тридцатитрехлетний преподаватель Лютер прибил на дверях Замковой церкви в Виттенберге девяносто пять тезисов, в которых разоблачал папство и католическую церковь, уничтожающих, подобно прожорливой саранче, зеленые ростки рождающейся мысли. Немецкий историк Вильгельм Циммерман на основании летописей и рассказов очевидцев сообщает: еще в 1476 году некий Ганс Бегейм из Никласгаузена, прозванный Иванушкой Свистуном, вдруг заговорил о новом царстве господнем, "где не будет ни князей, ни папы, никаких господ и повинностей, где все будут братья". Епископ Вюрцбургский велел схватить его ночью и сжечь, а волнения стихли… Но случай с Иванушкой Свистуном был не единственным. Уже давно крестьянский башмак с развевающимися шнурками — в противовес рыцарскому сапогу — утвердился на знамени восставших за свои права крестьян. Так что не Лютер покатил первый камешек с горы. Этот образованный богослов, вспыльчивый и самовлюбленный, своевременно сказал: "Время молчания прошло, и время говорить настало…" Лютер дал движению лозунг, сыграв, правда, впоследствии роль гамельиского крысолова, который, как известно, увел детей в реку. Сравнение, может быть, не совсемточное, но, когда началась великая Крестьянская война, ужаснувшийся Лютер призывал убивать восставших как бешеных собак. И тогда Томас Мюнцер, "альштедтский бес", выступил с памфлетом "Против сытно живущей плоти виттенберг-ской" и возглавил крестьянское движение за социальные преобразования. Томас Мюнцер был истинно крестьянским вождем и революционером, он жил и умер, по мнению одного из историков, как юноша — не возраст имелся в виду, хотя в день казни ему исполнилось всего двадцать восемь лет. На портрете работы Кранаха у него усталее, зачерствелое от борьбы лицо… В том сложном переплете интересов (по словам Ф. Энгельса) разобраться было непросто. Неизвестно, как относился Кранах к Мюнцеру. Каждый город жил своим замкнутым мирком, верил своим авторитетам. Виттенберг, с одной стороны, — университетский центр, с другой, по свидетельству современников, там жили и "жестокие, спившиеся и прожорливые" люди. И все же: "Скажи мне, кто твой друг?" — фраза, ставшая банальной… Кранах — друг Лютера, прозванного "доктором Люгнером" (лжецом). Но Кранах и друг Лютера, имя которого в первые дни Реформации стало знаменем движения. Профессор Шойерль писал Кранаху: "Ты не сидишь сложа руки не только ни одного дня, но даже ни одного часа". В дни Реформации Кранах не сидит сложа руки и минуты — он одержим, он полон энергии, он борется. Бурно прорывается наружу сила характера этого человека, которую он сознательно пометил знаком крылатого змея. Богатые люди приобретали его яркие полотна. Кранах прибегает к гравюре, тогда самому демократическому виду изобразительного искусства: гравюры легко размножить, они дешевы. Художник пишет к гравюрам нравоучительные, злободневные, популярные тексты, по существу — печатает листовки. "Когда Адам пахал и Ева пряла, кто был тогда дворянином?" В "Проповеди Иоанна Крестителя" ремесленники, пастухи, солдаты, бедно одетые люди, которым художник явно симпатизирует, жадно слушают проповедника, размышляя, как жить дальше. Кранах иллюстрирует "Деяния Христа и Антихриста", издеваясь над папой, — обаятельный бюргер Кранах умеет ненавидеть. Гуманисты проповедовали. И Кранах проповедует, выступает моралистом. Предает анафеме продажную любовь, гордыню, жажду наживы. Лютер друг, но истина дороже… На портретах Лютера работы Кранаха мы видим человека, пытающегося и неумеющего, нерешительного, в чем-то даже заурядного. И к тому же слишком уверенно и старательно демонстрирующего свое лицо, как будто для фальшивого паспорта. И третий портрет Лютера, твердого в своей жестокости, портрет 1525 года. В это время "виттенбергская плоть" уже торжествовала победу над разгромленным крестьянским движением. Нет, не был Лукас Кранах Старший революционером. Был придворным живописцем Фридриха Саксонского. Искусству повезло, что все эти князья, папы, дожи и прочие властители, пуская друг другу пыль в глаза, считали признаком хорошего тона покровительствовать поэтам, музыкантам, художникам. Разумеется, художник платил за это парадными портретами. Но невежество покровителя позволяло ему, красочно выписывая каждый перстенек, показывать и истинное лицо заказчика. В Дрезденской галерее я долго стоял у портрета герцога Генриха и его жены. Кранах — певец великолепия тканей. Но над полыхающей желто-красной парчой и тяжелыми цепями драгоценностей я увидел холодное, жестокое лицо человека, который отнюдь не театрально положил руку на меч. Смотришь ему в глаза и знаешь твердо: эта рука не дрогнет, но вынет меч и убьет… Герцогиня — не женщина, а прежде всего политик — хитрый и лукавый. Своим портретом Кранах предупреждает человека, идущего к ней: не надейся на разум и чувства, здесь нужно торговаться, юлить, угрожать… Вольно или невольно Кранах показывал лицо врага. Вольно. Злейший враг Реформации кардинал Альбрехт Бран-денбургский сидит в дальнем углу комнаты, физиономия у него постная, недобрая, он вцепился обеими руками в какую-то толстую книгу, очевидно, Библию. Маленькое распятие перед ним — лишь бутафория. На втором портрете — Христос будто поверженный перед кардиналом грешник, а кардинал еще более погрустнел, съежился от внутренней пустоты. А если взглянуть в гордые, выразительные глаза льва, возлежащего на переднем плане, то кардинала уже и не существует. Кранах любил и умел передавать мгновенную нежность женского тела, он пишет молодых матерей с детьми, иногда называет их мадоннами, а порой забывает сделать это. На этих полотнах тоже остался след Реформации. Мадонна с младенцем умиротворена, счастлива. Маленький человечек делает первый шаг в любопытный ему мир. Яблоки вокруг мадонны, как нимб, олицетворение плодоносной жизни, — младенец держит в руках румяное сочное яблоко и корку хлеба, словно державу и скипетр. Но вот другая картина, датированная 1537 годом — годом победы реакции. Видимое спокойствие молодой матери обманчиво: она сомневается в будущем. Ребенок не идет в мир, прижимается к матери, и ей отпускать от себя сына не хочется. Возмущенный "доктор Люгнер" называет Кранаха грубым художником, который много рисует женщин и мало священнослужителей. Как истинный мастер Возрождения, Кранах — созидатель многих миров: людей, животных, растений. Они удивительно достоверны, создают иллюзию действительной жизни. Вот что писал ему современник: "Ты нарисовал однажды в Австрии на столе такую обманчивую виноградную кисть, что тотчас после твоего ухода прилетела одна сорока и твое произведение клювом и когтями уничтожила". Пейзаж у него — живая часть картин, он грозен, поэтичен, задумчив, нежен и истинно романтичен; не пейзаж, а баллада, схватка дерева с клубящимися тучами. Пейзаж — иносказание, описание жизни, настроений, брожения или спокойствия умов. Это тоже проповедь. Утверждали, что у Кранаха нет активности образов Дюрера, что человек у него — пассивный, примиренный, созерцатель. Но посмотрите на "Четырнадцать спасителей" — не лица, а автобиографии: верующего мученика, не теряющего надежды на прекращение своих мучений; тоскливого служащего церкви; хитрого мужика, знающего, что, где и почем; ландскнехта, которому все равно, кого убивать; мечтателя; хитрого царедворца; и просто человека, зеваку из толпы… Проходя улицами города, присутствуя на приемах в замке, пробираясь сквозь рыночную толчею, Кранах своим "ненасытным" глазом выхватывает лицо, подобно Леонардо да Винчи, испытывая особый интерес к характерным и безобразным. О Кранахе как о явлении, о большом мастере пишут разное, находят в его поздних работах — когда Реформация пошла на убыль, а Крестьянское восстание было разгромлено — истоки маньеризма, а некоторые именно в нем видят первого модерниста. Называют Кранаха и милым уютным романтиком. Но посмотрите на грозовое небо, разбивающее орудия пытки, на лицо палача в "Мучениях св. Екатерины": экспрессия и напряженный драматизм картины развеют впечатление уютности. Искусствоведы говорят о влияниях "дунайской" школы, славянском, французском, нидерландском. Наверное, все так и было. Но Кранах сознательно и упорно возвращался к манере старонемецких мастеров, вводил элементы готики, миниатюры — красками и линией он словно хвастался своим немецким "я". Даже фамилию свою берет он от имени того местечка, где родился, — Кронах, дабы не путали его с другими Зундерами, Мюллерами, Малерами и дабы прославить начало свое: кто я и откуда есть. Однажды в шутку художник подписался Лукас Хро-нус, что примерно значит — известный работник, вечный во времени. Не исключено, что все- еще он ждал своего часа, чтобы создать свое "самое-самое" полотно. Но, побродив по пепелищу Крестьянской войны и написав ряд изящных полотен, Кранах понял, что лучшие годы прошли… И умер. Лукас Кранах Старший оставил на многочисленных полотнах тайну буйной силы и светлой мягкости красок, впечатляющие образы своих современников — людей, которых он чтил, и людей, с которыми боролся. Оставил свое понимание жизни мятежного духа эпохи. Был великим художником волнующих времен, как называют его сами немцы. Отцы города Виттенберга проглядели — нет, не тому, кому следовало, вручали они городскую печать и прочие символы власти… Лукас Кранах Старший оставил после себя многочисленных учеников, так называемую "саксонскую школу". Его знали, почитали. Ему следовали и подражали. В инвентаре имущества Рембрандта мы находим книгу с гравюрами на меди и на дереве Лукаса Кранаха…Из письма профессораВиттенбергского университетаКристофа ШойерляЛукасу Кранаху


ХУДОЖНИКИ О ХУДОЖНИКАХ ЖАН ОГЮСТ ДОМИНИК ЭНГР о РАФАЭЛЕ, ТИЦИАНЕ и ПУССЕНЕ
Рафаэль был не только величайшим живописцем, он был прекрасен, он был добр, он был все!.. Рафаэль писал людей добрыми; все его персонажи имеют вид честных людей. …Рафаэль был счастлив. Да, но это потому, что он был по природе божественно неприкосновенен. Рассматривая гигантские произведения Микеланджело, восхищаясь ими от всего сердца, тем не менее замечаешь в них симптомы или черты человеческой усталости. У Рафаэля же наоборот. Его творения все божественны; как и творения бога, они кажутся созданными единым порывом творческой воли. Рафаэль и Тициан бесспорно стоят в первом ряду среди живописцев, однако Рафаэль и Тициан воспринимали природу в очень различных аспектах. Оба они обладали даром проникать взором во все окружающее: но первый искал прекрасное там, где оно действительно находится, а именно в формах, а второй — в колорите… …Естественность и отсутствие какой-бы то ни было аффектации в портретах Тициана невольно вызывает в нас уважение. Благородство в них кажется врожденным и неотъемлемым. Если случайно портрет Тициана окажется рядом с портретом Ван-Дейка, этот последний становится при сравнении холодным и серым. За исключением Пуссена и двух-трех художников, нашей школе живописи в основном не хватает естественной и здоровой силы. Она скорее нервна, чем могуча. А ведь только сила создает великих новаторов и великие школы. Гений Пуссена никогда бы не достиг такой высоты в философии живописи, если бы он не присоединял к ней усердного изучения древних авторов и бесед с учеными людьми… …Искусство должно быть только прекрасным и должно нас учить только красоте.САМАЯ ЛЕГКАЯ КИСТЬ
…Мы не можем исключить Доменико Греко из числа великих живописцев…Доменико Теотокопули, прозванный Эль Греко (1541 — 1614), — испанский живописец, грек по национальности. Жил и работал в Толедо. В Государственном Эрмитаже хранится его картина "Апостолы. Петр и Павел". Соседствуя на стене с величайшими мастерами, старик не стесняется, не теряется, он даже торжествует над Хальсом и Веласкесом. Живой и непосредственный старик. Лоб, увеличенный лысиной, сияет, будто папская тиара, в выпуклых глазах грусть перебивается неистребимым бесстрастным любопытством, лицо подобно щиту, побывавшему во многих боях. Очень интересующийся старик — какой-то ртутно-неуловимый и, несомненно, рассказывающий. Вглядитесь: еще мгновение — и он сам обо всем поведает. Произойди это, разрешилась бы многовековая загадка. Но портрет, столь желающий заговорить, молчит. А мы никак не можем принять на веру, что перед нами автопортрет, как предполагают, живописца Доменико Теотокопули, кометой ворвавшегося в мировое искусство XVI века, вспыхнувшего ослепительно, сгоревшего в огне своей славы, вновь восставшего из пепла и получившего в неродной ему Испании прозвище, ставшее навечно его именем, отчеством, фамилией: Эль Греко. Старик на небольшом полотне работы Эль Греко явно без сверхидеи, он интересен как типаж человека пусть и уверенного, но внутренне не собранного, в общем-то заурядного. "Мог ли он?" — задаешься вопросом, листая страницы жизни гениального мастера и обращая свой взор на картину "Вид Толедо". В ней Эль Греко страстно и пылко объяснился в любви своему городу. Мы видим бегущий город. Рожденный буйным движением стихий. Город, насыщающийся светом, который прорывается сквозь грозовое смятенное небо. На грани мятущихся темных, белых, голубоватых туч, сверкающей зелени, рыжеватой земли и темно-серых скал — благородный городской силуэт, легкий, почти прозрачный, совершенный, возникает естественным порождением земли, ее украшением; вьется лентой причудливых и реальных башен и крепостных стен. Город подобен Киприде, рождающейся из движения и гармонии стихий, — незастылый и прекрасный. Исследователи единодушны: никто лучше Эль Греко не передал дух Толедо, "города поколений", "жемчужины Востока". В Толедо — культурный, промышленный и торговый центр — художник попадает, когда уходит эпоха беспредельной веры в возможности и могущество человека. И естественна жажда самоанализа. Мир внутри себя становится увеличительным стеклышком, фокусирующим лучи наиболее разительного и характерного, что происходит вокруг. Толедские гуманисты знают Эль Греко не только как художника, но и как "великого философа". О том свидетельствует и список библиотеки, которую Эль Греко пополнял даже тогда, когда в его гардеробе было всего три рубашки. Плутарх, Ксенофонт, Петрарка, Ариосто, Гомер, Еврипид, Аристотель, Эзоп, Тассо, Гиппократ, Витрувий, Альберти… Эль Греко — великий философ, а его город называли "наковальней ума". Особенно же, очевидно, привлекла художника черта, близкая ему по характеру, — восстающая гордость Толедо. Там "закалялись души и шпаги", восстание коммунерос [Восстание коммунерос — восстание целого ряда испанских городов, недовольных политикой императора Карла V, уничтожившего средневековые вольности. Восстание проходило под девизом: "Мы принесли взаимную присягу за короля и коммуну".] долго помнили император и короли. Чувство собственного достоинства и гордыню отмечают у Эль Греко современники. Даже с Микеланджело он разговаривает строптиво, замахиваясь на его фрески: и он, Эль Греко, может написать не хуже, по-своему… С заказчиками он надменен, чувствует себя одаряющим и снисходящим. Яростные тяжбы за оплату картин — не сутяжничество стяжателя — кровавые битвы, отстаивающие честь. Им сопутствовала всеевропейская известность: они служили примером защиты прав творческого человека. Но не стоит представлять художника этаким несдержанным смельчаком. На площади его противоречивого города состязались поэты, и там же сжигали еретиков. Эль Греко, внутренне свободный человек, пророк нового видения в искусстве, жил и под знаком инквизиции. Может быть, и это объясняет обилие картин на библейские сюжеты.Франсиско Пачек о, учитель Веласкеса
 Но есть еще и портреты.
Два — особо противоборствующие. "Мужской портрет" — символ того времени. Человек на портрете похож на доктора, который отчаялся исцелить всех больных. Великая грусть объяла и иссушила его лицо. Может быть, и отблеск костров инквизиции в этом лице?.. (Хвастал же Филипп II, что двадцать служащих инквизиции держат Испанию в "покое".) Впалые щеки, отчетливо обозначившиеся морщины. Негустая и как-то жалостно изогнувшаяся бородка крепко заиндевела сединой. Лицо стало скупым, лаконичным. В нем бесконечность понимания, сожаления и доброты. Лицо — словно обнаженная мысль. Глаза — приемлющие мысль как муку и награду. Одежда подчеркивает несуетность и сосредоточенность на главном. Иные видят в "Мужском портрете" великого современника Эль Греко — Сервантеса. И действительно, умный и грустный человек на портрете мог сказать вслед за Дон Кихотом: "…обрати взоры свои на самого себя, ибо более трудного познания нельзя себе и представить. А познав себя, ты не будешь надуваться, как лягушка, захотевшая сравняться с волом…"
О человеке на портрете можно сказать и словами современника Эль Греко, поэта Луиса де Леона, что у него "…сердце билось, в котором мирозданье уместилось!".
И другой портрет — портрет ужаса: легкий и цепкий главный инквизитор дон Фернандо Куньо де Гевара. Неосторожная фраза, подозрительный огонек в чьих-то глазах — и хищной птицей снимется с кресла. Не меч правосудия вознесет — кривой кинжал убийцы. Взгляд сквозь очки не усомнится и не поймет, рука не откликнется радостным рукопожатием, ей бы душить. Перед нами еще и не самый жестокий главный инквизитор — даже "человеколюбивый", Тем разительнее беспощадное отношение к нему художника. На современной Эль Греко гравюре испанская инквизиция — это длинный ряд крестов, унизанных горевшими на кострах людьми. И такую Испанию он знал, боялся, приспосабливался к ней. Не оттого ли скрытность, любовь к уединению? Трудно выбирал друзей, людей с "томящимся духом", близких ему по мировоззрению, — таких, как поэт Луис де Гонгора, прозванный современниками "цветком Испании".
Кисть Эль Греко называли самой легкой. Картины сравнивали с вихрем. Словно кто-то проносился внутри картин с факелом в руках. Мчащийся свет, как вспышки молний. Был случай: молния ударила в здание мастерской и не причинила вреда. Поэт Парависино, свидетель этого события, сочинил сонет: Юпитер усмотрел в Эль Греко соперника, рассердился, но молния, ослепленная чудесными красками, отступила.
Кисть легкая, а труд каторжный: преждевременно состарившийся художник бродил по мастерской, тяжело опираясь на палку.
Мы не знаем, как он выглядел. Автопортреты его находят в облике святого Луки: с кистью в руке, мягко задумавшегося, рассудительно-отрешенного; в "Погребении графа Оргаса" — с настойчивой уверенностью в лице; в "Портрете рыцаря с рукой на груди"… Портрет темен по колориту. Лишь лицо и рука светятся в обрамлении застывшей пены жемчужных брызг жабо. Задумчивое лицо философа; возвышенное лицо благородного рыцаря, человека, ступившего на путь чести и доблести. Рука клятвенно прижата к груди — обещание верности долгу, совести, таланту. Портрет не молчит, ведет разговор. Философ ищет собеседника. Рыцарь поражает силой спокойствия духа. Спокойствия, которого всегда не хватало Эль Греко. Но, может быть, таким он был, когда только приехал с Крита в Толедо и еще не стал "божественным Греком", который, по признанию его современников, "в своих произведениях искусства превосходит реальность".
И вот еще так называемый "Автопортрет". Помня о критическом складе ума художника, его насмешливости и остроумии, нетрудно предположить: а что, если блестящий портрет старости — самоирония? Заполонил Толедо картинами, проник в святая святых цвета — и сидит в запущенном доме перед жаровней беспомощный, невеселый, старый, почти нищий, а все еще жадно любопытствующий.
В Толедо художник жил до конца своих дней и достиг славы. Поэт сказал так: "Крит дал Греко жизнь, а Толедо кисть".
Но есть еще и портреты.
Два — особо противоборствующие. "Мужской портрет" — символ того времени. Человек на портрете похож на доктора, который отчаялся исцелить всех больных. Великая грусть объяла и иссушила его лицо. Может быть, и отблеск костров инквизиции в этом лице?.. (Хвастал же Филипп II, что двадцать служащих инквизиции держат Испанию в "покое".) Впалые щеки, отчетливо обозначившиеся морщины. Негустая и как-то жалостно изогнувшаяся бородка крепко заиндевела сединой. Лицо стало скупым, лаконичным. В нем бесконечность понимания, сожаления и доброты. Лицо — словно обнаженная мысль. Глаза — приемлющие мысль как муку и награду. Одежда подчеркивает несуетность и сосредоточенность на главном. Иные видят в "Мужском портрете" великого современника Эль Греко — Сервантеса. И действительно, умный и грустный человек на портрете мог сказать вслед за Дон Кихотом: "…обрати взоры свои на самого себя, ибо более трудного познания нельзя себе и представить. А познав себя, ты не будешь надуваться, как лягушка, захотевшая сравняться с волом…"
О человеке на портрете можно сказать и словами современника Эль Греко, поэта Луиса де Леона, что у него "…сердце билось, в котором мирозданье уместилось!".
И другой портрет — портрет ужаса: легкий и цепкий главный инквизитор дон Фернандо Куньо де Гевара. Неосторожная фраза, подозрительный огонек в чьих-то глазах — и хищной птицей снимется с кресла. Не меч правосудия вознесет — кривой кинжал убийцы. Взгляд сквозь очки не усомнится и не поймет, рука не откликнется радостным рукопожатием, ей бы душить. Перед нами еще и не самый жестокий главный инквизитор — даже "человеколюбивый", Тем разительнее беспощадное отношение к нему художника. На современной Эль Греко гравюре испанская инквизиция — это длинный ряд крестов, унизанных горевшими на кострах людьми. И такую Испанию он знал, боялся, приспосабливался к ней. Не оттого ли скрытность, любовь к уединению? Трудно выбирал друзей, людей с "томящимся духом", близких ему по мировоззрению, — таких, как поэт Луис де Гонгора, прозванный современниками "цветком Испании".
Кисть Эль Греко называли самой легкой. Картины сравнивали с вихрем. Словно кто-то проносился внутри картин с факелом в руках. Мчащийся свет, как вспышки молний. Был случай: молния ударила в здание мастерской и не причинила вреда. Поэт Парависино, свидетель этого события, сочинил сонет: Юпитер усмотрел в Эль Греко соперника, рассердился, но молния, ослепленная чудесными красками, отступила.
Кисть легкая, а труд каторжный: преждевременно состарившийся художник бродил по мастерской, тяжело опираясь на палку.
Мы не знаем, как он выглядел. Автопортреты его находят в облике святого Луки: с кистью в руке, мягко задумавшегося, рассудительно-отрешенного; в "Погребении графа Оргаса" — с настойчивой уверенностью в лице; в "Портрете рыцаря с рукой на груди"… Портрет темен по колориту. Лишь лицо и рука светятся в обрамлении застывшей пены жемчужных брызг жабо. Задумчивое лицо философа; возвышенное лицо благородного рыцаря, человека, ступившего на путь чести и доблести. Рука клятвенно прижата к груди — обещание верности долгу, совести, таланту. Портрет не молчит, ведет разговор. Философ ищет собеседника. Рыцарь поражает силой спокойствия духа. Спокойствия, которого всегда не хватало Эль Греко. Но, может быть, таким он был, когда только приехал с Крита в Толедо и еще не стал "божественным Греком", который, по признанию его современников, "в своих произведениях искусства превосходит реальность".
И вот еще так называемый "Автопортрет". Помня о критическом складе ума художника, его насмешливости и остроумии, нетрудно предположить: а что, если блестящий портрет старости — самоирония? Заполонил Толедо картинами, проник в святая святых цвета — и сидит в запущенном доме перед жаровней беспомощный, невеселый, старый, почти нищий, а все еще жадно любопытствующий.
В Толедо художник жил до конца своих дней и достиг славы. Поэт сказал так: "Крит дал Греко жизнь, а Толедо кисть".

СЛЕДУЯ СВОЕМУ ГЕНИЮ
…Микеланджело Караваджо… почувствовав себя новатором в своих методах, отдал все, что приобрел, художникам, писавшим фрески, а сам, побуждаемый своим гением, принялся рисовать с природы.Микеланджело Меризи да Караваджо (1573 — 1610) — итальянский художник. Родился в ломбардском селении Караваджо. До 1606 года жил в Риме, затем скитался по Италии. Микеланджело Меризи да Караваджо прорывается в искусство внезапно, камнем, брошенным из пращи. К нему относишься как к природному явлению — водопаду или извергающемуся вулкану. Репин называл Караваджо варваром: "Искусство, где "кровь кипит, где сил избыток…" Оно страшно, резко, беспощадно, реально. Его девиз — правда и впечатление…" На рубеже XVI и XVII веков этот сутуловатый человек с большими недобрыми глазами на исхудалом, почти изможденном страстями лице, мотается по всей Италии, как перекати-поле. Невероятной, а потому страшной могла бы показаться на его губах улыбка — улыбающимся он себя не рисовал. Да и на его полотнах вы почти не встретите улыбающихся людей. Его время — время краткого экономического подъема, а затем резкого упадка, утверждения мелких раздробленных монархий. Нищеты и безработицы. Вот свидетельство современника: "Нынешнее состояние публичных дел лучше описать слезами, нежели чернилами…" Разгорается так называемая "скрытая крестьянская война"… И ярко пылают по всей Италии праздничными знаками мракобесов и тиранов костры инквизиции. Возможно, Караваджо был свидетелем того, как в Риме сжигали Джордано Бруно. Тогда же был посажен в тюрьму на долгие двадцать семь лет философ и революционер Томмазо Кампанелла… Караваджо ясно увидел черный мрак, окутывающий землю и лица мучеников, освещенные светом костров. Не они ли запечатлены им в образах святых и героев библейских легенд? Великим счастьем и бедой художника был талант титана, исполина, сделавший его новатором и революционером в живописи. Подобно гигантскому сверхпрочному мосту, почти в одиночку, соединяет он искусство Высокого Возрождения и последующее мощное утверждение реализма. Злым демоном пронесся Караваджо над идеальнейшими бесстрастно-холодными лицами картин господствовавшего тогда маньеризма и, впитав его отшлифованное до лоска и поднятое до высочайших вершин виртуозности техническое мастерство, затем нанес ему смертельный удар. В противовес "иллюзорной вещественности", которой увлекались маньеристы, он воспевает осязаемость материального мира. Его натюрморт "Корзина с фруктами" признан шедевром, которому в мировой живописи нет равных. Корзина стоит прямо перед вами. Сливово-си-ний и прозрачный, голубоватой желтизны виноград свешивается за ее плетеные края. Можно взять и унести грушу и червивое краснобокое яблоко. Листья уже покрылись ржавчиной увядания и слегда порваны. На них — капельки влаги. Плоды в корзине — единое целое, и в то же время каждая группа индивидуальна, каждое зернышко винограда как звездочка… Настоящий гимн жизни. Художник обращался к натуре, которая жила вокруг него: смеялась, страдала, радовалась и плакала, поражала и своим грубым мужеством, и прелестью грациозной походки. Натуре, которую он, человек, бессильный перед своим талантом, пытался облечь в какие-то общие черты, придать ей единообразие, создать свой тип. У него мало резко индивидуальных психологических характеристик. Но он был на пути к этому. Гроссмейстер Мальтийского ордена Алоф де Виньякур на портрете Караваджо коварен, злобен, мстителен. "Кто? — словно вопрошает этот мелкий, тупоголовый властелин, одетый в сверкающие доспехи. — Кто осмелится посягнуть на мои власть и богатство?" Все его естество пронизано этим вопросом, в нем вся жизненная программа. Это Алоф де Виньякур произведет Караваджо в рыцари Мальтийского ордена, а затем заточит в темницу. "Божество говорит с помощью живописи…" — решение Тридентского собора, запрещающее отображать в искусстве все то, что противоречит церковной догме, дамокловым мечом нависло над теми, кто пожелал бы воспевать что-либо нецерковное. Крестьян и горожан сделал Караваджо главными действующими лицами своей живописной мистерии. Они назывались у него библейскими святыми, а оставались простыми итальянцами, простодушно-умными, мудрыми и страстными. Современники ставили ему в вину: "Следует своему собственному гению, не питая никакого уважения к превосходнейшим античным мраморам", — а Караваджо бежал в толпу, хватал за руку нищую или цыганку и тут же писал их. Утверждал превосходство живой модели перед антиками. За отношением к его живописи, к нему самому чувствуется социальная подоплека. Вслушайтесь: тех, кого он изображал в виде всевозможных святых, иные его собратья по кисти именовали "низкими". Его упрекают, что "Мадокна пилигримов", где он изобразил нищих, "ценилась простолюдинами". Сильных мира сего и старейшин маньеризма коробят босые, грубые крестьянские ноги, торчащие из холстов Караваджо. Целая галерея сцен жизни простых людей — их горя, надежд, страданий — проходит перед нами. Заказчики из монастырей отказываются от этих картин, заставляют мастера переписывать их дважды и трижды. Караваджо был гениальным и смелым новатором, он настойчиво отстаивал свою позицию в искусстве, противники обвиняли его в самонадеянности, что, впрочем, не помешало впоследствии иным из них стать биографами мастера. Читая их произведения, следует извлекать шипы замаскированных строк: уже не лицемерных, не льстящих, но шелестящих змеиной злобой, жадным завистничеством, сведением мелких счетов… Вот, мол, каким грубым натуралистом был этот Караваджо, намекают они, зазнайкой, которому все нипочем… Уже и в нашем веке нашлись их последователи, объявившие Караваджо "псевдореалистом". Пигмей уцепился за плащ великана, и мы все же благодарны ему за те крохи биографических сведений, которые он сообщает. Джованни Бальоне (которого, по мнению Караваджо, мог похвалить только "живописец никудышный") обидчиво пишет: "Насмешливый и гордый, он раздражался против всех художников прошедшего и настоящего времени, как бы знамениты они ни были…" Но передо мной протокол судебного допроса, свидетельствующий, что биограф лжет: Караваджо отмечает и тех мастеров, которые умели "хорошо делать свое дело". Тревожное время, драматизм жизненного напряжения художник передал импульсивно, порывисто — вырванные светом из тьмы руки, лица, фигуры — резко динамичны. Манера его письма — "тенесборо" — искусство так называемого "погребного освещения" (когда свет падает сверху, словно в глубокий погреб), сверхмастерское владение светотенью. Его мучающие полотна выглядели ошеломляюще и создавали в свое время пусть скандальную, но славу. Его картину закрывали темно-зеленым сукном, чтобы зрители сначала осмотрели остальные сто двадцать картин выставки, настолько полотно Караваджо ярко выделялось и поражало… "В чем же дело? — недоумевали иные современники художника и отвечали: — Просто продолжение "идеи Джорджоне". И это было более чем непониманием, ибо мягкая плавная мелодия Джорджоне у Караваджо превратилась в неумолкающий, гневный, страдающий и жалующийся крик. По свидетельству очевидцев, чтобы "с неистовством передать интенсивность света и тени", он писал в темной комнате, а из отверстия, прорубленного в потолке, падал обнажающий луч света… Говорят, что иные полотна писал с помощью наклонного зеркала, пытаясь лучше уловить трехмерность предметов. Художник искал, как до него Леонардо да Винчи, а после многие другие большие мастера. Фигуры в своих картинах он стремился изображать выпукло, объемно, почти осязаемо. Впечатляет уверенность неожиданных ракурсов и пересечений, которые придают каждому движению "говорящий" оттенок… Власть имущим слава его казалась дурно пахнущей, картины пользовались популярностью у "простонародья". Потому его славу объясняли отсутствием вкуса. Но слава есть слава, и многие, очень многие "…заботились иметь удовольствие от его, Караваджо, кисти…". И тем не менее травили. Вряд ли травля была организованной, скорее стихийной и тем более злой. Он жил в мире, где отовсюду торчали злые языки, те, что страшнее кинжала. Вспыльчивый, легко уязвимый, Караваджо нередко оборонялся от злословия шпагой, обнажая ее в тавернах и на улицах. Мучили его беспощадно. В ответ на любое обидное слово Караваджо поднимал кулак и целил в лицо обидчику. Затем следовала дуэль, после дуэли — тюрьма и бегство по всей Италии. Случалось, его избивали до неузнаваемости. И в конце концов, он предался отчаянию. Когда в последний раз, уже по ошибке, уловив в нем сходство с каким-то пиратом, его арестовали, пропало последнее имущество и фелука, на которой он пробирался в Рим, художника сразила тяжелая лихорадка. Он погиб как будто случайно, но в то же время было в этой гибели что-то роковое — словно мстительный мрак, который он рассекал лучом света, сразил его.Антонио Паломино


ХУДОЖНИКИ О ХУДОЖНИКАХ ФРАНСИСКО ПАЧЕКО о ВЕЛАСКЕСЕ
Из книги "Искусство живописи, его древность и величие"Диего де Сильва Веласкес, мой зять, занимает (с полным основанием) третье место [в живописи]; после пяти лет обучения и образования я отдал за него замуж свою дочь, побуждаемый его добродетелью, чистотой и другими хорошими качествами, а также в надежде на его природный и великий гений. И поскольку быть учителем — значит больше, чем быть тестем, да не будет позволено кому бы то ни было присваивать эту славу. Не считаю ущербом учителю хвастаться превосходством ученика (говорю только правду, не больше); не потерял Леонардо да Винчи, имея учеником Рафаэля, Джорджо из Кастельфранко — Тициана, ни Платон — Аристотеля, хотя он и не передал ему имя божественного. Это я пишу не столько для того, чтобы хвалить данное лицо (это я сделаю в другом месте), сколько для возвеличения искусства живописи… Пожелав увидеть Эскориал, Веласкес поехал из Севильи в Мадрид в апреле 1622 года. Он был очень ласково встречен двумя братьями — доном Луисом и доном Мельхиором дель Алькасар, но в особенности доном Хуаном де Фонсекой, придворным священником, большим поклонником его живописи; Веласкес сделал по моей просьбе портрет дона Луиса де Гонгоры, который получил большую известность в Мадриде; тогда еще он не получил возможности портретировать королей, хотя этого и добивался. В 1623 году он был снова позван этим же самым доном Хуаном (по приказанию графа-герцога), остановился в его же доме, где был обласкан, обслужен, и сделал его портрет. Портрет был взят в один из вечеров во дворец сыном графа де Пеньярада, камергером инфанта кардинала, и в один час его увидели весь двор, инфант и король, за что он получил высшую: похвалу, какая только могла быть. Веласкесу было приказано написать портрет инфанта, но показалось более приличным сделать сперва (портрет) его величества, хотя и не было возможности это сделать быстро, так как король был занят важными делами. В действительности это произошло 30 августа 1623 года к удовольствию его величества, инфантов и графа-герцога, который уверял, что до сих пор еще не было написано с короля подобного портрета… …Он закончил конный портрет короля, подражая в нем во всем целиком природе, даже в пейзаже; он был выставлен на главной улице, напротив церкви Сан Фелипе, как предмет восхищения всего двора и зависти других художников, чему я был свидетель. Были составлены в честь его любезные стихи… Наконец, он закончил большое полотно с портретом короля Филиппа III и затем "Изгнание морисков", которое он написал на конкурс с тремя придворными живописцами… король за эту картину счел достойным дать ему при дворе более почетную должность хранителя королевской двери… Вместе с тем, выполняя его сильное желание видеть Италию и все там находящиеся величайшие произведения, король дал ему на то разрешение и этим его сильно воодушевил… Веласкес прибыл в Рим в то время, когда здесь уже в продолжение года был в фаворе племянник папы кардинал Барбери-ни. По его приказанию он был поселен в Ватиканском дворце и ему были даны ключи от некоторых комнат, главной из которых была та, где везде висели ковры и над ними были изображены сцены из священной истории, расписанные фреской рукой Феде-риго Цукарро. Чтобы быть более предоставленным самому себе и не быть в одиночестве, Веласкес вскоре оставил эту комнату и удовольствовался тем, что страже было дано распоряжение пропускать его, когда он захочет, приходить для копирования "Страшного суда" Микеланджело и некоторых произведений Рафаэля из Урбино, где он провел много дней с большой для себя пользой… Наряду с другими работами Веласкес в Риме сделал и знаменитый автопортрет, тот, который находится у меня, как удивление для знатоков и честь для искусства…
ДЕРЖА НОГУ В СТРЕМЕНИ
Неувядаемое имя Рубенса будет вечно зеленеть, и заботливая слава вострубит хвалу его достоинствам на все четыре конца света.Питер Пауль Рубенс (1577 — 1640) жил в Антверпене, во Фландрии. Писал картины на мифологические, аллегорические, церковные темы. Его кисти принадлежит около ста портретов. Прекрасная коллекция его работ хранится в Государственном Эрмитаже и Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. На последнем "Автопортрете" Рубенс — кормчий, которого словно и не интересует, к какому берегу причалит его корабль. Всей своей позой внушает нам, что он вельможа, а мы замечаем: поза показная, художник не волен в себе — напряжение усталости сковало тело, и глаза глядят на мир слишком привычно. Рубенс — гордящийся и уходящий. Напрочь отбросивший шелуху суеты и не оставляющий поле сражения. Его часто и охотно представляют захлебывающимся от преизбытка счастья. Но однажды спросили: почему у него такие грустные глаза? "Они видели слишком много людей", — ответил художник. На этом портрете Рубенс — в строгом, изящном одеянии: темное крыло плаща, овал большой шляпы. Рыцарь и кавалер. Он словно отправился в дорогу и лишь на мгновение спустился с кареты жизни, чтобы оглядеться и подумать. Он собирается ехать дальше, но хватит ли сил и насколько? — мысль эта привычно беспокоит его. Он кажется одновременно и летящим, и падающим. Еще сохраняется в позе лихость, еще теплится вызов, но уже преобладает мудрое спокойствие, в котором проскальзывает искорка сожаления. Перед нами вечер жизни. Фон сероватый, тающий, фон — тень, сумерки. Лицо в морщинах, в красноватых пятнах, усы и бородка жидковаты. Великий реалист Рубенс не приукрасил себя, взглянул внимательно и трезво, как на очень уважаемого двойника. И двойник взглянул на него живым зорким глазом. Пристально-усталое думающее лицо. Поживший; с сердцем, кровоточащим от потерь и разочарований; угасающий человек. Он уже очень болен. Рука повинуется неохотно, она каторжно трудилась долгие годы, вскоре та же участь постигнет и вторую. Ничто не засияет перед художником и ничто не огорчит… А как славно все начиналось! Ветер удачи наполнял паруса, когда молодой Рубенс в начале XVII века вернулся из Италии. И хотя его любимая Фландрия оставалась под испанским протекторатом, а все ж еще ощутим был дух ее героической национальной борьбы за независимость. "Пишу Вам, держа ногу в стремени…" — отмечает Рубенс в одном из своих писем. Он не гонится за ускользающим временем, жаждет надеть на него узду — дерзок и отважен Рубенс. Делакруа называл главным его качеством смелость: "Рубенс сразу стал Рубенсом". Послушная колесница времени мчит художника от картины к картине. "…Как бы огромна ни была работа по количеству и разнообразию сюжетов, она еще ни разу не превзошла моих сил", — признается художник. Он пунктуален, расчетлив, страстен в работе. Говорили, что к мольберту становился в пять часов утра. Даже если это из легенды, то не столь уж необоснованной. Полторы тысячи картин — невероятная, удивительная цифра для человека, прожившего лишь шестьдесят три года. А всего из его мастерской вышло более трех тысяч (!) полотен. Убедительный комментарий к словам того же Делакруа: "…Рубенс — бог". Легкий, покоряющий, повелитель времени и таланта, Рубенс взлетает в седло, едва касаясь стремени. Таков он на "Автопортрете с Изабеллой Брант". Картина восхода. Только-только рождающегося счастья. Светлые и безмятежные люди, осененные кустом жимолости. Рука Изабеллы Брант лежит на руке жениха — доверие ему и благословение. А Рубенс светлокудрый, бравый, сознающий свою силу и обаяние, удовлетворенный положением придворного живописца, бесконечно добр: бесконечно добрый триумфатор… Спустя годы жена уйдет из жизни, и он напишет о ней слова любви, утешения, прощания: "…Она не обладала никакими недостатками своего пола; она не была ни суровой, ни слабой, но такой доброй и такой честной… что все любили ее… Эта утрата поражает меня до самих глубин моего существа…" И еще Рубенс потеряет дочь. Полотно "Камеристка" из нашего "Эрмитажа" — портрет-воспоминание. Тоска о Кларе Серене. В ясном кротком лице, нежном и теплом, нет боли, нет плача — блаженная печаль огорченного сердца. Лицо-греза, вечно возрождаемое памятью и вечно уходящее. У девушки на устах теплится улыбка понимания и расставания. Большие серые глаза Клары Серены смотрят из далекого далека, из глубины ее души… …К чему же стремился молодой и гордый собой Рубенс? Наблюдая мнимое возрождение Фландрии, не хотел ли все же верить в торжество разума и добрых чувств?! Жаждал запечатлеть в полотнах страсть к жизни, дабы убедить правителей в пользе спокойного процветания, единения с природой, любви к женщине и детям, к жизни естественной. Художник выступает яростным пропагандистом мира. Пикассо не зря объявлял его журналистом. Рубенс признавался, что стремился победить "подозрительность и злобу, делающую опасным наш век". Великолепный придворный и дипломат, чьи миссии в Испанию, Англию, Францию неизменно кончались успехом, Рубенс тем не менее ненавидит "дворы" и задыхается там. Знает истинную цену властителям: "Легче им творить зло, чем добро". Знает и все же надеется, пытается проповедовать — прямо и иносказательно. Выбегает вперед с фонарем и освещает дорогу, не замечая, что она уже иллюминирована совсем иными огнями. Рубенс, "человек мира", рисует королеву, попирающую войны. Полководца — в обрамлении аллегорий, знаменующих благоденствие и единство страны. Английскому королю он преподносит картину "Война и мир". Когда приезжает во Фландрию новый наместник испанского короля, то в панно, украшающих триумфальные арки, "журналист" Рубенс рассказывает о бедах родного города Антверпена, об упадке торговли и ремесел. Изображает наместника Гераклом, намекая на будущие подвиги. Но подвиги не свершаются… Художник, который "хотел бы, чтобы весь мир был в мире…", видит грозные тени поднимающихся войн и раздоров. Он не победил их искусной дипломатией и необычайным талантом. И потому так невесел он на последнем автопортрете. Войны сеяли смерть, Рубенс отстаивал жизнь. Картина "Следствия войны" — настоящая "Герника" того времени. Бессмысленно-одержимо озирается бог войны Марс. Его рука насильника и грабителя сжимает меч. Уверенно спешащая нога растаптывает книги. Напрасно Европа в траурных одеждах простирает руки к небу. Остервенелая фурия влечет Марса — и вдали разгорается сражение. Голод, чума, разрушения возникают на картине. Рыдает ребенок, которого не защитит растерянная мать. У Гармонии разбита лютня: войне гармония не нужна. Сражен и зодчий — устроитель мира… Художник предупреждает. Обличает. Правда, с известной долей неверия. Слишком ярко сверкают доспехи Марса, слишком опьянен бог истребления. Жизнерадостный Рубенс в этой картине пессимистичен. Все повергается вихрем войны в ужас и пепел. "Судьба и я, мы испытали друг друга", — сказал Рубенс за несколько лет до последнего автопортрета. В этих словах печаль завершенности и сознание огромного собственного достоинства: он равен судьбе, не подвластен ей. Мужественного воина-ветерана, готового к сражению, мы видим на последнем автопортрете. Все лишнее отмел художник, все оценил, все продумал — ни тени волнения и азарта. Миролюбивый и спокойный, Рубенс иногда изображал себя и военным, вооруженным человеком. В "Поклонении волхвов" — римским центурионом. В "семейном" портрете ("Св. Георгий"), где изображены его жена, отец, дочь, сын, племянница — он в доспехах, высоко вздымающий знамя. Глашатай победы. Почему был все же уверен в грядущем торжестве? Знал благородную силу своего таланта. Огромные полотна на темы мифологии и истории, монументальные религиозные композиции, портреты, пейзажи, бытовые сцены… Прекрасное человеческое тело торжествует на его картинах. Рубенс восторгается красотой человеческого тела, безудержной "вакханалией" жизни, воспевает героических людей. Персей, поражающий дракона и освобождающий Андромеду. Муций Сцевола, сжигающий свою руку на огне… В работах Рубенса, крупнейшего мастера барокко, блестящего импровизатора, его современники — поэты и художники — слышат гул, "чудовищную музыку". Гнев его неразрывен с усмешкой, страдание с радостью. Мы видим и ощущаем душевные бури, смятения и восхищения Рубенса — внешне такого сдержанного и предстающего в своих творениях человеком невиданной мощи, огненного темперамента, пылких чувств. Он постоянно искал — в композиции, в позах фигур, в тональности красок; добивался такой прозрачности теней, что ее называли горячей. Творил кистью быстрой, нежной, вдохновенной. Говорили, что он "ласкает холст". Движение! Ему поклоняется Рубенс. Картина — сколок материи, образующей мир, а материя всегда движется. Уже рисунки-эскизы — это клубки штрихов, вертящихся, мелькающих, искрящихся. Художник представляется неистощимым источником энергии, посылающим импульсы на холст. Исследователи пишут, что он чудом удерживает равновесие в своих картинах. Рубенс нарушает все "законы жанра": его боги и герои — жители Фландрии, могучие, чувственные, лукавые, очень любящие жизнь. Он относится к своим соотечественникам с уважением, особенно к крестьянам. Пишет "Кермессы" — крестьянские праздники, где торжество всеобщего веселья безудержно, как река в половодье. Мы видим пляску-любовь, пляску-свободу на фоне пейзажа… В пору последнего автопортрета мастер редко создает огромные декоративные полотна. Всего ближе и роднее — пейзажи: подробные повести о нелегкой, но исполненной добра жизни человека и природы. Природа вечно возрождается. На полотнах все клубится, возникает, исторгается: облака, деревья, дали полей… Мир будто только что создан, еще горяч и нехотя остывает. Пейзажи Рубенса называли фантастическими. Скалы чрезмерно остры, угрюмы и огромны; воды — водопады; стволы деревьев словно у вас на глазах морщатся и искривляются. В иных картинах мирно соседствуют солнце и луна. Все соединяется хороводом сказочной силы. Все едино в природе: люди, звери, скалы, деревья, времена года. Не фантастика — реальное видение, художник понял естество природы, ее космогоническое начало. Он почти не продает этих работ — в пейзажах он передает глубоко личное чувство, философское отношение к жизни. Художника считают создателем национального фламандского пейзажа. Имя Рубенса ставят рядом с именами Шекспира и Галилея. Он принадлежал к плеяде самых выдающихся образованных людей своего времени. Знал семь языков. Изучал античную литературу и философию. В своей тайной мастерской, укрытой отлюбопытных взоров, интересовался новейшими техническими изобретениями. О его познаниях в науке прекрасно рассказывают иллюстрации к сочинениям его современника — ученого Агвилониуса об оптике. Художник занимательно, но и с пониманием объясняет рисунками суть его опытов. Талант и тяга к архитектуре проявляются в том, что он издает двухтомную книгу "Дворцы Генуи". Коллекционирует картины, мраморы, гравюры. По существу, мастер выступает руководителем "художественной академии" — в его мастерской воспитывается много учеников. Самые знаменитые из них: Ван-Дейк и Йордане. Рубенс разделяет тезис послеренессансного гуманизма: человек не всесилен, но совершеннее его природа не создала ничего. Рубенс — философ. Он декларирует свою любовь к мысли, изучению, попытке понять и объяснить мир. На картине "Четыре философа" художник изображает себя рядом с известными учеными Фландрии. Рубенс разговаривает с мудрецами. Повернул к нам свое лицо и словно восклицает: вот я каков! Над кружком философов горделивый бюст Сенеки. Подобный же бюст ежедневно встречал мастера, когда он входил в мастерскую. Дом был украшен также скульптурными портретами Платона, Сократа, Марка Аврелия… Во время работы Рубенсу читали их сочинения. Друзей привлекали не только эрудиция и культура Рубенса, но и "прелесть его беседы и обращения". Три больших любви у художника: работа, семья, кружок постоянных друзей. Пламенна любовь ко второй жене — Елене Фаурмент, вдохновившей его на многие прекрасные полотна. В картине "Шубка" и в портрете Елены с детьми мы видим, как пылко любит Рубенс, как старается не допустить ни одного грубого, нетерпеливого мазка. Он пишет нежность… Из роскошного дома уносили Рубенса навсегда — на черной бархатной подушечке гордо покоилась маленькая золотая корона. Тем самым подтверждался титул, которым наградили художника современники: "Король живописцев". Проникновеннее сказал Крамской: глядя на картины Рубенса, "чувствуешь как будто гордость какую, что и ты тоже человек".Зандрарт

ХУДОЖНИКИ О ХУДОЖНИКАХ ФРОМАНТЕИ о РЕМБРАНДТЕ
Жизнь Рембрандта, как и его живопись, полна полутеней и темных углов. …С внешней стороны этот был хороший человек, любивший свой дом и домашнюю жизнь… Разумеется, домосед. Это был человек малоэкономный, никогда не умевший держать свои счета в порядке. Он не был скуп, так как разорился… Он был неуживчив и, вероятно, мнителен, любил одиночество и был в своем скромном положении во всем очень странным человеком. Он не окружал себя роскошью, но обладал как бы скрытым богатством, сокровищами в виде художественных ценностей, принесших ему много радостей. Он потерял их в полном крушении своего благосостояния. В поистине зловещий день эти сокровища были распроданы за бесценок перед порогом корчмы. Во всем, как видно, он был человеком, непохожим на других, мечтателем, быть может, очень молчаливым, хотя черты его свидетельствуют о другом. Возможно, что он обладал характером угловатым, немного грубым, резким, натянутым. Ему неудобно было противоречить, еще неудобнее было его убеждать. Внутренне извилистый, внешне неподатливый, он, во всяком случае, был оригинален. Если сначала он, несмотря на зависть, близорукость, педантизм и глупость многих, был знаменит, любим и восхваляем, то впоследствии ему за это жестоко отомстили. Он писал, рисовал, гравировал иначе, чем все. По техническим приемам произведения его являлись даже настоящими загадками. Ему удивлялись, но с некоторым беспокойством, за ним следовали, не вполне его понимая. За работой, главным образом, у него и был вид алхимика. Когда его видели перед мольбертом, с его несомненно совсем липкой от красок палитрой, откуда он брал иногда столько тяжелого, а иногда и столько легчайшего вещества, когда видели согнувшегося над медной доской, режущего по ней вопреки установившимся правилам, — все искали у него в самой кисти или резце секретов, лежавших гораздо глубже. Его манера была столь нова, что она сбивала с толку умы сильные и увлекала до страсти умы простые. Все, что только было молодого, предприимчивого, непослушного и легкомысленного среди учившихся живописи — все бежало к нему… Действительно, трудно выделить его из умственного и нравственного движения его страны и его времени. Он дышал в XVII веке в Голландии родным воздухом, и им он жил, он был бы необъясним, если бы явился раньше. Рожденный в другой стране, он казался бы еще более странной кометой, блуждающей вне осей искусства нового времени. Если бы он пришел позднее, он не имел бы громадной заслуги завершителя прошлого, открывшего одну из великих дверей будущего. Во всех отношениях в нем многие обманулись. Ему недоставало внешних условных приличий, и из этого заключили, что он был груб. В области знания он нарушил много систем, и из этого сделали вывод, что он ими не обладал. Как человек, обладающий вкусом, он погрешил против обычных законов, из чего опять-таки заключили, что у Рембрандта его не было. Как художник, влюбленный в прекрасное, он выразил относительно земных вещей несколько очень безобразных представлений. При этом не заметили, что он смотрел в другую сторону. Короче, как бы сильно его ни расхваливали, как бы зло его ни хулили, как бы несправедливо к нему ни относились в вопросах добра и зла, не считаясь с его действительным характером, никто не подозревал вполне точно его истинного величия…КОЛИБРИ СРЕДИ СКВОРЦОВ
В Дельфте я видел художника Вермеера, который ие имел ни одной своей работы. Зато одну из них мне показали у местного булочника, заплатившего за нее 600 ливров…Ян Вермеер Дельфтский (1632 — 1675) — голландский мастер, родился и жил в Дельфте. Работал в бытовом жанре.Бальтазар де Монкони, французский путешественник
Вермеер радовался открытому окну и отважно отодвигал портьеры. Настроение солнечной тишины волновало его. Где-то плыли корабли, бушевал ветер, бранилась торговая площадь… А сердце художника раскрывалось навстречу невиданной красоте негромкой жизни в обычной комнате, неслыханная музыка этой красоты вдохновляла его кисть. Музыка, он полагал, — спутник радости и избавление от страданий. Но вначале следовало распахнуть окно. Нежная женская рука отворяла узорчатую раму, и золотой рой очаровывал комнату. Женщина на его полотнах открывала окно — это было началом торжественной прелюдии… Или читала письмо у окна — это было в тот момент самым важным событием в ее жизни… Или взвешивала жемчуг, будто спокойно вглядывалась в свои поступки и сокровенные мысли… А если улыбалась, то во всем мире не находили такой лучезарной улыбки… Он часто изображал в своих картинах жену, Катерину Больнее — очень любил ее. Она отвечала ему такой же любовью. Было у них одиннадцать детей. Художник вглядывается в позу, в движение — и кисть его восхищенна. Повелевал и одновременно служил в каждой картине солнечный свет.
Но более всего он солнцем был пленен.
Уста молчали — дух кричал от наслажденья.
Мы выкроим себе другое царство
Из мягкого картона наших грез.
На битву, гёзы! Счастья вам!
Позор и смерть тиранам!
 Художник окончательно понимает: большого мира гармонии нет. В малом, даже уютном уголке не спрячешься от мутной волны войн, неурядиц, стяжательств. Однажды художник бережно кладет свою кисть. Источник света, столь ярко пылавший в его душе, затухает, как светильник, в котором кончилось масло. Вермеер с грустью смотрит на чистый холст — он мог насытить его жизнью, но жизнь эта была бы фальшивой. И навсегда отходит от мольберта. У слабого, робкого человека хватило сил сделать такой шаг, по существу, шаг от жизни — искусство было дыханием Вермеера. Бенедикт Спиноза утверждал: "…бегство вовремя должно приписать такому же мужеству свободного человека, как и битву". А Вермеер всегда был свободным человеком. Или, во всяком случае, казался себе таковым. Настоящими же капитанами жизни с полным основанием считали себя бюргеры. Набив добром трюмы кораблей, кладовые, подвалы домов-крепостей, они звонко и тупо щелкали на счетах. Созвездия черно-белых костяшек открывали будущее и предсказывали судьбу каждого человека. И судьба Вермеера была подсчитана. Он был скверным трактирщиком и потерял свой великолепный дом "Мехелен". Не накопил ни гроша и задолжал. Наконец, перестал рисовать… Вермеер еще в своих ранних работах мог показаться бюргерам художником подозрительным.
Картина называлась "У сводни" — сюжет ее был бродячим. А значит, были свои каноны. Как написал канонизированный сюжет молодой Вермеер? Девушка протянула руку и ждала золотую монету, но думала не о ней и не о грубоватом молодом лавочнике — чувствовала свою прекрасную силу. Нежное румяное лицо было милым и снисходительно-величественным, она держала в другой руке бокал с вином, как скипетр. И старуха, обычная, ловкая сметливая сводня, как бы из другой картины другого художника, посмотрела на девушку с тревогой: радовалась ее уступчивости, но стала подозревать и неожиданную выходку. Художник бросил в лицо сводни тень злорадства (поймалась, птичка!), но и каплю смятенья. Дело было будто и сделано: петух пришел к курице, но курица внезапно оказалась жар-птицей. Грубые заигрывания бюргера и взгляд сводни отпадают от нее. Это удивило всех, даже художник, понимая сан своей героини, разостлал перед ней богатый ковер в алых узорах. И кажется, только весельчак музыкант безмятежен, он выпьет, споет, сыграет — праздник жизни для него в каждом дворе. Но, представляется — предупредил нас художник, — когда музыкант, простодушно предвкушающий веселье, повернется к нам, мы поймем: он станет только шутом царицы… Нечто от парадокса, фантазии, домысла, но так видится. Равно как представляется, что в этом случае у Вермеера бытовой жанр не получился. Он превратился в поэму. Вермееру не хотелось читать нравоучения; девушка — носительница красоты, дельфтский кувшин, великолепие ковра — вот что захватывает его. Не казалось ли ему, когда он смотрел на картину, что три из четырех фигур исчезли — осталась только одна? Она — сияющая девушка в солнечно-желтой кофте! И пропала темнота и полутени — девушка источала свет… Она была дельфтской мадонной на торжище жизни и презирала это торжище…
Когда Вермеер умер, для бюргеров свершилось предвиденное: отсеклось ненужное, лишнее. Над художником не удосужились даже поставить могильного камня. Корабль утонул, море сгладилось. Бюргеры отправились на аукцион — грабить недограбленное.
Конечно, бюргеры принимали услуги художника, пока жила в нем яростная и нежная сила таланта. Но стоило ему усомниться и пошатнуться, они щелчком, как надоевшего жука, сбрасывали его с поля жизни. Не приговаривали и не казнили, надменно отворачивались, туго завязывая кошельки.
Судьба удачливого и зажиточного художника Рубенса — исключение.
Обычнее судьба Вермеера. В нищете умирает "Тициан Голландии" — Хальс; несостоявшимся должником доживает свой век великий Рембрандт; в глубокой бедности кончает жизненный путь тоже "кабатчик", писавший великолепные пейзажи при лунном свете, — Арт ван дер Hep; земляк Вермеера, семидесятипятилетний Витте, выброшенный на зимнюю улицу, кончает с собой…
"Художник умер, да здравствуют деньги, которые приведут в мой дом другого художника!" — так примерно думает бюргер о случившемся.
Художник окончательно понимает: большого мира гармонии нет. В малом, даже уютном уголке не спрячешься от мутной волны войн, неурядиц, стяжательств. Однажды художник бережно кладет свою кисть. Источник света, столь ярко пылавший в его душе, затухает, как светильник, в котором кончилось масло. Вермеер с грустью смотрит на чистый холст — он мог насытить его жизнью, но жизнь эта была бы фальшивой. И навсегда отходит от мольберта. У слабого, робкого человека хватило сил сделать такой шаг, по существу, шаг от жизни — искусство было дыханием Вермеера. Бенедикт Спиноза утверждал: "…бегство вовремя должно приписать такому же мужеству свободного человека, как и битву". А Вермеер всегда был свободным человеком. Или, во всяком случае, казался себе таковым. Настоящими же капитанами жизни с полным основанием считали себя бюргеры. Набив добром трюмы кораблей, кладовые, подвалы домов-крепостей, они звонко и тупо щелкали на счетах. Созвездия черно-белых костяшек открывали будущее и предсказывали судьбу каждого человека. И судьба Вермеера была подсчитана. Он был скверным трактирщиком и потерял свой великолепный дом "Мехелен". Не накопил ни гроша и задолжал. Наконец, перестал рисовать… Вермеер еще в своих ранних работах мог показаться бюргерам художником подозрительным.
Картина называлась "У сводни" — сюжет ее был бродячим. А значит, были свои каноны. Как написал канонизированный сюжет молодой Вермеер? Девушка протянула руку и ждала золотую монету, но думала не о ней и не о грубоватом молодом лавочнике — чувствовала свою прекрасную силу. Нежное румяное лицо было милым и снисходительно-величественным, она держала в другой руке бокал с вином, как скипетр. И старуха, обычная, ловкая сметливая сводня, как бы из другой картины другого художника, посмотрела на девушку с тревогой: радовалась ее уступчивости, но стала подозревать и неожиданную выходку. Художник бросил в лицо сводни тень злорадства (поймалась, птичка!), но и каплю смятенья. Дело было будто и сделано: петух пришел к курице, но курица внезапно оказалась жар-птицей. Грубые заигрывания бюргера и взгляд сводни отпадают от нее. Это удивило всех, даже художник, понимая сан своей героини, разостлал перед ней богатый ковер в алых узорах. И кажется, только весельчак музыкант безмятежен, он выпьет, споет, сыграет — праздник жизни для него в каждом дворе. Но, представляется — предупредил нас художник, — когда музыкант, простодушно предвкушающий веселье, повернется к нам, мы поймем: он станет только шутом царицы… Нечто от парадокса, фантазии, домысла, но так видится. Равно как представляется, что в этом случае у Вермеера бытовой жанр не получился. Он превратился в поэму. Вермееру не хотелось читать нравоучения; девушка — носительница красоты, дельфтский кувшин, великолепие ковра — вот что захватывает его. Не казалось ли ему, когда он смотрел на картину, что три из четырех фигур исчезли — осталась только одна? Она — сияющая девушка в солнечно-желтой кофте! И пропала темнота и полутени — девушка источала свет… Она была дельфтской мадонной на торжище жизни и презирала это торжище…
Когда Вермеер умер, для бюргеров свершилось предвиденное: отсеклось ненужное, лишнее. Над художником не удосужились даже поставить могильного камня. Корабль утонул, море сгладилось. Бюргеры отправились на аукцион — грабить недограбленное.
Конечно, бюргеры принимали услуги художника, пока жила в нем яростная и нежная сила таланта. Но стоило ему усомниться и пошатнуться, они щелчком, как надоевшего жука, сбрасывали его с поля жизни. Не приговаривали и не казнили, надменно отворачивались, туго завязывая кошельки.
Судьба удачливого и зажиточного художника Рубенса — исключение.
Обычнее судьба Вермеера. В нищете умирает "Тициан Голландии" — Хальс; несостоявшимся должником доживает свой век великий Рембрандт; в глубокой бедности кончает жизненный путь тоже "кабатчик", писавший великолепные пейзажи при лунном свете, — Арт ван дер Hep; земляк Вермеера, семидесятипятилетний Витте, выброшенный на зимнюю улицу, кончает с собой…
"Художник умер, да здравствуют деньги, которые приведут в мой дом другого художника!" — так примерно думает бюргер о случившемся.
Я прохожу мимо вас,
Добрый день, добрый вечер, достопочтенные господа,
Сегодня
Я прохожу мимо вас,
Но впереди у меня завтрашний день!
И песни меня ведут, полные мятежа.
[Стихи современного голландского поэта Марка Брата]Они, уверенно выхватывавшие желтые кругляки с яркого костра жизни, не заметили: костер светил не им — освещал дорогу Вермееру Дельфтскому в завтрашний день. Очень легко представить художника великим. И трудно — заурядным. Жадным. Ликующим оттого, что унижен другой, соперник. Художник кажется очень добрым, чутким, ограждающим свой дар — чувствовать нежность. Его тихие, ласковые картины были полны мятежа любви к ясной и радостной жизни.
Я прохожу мимо вас, достопочтенные господа!
Я, Вермеер, "дельфтский сфинкс", художник…

ХУДОЖНИКИ О ХУДОЖНИКАХ ЭЖЕН ДЕЛАКРУА. Из дневника
…Коро — настоящий художник. Вещи живописца надо видеть в его мастерской, чтобы получить подлинное представление об их достоинстве. Я вновь увидал здесь и оценил совершенно по-другому картины, которые уже видел в музее, где они не произвели на меня особого впечатления. Его большое Крещение полно наивной прелести, его деревья восхитительны. Я говорил ему о дереве, которое мне надо написать в Орфее. Он мне посоветовал давать себе больше воли и доверять тому, что проходит само собой; именно так он работает большей частью сам. Он не допускает, чтобы можно было создавать прекрасное с большим усилием. Тициан, Рафаэль, Рубенс и другие работали легко. Они действительно делали лишь то, что хорошо знали; только кругозор у них был шире, чем у того, кто пишет, например, одни пейзажи и цветы. Однако, несмотря на эту легкость, все равно остается много неизбежного труда. Коро долго работает над каждым предметом: ему приходят новые мысли, и он осуществляет их во время работы… Картина йорданса — шедевр подражания, но подражания свободного и широко понятого в смысле живописи. Вот человек, который действительно великолепно делает то, на что он способен… Полное отсутствие идеальности шокирует, несмотря на все совершенство живописи… Как это он не почувствовал потребности передать поэтическую сторону сюжета еще чем-нибудь, кроме изумительных цветовых контрастов, делающих из картины шедевр? Грубость этих стариков, целомудренный испуг честной женщины, ее изящные формы, которые должны были бы быть недоступными людскому взору… Эта живопись — наиболее разительное доказательство того, что невозможно полноценно соединить правдивость рисунка и колорита с величавостью, с поэзией, с очарованием… Простота у Веронезе обусловлена также отсутствием деталей, что позволяет ему с самого начала установить локальный тон… Паоло Веронезе не обнаруживает, как, например, Тициан, непременного желания сделать из каждой картины шедевр. Это умение не делать чересчур много в каждом случае, эта видимая беспечность в отношении деталей, дающая такую простоту, проистекают из привычки к декоративной живописи. Этот род искусства приучает жертвовать многими частностями… У Рембрандта, если хотите, совершенно нет возвышенности Рафаэля. Возможно, что эта возвышенность, которая чувствуется у Рафаэля в его линиях, в величавости каждой из его фигур, лежит у Рембрандта в таинственной концепции сюжета, в глубокой наивности выражения и жестов. И хотя позволительно отдать предпочтение величавому пафосу Рафаэля, отвечающему, быть может, грандиозности известных сюжетов, все же допустимо утверждать, не боясь нападок людей со вкусом — говорю о подлинном и искреннем вкусе, — что великий голландец был в гораздо большей степени прирожденным живописцем, чем прилежный ученик Перуджино. Тициан — вот человек, которого вполне могут оценить лишь люди, достигшие старости: я сознаюсь, что совершенно не ценил его в те времена, когда восхищался Микеланджело и Байроном. Тициан, думается мне, привлекает нас не глубиной передачи, не исключительным пониманием сюжета, но простотой и отсутствием аффектации. Он в высшей степени обладает всеми достоинствами живописца; то, что он делает, он делает в совершенстве; глаза его портретов смотрят и оживлены огнем жизни. Жизнь и разум у него везде налицо. …Живопись — самое трудное и самое кропотливое ремесло, живописцу необходима эрудиция, как композитору, но также и блеск исполнения, как скрипачу.СМЕЙСЯ ПАЯЦ
…уверенны его настроенность, вкус в колорите, его свобода, использование светотени…Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусиентес (1746 — 1828) — испанский живописец и график. Жил и работал в Мадриде. Наступление реакции вынуждает Гойю уехать во Францию. Последние годы жизни он проводит в эмиграции. …И паяц смеялся. Странно, беззвучно и очень громко. Пелеле, тряпичная кукла, обряженная в буроватые штанишки и зеленоватый камзол, раскрашенная и подрисованная, взлетала, подброшенная на большом платке махами, простыми испанскими женщинами. Наряды женщин сочны и неярки, скромны, позы полны ожидания: вот-вот кукла упадет на платок и подпрыгнет вновь. Народная испанская игра. Эль пелеле. Картон для гобелена написан живописцем Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусиентес в конце XVIII века. "Картон" — определение условное, Гойя писал маслом на холсте. "Картоны" Гойи — а он создал их около сорока — целое событие. Ибо в "архаичной" стране того времени — Испании, где, по свидетельству писателя и историка Лиона Фейхтвангера, "уклад застыл в трагической неподвижности", царила феодальная монархия. А в живописи — мифологические сюжеты. И вдруг в нее ворвалось дыхание испанской деревни и города, а двери ему широко распахнул сын арагонского ремесленника — Гойя, человек из народа, проходящий по улицам и знающий радость людского общения и братства: он — свой. Он — свой. И кому, как не ему, было всколыхнуть эту "трагическую неподвижность", впрыснув в нее алый поток брызжущей вссзльем и жаром народной жизни. Кому, как не ему — "Франсиско де лос Торес" — "Франсиско бычьему", служившему тореро в бродячей корриде, человеку полнокровному, любившему познавать жизнь на ощупь, плыть в самой ее быстрине, подчас не знающему, куда истратить свою неуемную отчаянную энергию: драчуну, фехтовальщику, певцу. В Риме, куда он едет учиться, а заодно и скрыться от просыпающегося ока святой инквизиции, этот удалец пишет свое имя на куполе собора Св. Петра и ходит по карнизу гробницы Цецилии Метеллы. Легенда говорит и о похищенной монахине… Но суть не в том, что Гойя был одним из язычков пламени темперамента своего народа. Он всегда оставался простым ремесленником, уважал рабочий пот и мог, подобно "губернатору" Санчо Пан-се, приспустить штаны и, ударив рукой по заду, показать свое презрение бездельникам, знатным испанским грандам. В противовес академической прохладе официальных полотен он пишет бурлящую улицу: "Мадридский рынок", "Офицер и молодая женщина", "Продавец посуды", "Танец в Сан Антонио де ла Флорида"… Проходит несколько лет, и мажорный тон "картонов" для гобеленов резко меняется. О том свидетельствуют сами названия: "Раненый каменщик", "Зима. Переход через перевал", "Осень. Сбор винограда"… Возникают и два варианта картины "Эль Пелеле". В первом, представленном в хаммеровской коллекции, еще сохраняется характер естественной уличной сценки, более ярко выражено веселье игры, контрастнее фон неба. Сам пелеле, несмотря на все ту же ироничную позу, более похож на куклу, чем на паяца. Во втором, написанном чуть позднее, уже ясно виден Гойя так называемого "серебристо-серого периода" — краски смягчаются, господствуют полутона. Уже явно не махи играют, а придворные дамы, переодетые в платья своих служанок (в одной из играющих узнавали герцогиню Каэтану Альба). Исчезает непринужденность веселья, ощущается подделка, жеманность. Естествен лишь паяц, распластавшийся в воздухе. Но и он нелепый, изломанный, а потому и более грустный. У изнеможенных дам нет силы девушек из народа — подбросить куклу так, чтобы она заиграла, заплясала… Художник насмехается над знатными дамами, притворяющимися настоящими махами.Газета "Диарио да Мадрид".17 августа 1798 г.
 Сорокапятилетний Гойя начинает саркастически смеяться. Правда, это еще не смех, а только полуулыбка, отдающая полынной горечью самоиронии. Не исключено, что себя самого художник изобразил в пелеле. Да, он, Гойя, — пелеле, кукла в руках господ, которым вынужден служить. Но пелеле просыпающийся. И ему, его таланту господа будут угождать, вручая ордена и чины. Ибо по-настоящему жив он, а манекены — они.
Ко времени написания "картона" Гойя уже признанный мастер. Он начал и рано и поздно. Существует легенда, что еще мальчишкой отлично нарисовал углем свинью на стене… Но, только проведя многие годы в ученье у самых разных мастеров, из которых особо следует отметить Тьеполо и Веласкеса, написал свои значительные полотна. Впоследствии к именам своих учителей Гойя добавлял еще Рембрандта и природу.
Учился он терпеливо, настойчиво боролся за признание своего таланта. Стал академиком, придворным художником. Написал ряд портретов, знаменитых мах — обнаженную и одетую, — и солнечную картину "Зонтик"…
Но и тогда, когда он, бывало, утыкав тулью своей шляпы горящими свечами (для лучшего освещения), как тореадор перед быком, упрямо вставал перед полотном, и тогда, когда втискивался в модное платье и пудреный парик, — лицо его, мясистое, толстогубое, с тяжеловатым носом, выдавало хитрого, азартного, зверски работоспособного, знающего себе цену, смышленого арагонского крестьянина. Человека, который почище любого испанского гранда знал, что такое честь рабочего человека, мастера:
"Честь художника очень деликатная вещь. Он должен стараться прежде всего, чтобы она была вполне чиста. В тот день, когда малейшее пятно запятнает его честь, погибнет все его счастье".
Это чувство чести, чувство боли и гордости за свой народ помогло Гойе понять современную ему жизнь как трагическую человеческую комедию и выступить проповедником "гротескного реализма", написав знаменитую серию "Капричос" ("Caprichos" — "Капризов",
"Выдумок", "Фантазий"). Поистине демоническим раблезианским смехом высмеял художник невежество, бюрократию, угнетателей, подлипал, людей без чести и совести. Он отдал этой работе шесть лет и создал восемьдесят листов. Не исключено, что впервые именно в "Эль Пелеле" появился первый штрих, намек "Сарrichos".
700 картин, 500 рисунков, 250 офортов, 15 литографий — таков итог творческой жизни Гойи. В них проявилась его буйная фантазия, причастность к судьбам своего пробуждающегося народа, верным сыном которого он был. За это и назвали его одним из "наиболее национальных художников мира".
Сорокапятилетний Гойя начинает саркастически смеяться. Правда, это еще не смех, а только полуулыбка, отдающая полынной горечью самоиронии. Не исключено, что себя самого художник изобразил в пелеле. Да, он, Гойя, — пелеле, кукла в руках господ, которым вынужден служить. Но пелеле просыпающийся. И ему, его таланту господа будут угождать, вручая ордена и чины. Ибо по-настоящему жив он, а манекены — они.
Ко времени написания "картона" Гойя уже признанный мастер. Он начал и рано и поздно. Существует легенда, что еще мальчишкой отлично нарисовал углем свинью на стене… Но, только проведя многие годы в ученье у самых разных мастеров, из которых особо следует отметить Тьеполо и Веласкеса, написал свои значительные полотна. Впоследствии к именам своих учителей Гойя добавлял еще Рембрандта и природу.
Учился он терпеливо, настойчиво боролся за признание своего таланта. Стал академиком, придворным художником. Написал ряд портретов, знаменитых мах — обнаженную и одетую, — и солнечную картину "Зонтик"…
Но и тогда, когда он, бывало, утыкав тулью своей шляпы горящими свечами (для лучшего освещения), как тореадор перед быком, упрямо вставал перед полотном, и тогда, когда втискивался в модное платье и пудреный парик, — лицо его, мясистое, толстогубое, с тяжеловатым носом, выдавало хитрого, азартного, зверски работоспособного, знающего себе цену, смышленого арагонского крестьянина. Человека, который почище любого испанского гранда знал, что такое честь рабочего человека, мастера:
"Честь художника очень деликатная вещь. Он должен стараться прежде всего, чтобы она была вполне чиста. В тот день, когда малейшее пятно запятнает его честь, погибнет все его счастье".
Это чувство чести, чувство боли и гордости за свой народ помогло Гойе понять современную ему жизнь как трагическую человеческую комедию и выступить проповедником "гротескного реализма", написав знаменитую серию "Капричос" ("Caprichos" — "Капризов",
"Выдумок", "Фантазий"). Поистине демоническим раблезианским смехом высмеял художник невежество, бюрократию, угнетателей, подлипал, людей без чести и совести. Он отдал этой работе шесть лет и создал восемьдесят листов. Не исключено, что впервые именно в "Эль Пелеле" появился первый штрих, намек "Сарrichos".
700 картин, 500 рисунков, 250 офортов, 15 литографий — таков итог творческой жизни Гойи. В них проявилась его буйная фантазия, причастность к судьбам своего пробуждающегося народа, верным сыном которого он был. За это и назвали его одним из "наиболее национальных художников мира".

ЗОВ ИКАРА
Этот сильный и подлинный художник, очень породистый, с грубыми руками гиганта, с нервами истерической женщины, с душой ясновидца, такой оригинальный и такой одинокий…Винсент Ван Гог (1853 — 1890) — голландский живописец XIX века. Автор пейзажей, портретов, многочисленных рисунков, гравюр. Его работы отражают социальный кризис буржуазного общества, душевное отчаяние и разлад с действительностью. Может быть, жизнь Ван Гога на земле мож но сравнить с зияющим, никогда не заживающим шрамом. На одном из автопортретов мы видим человека пылающего. Глаза воспалены, огонь вырывается языками усов и бороды, жаринки разбросаны по лицу и одежде. Он сгорает на светлом фоне бесстрастной стены, к которой его оттеснили. Кисти в руках — единственное оружие, мольберт — единственный щит. Он смотрит на нас обреченным взглядом последнего сражающегося солдата. Чего он хотел? "…Хочется пожить на клочке луга, под уголком солнца, хочется ручейка и общества других". Только и всего. А впоследствии просил лишь об одном: "Ах, если бы меня не топтали в грязь!" Ему хотелось стать сеятелем. Помните его "Сеятеля" — этот гимн вечному произрастанию? Размашисто и торжественно шагает сеятель по голубоватому ковру еще мертвой земли, бросая в нее семена жизни. Он посланец царя-солнца, огромного, полновластного и могучего, захватившего лучами своей короны весь видимый небосвод… Но добрый гражданин буржуа еще устами отца предупредил будущего художника: "Не забывай только об Икаре…" Но ему нравилось обжигаться. И уже в родную семью неохотно впускают Ван Гога, он напоминает им "большого лохматого пса… будет попадаться под ноги, — да и лает уж очень громко". В дальнейшем пса сочтут бродячим. Где-то невидимая ему постоянно ехала телега с будкой, куда его пытались отловить, и он всю жизнь слышал приближающийся перестук этой телеги, представлял жадные руки, готовые швырнуть его на свалку. А он говорил: "Нет ничего более художественного, как любить людей!" Любовь как достоинство человека и долг художника. Любовь — сострадание к обездоленным. Любовь не отвлеченная, ибо не отвлекалась от их прокопченных и пропыленных грубых хижин, бед и болезней, нищеты и голода. Это было в Боринаже — крае шахтеров и ткачей, на котором лежала "печать какой-то печаля и смерти". Странный проповедник, Ван Гог не проявляет казенного оптимизма, не признает здравого смысла и "пристойных манер", говорит то, что думает, и довольно громко. Поражает стремительностью своей жизни. Проходит, а кажется — проносится, и вокруг возникают очаги бурь. Сочувствует восставшим, ссорится с дирекцией шахт. Бурно, неистово, самоотверженно приходит на помощь. Не проходит мимо голодающего — делится последним куском хлеба и голодает сам. В его каморке пусто и голо — роздал все, что мог. Целый месяц он не отходил от ложа изувеченного шахтера и заставил его одолеть болезнь. …Так Ван Гог поступал до конца своих дней. Далеко не каждый отдал бы незнакомой уличной женщине сто су, только-только выпрошенные у торговца картинами. Сто су, позарез нужных на краски, на модель, а того более — на обед. Здравое мировоззрение обывателя нахально оскорблялось: для него это была просто уличная девка, а для Ван Гога — сестра. Он и женился на такой женщине, уловив в ее глазах отблеск застарелого страдания… Словом, жил и действовал как идеальный человек, как святой. Но святые пугали. Нарушали привычный жизценный ритм. Оскорбляли чувство меры. Мера, установленная и освященная веками, как печать, сияла на лбу каждого добропорядочного гражданина буржуа. Мера, когда сытому — сытое, а голодному — голодное. А Ван Гог нарушал ее и был изгнан "этими господами". Ван Гог покидает Боринаж, горестно восклицая! "Как много еще рабства на свете!" И на его рисунках возникают корневища рук ткачей, шахтеры, плачущие женщины, землекопы. Картину он приравнивает к проповеди… "Работа моя — это постижение сердца народа…" Ban Гог постоянно говорит, что он труженик, рабочий человек, что для него счастье — рисовать людей труда. Гордится, когда типографские рабочие вешают у себя его гравюру: "Никакой успех не мог бы порадовать меня больше…" Художник внимательно и, пожалуй, восхищенно изучает процессы труда — как люди копают картошку, моют рыбу, собирают хворост и тряпье… Ощущает глубокое единение людей труда и природы. Его "черные" женщины, несущие уголь по белому снегу, задавлены поклажей, словно бременем жизни. Черными силуэтами бредут они по замороженной пустыне. И кажется, что никогда эта печальная процессия не достигнет цели — домишек, виднеющихся вдали. А на другом рисунке художника — очень похожие силуэты старых ветл. Люди-деревья. Впрочем, он и сам сравнивает ветлы с процессией стариков из богадельни. "Затоптанная у края дороги трава… впечатление чего-то утомленного и запыленного, подобно рабочему кварталу… видел маленькую группу кочерыжек, совсем замороженную, и она мне напоминала группу женщин… у лавчонки, где продается кипяток и горячие уголья". Когда рисует пейзаж с железнодорожными путями, то стремится увидеть его глазами железнодорожного сторожа, с досадой думающего: "Как сегодня пасмурно!" Создает пейзаж, привычный взгляду рабочего человека. Ван Гог мечтает: двери его мастерской распахнутся для нищих, которые придут позировать и зарабатывать деньги в трудный час. Одна лишь беда — ему нечем им платить. Любимые персонажи его картин — крестьяне. Он даже называет себя крестьянским художником. "Старый крестьянин" изображен на фоне полуденного марева — красочные токи жизни кругами пульсируют на его лице и замерзают белыми сосульками усов и бороды. Ван Гог дивится, как глубоко умеют чувствовать эти люди. В сарае, где телится корова, он наблюдает за крестьянской девушкой. На глазах у девушки… "стояли слезы… Это было нечто чистое, святое, дивно прекрасное, как Корреджо, как Милле, Израэльс". "Едоков картофеля" называли ужасным полотном. Пир бедняков. В глазах людей оцепенение молитвы. Они священнодействуют, поклоняясь картошке — магической насыщающей силе. Обветренные, иссеченные в повседневном сражении за жизнь руки-крюки как бы живут отдельно. "Они праведно заработали свою пищу". Ван Гог создал крестьянскую картину, на которой цвета земли, картофеля, пыли, дыма, труда и бедности, — и она корявой дубиной поднялась против салонного искусства: "Когда стойло пахнет навозом — это хорошо, на то и стойло…" Когда художник работал над картиной, он думал: следует писать полотна "из самого сердца крестьянской жизни", обязательно показывать крестьянам — кто они есть, как живут. Он хотел, чтобы от нее пахло настоящей крестьянской жизнью — "салом, дымом и картофельным паром…". Когда художник заходит в хижины и беседует с бедняками "у камелька", он думает: "Откуда у них берутся силы?" Наверное, именно тогда к нему приходит мысль о неизбежности грядущей революции. "Искусство в полном смысле слова делается для тебя, народ". Разве не слышна в этой фразе чеканная стилистика времен революции 1789 года и Парижской коммуны? Разве не был прав добрый гражданин буржуа, почуявший в Ван Гоге бунтаря? "Мы находимся в последней четверти столетия, которая снова кончится огромной революцией…" Предрекал революцию, ибо восхищался революциями прошлых лет и ощущал "нездоровые испарения" общества. Заявлял, что он революционер и бунтовщик. Мог горячо спорить прямо на улице о социализме и баррикадах. Их он защищал. Его лучшие друзья исповедуют те же взгляды. Один из них — письмоносец Рулен. Он запечатлен на портрете, бесхитростный, простодушный, откровенный. Когда Рулен поет "Марсельезу", Ван Гог вспоминает революцию 1789 года. Близок художнику и бывший коммунар, бескорыстный торговец красками папаша Танги. Имя провидца Танги сейчас неразрывно связано с именами больших художников, революционеров искусства. Тогда же работы этих художников, непризнанных и нищих, находили у него приют и задиристо глядели на прохожих с витрины его лавочки… Ван Гог изобразил папашу Танги на фоне японских гравюр: весенним облаком плывет дерево, улыбается изящная гейша, величественно высится гора Фудзияма. Скромнейший папаша Танги выглядит сказочником и кудесником перед свершением чуда. Добрым привратником страны Искусства… Когда проповедник Ван Гог превратился в художника, он почувствовал в себе "бурлящую силу". Но, с другой стороны, увеличилась опасность быть расшибленным о скалы. Лишь в двадцать семь лет он утверждается в своем призвании. Хотя достаточно прочесть его письма, чтобы понять: человек одержим живописью. Стволы деревьев напоминают ему Дюрера, небо — Рейсдаля, море — Добиньи, девушка — Перуджино… Работает самозабвенно и исступленно. Следует совету Милле — "В искусстве надо не жалеть своей шкуры" — почти буквально. Находит прекрасными слова Доре — "У меня терпение вола" — и готов десять лет писать только этюды, чтобы затем одним взмахом кисти сотворить совершенство. Он начал в двадцать семь, а через десять лет уже писал картину за день, случалось, за час. Неустанная работа подарила его рисунку ясность, одухотворенность линии, абсолютную неуловимость. Рисунок подобен ртути — переливается, рассыпается, соединяется; линии перетекают в другие, разбегаются штрихами и пятнами, чтобы возникнуть гармоничным, точным изображением пейзажа или фигуры. Рисунок сочетает поэтику и дотошную правдивость изображения. Любовь к детали обосновывает фантазию настроения. "Что такое рисование?.. Это — умение пробиваться через невидимую железную стену, которая как бы стоит между тем, что чувствуешь, и тем, что можешь". Он истязал себя рисунком, пока железная стена не растаяла, пока чувство, ощущение, наблюдение не стали оформляться в рисунок моментально, сразу же, а грани между рисунком и живописью стерлись. Ван Гог стал делать рисунок красками: "Рисунок есть живопись, живопись — рисунок". В живописи он любил все. Краски и кисти, модель и пейзаж. Мог сочинить в письме целую поэму горному мелу и плотницкому карандашу… Что бы там ни было, а в четыре утра он уже сидит у окна или шагает по улице со своим мольбертом. И не отходит от него по двенадцать часов в сутки. "Работаю, как паровая машина", — говорит он. Ничто не могло ему помешать. Солнце не сгонит с солнцепека, мистраль не сшибет с ног, буря не отвлечет внимания от цветущей сливы. Влюбился в кусок почвы, и даже гроза не смогла прогнать — обрадовался грозе: "Такой роскошный глубокий тон приняла почва леса после дождя". Только пришлось снова плюхнуться на колени в болото — до грозы начал "вещь с низким горизонтом". Приходит ночь, он сооружает на шляпе подобие короны из горящих свечей и пишет отражение звезд в реке. Обыватель, конечно, обходит его стороной, глубоко изумляясь и негодуя. Обыватель не знает, что так же, случалось, рисовал и Гойя. Ван Гог призывал изучать модель и бесконечно фантазировать, жаждал эксперимента, занимался самообразованием, много читал: Вольтера, Ренана, Золя, Флобера, Доде, Тургенева, Мопассана, Гонкуров, Мишле, Шекспира, Гюго, Диккенса, Эсхила… Делал все во имя "рабочей лихорадки". "В какие-нибудь полчаса ты должен придумать тысячу вещей", — говорил он себе. Быстрота, почти молниеносность его работы в последние годы — это результат огромного труда имастерства. Потому и "…картины являются, как во сне". Потому чудотворен его нервный, порывистый, вибрирующий мазок. Несколько прикосновений кисти — и возникает контур лошади и телеги, следы на болотистой дороге ("Пейзаж в Овере после дождя"). Потому так велика пластическая выразительность его картин. Массы воды на холме достигают скульптурной отчетливости — ощутима вязкая плотность моря ("Побережье в Схевениигене"). Но одного мастерства мало. Вслушайтесь, какая радостная гордость звучит в его словах: "Природа говорила со мной". Только тогда он начинает писать картину. Природа и в самом деле говорила с ним, понимающим мастером. Природа говорила с ним, потому что он шел к ней, обдирая руки и ноги, голодая и замерзая, не жалея себя. Поднимался художник на уровень изображаемого и находил в своем сердце и душе самый яркий отблеск — лишь тогда кисть ударяла о холст: "Хочу, чтобы красота пришла не от материала, а от меня самого". Картина отражает действительность взволнованной, а не бесстрастной, когда художник разжигает краски огоньком своего темперамента. Ван Гог чувствовал себя частью космических сил природы. Буря его вдохновляла. В деревьях он видел живые существа. "Молодая рожь может иметь в себе нечто невыразимо чистое, нежное… выражение спящего младенца". Художник очеловечивал природу, знал ее не застывшей в кубах, прямоугольниках, параллелепипедах, но в изгибающихся, переливающихся, бесконечных линиях, не возникающих и не исчезающих. Его поразительные рыжие, серебристые, стальные дороги — это беспрерывно текущие реки, артерии жизни. Его растрепанные, вырывающиеся из вазы подсолнухи — маленькие солнца. Все комнаты своего арльского домика он хотел расписать подсолнухами. Художника постоянно привлекала ощутимая вещественность предметов. Картофель хотел написать так, чтобы можно было почувствовать его шершавую грубость и закричать от боли, когда он в тебя угодит. Роща должна благоухать. "Мысль… выразить излучением светлого тона на темном лбу; надежду — какой-нибудь звездой, жар желания — лучами заходящего солнца…" Природа говорила с ним, и случалось, восхищенный художник падал в обмороке. Грабарь писал: "Только одному Ван Гогу природа ответила взаимностью". Ван Гог утверждал, что художник будущего будет великим колористом. Таким художником стал он сам, проникая в глубину цвета и заставляя его звучать музыкой и источать аромат. "…дать солнцу и синему небу их силу и яркость, а сожженной и часто меланхолической земле — ее тонкий запах тмина". У хлебов он наблюдает "темный, золотисто-желтый тон — красноватый или золото-бронзовый". Осень — это "контраст желтых листьев на фиолетовых тонах". Лето — "…синие тона, противопоставленные элементам оранжевого, скрытого в золотисто-бронзовых хлебах"… Ночная вода пенится "белым, желтым и серо-жемчужным хаосом". Взгляните на его мостовую у "Террасы ночного кафе" — как она прекрасна, как богато переливаются цвета! Критик Орье, впервые написавший о художнике, замечал о колорите: "В нем чувствуется металл, сверкание драгоценных камней". Красные виноградники в Арле — "как красное вино". Резко интенсивные цветовые контрасты: столкновения желтого цвета жизни и синего, почти черного — неизбежности. Дорога вытекает из солнца и мерцает красками. Все струится — из этого переливающегося движения вырывается пламя красных виноградников. Собирая урожай, крестьяне словно гасят пожар. Художник знал, какие цвета рассказывают о влюбленных, а какие кричат злыми врагами, мог разложить цвет на бесчисленное количество градаций. Помогал цвету вспыхнуть ярчайше или находил его отсвет в глубокой тени. Понимал отношение цвета к добру и злу. И, если бы пришлось переметить красками все человечество по его нравственным достоинствам, не смутился бы. Палитра Ван Гога, вначале темноватая, к концу жизни стала искрящейся, играющей, хохочущей и рыдающей. "Все, что касалось цвета, приводило его в исступление". Он чтил Делакруа, Веронезе, Рубенса, Веласкеса, желтый цвет Франса Хальса. Самый неказистый предмет раскрывался диковинным цветком перед человеком в синей куртке мастерового. Самый заурядный пейзаж бурно проявлял свой темперамент. Ван Гог был бесконечно терпелив. Знал, что пейзаж, как хитрый продавец, сначала распродает малоценное малознающим, и лишь потом, для самых посвященных, его прилавок вспыхнет парчой, шелками да бархатом. Час наступал, художник начинал свой лихорадочный труд. "Я сказал себе: не уйду, пока… не появится кое-что от осеннего вечера, нечто таинственное, исполненное серьезности". Чтобы ждать, надо еще знать, что выберешь. Полотно Ван Гога "Ночное кафе в Арле" называли жутким… Художник именовал его местом, "где можно сойти с ума или совершить преступление". Перед нами изображение "раскаленной бездны", ожидающей пришествия сатаны. Дверь до жути тихо-спокойной комнаты приоткрыта. В комнате разлилось остановившееся ночное время. Желтые блики ламп плывут в нем, как в густой воде. И тонут одинокие дремлющие фигуры, словно мотыльки, попавшие в ловушку. "Я попытался выразить неистовые страсти красным и зеленым цветом. Комната кроваво-красная и глухо-желтая с зеленым бильярдным столом посередине; четыре лимонно-желтые лампы, излучающие оранжевый и зеленый. Всюду столкновение и контраст наиболее далеких друг от друга красного и зеленого; в фигурах бродяг, заснувших в пустой печальной комнате, — фиолетового и синего… Белая куртка бодрствующего хозяина превращается в этом жерле ада в лимонно-желтую и светится бледно-зеленым". Ван Гог был великим цветочувствителем (слово, открытое Петровым-Водкиным). Однажды он восклицает: "Если бы я осмелился дать себе волю… начал бы цветом создавать подобие музыки". У нас Скрябин стремился сочетать музыку с живописью. Добрый гражданин буржуа не понимал творчества Ван Гога — бунтарского по своему духу и так неуместно, мужицки-грубо выглядевшего рядом с "вершинами" салонного искусства: изображениями томных нагих красавиц, бытовыми анекдотами, сценами приятно-холодно-выспренней истории. А он, видите ли, предпочел бы служить лакеем в ресторане, чем изготовлять "акварели на манер некоторых итальянцев". Правда, и в ресторан ему, одетому в обноски отца или брата Тео, было не попасть. Ван Гог понимал, что, если собираешься искать заказы на вывески, не следует при этом иметь вид голодного и нищего. Чтобы представить себе, каков был голодный Ван Гог, посмотрите на "Едоков картофеля". Он ест только черствый хлеб, потому что черствый хлеб стоит дешевле. Ван Гог заболевает от истощения, выбивается из сил в поисках модели. Добрый гражданин буржуа запрещает прихожанам и жителям позировать, мол, художник нечист, заразен, опасен социально! Обстоятельства гонят Ван Гога по всей Европе: Голландия его первая родина, Франция — вторая. Иногда приходится странствовать пешком, стирая в кровь ноги, спать в сене, на телеге и хворосте, голо-.дать. "Все время у меня в мозгу и в теле оставалось ощущение голода…" Ему не давали есть и не разрешали любить. Он считал: "Полюбить всерьез — открыть новую часть света". Женщину, которую он полюбил, отдаляют от него. Ван Гог кладет руку в огонь лампы: "Дайте мне повидаться с ней на то хотя бы время, сколько я выдержу…" Вопль остался неуслышанным. Он был странным художником, чьи картины не покупают; человеком, который не служит и не стремится в ряды добрых граждан-буржуа. И его отлучили от любви. Его, человека, остро и тонко чувствующего, заставили еще сильнее страдать. Оттого его "Улица" пустынна, длинна, однообразна, как жизнь, которую не хочется пройти. Его нежность и мечта о жизни, подобной песне жаворонка, обращаются на цветы. Он охотно рисует маки, васильки, незабудки, хризантемы, ирисы, розы… Его полотно "Букет в медной вазе" сияет на голубом фоне, мерцающем белыми блестками, как утреннее море. Цветы безмятежны, написаны без мук, с признательностью отдохновения. Художник называл их "символами благодарности". Конечно, были у Ван Гога и свои праздники. Когда к нему в мастерскую пришел настоящий (!) художник. Когда он купил хороший ящик с хорошими красками. Когда наконец-то появляются крепкие штаны и такие же крепкие ботинки. Он пройдет в этих ботинках много дорог и навсегда запечатлеет им свою благодарность — напишет на холсте старые, истоптанные, но все еще несокрушимые ботинки-битюги… Главный его праздник — письмо от Тео. Ван Гог отважно бросался в самую пучину жизни еще и потому, что знал: будет погибать — Тео поможет. Его молитва всегда обращена к Тео. Брат — это все: отец, мать, единственный друг. Из месяца в месяц, из года в год Тео шлет ему деньги и свое слово, неизменно исполненное добра, тепла и веры. Тео принимает на свои плечи частицу его страданий. Ведь письма Винсента как молнии, брат безропотно и терпеливо выносит их разряды. История человечества навсегда сохранит память о двух сердцах, бившихся почти в унисон. Винсент — Тео: "Я всегда чувствую тебя около себя…" Тео о Винсенте: "Он — сама доброта". Винсент о картинах: "Оба мы создали их". С помощью Тео он надеялся собрать объединение художников, которое станет у истоков нового Возрождения живописи. Художники, хотя бы самые близкие, должны запеть общую песнь — ритм песни победит огромную тяжесть работы. (Примерно в то же время в России возникает артель петербургских художников, а затем Товарищество передвижных художественных выставок.) Главная цель, полагал Ван Гог, искусство для народа — он считал это высочайшей и благороднейшей задачей каждого художника. Вдохновенный агитатор и неумелый организатор, он пытается объединить хотя бы малую группу художников, чтобы легче выживать, совместно писать картины, распространять среди рабочих и крестьян рисунки. Девизом возглашаются "честность, наивность и верность". Последняя надежда — домик в Арле, где он поселяется, чтобы отсюда, с юга Франции, начать поход Возрождения под знаменами новой живописи. Ему нужны большие деньги — для хороших и бедных художников, которые отовсюду приедут в Арль, в артель, где воцарятся дружба, братство, любовь. "Птица в клетке отлично понимает весной, что происходит нечто такое, для чего она нужна… она говорит себе: "Другие вьют гнезда, защищают птенцов и высиживают яйца", и вот уже она бьется головой о прутья клетки. Но клетка не поддается, а птица сходит с ума от боли… Что может разрушить тюрьму?.. Дружба, братство, любовь — вот верховная сила, вот могущественные чары, отворяющие дверь темницы… Там… где есть привязанность, возрождается жизнь". Но денег нет, силы подорваны и "ателье юга" терпит крах. К Ван Гогу приходит болезнь — художник в лечебнице. В картине "Вид Арля" три синих голых. ствола деревьев на первом плане кажутся гигантскими прутьями этой решетки: за ними сады и дома города, так и не ставшего родным. Клетка оказалась невероятно крепкой. Птица начала сходить с ума от боли. Мир сворачивается в спираль. Но по-прежнему художник притаскивает после тяжелого трудового дня холст — "маленький походный музей", где собирались "куски" жизни. Мазки пляшут в хороводах, возникает танец цвета — свободный, буйный, неудержимый. Беспокойно ворочающаяся почва ("Оливковая роща") рождает живые, извивающиеся, стонущие о чем-то деревья. Они корчатся в родах. Помните, как сказано у поэта: "Улица корчится безъязыкая" — голубовато-стальные стволы, горя нетерпением, рождают зелень листвы, буквально кричащую в небо — крик этот рождает движение небесной материи… В небе проносятся торжественные вихри ("Звездная ночь"), бешено скачут разгулявшиеся светила над тихим спокойным городком. Космос встречается с землей, их соединяет взрывающееся из земли и извергающееся к звездам зеленовато-коричневое пламя любимого Ван Гогом кипариса. "…Вид звезд заставляет меня мечтать". "Дорогу в Провансе" и вовсе называли фантастическим пейзажем. Дорога рекой времени течет к кипарису, мимо кипариса. А он устремляется в сине-голубое небо, где сияют огромные светила. Создается впечатление единого, бесконечно движущегося мироздания. Заточенный в лечебницу художник наблюдает сквозь решетку необозримые хлебные поля, видит в них свою печаль и одиночество. Оно бежит, это неуютное дикое одиночество, словно обжигаясь желтым огнем хлеба, повергнутое в смятение порывистой нервной дорогой, напуганное зловещим вороньем, вылетающим из нависающего темно-синего неба ("Стая ворон над хлебным полем"). Оно было гулким и звенящим, как если бы он сидел на дне глубокой металлической бочки. Или каменной. Это оттуда так отчаянно, с надеждой и безнадежностью повернута к нам рыжая голова художника — из цепи заключенных, идущих круг за кругом меж неодолимых ржаво-плесенных стен тюрьмы ("Прогулка заключенных"). Шаг за шагом. Руки за спину. Скользят тени по отполированному полу каменного мешка. Бесконечность обреченности. "В будущем будет искусство такое прекрасное, такое юное, такое настоящее и в то же время такое правдивое, что, если мы сейчас отдаем за него нашу молодость, мы только выигрываем в радости". Иногда он жил радостно. В это трудно поверить, глядя в его недоверчивые, тоскливые, "глухие" глаза ("Автопортрет"). Без гроша, без приличной одежды, с коркой черствого хлеба и горстью каштанов, одинокий в кипящем людском море, — он жил радостно, когда брал в руки кисть, когда возжигал масло в светильниках искусства. Ради этого ему хотелось прожить не одну жизнь — хотя бы две… Но добрый гражданин буржуа сделал и отмеренные художнику годы невыносимыми. Его злая молва лаяла изо всех углов, что живопись Ван Гога не стоит ни гроша. Цена тебе — ни гроша! А Ван Гог когда-то написал такую простую, емкую, как формула, фразу: "Кто любит — живет; кто живет — работает; кто работает — имеет хлеб". Любовь у него отняли и объявили его, рабочего человека, неспособным зарабатывать хлеб. Неспособным внести свою лепту в искусство будущего — гасили его светильники. И он разучился смеяться. Начал падать в пропасть, хватаясь, впрочем, за любые соломинки. Можно понять глубину его отчаяния: "соломинкой" оказывается и иностранный легион. Ван Гог хочет завербоваться легионером! "Человек несет в душе своей яркое пламя, но никто не хочет погреться около него… Ожидать того часа, когда кто-нибудь придет и сядет у твоего огня?" Добрый гражданин буржуа превратился в ворона и зловеще крикнул: "Никогда! Твои картины навсегда останутся лежать, где и ныне — в сарае для коз". Ван Гог вынимает пистолет.Альбер Орье
"Я борюсь изо всех сил".
"Шаг мой колеблется".

ИНОГО НЕ ИЩУ БЛАЖЕНСТВА
Искусство Пикассо глубоко гуманистично. Оно выражает чаяния человека, поднимает его, внушает ему уверенность в своих силах.Пабло Пикассо (1881 — 1973) — один из крупнейших художников XX века. Родился в Испании, жил и работал во Франции. Его творческое наследие составляет 1885 картин, 7089 рисунков, более 30 тысяч эстампов, 1228 скульптур, 3222 предмета керамики. Человек веселого нрава, Пикассо излучал беспокойство. Тревога, исходившая от него, была тревогой действия, побуждавшей к движению, к достижению чего-то такого, чего вчера еще не было. Он умел жить во времени. Новым был в новом дне. Потому, наверное, и не старился. Отличаясь, как замечали друзья, любопытством подростка, умел удивляться и любил всякого рода начинания. В шестьдесят увлекся литографией. В семьдесят — керамикой. В семьдесят пять научился плавать. Луначарский называл Пикассо разведчиком. Подобно разведчику, художник дерзок и обостренно-внимателен. Наглухо закрыл для себя парадную дверь жизни и распахнул черный ход. Не затыкая носа и стыдливо не опуская глаз, бродил по больницам и приютам, всматривался в лица нищих, бродяг и калек. Без лицемерного сострадания, не как мессия — как человек, не боящийся положить руку на раскаленное железо боли, нищеты, одиночества. Не отрицая мужества одного, художник воспевает устойчивость двоих, влюбленных, товарищей: плечо надежно касается другого надежного плеча. Даже это прикосновение, кажется, дает единственную возможность жить в ослепительно голубом мире. "Что есть арка? — спрашивал Леонардо да Винчи. И отвечал: — Сила, вызванная двумя слабостями". Хрупкая арка двоих у Пикассо способна противостоять злу. "Искусство есть эманация боли и печали". Мы рассматриваем картину "Трапеза бедняков" — там холодно и пустынно. Скуден стол: вино и кусок хлеба. Тощие, изнуренные жизнью фигуры отмечены суровым изяществом нищеты и голода. Но мы ощущаем задумчивую надежду женщины — на ее плече рука спутника, отчаянно готового защитить свою подругу.М. Алпатов
 "Все зависит от любви".
Человеку света, Пикассо нравилось рисовать свечу. Над восковой фигурой тающего прошлого — вечное будущее: острие трепещущего огонька бесстрашно вонзается в тьму. Маленький маяк, который художник зажигал.
"…Оружием карандаша и кисти проникать все глубже в познавание мира и людей, чтобы это познание с каждым днем делало нас свободнее…" Люди на картинах Пикассо размышляют о смысле жизни, о своем назначении. Задумчива мать, ласкающая ребенка. Задумчива девочка, которая прижимает к себе голубя. Задумчивы "Арлекины" — эти раскаявшиеся наполеоны. Серьезен размышляющий "Мальчик с собакой". Пронзительно всматривается в свою душу "Любительница абсента". Отстраненно-сосредоточен и сам художник в "Автопортрете с палитрой". Лицо-маска, лицо актера перед выходом на сцену…
И если картина пробуждала в человеке мысль, вызывала вспышку понимания, она оживала: мысль озаряла картину. В картинах Пикассо боялся застылости, зафиксированности навсегда, жесткости, остановки во времени.
"Я не ищу, а нахожу". Секрет мастерства? Находил он много. Его называли человеком с тысячью масок. Голубой и розовый периоды, кубизм аналитический и синтетический, "энгровские" рисунки, "неоклассика"… Пикассо несся по столбовой дороге искусства, смело вбирая в себя лучшее — от антиков и древних мастеров
Европы и Африки до нашего Врубеля, у картин которого простаивал часами. В тысячи масок рядил свое искусство, но лишь для того, чтобы оставаться самим собой. Случалось, ошибался, переигрывал в дерзости и шутовстве, бесконечный поиск подводил и к пропасти. Выручали безмерная любовь и преданность живописи. "Берясь за кисть или резей, иного не ищу блаженства", — смело мог повторить Пикассо эти слова Ми-келанджело. Плоскость, свободная от живописи, по его мнению, не имела права на существование. Желтое пятно на полотне обязано было плавиться солнцем. Стремясь постичь "душу явлений", он хочет проникнуть внутрь их, разъять фигуру плоскостями. Разбивает мир своего видения на геометрические осколки, и все же из калейдоскопа разрушений приходит к нам Человек.
"Вся моя архитектура, — говорил известный зодчий Ле Корбюзье, — вышла из одного натюрморта Пикассо". Огонь жизни насыщает лучшие картины художника. Изломанными языками пламени возникают "Авиньонские девицы". В маленьком натюрморте "Кувшинчик и яблоко" яблоко пульсирует как солнце. А непоседливый разговорчивый кувшинчик галантно-неуклюжим кавалером, этаким петухом, приседает и пляшет вокруг яблока. В "Натюрморте с красными яблоками" не просто лампа сияет над столом — вырываются невидимые нам, но ранящие глаз художника алые перья света, кроваво стегающие окружающую темноту.
Конечно, Пикассо — мастер красочной феерии, блестящий портретист, скульптор, монументалист (одна из его значительных работ — ансамбль в Антибах: двадцать семь живописных панно и картин); график, чья линия обладает проницательностью и ошеломляющим чувством. Но гораздо меньше значило бы его мастерство, если бы не содержали его картины ни социального, ни стилевого протеста…
"Я — коммунист, — говорил художник, — потому что я хочу, чтобы меньше было нищеты". Всю жизнь он сражается с нищетой духа и с теми, кто ввергает людей в реальную материальную нищету. Сам он тоже знал ее. Когда-то, чтобы согреться, топил печь своими картинами, платил картиной за кусок хлеба.
Пикассо — это бунт. Он бросал вызов и дрался. Недаром он рисует себя в костюме матадора. И дразнит быка, которого не хочет приручать, от которого не хочет убегать, — окружающую жизнь. Его друг поэт
Рафаэль Альберти сказал: "Пикассо пришел в этот мир, чтобы хорошенько встряхнуть его, вывернуть наизнанку и снабдить его другими глазами". Картины художника называли полем битвы. В статуе "Человек с ягненком" видели сопротивление угнетению. Беззащитный и нежный ягненок как символ, как дар миру. А человек подобен Сократу: труженик, философ, борец.
Искусство, как полагал Пикассо, подобно лекарству, оно способно хотя бы "излечить человека от зубной боли". И еще Пикассо сравнивал искусство с термометром — оно способно измерять общественную температуру. Называл живопись оружием мира, а художника — политическим существом.
Недаром писали, что, создавая "Гернику", Пикассо стал солдатом.
…Взорванное пространство страшно излучает зеленовато-серо-черный свет. Вопль матери, бессильно удерживающей мертвого ребенка. Смятенный крик лошади. Безразлично-надзирающе топчется бык (по Пикассо: "тупая косность"…). Все рушится в тартарары. Но врывается в пространство-ловушку, тревожась и протестуя, античная маска с вечным светильником разума в руке…
"Все зависит от любви".
Человеку света, Пикассо нравилось рисовать свечу. Над восковой фигурой тающего прошлого — вечное будущее: острие трепещущего огонька бесстрашно вонзается в тьму. Маленький маяк, который художник зажигал.
"…Оружием карандаша и кисти проникать все глубже в познавание мира и людей, чтобы это познание с каждым днем делало нас свободнее…" Люди на картинах Пикассо размышляют о смысле жизни, о своем назначении. Задумчива мать, ласкающая ребенка. Задумчива девочка, которая прижимает к себе голубя. Задумчивы "Арлекины" — эти раскаявшиеся наполеоны. Серьезен размышляющий "Мальчик с собакой". Пронзительно всматривается в свою душу "Любительница абсента". Отстраненно-сосредоточен и сам художник в "Автопортрете с палитрой". Лицо-маска, лицо актера перед выходом на сцену…
И если картина пробуждала в человеке мысль, вызывала вспышку понимания, она оживала: мысль озаряла картину. В картинах Пикассо боялся застылости, зафиксированности навсегда, жесткости, остановки во времени.
"Я не ищу, а нахожу". Секрет мастерства? Находил он много. Его называли человеком с тысячью масок. Голубой и розовый периоды, кубизм аналитический и синтетический, "энгровские" рисунки, "неоклассика"… Пикассо несся по столбовой дороге искусства, смело вбирая в себя лучшее — от антиков и древних мастеров
Европы и Африки до нашего Врубеля, у картин которого простаивал часами. В тысячи масок рядил свое искусство, но лишь для того, чтобы оставаться самим собой. Случалось, ошибался, переигрывал в дерзости и шутовстве, бесконечный поиск подводил и к пропасти. Выручали безмерная любовь и преданность живописи. "Берясь за кисть или резей, иного не ищу блаженства", — смело мог повторить Пикассо эти слова Ми-келанджело. Плоскость, свободная от живописи, по его мнению, не имела права на существование. Желтое пятно на полотне обязано было плавиться солнцем. Стремясь постичь "душу явлений", он хочет проникнуть внутрь их, разъять фигуру плоскостями. Разбивает мир своего видения на геометрические осколки, и все же из калейдоскопа разрушений приходит к нам Человек.
"Вся моя архитектура, — говорил известный зодчий Ле Корбюзье, — вышла из одного натюрморта Пикассо". Огонь жизни насыщает лучшие картины художника. Изломанными языками пламени возникают "Авиньонские девицы". В маленьком натюрморте "Кувшинчик и яблоко" яблоко пульсирует как солнце. А непоседливый разговорчивый кувшинчик галантно-неуклюжим кавалером, этаким петухом, приседает и пляшет вокруг яблока. В "Натюрморте с красными яблоками" не просто лампа сияет над столом — вырываются невидимые нам, но ранящие глаз художника алые перья света, кроваво стегающие окружающую темноту.
Конечно, Пикассо — мастер красочной феерии, блестящий портретист, скульптор, монументалист (одна из его значительных работ — ансамбль в Антибах: двадцать семь живописных панно и картин); график, чья линия обладает проницательностью и ошеломляющим чувством. Но гораздо меньше значило бы его мастерство, если бы не содержали его картины ни социального, ни стилевого протеста…
"Я — коммунист, — говорил художник, — потому что я хочу, чтобы меньше было нищеты". Всю жизнь он сражается с нищетой духа и с теми, кто ввергает людей в реальную материальную нищету. Сам он тоже знал ее. Когда-то, чтобы согреться, топил печь своими картинами, платил картиной за кусок хлеба.
Пикассо — это бунт. Он бросал вызов и дрался. Недаром он рисует себя в костюме матадора. И дразнит быка, которого не хочет приручать, от которого не хочет убегать, — окружающую жизнь. Его друг поэт
Рафаэль Альберти сказал: "Пикассо пришел в этот мир, чтобы хорошенько встряхнуть его, вывернуть наизнанку и снабдить его другими глазами". Картины художника называли полем битвы. В статуе "Человек с ягненком" видели сопротивление угнетению. Беззащитный и нежный ягненок как символ, как дар миру. А человек подобен Сократу: труженик, философ, борец.
Искусство, как полагал Пикассо, подобно лекарству, оно способно хотя бы "излечить человека от зубной боли". И еще Пикассо сравнивал искусство с термометром — оно способно измерять общественную температуру. Называл живопись оружием мира, а художника — политическим существом.
Недаром писали, что, создавая "Гернику", Пикассо стал солдатом.
…Взорванное пространство страшно излучает зеленовато-серо-черный свет. Вопль матери, бессильно удерживающей мертвого ребенка. Смятенный крик лошади. Безразлично-надзирающе топчется бык (по Пикассо: "тупая косность"…). Все рушится в тартарары. Но врывается в пространство-ловушку, тревожась и протестуя, античная маска с вечным светильником разума в руке…
Кровоточащая
Лампа Герники
И в свете ее
Предстают в своем истинном свете

ЗВУК СЕГОДНЯ — ЭХО НАВСЕГДА (О художниках России)
На этот раз наш путь в российскую историю, в мир русской живописи, русского портрета. И хочется начать его с выставки автопортрета, которая как-то была устроена в Третьяковской галерее. Что это было за чудное собрание лиц, картин, портретов! Это было высокое собрание "товарищества талантов и провидцев". "Звук сегодня — эхо навсегда" — может быть, эти слова Новеллы Матвеевой и об автопортрете, о творчестве художника? Кистью этих людей водили талант и эпоха. Они разделяли успехи и горести своего времени — вечные странники в бесконечной Стране Искусства. Эти люди — созидатели прекрасного. Бессмертные люди. Репин, Суриков, Федотов… Долой кисти! Долой мольберты! Долой береты! Небрежно, кое-как намечена рубаха и прочее одеяние. Нам навстречу вырывается лицо, происходит процесс самоисследования: двойник на полотне оживает и пристально вглядывается в своего создателя. Освещенное золотистым светом лицо юного Серова на его автопортрете могло бы стать символом выставки. Внимательный, изучающий взгляд. Лицо честного, сосредоточенного, думающего человека, уже растерявшего иллюзии, человека, который не собирается поступаться своими принципами… Автопортрет — не зеркало художника, не его отражение, но сложный жанр изобразительного искусства, совмещающий портрет, идею, декларацию живописного направления и, конечно же, размышление об эпохе и себе самом. Отстраненное размышление о своем внутреннем мире. Гордое утверждение главных качеств художника-творца. Со спокойной уверенностью вышел к нам из своего времени Иван Аргунов. С любопытством наблюдает, прикидывает, выбирает. Запечатлевает в памяти наиболее приметное, характерное, поворачивается и уходит работать. Понадобится — снова выйдет. Вечен этот процесс. И неизвестный художник конца XVIII века в "Автопортрете с натурщиком" демонстрирует именно это: сознание своей роли — .зорящего человека. Живой, взлетающий, легкий, взволнованный Андрей Матвеев: "Автопортрет с женой". Ведет жену, как в танце, горделивую и довольную. Он художник пылкий, быстрый, светящийся. Из плеяды выучеников Петра I: руководил у царя "живописной командой", украшал храмы в Петербурге. Но в истории русского искусства остался мастером портрета. Василий Тропинин, замечательный русский художник первой половины XIX века, создатель огромной и яркой галереи порт-рэтов московского общества, прочно стоит на земле. Не взлетает, не парит. Он "лбом стену прошиб" — вчерашний раб, крепостной. Рядом Алексей Венецианов — человек повседневного героизма, подвижник: что бы ни случилось, он озабочен своей работой — воспитанием крепостных талантов. Художник может размышлять о себе и спокойно, и страстно, нетерпеливо, когда боль душевная или желание высказать свое отношение к действительности настолько велики, что как бы входят живой частью в краски и помогают воссоздать на полотне и порыв, и негодование, и желание торжества… Чувство собственного достоинства напряжено до предела, а вдохновение пылает настолько ярко, что автопортрет достигает высот исповеди-проповеди. Художник лишь тогда уверен в своей правоте, когда талант его упрочен многолетней работой, а ритм жизни совпадает с ритмом жизни самых прогрессивных людей общества. В мире усложняющемся, быстром, требующем напряженного размышления, мгновенной реакции, художник на автопортрете подчас дразнит нас, провозглашает: "Иду на "вы"!" Бесконечен разговор автопортрета со зрителем. Ни в одном автопортрете нет жалобы. Но горечь есть: достаточно встретиться с фанатично-обреченными глазами Федора Васильева. И безысходность есть: взгляните на Карла Брюллова… Страдание, уединение, болезненный самоанализ… Но все это горечь-призыв, обвинение-призыв, страдание-призыв. А жалобы нет. Художник вручает нам свою жизнь, как факел, чтобы мы осветили себе дальнейший путь. Пожалуй, другому и представится, что вся внешняя жизненная яркость — застолье, солнечный свет, журчащая тень листвы… — только для него, для неги и упоения. Но нет, не он царь на этом пиру, а живопись, краски. По автопортретам можно создавать трактаты о творчестве и метаморфозах личности. Молодой Орест Кипренский — романтик, оказавший большое влияние на русское искусство начала XIX века и крупным планом показавший в своих полотнах чувство, душевную жизнь человека, — пылок. А ставший знаменитым, поживший — в "Автопортрете в полосатом халате", — скептичен, даже в самом себе прежде всего видит модель. Пылкость перешла в профессиональную живость: быстр, неистребимо наблюдателен, но и следа нет прежней очарованности. Безоблачен и молодой Василий Перов. "Народность и реальность", по словам критика, определяли его творчество. А на своем последнем автопортрете он мрачен, пожалуй, даже подозрителен. Дух мятущийся, разочарованный. Василий Суриков от мучительных раздумий в молодости приходит к задумчивой успокоенности в старости, к глубине и сложности простоты. Автопортрет — это совесть художника. Совесть восстающая, ранимая и печалящаяся. Иван Крамской, чей автопортрет экскурсоводы дружно называют портретом разночинца, — мрачновато-печальный, настороженный, проникающий. Это он призвал к бунту против академического застоя, выдвинул лозунг: помочь "русскому искусству возвратиться на родную почву, выработать свой язык, свои приемы, свое мировоззрение" — и стал во главе Товарищества передвижных выставок. Чем далее к концу века, тем более сложным, пожалуй, становится человек и, значит, автопортрет тоже. Вспомните Врубеля. Желчное, умное, невероятно печальное, даже утомляющее зрителя лицо. Остановившиеся всезнающие глаза. Потом, в других автопортретах, он оживает: тревожная мысль зажигает глаза и освещает гордое лицо человека, летящего к своей гибели и не могущеео остановить полет… Автопортрет художника — эхо времени и личности. Эхо счастливого часа и трагического. Ибо равнодушно, без нужды настоящий художник не подходит к мольберту. Только когда нужно выстраданное или рожденное большой радостью излить в мир, он пишет. И мы слушаем это его слово — размышление, фантазию, исповедь. Впрочем, почему мы только об автопортрете? В эту книгу, вернее в этот раздел ее, входят очерки, этюды о художниках России — от Рублева до Врубеля. Ну и конечно, мы даем слово самим художникам: публикуем их письма, заметки, статьи…ТИХА ВОЛА, ДА ОТ НЕЕ ПОТОК ЖИВЕТ
Андрей, иконописец преизрядный, всех превосходят, в мудрости зельне и седины честные имел…Андрей Рублев (1360 — 1430) — гениальный древнерусский живописец, украсивший своими иконами и фресками Благовещенский собор Московского Кремля, Успенский собор в Звенигороде, Успенский собор во Владимире, Троицкий монастырь, Андрониковский собор в Москве. Проезжей дорогой-проселком, чуть промятой П колесами да протоптанной пешим людом, шел Андрей Рублев родной стороной. Из ложбины доносился запах костра, вдали низкий женский голос прял песенную нить:Из древней рукописи
Ты, пчелынька,
Пчелка ярая!
Ты вылети за море,
Ты вынеси ключики,
Ключики золотые,
Ты замкни зимоньку,
Зимоньку студеную!
Отомкни летечко,
Летечко теплое,
Летечко теплое,
Лето хлебородное…
ТАЙНА ОТКРОВЕНИЯ
Рокотов среди многих своих современников, русских портретистов XVIII века, остался в какой-то непроницаемой маске, под которой скрылся облик этого интересного, подлинного художника,Федор Степанович Рокотов (1735 — 1808) родился под Москвой в семье крепостного крестьянина. Учился в Петербургской Академии художеств. В 1765 году получил звание академика. Затем жил и работал в Москве. Известен как замечательный портретист. Уже составив себе имя портретиста и став академиком в двадцать девять лет, Федор Рокотов в конце 1760-х годов бежал из Петербургской Академии художеств: хотел независимости. Из Северной Пальмиры Рокотов спешит в Москву. Живет там вольготно и даже зажиточно. Член Английского клуба и домовладелец, свою мастерскую он устраивает на Старой Басманной, где селились вельможи, офицеры, чиновники, купцы. В Москве художник почти отказывается от парадных портретов. Полотна, созданные здесь, интимнее, лиричнее, в них много воздуха и простора. Кто-то из исследователей назвал московские портреты Рокотова "портретами-симфониями". Художник становится знаменитым. Чиновным недоброжелателям это пришлось не по вкусу, они отписывали в академию, что Рокотов "за славою стал спесив и важен…". Так оценивалось уважение своего таланта — уважение, которым всегда отличался Рокотов. "Вся Москва" стремится заказать ему портреты. В мастерской, свидетельствует современник, одновременно находится "около пятидесяти… портретов". Были и помогавшие Рокотову ученики. Некоторых мы знаем: Петр и Иван Андреевы, А. Зяблов — крепостной богатого помещика Струйского. Сам из крепостных, Рокотов, очевидно, относился к Зяблову с трогательной заботой и очень горевал, когда ученик его умер… "Со мной днесь слезы льет!" — писал Струйский. Время Рокотова — XVIII век, именуемый веком просвещения, — знаменито громкими именами: Ломоносов, Державин, Тредиаковский, Фонвизин, Карамзин, Баженов, Крылов… Событий значительных было предостаточно. Вот некоторые из них: открытие Московского университета, где директором был писатель М. Херасков; открытие "Русского для представления трагедий и комедий театра", где директором был Сумароков; открытие Академии художеств; издание сатирических журналов Н. И. Новикова… Основы империи сотрясает восстание Пугачева. Время перемен или желания перемен. Время ощущения тревоги, которую, именуя смутной, замечают в порт ретах Рокотова. Художника называют загадочным портретистом. Не только потому, что, как писали, сам он "остался в какой-то непроницаемой маске", но герои его портретов в масках особой атмосферы, они отмечены таинственными "рокотовскими улыбками". Герои, которых понимал художник и которые понимали художника. Портреты взаимного доверия. Не только великолепные по цвету и мастерству, но и утонченно-психологические. Фамилии и титулы многих людей его времени известны, но без рокотовских портретов эти люди все же были бы лишь незнакомцами далекой эпохи. Три лица, три портрета, три судьбы… Одно излучает бесконечную ласку и мягкую нежность; второе — неукротимо-неуправляемую энергию; прелестно, доверчиво-растерянно третье. А. П. Струйская, ее муж и… Не только кисть художника связала их — жизнь. Но почему же в портрете Струйской столько личного чувства, столько трепетного обожания, проникновенного понимания гения ее существа? Поэт Н. А. Заболоцкий о портрете Александры Петровны Струйской:Н. Врангель
Ее глаза — как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Ее глаза — как два обмана
Покрытых мглою неудач.
Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук…
Поэт тут погребен: по имени струя,
А по стихам — болото.
Он был Вольтеру друг, честь росския страны,
Поборник истины, гонитель злых пороков…
Фортуны, мыслит он, искать не надлежит.
И шествует от ней: она за ним бежит.

В СОГЛАСЬЕ С СОВЕСТЬЮ
Нас в Царское Село Боровиковский вводит, прозрачно и светло он тонкой кистью водит…Владимир Лукич Боровиковский (1757 — 1825) — выдающийся русский портретист XVIII–XIX веков. Родился в городе Миргороде на Украине. Жил и работал в Петербурге. Это были живые люди, говорившие на языке своей эпохи. На ранних портретах работы Боровиковского они еще в романтической дымке, а после словно отрешаются от неопределенности мечтаний и резко выходят в остужающе-реальную жизнь, где четко высвечиваются все очертания. Они выходят в новую для себя жизнь и, может быть, надеются на широкий простор и ясную дорогу. Но пространство замкнуто. Боровиковский и рисует их в неограниченном пространстве, в строго размеренном интерьере. "Учоные художники его недолюбливали", — вспоминал о своем учителе А. Г. Венецианов, имея в виду не только то, что сын иконописца Луки Боровика из Миргорода не кончал Академии художеств, но и жар внутреннего томления, исходивший от его трезвых портретов. Боровиковского называют последним значительным портретистом XVIII века, а ведь ему и сорока трех не было, когда кончился век. И еще около двадцати пяти лет прожил он в XIX веке, знал и изображал трех ца рей. "Тартюфа в юбке" — Екатерину II — нарисовал необычно, в теплом салопе, на прогулке в Царском Се-ле — дородную властную барыню без пышности и регалий. Ему было семнадцать, когда только-только отгремела крестьянская война и казнили Емельяна Пугачева. Он был свидетелем победоносных суворовских походов, узнал силу единения нации в грозный час Отечественной войны 1812 года, чуть-чуть не дожил до восстания на Сенатской площади… "Вливает живописец жизнь…" — говорил Державин. Боровиковский был честен и писал правдивые портреты. В том ему помогали зоркий глаз, строгое мышление и постоянные поиски своего внутреннего "я"… Великий труженик, всего себя посвятивший искусству: "Мне потерять час — превеликую в моих обязанностях производит расстройку", — он и в самом деле "вливал" многообразное противоречивое время в свои портреты и еще привносил туда себя самого — ищущего правды и оправдания своего бытия на земле. Многие портреты создал под заметным влиянием русского сентиментализма, проповедовавшего торжество естественного в человеке, веру в разумные и нравственные начала жизни, право на чувства. "Кручина обо всех — чувствительности дар". Это сказал друг художника — поэт В. В. Капнист. Дар чувствительности заставлял Боровиковского жить так, как он жил, как подсказывала совесть. Щедро делился своими доходами с бедняками и богатств, естественно, не нажил. После его смерти остались книги, картины, кое-что из денег и имущества — и все опять-таки завещал неимущим. Жил отшельником, в одиночестве, но среди друзей. Это Н. А. Львов, почитавший "гражданина женевского" Руссо, ученый и архитектор, чей талант отдал дань многим музам; В. В. Капнист и другие члены так называемого "державинского кружка". Пишет Боровиковский и портреты самого Державина, весело-торжествующего и насмешливо-умного. Эти портреты представляют нам довольно счастливого и слегка словно бы простоватого человека. Державин писал стихи, успешно занимался государственной деятельностью. "Министр, герой, певец!" Да и не просто певец, а "Громкий соловей". Сановник империи, гордящийся своим положением. Живой, думающий, понимающий юмор. Словом, все тот же смелый, верно исполняющий свой долг "мушкетер", каким был в юности, — только теперь слегка огрузневший и затянутый в сенаторский мундир. У него не затихает желание "истину царям с улыбкой говорить", он по-прежнему уверен в том, что "сияют добрые дела". На втором, более парадном, позднем портрете старик Державин в крестах и орденах, лицо его оживлено, в нем как будто что-то проснулось, какое-то детское любопытство. Наверное, таким увидел его на экзамене Пушкин: "Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русской словесности. Тут он оживился, глаза заблестели…" Так же, как и Державин, правда пожестче, к царям обращался общий друг художника и поэта — Василий Капнист. "А вы, цари!.. — восклицал он в своей "Оде на рабство". — На то ль даны вам скиптр, порфира, чтоб были вы бичами мира. И ваших чад могли губить". На портрете работы Боровиковского Капнист мечтательно-задумчив, на плечи романтически наброшен плащ… Перед нами человек, исполненный чувства собственного достоинства, с грустной улыбкой и умным взглядом. Один из первых русских сатириков, человек благородный и мятежный. Его "Сатира" и пьеса "Ябеда", высмеивающие продажность, взяточничество и угодничество, были запрещены. Достаточно перечислить фамилии некоторых действующих лиц — "лихих супостатов", чтобы понять, что осуждает автор: Кривосудов, Паролькин, Хватайко, Бульбулькин, Бестолков, Надутов, Завистов, Вредов, Самохвалов, Злохват… И хотя писал он, что "злодейство рушится, а глупость остается", все же понимал прекрасно: остается и то и другое. Потому очень любил свою Обуховку, где и стремился жить подольше.С. Кирсанов
В миру с соседамн, с родными,
В согласье с совестью моей…
Друг муз, друг родины он был;
Отраду в том лишь находил,
Что ей, как мог, служа, трудился…
Люблю Горация высокой мысли гром
Своим на Севере изображать Пером…
Она давно прошла, и нет уже тех глаз
И той улыбки нет, что молча выражали,
Страданье — тень любви, и мысли — тень печали,
Но красоту ее Боровиковский спас.
(Я. Полонский. "К портрету М. И. Лопухиной")Боровиковский, сострадая всем сердцем, создал живой образ уходящей любви и мечты. Среди портретов работы Боровиковского мы находим и изображения крепостных. Не только крестьянку Христинью, но и горничных "Лизыньку и Дашиньку".
Как их брови соболины,
Полный искр соколий взгляд…
Блажен, кто, удалясь от дел,
Подобно смертным первородным,
Орёт отеческий удел
Не откупным трудом — свободным..

В один крылатый миг
Он первый вынес имя русского в известность в Европе…Орест Адамович Кипренский (1782 — 1836) окончил Академию художеств. Жил в России и в Италии. Знаменит своими портретами, занимался исторической живописью.Александр Иванов
* * *
"Необыкновенный Орест" спешил жить пылко. Лишь у мольберта, как учили древние греки, "спешил медленно", но преданно и исступленно — "почти помешался от работы". Был немного схож с замеченной однажды речкой, которая, "побеждая все препятствия, превращалась в водопады". Препятствия, правда, не давались, но водопадами низвергался. Его друг Томилов утверждал: "Искусство управляется чувством". Слова эти словно списаны с Кипренского. Его сила в смятении. Он пришел в искусство человеком удалой, ликующей силы ("Автопортрет с кистями за ухом"). Легкая энергия пирующего вдохновения составляла его существо ("Автопортрет в розовом шейном платке"). Озаренный и героический, повелитель мгновения, он все может, каждая жилочка поет славу великому чуду творчества. Взволнованная шевелюра, энергичный поворот головы, быстрый превнимательнейший взгляд. Он знает — будет "писать что захочет и все будет хорошо". А дымка задумчивости все же клубится в глазах, словно тень могучей страсти, чувства, повелевающего его кистью. Лишь однажды в портрете дворового человека А. Швальбе он позволил этому чувству вырваться, показаться. Чем-то потрясенный, на что-то окончательно решившийся, властный человек надвигается на нас неотвратимо и слепо, вглядываясь только в самого себя. Стихийно-неистовую силу излучает застывшая лава лица. Швальбе несет посох как скипетр. Трагический портрет вулканических сил, пробудившихся в человеке, — итальянцы приписывали его кисти Рубенса или Рембрандта. Вулканические силы всегда жили и в самом Кипренском. Восторгался, обожествлял Рафаэля, но не пригибался — в нем рождалась смелость, "которая в одно мгновение заменяет несколько лет опытности". Увлекался чем-либо безоглядно, любил самозабвенно; "она одна, — писал о любимой, — соединяет в себе для моего сердца, для моего воображения все пространство времени и мира". Дорожил талантом и не дорожил вещами. Даже с книгами и картинами расставался легко, не сожалея. Жил не среди вещей — среди друзей. "Люди, с кем живем, и чистая совесть составляют наш земной рай…" Кипренский пишет портреты выдающегося переводчика "Илиады" и "Одиссеи" Н. И. Гнедича — "душу воспламененную, доступную всему высокому"; задумчиво внимающего и страдающего В. А. Жуковского; "отца славянской филологии" деятельного А. X. Востокова; поэта, художника и музыканта И. А. Крылова; Рылеева и Мицкевича; знаменитого архитектора Кваренги; актера Дмитревского, трагическую актрису Е. Семенову… Поэт Батюшков писал:…замечает
Кипренский лица их,
И киртию чудесной
С беспечностью прелестной
В один крылатый миг
Он пишет их портреты…
 Декабристы мечтали низвергнуть трон и крепостничество. "Уничтожение права собственности, распространяющейся на людей", — сказано в "Манифесте" (к русскому народу). Кипренский, сын крепостной, не читал этих слов. Но мог слышать. Обязательно догадывался о них. Установлено: среди его друзей — члены радищевского Вольного общества и декабристы…
Он с увлечением рисует героических "детей 1812 года" в мундирах, ополченческих фуражках, походных плащах. Поколение победителей. Прежде всего побеждающих рабов в себе, замечал Кипренский. Воины? Безмерной отваги. Но вот Батюшков пишет из-под Парижа: "Все ожидают мира! Дай бог! Мы все желаем того!" У них уже не обнажена острая сабля, но остро блещет и жаждет сражения ум.
"Ставя себя выше законов, государи забыли, что они в таком случае вне закона, — вне человечества!" Это напишет вчерашний мальчик "с сердцем нежным, благородным", сбегавший из дому, чтобы сразиться с захватчиками. Кипренский рисует Никиту Муравьева, автора декабристской "Конституции", слегка ироничным, сосредоточенно-проникающим и вдохновенным. На допросе
Муравьев не дрогнет: "Я громко заявляю: сердцем и убеждением я республиканец!"
Поход кончился, а они еще в походе. Люди высокого душевного порыва, задумавшиеся о себе, осознающие себя. Декабристы — генерал М. Ф. Орлов, принимавший капитуляцию Парижа; И. А. Анненков.
Храбрец генерал Е. И. Чаплиц, герой Березины; еще не оправившийся от контузии у Семеновского редута Петр Оленин; впечатлительный мальчик, четырнадцатилетний гвардеец А. Челищев, в ком находили потом черты Пети Ростова…
Кипренский создал серию карандашных портретов, каких до него не делал никто, и карандаш его назвали волшебным. Люди наедине с собой. Говорящие портреты. Кто-то из современников утверждал, что, оставаясь с ними, слышит голоса… Легкая шипучая слава приняла на свои крылья "любимого живописца нашей публики". Находили, что краски его картин действуют на людей подобно шампанскому.
Несколькими годами позже Флорентийская академия впервые заказывает русскому художнику, "блестящему, славному во всей Европе", автопортрет для знаменитой галереи Уффици.
Предполагали, что Кипренский производное от имени Сюгини любви Киприды. И разве не заколдованы его кистью лица женщин, излучающие обаяние и доброту?
Декабристы мечтали низвергнуть трон и крепостничество. "Уничтожение права собственности, распространяющейся на людей", — сказано в "Манифесте" (к русскому народу). Кипренский, сын крепостной, не читал этих слов. Но мог слышать. Обязательно догадывался о них. Установлено: среди его друзей — члены радищевского Вольного общества и декабристы…
Он с увлечением рисует героических "детей 1812 года" в мундирах, ополченческих фуражках, походных плащах. Поколение победителей. Прежде всего побеждающих рабов в себе, замечал Кипренский. Воины? Безмерной отваги. Но вот Батюшков пишет из-под Парижа: "Все ожидают мира! Дай бог! Мы все желаем того!" У них уже не обнажена острая сабля, но остро блещет и жаждет сражения ум.
"Ставя себя выше законов, государи забыли, что они в таком случае вне закона, — вне человечества!" Это напишет вчерашний мальчик "с сердцем нежным, благородным", сбегавший из дому, чтобы сразиться с захватчиками. Кипренский рисует Никиту Муравьева, автора декабристской "Конституции", слегка ироничным, сосредоточенно-проникающим и вдохновенным. На допросе
Муравьев не дрогнет: "Я громко заявляю: сердцем и убеждением я республиканец!"
Поход кончился, а они еще в походе. Люди высокого душевного порыва, задумавшиеся о себе, осознающие себя. Декабристы — генерал М. Ф. Орлов, принимавший капитуляцию Парижа; И. А. Анненков.
Храбрец генерал Е. И. Чаплиц, герой Березины; еще не оправившийся от контузии у Семеновского редута Петр Оленин; впечатлительный мальчик, четырнадцатилетний гвардеец А. Челищев, в ком находили потом черты Пети Ростова…
Кипренский создал серию карандашных портретов, каких до него не делал никто, и карандаш его назвали волшебным. Люди наедине с собой. Говорящие портреты. Кто-то из современников утверждал, что, оставаясь с ними, слышит голоса… Легкая шипучая слава приняла на свои крылья "любимого живописца нашей публики". Находили, что краски его картин действуют на людей подобно шампанскому.
Несколькими годами позже Флорентийская академия впервые заказывает русскому художнику, "блестящему, славному во всей Европе", автопортрет для знаменитой галереи Уффици.
Предполагали, что Кипренский производное от имени Сюгини любви Киприды. И разве не заколдованы его кистью лица женщин, излучающие обаяние и доброту?
…Глаза Олениной моей!
Какой задумчивый в них гений,
И сколько детской простоты,
И сколько томных выражений,
И сколько неги и мечты!..
И час судьбы настал!
Мы здесь, сыны снегов,
Под знаменем Москвы с свободой и громами!
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел…

СИЛОЙ СВОЕЙ ЛЮБВИ
…воспитывал нас и добру учил.Алексей Гаврилович Венецианов (1780 — 1847) — мастер жанровой и пейзажной живописи. С 20-х годов XIX века живет в деревне, главным содержанием его творчества становится образ крестьянина. Создал свою школу, в которой воспитывал художников, руководствуясь принципом приближения к природе, к натуре.Аполлон Мокрицкий
 Венецианов робко съеживается в своем сюртучке и вдруг встает исполином. Тишайшим и терпеливейшим казался многим, а вот любил отчаянно быструю езду, значит, и нетерпением отличался…
Нетерпение пробовал проявить, нрав показать — начал с карикатур, объявив назидательно: "Смех исправляет нравы". Смеяться умел зло, для "высшего" общества обидно. И его "Журнал карикатур на 1808 год" за сатиру на вельможу тотчас и навсегда запретили. Венецианов понял: лбом стену не расшибешь, в среде "столичных пузырей" нетерпение следует обуздывать. И стал расшибать стену упрямым терпением.
"Терпи, Казак! Ежели вытерпишь, Атаман будешь. — Многим бы хотелось, чтобы я в Трониху уехал, однако не поеду…" Это когда он обивал академические пороги, пытаясь прорваться в храм искусств и провести туда свою школу.
Был не так уж тих, не так уж простодушен. О своем "коньке к умничанью" сам признавался: "Мне на роду написано на том коньке ездить, и кажется иногда, скачешь, а оглянешься — конек детской, деревянный, на лыжах, он качается, а не скачет". Хотел скакать — и конь деревянный, и на месте качается, а Венецианов все-таки скакал. Огромная сила внутреннего сопротивления рождалась сознанием своего долга перед людьми и искусством.
В живопись был влюблен бесконечно. Увидел картину Гране "Внутренний вид капуцинского монастыря в Риме" и в течение месяца, день за днем "просиживал" у картины. И наверное, с таким же успехом мог бы писать интерьеры храмов и дворцов. Нет, он создал "Гумно"! Здесь загадка и разгадка характера и личности Венецианова. Смотрел на изображение католического храма, а видел гумно. Гумно родное. Оно явилось в живопись из той, почти нереальной для "чистой" публики, жизни, где "копошились" крепостные, призванные трудиться от зари до зари для барского прокормления и забавы. "Гумно"! Здесь каждое бревнышко мягко светится, простая архитектура полезного здания совершенна, как античный храм. Теплый мирный день окружает гумно, там хозяйничают крестьяне — они еще несколько статичны, явно позируют, но все они уважаемые, достойные люди, герои этого красивого строения и теплого дня…
А сколько было соблазна преуспеть на поприще портрета. Именно за портрет избирают Венецианова в академики… Нет, он умчался в свое Сафонково, где "щей горшок, да сам большой", и выиграл: привез "Гумно".
То было время победы России над Наполеоном. Время ощущения мощи народной. Появилась "кучерская" музыка Глинки, Пушкин и Гоголь отразили в литературе сочный язык, быт и нравы, сам дух народной жизни.
А Венецианов, который, случалось, умилялся тем или иным деянием царей, сказал такие слова: "…текли ручьи крови человеческой… Одни сражались за государей, другие за милую вольность…" Милая вольность по душе художнику. Правда, ужасов крепостничества он в картинах не обличал, зато открыл всем в общем-то знакомый мир, на который ранее смотрели равнодушным взглядом проезжающего. Не просто сказал: перед вами люди, но показал со спокойной уверенностью, как они прекрасны. Крестьяне вошли в живопись чинно, не расталкивая; не протестуя против бесправия; не выскакивая пьяно из кабака. Видящий зритель увидел: их не за что унижать, угнетать и презирать, но следует любить и уважать. Крестьянин естествен на земле. Его труд — действие достойное, может быть, достойнейшее. Сознательно "вознося" красоту души и лиц крестьян, художник тем самым причислял "низких" к "высоким", возглашал равенство людей. Молодая крестьянка, ведущая лошадей ("На пашне. Весна"), одета празднично, не по-рабочему: она хозяйка этой пашни, этого ясного неба, своей земли… Гармония труда и пейзажа. Впечатление приволья. В картине соединились и реальность, и мечта художника. Естественно, встревожилась, раскудахталась погрязшая в условностях классицизма и романтизма Академия художеств, даже русскую историю населившая нагими греками и римлянами. Стала всячески выпроваживать из своих стен "сермяжного" Венецианова… Брезгливо следила, чтобы венециановские мужики не наследили на сверкающих академических паркетах.
"Кисть, освещение, краски — все пленяет, — писали рецензенты. — Одна только модель… не пленительна…"
Венецианова порой упрекали, что изображал крестьян парадно; но прав, очевидно, его ученик Мокрицкий, когда писал об учителе: "…умел передать… даже ту матовость, запыленность и неблестящесть, которые сообщают мужику его постоянное пребывание или в поле, или в дороге, или в курной избе… От его мужиков пахнет избой…"
Не аркадские пастушки и пастушки глядят с картин Венецианова, а настоящие крестьяне, совершенно новые герои современности, со своей грубоватой силой и непритязательной красотой.
В картине "Голова крестьянина" показан философ и мудрец, размышляющий над жизнью.
В "Захарке" увидел художник будущее, смело выглядывающее из-под овчинной шапки. Остроглазый, живой, сноровистый крестьянский паренек — огонек с топором на плече, "а сам с ноготок"…
"Вот-те и батькин обед!" Картина о событии: опрокинулась цибарка с обедом, искренне пригорюнился мальчуган, на него с сочувствием поглядывает собака.
Уже не академические работы, в очередной раз повествующие о похищении Зевсом Европы, поражали зрителя, а радовали близкие каждому простому человеку жизненные сцены: "Очищение свеклы", "Жнецы"… Люди из народа на картинах Венецианова умны, сильны, ловки, благородны. Близки художнику. Он даже подписывался: Алексей Сафонковско-Троницкий, подчеркивая нерасторжимую связь с дорогими ему тверскими местами.
Самым чистым, самым "умиленным" в своих живописных исканиях называли художника. Картина "Утро помещицы" — явление нам из веков минувших одного дня. Мы оказываемся в нем и ощущаем его аромат. Ушел навсегда этот день и остался. Был и есть. Идиллия, повесть о светлом, приветливом утре. Кроха счастья, оброненная в мир. Крестьянки здесь — ровня помещице: неробки, красивы "спокойною важностью лиц".
Большеглаза красавица Пелагея — "Крестьянка с косой и граблями".
Сверкнула на нас взглядом волевая и решительная "Девушка с бураком".
Задумчиво уронила руки на голубые цветы терпеливо ожидающая "Крестьянка с васильками" — доверчивая и нежная. Загадочно мерцает тенями мягкий многоцветный фон — зыбкий "вечерний" мир. И девушка словно светится на этом фоне.
Венецианов робко съеживается в своем сюртучке и вдруг встает исполином. Тишайшим и терпеливейшим казался многим, а вот любил отчаянно быструю езду, значит, и нетерпением отличался…
Нетерпение пробовал проявить, нрав показать — начал с карикатур, объявив назидательно: "Смех исправляет нравы". Смеяться умел зло, для "высшего" общества обидно. И его "Журнал карикатур на 1808 год" за сатиру на вельможу тотчас и навсегда запретили. Венецианов понял: лбом стену не расшибешь, в среде "столичных пузырей" нетерпение следует обуздывать. И стал расшибать стену упрямым терпением.
"Терпи, Казак! Ежели вытерпишь, Атаман будешь. — Многим бы хотелось, чтобы я в Трониху уехал, однако не поеду…" Это когда он обивал академические пороги, пытаясь прорваться в храм искусств и провести туда свою школу.
Был не так уж тих, не так уж простодушен. О своем "коньке к умничанью" сам признавался: "Мне на роду написано на том коньке ездить, и кажется иногда, скачешь, а оглянешься — конек детской, деревянный, на лыжах, он качается, а не скачет". Хотел скакать — и конь деревянный, и на месте качается, а Венецианов все-таки скакал. Огромная сила внутреннего сопротивления рождалась сознанием своего долга перед людьми и искусством.
В живопись был влюблен бесконечно. Увидел картину Гране "Внутренний вид капуцинского монастыря в Риме" и в течение месяца, день за днем "просиживал" у картины. И наверное, с таким же успехом мог бы писать интерьеры храмов и дворцов. Нет, он создал "Гумно"! Здесь загадка и разгадка характера и личности Венецианова. Смотрел на изображение католического храма, а видел гумно. Гумно родное. Оно явилось в живопись из той, почти нереальной для "чистой" публики, жизни, где "копошились" крепостные, призванные трудиться от зари до зари для барского прокормления и забавы. "Гумно"! Здесь каждое бревнышко мягко светится, простая архитектура полезного здания совершенна, как античный храм. Теплый мирный день окружает гумно, там хозяйничают крестьяне — они еще несколько статичны, явно позируют, но все они уважаемые, достойные люди, герои этого красивого строения и теплого дня…
А сколько было соблазна преуспеть на поприще портрета. Именно за портрет избирают Венецианова в академики… Нет, он умчался в свое Сафонково, где "щей горшок, да сам большой", и выиграл: привез "Гумно".
То было время победы России над Наполеоном. Время ощущения мощи народной. Появилась "кучерская" музыка Глинки, Пушкин и Гоголь отразили в литературе сочный язык, быт и нравы, сам дух народной жизни.
А Венецианов, который, случалось, умилялся тем или иным деянием царей, сказал такие слова: "…текли ручьи крови человеческой… Одни сражались за государей, другие за милую вольность…" Милая вольность по душе художнику. Правда, ужасов крепостничества он в картинах не обличал, зато открыл всем в общем-то знакомый мир, на который ранее смотрели равнодушным взглядом проезжающего. Не просто сказал: перед вами люди, но показал со спокойной уверенностью, как они прекрасны. Крестьяне вошли в живопись чинно, не расталкивая; не протестуя против бесправия; не выскакивая пьяно из кабака. Видящий зритель увидел: их не за что унижать, угнетать и презирать, но следует любить и уважать. Крестьянин естествен на земле. Его труд — действие достойное, может быть, достойнейшее. Сознательно "вознося" красоту души и лиц крестьян, художник тем самым причислял "низких" к "высоким", возглашал равенство людей. Молодая крестьянка, ведущая лошадей ("На пашне. Весна"), одета празднично, не по-рабочему: она хозяйка этой пашни, этого ясного неба, своей земли… Гармония труда и пейзажа. Впечатление приволья. В картине соединились и реальность, и мечта художника. Естественно, встревожилась, раскудахталась погрязшая в условностях классицизма и романтизма Академия художеств, даже русскую историю населившая нагими греками и римлянами. Стала всячески выпроваживать из своих стен "сермяжного" Венецианова… Брезгливо следила, чтобы венециановские мужики не наследили на сверкающих академических паркетах.
"Кисть, освещение, краски — все пленяет, — писали рецензенты. — Одна только модель… не пленительна…"
Венецианова порой упрекали, что изображал крестьян парадно; но прав, очевидно, его ученик Мокрицкий, когда писал об учителе: "…умел передать… даже ту матовость, запыленность и неблестящесть, которые сообщают мужику его постоянное пребывание или в поле, или в дороге, или в курной избе… От его мужиков пахнет избой…"
Не аркадские пастушки и пастушки глядят с картин Венецианова, а настоящие крестьяне, совершенно новые герои современности, со своей грубоватой силой и непритязательной красотой.
В картине "Голова крестьянина" показан философ и мудрец, размышляющий над жизнью.
В "Захарке" увидел художник будущее, смело выглядывающее из-под овчинной шапки. Остроглазый, живой, сноровистый крестьянский паренек — огонек с топором на плече, "а сам с ноготок"…
"Вот-те и батькин обед!" Картина о событии: опрокинулась цибарка с обедом, искренне пригорюнился мальчуган, на него с сочувствием поглядывает собака.
Уже не академические работы, в очередной раз повествующие о похищении Зевсом Европы, поражали зрителя, а радовали близкие каждому простому человеку жизненные сцены: "Очищение свеклы", "Жнецы"… Люди из народа на картинах Венецианова умны, сильны, ловки, благородны. Близки художнику. Он даже подписывался: Алексей Сафонковско-Троницкий, подчеркивая нерасторжимую связь с дорогими ему тверскими местами.
Самым чистым, самым "умиленным" в своих живописных исканиях называли художника. Картина "Утро помещицы" — явление нам из веков минувших одного дня. Мы оказываемся в нем и ощущаем его аромат. Ушел навсегда этот день и остался. Был и есть. Идиллия, повесть о светлом, приветливом утре. Кроха счастья, оброненная в мир. Крестьянки здесь — ровня помещице: неробки, красивы "спокойною важностью лиц".
Большеглаза красавица Пелагея — "Крестьянка с косой и граблями".
Сверкнула на нас взглядом волевая и решительная "Девушка с бураком".
Задумчиво уронила руки на голубые цветы терпеливо ожидающая "Крестьянка с васильками" — доверчивая и нежная. Загадочно мерцает тенями мягкий многоцветный фон — зыбкий "вечерний" мир. И девушка словно светится на этом фоне.
 Подлинный шедевр — "Девушка в платке": совсем еще девочка, очарование юности и красоты, спокойная прелесть цветения: легкий румянец округлого лица, шелковистые волосы, алый рот, бровки-прикосновения, прозрачная глубина глаз… Простой платок на ней смотрится драгоценным убором. Поэтический "рафаэлевский" образ: ясность, надежда, вера…
Жила в Венецианове доброта. Пробивалась маленьким родничком-ручеечком, а затем незаметно для многих разливалась широкой полноводной рекой — бежали по той реке белокрылые корабли: его ученики.
А он радовался. И огорчался, когда они уходили от него. Неравен поединок: Венецианов с кистью в руке как с дротиком, против крепости почти неприступной, вековой — Академии с ее незыблемыми канонами, с легионами авторитетов. Не вскормленный, как он писал, в академическом корыте, стоял насупротив крепости бесстрашно, мирно просветленный своей правотой.
Тихий, почти незаметный, он покушался на основу основ империи. Искал таланты среди тех, кого выменивали на борзых, продавали как вещь. Многим подарил Венецианов радость общения с собой и "силой своей любви… превратил бежецких мещан и тверских маляров в хороших художников".
Не мог он равнодушно пройти мимо рисующего мальчонки и не проходил. "Покажи, голубчик" — так начиналось знакомство. И рука брала рисунок, а по существу, приголубливала такую еще неуверенную жизнь. Ученики из бедняков тянулись к нему "по инстинкту", "как бы по чутью добирались до него из разных уездов".
Венецианов дарил целковый на краски, советовал, кормил, поил, одевал. Иным помогал избавиться от крепостной неволи. Готов был ради этого часами ожидать в передней у вельможи. Его не принимали в этот день, приходил во второй. Гнали, а он возвращался. Чтобы потом сказать: "А я только был простым маклером в этом великодушном деле". Его человеческое величие заключалось и в том, что он так полагал о себе искренне. Был прост и очень скромен, хотя казался скорее робким. Странная робость — гнулся, склонялся до земли, а не ломался.
Пекся об учениках, "как о своих детях".
Учил более чем мастерству — искусству жить, был духовным наставником. Может быть, в том причина, что его ученики, столь разные по таланту и манере письма, составили единую школу, целое направление в русском искусстве.
Аполлон Мокрицкий вспоминал: "…Его семейство было нашим семейством". В прошлом крепостной, а впоследствии академик живописи Е. В. Рачев писал о Венецианове: заботился "о моем счастии более, нежели я сам". Особая атмосфера царила в венециановской мастерской: каждый "уважал достоинство товарища". Ученики "…жили как братья родные, как одна семья…".
Венецианов сумел создать школу-семью, в которой был великим учителем-другом. Ученики видели в нем своего заступника.
На портрете работы С. Зарянко голова Венецианова охвачена волосами как огнем. И сам он серьезен, озабочен, боевит. Григорий Сорока написал учителя добрым, хотя, впрочем, знающим возможности своей доброты, но упрямым, наученным трудной жизненной борьбой…
Около десяти лет существовала школа Венецианова, и вышло из нее восемьдесят учеников. Академия отбирала их у него и унижала тем, что заставляла именоваться учениками одного из академических профессоров. А чтобы самому Венецианову дать профессорское звание: ни-ни! И пусть он пишет прошения, пусть доказывает, как необходимо сохранить его школу… Курам на смех! Какая там школа?! Безродные, явившиеся невесть откуда, которых следовало немедленно переучить по всем академическим канонам…
Секрет методы Венецианова прост — каждому он позволял быть самим собой: "Таланты тогда развиваются, когда они ведутся по тем путям, к которым их природа назначила".
Учил азам и правилам живописи, равно засевая все поля самыми разными семенами и наблюдая: где какие взойдут ярче и крепче, какая почва для чего подготовлена. Сказал же о себе: "…сделался художником и составил собственное понятие о живописи". Этого добивался и от учеников. Не хотел "целиком отразиться в другом таланте".
У него было восемьдесят учеников и восемьдесят "программ обучения". К каждому таланту относился, как к "драгоценному зеркалу". Учил работать и понимать. Сам постоянно копировал в Эрмитаже, часами простаивал у картин: "дохожу, как то, как это сделано и отчего оно так поразительно хорошо".
Превыше всего ставил натуру "по причине ее многообразия бесчисленного".
Когда сегодня говорят о русском национальном пейзаже, обязательно вспоминают Венецианова и художников его школы. И. Э. Грабарь писал: "…не многие уже стояли перед природой с такими чистыми помыслами и с таким благоговейным трепетом, как они…"
Венецианов — признанный мастер пейзажа. Он мог следить за изменением цвета на воздухе, умел передать на полотне воздух, светотени. Его пейзаж трогает обаянием бесхитростной любви к отчему краю. Милая сердцу художника среднерусская сторона: неяркое, голубовато-белеющее небо с легким облачком; избы, пруд или река, деревца, за ними дальний простор, ширь полей. Единственные люди властвовали на этом просторе — крестьяне.
На все шел Венецианов ради своей школы. Платил не только унижением, платил в самом прямом смысле — из собственного, отнюдь не бездонного, кармана. Все тратил на учеников. Заложил имение жены, задолжал, пока долг не стал огромным и не обрушился на него снежной лавиной. Венецианов заметался, пытаясь прикрыть учеников опадавшими крыльями; застучался в академию, единственным спасением виделись профессорское жалованье и квартира. Обещал за то найти новых учеников, вывести их в "декораторы, орнаменталисты, рисовальщики для технологических заведений, для фарфоровых, ситцевых, бронзовых и проч. фабрик и просто хорошие литографщики". Оказалось, в академии он не нужен, и художник "вышел из сил".
И он поддался, поддался стареющий художник. Отойдя от своей манеры, от своей правды, попытался писать "с эффектами" умилительно-лубочные картины… А это было не родное, не свое. Напоказ. На потребу.
Но величие Венецианова в том, что свое родное он сумел подарить всем.
…Брюллов как-то сказал художнику: у вас сегодня был небесный вечер. По воскресеньям Венецианов принимал гостей, любил умную и веселую беседу. Гостили люди, близкие по душе: Брюллов, которого он почитал, — "отличнейшей доброты и простоты сердца человек"; Гоголь, Гребенка, Воейков, Краевский; реже бывали Пушкин, Жуковский, Гнедич, Крылов, Кольцов… Водил Венецианов знакомство и с Карамзиным, оставил нам его портрет — умного и внимательно наблюдающего человека. Написал Гоголя. Хотел писать портрет Кольцова… Не случайно в известной картине Г. Г. Чернецова "Парад на Марсовом поле" Венецианов стоит в группе писателей почти рядом с Пушкиным.
"Рано или поздно, но истина все побеждает", — эти венециановские слова словно девиз его жизни, оборвавшейся столь внезапно: на обледенелом спуске лошади понесли и разбили сани о каменные ворота. У деревянного креста на месте гибели Венецианова самый талантливый его ученик Григорий Сорока пролил немало горьких слез…
Подлинный шедевр — "Девушка в платке": совсем еще девочка, очарование юности и красоты, спокойная прелесть цветения: легкий румянец округлого лица, шелковистые волосы, алый рот, бровки-прикосновения, прозрачная глубина глаз… Простой платок на ней смотрится драгоценным убором. Поэтический "рафаэлевский" образ: ясность, надежда, вера…
Жила в Венецианове доброта. Пробивалась маленьким родничком-ручеечком, а затем незаметно для многих разливалась широкой полноводной рекой — бежали по той реке белокрылые корабли: его ученики.
А он радовался. И огорчался, когда они уходили от него. Неравен поединок: Венецианов с кистью в руке как с дротиком, против крепости почти неприступной, вековой — Академии с ее незыблемыми канонами, с легионами авторитетов. Не вскормленный, как он писал, в академическом корыте, стоял насупротив крепости бесстрашно, мирно просветленный своей правотой.
Тихий, почти незаметный, он покушался на основу основ империи. Искал таланты среди тех, кого выменивали на борзых, продавали как вещь. Многим подарил Венецианов радость общения с собой и "силой своей любви… превратил бежецких мещан и тверских маляров в хороших художников".
Не мог он равнодушно пройти мимо рисующего мальчонки и не проходил. "Покажи, голубчик" — так начиналось знакомство. И рука брала рисунок, а по существу, приголубливала такую еще неуверенную жизнь. Ученики из бедняков тянулись к нему "по инстинкту", "как бы по чутью добирались до него из разных уездов".
Венецианов дарил целковый на краски, советовал, кормил, поил, одевал. Иным помогал избавиться от крепостной неволи. Готов был ради этого часами ожидать в передней у вельможи. Его не принимали в этот день, приходил во второй. Гнали, а он возвращался. Чтобы потом сказать: "А я только был простым маклером в этом великодушном деле". Его человеческое величие заключалось и в том, что он так полагал о себе искренне. Был прост и очень скромен, хотя казался скорее робким. Странная робость — гнулся, склонялся до земли, а не ломался.
Пекся об учениках, "как о своих детях".
Учил более чем мастерству — искусству жить, был духовным наставником. Может быть, в том причина, что его ученики, столь разные по таланту и манере письма, составили единую школу, целое направление в русском искусстве.
Аполлон Мокрицкий вспоминал: "…Его семейство было нашим семейством". В прошлом крепостной, а впоследствии академик живописи Е. В. Рачев писал о Венецианове: заботился "о моем счастии более, нежели я сам". Особая атмосфера царила в венециановской мастерской: каждый "уважал достоинство товарища". Ученики "…жили как братья родные, как одна семья…".
Венецианов сумел создать школу-семью, в которой был великим учителем-другом. Ученики видели в нем своего заступника.
На портрете работы С. Зарянко голова Венецианова охвачена волосами как огнем. И сам он серьезен, озабочен, боевит. Григорий Сорока написал учителя добрым, хотя, впрочем, знающим возможности своей доброты, но упрямым, наученным трудной жизненной борьбой…
Около десяти лет существовала школа Венецианова, и вышло из нее восемьдесят учеников. Академия отбирала их у него и унижала тем, что заставляла именоваться учениками одного из академических профессоров. А чтобы самому Венецианову дать профессорское звание: ни-ни! И пусть он пишет прошения, пусть доказывает, как необходимо сохранить его школу… Курам на смех! Какая там школа?! Безродные, явившиеся невесть откуда, которых следовало немедленно переучить по всем академическим канонам…
Секрет методы Венецианова прост — каждому он позволял быть самим собой: "Таланты тогда развиваются, когда они ведутся по тем путям, к которым их природа назначила".
Учил азам и правилам живописи, равно засевая все поля самыми разными семенами и наблюдая: где какие взойдут ярче и крепче, какая почва для чего подготовлена. Сказал же о себе: "…сделался художником и составил собственное понятие о живописи". Этого добивался и от учеников. Не хотел "целиком отразиться в другом таланте".
У него было восемьдесят учеников и восемьдесят "программ обучения". К каждому таланту относился, как к "драгоценному зеркалу". Учил работать и понимать. Сам постоянно копировал в Эрмитаже, часами простаивал у картин: "дохожу, как то, как это сделано и отчего оно так поразительно хорошо".
Превыше всего ставил натуру "по причине ее многообразия бесчисленного".
Когда сегодня говорят о русском национальном пейзаже, обязательно вспоминают Венецианова и художников его школы. И. Э. Грабарь писал: "…не многие уже стояли перед природой с такими чистыми помыслами и с таким благоговейным трепетом, как они…"
Венецианов — признанный мастер пейзажа. Он мог следить за изменением цвета на воздухе, умел передать на полотне воздух, светотени. Его пейзаж трогает обаянием бесхитростной любви к отчему краю. Милая сердцу художника среднерусская сторона: неяркое, голубовато-белеющее небо с легким облачком; избы, пруд или река, деревца, за ними дальний простор, ширь полей. Единственные люди властвовали на этом просторе — крестьяне.
На все шел Венецианов ради своей школы. Платил не только унижением, платил в самом прямом смысле — из собственного, отнюдь не бездонного, кармана. Все тратил на учеников. Заложил имение жены, задолжал, пока долг не стал огромным и не обрушился на него снежной лавиной. Венецианов заметался, пытаясь прикрыть учеников опадавшими крыльями; застучался в академию, единственным спасением виделись профессорское жалованье и квартира. Обещал за то найти новых учеников, вывести их в "декораторы, орнаменталисты, рисовальщики для технологических заведений, для фарфоровых, ситцевых, бронзовых и проч. фабрик и просто хорошие литографщики". Оказалось, в академии он не нужен, и художник "вышел из сил".
И он поддался, поддался стареющий художник. Отойдя от своей манеры, от своей правды, попытался писать "с эффектами" умилительно-лубочные картины… А это было не родное, не свое. Напоказ. На потребу.
Но величие Венецианова в том, что свое родное он сумел подарить всем.
…Брюллов как-то сказал художнику: у вас сегодня был небесный вечер. По воскресеньям Венецианов принимал гостей, любил умную и веселую беседу. Гостили люди, близкие по душе: Брюллов, которого он почитал, — "отличнейшей доброты и простоты сердца человек"; Гоголь, Гребенка, Воейков, Краевский; реже бывали Пушкин, Жуковский, Гнедич, Крылов, Кольцов… Водил Венецианов знакомство и с Карамзиным, оставил нам его портрет — умного и внимательно наблюдающего человека. Написал Гоголя. Хотел писать портрет Кольцова… Не случайно в известной картине Г. Г. Чернецова "Парад на Марсовом поле" Венецианов стоит в группе писателей почти рядом с Пушкиным.
"Рано или поздно, но истина все побеждает", — эти венециановские слова словно девиз его жизни, оборвавшейся столь внезапно: на обледенелом спуске лошади понесли и разбили сани о каменные ворота. У деревянного креста на месте гибели Венецианова самый талантливый его ученик Григорий Сорока пролил немало горьких слез…

ВЕЗУВИЙ ЗЕВ ОТКРЫЛ
…мы теперь именем Карла Брюллова можем поручиться всем и каждому, что русским суждено совершенствовать художества.Карл Павлович Брюллов (1799 — 1852) — портретист, мастер рисунка и акварели. Член Миланской, Парижской академий, Академии св. Луки в Риме. Окончил Петербургскую академию художеств с большой золотой медалью. Автор прославленной картины "Последний день Помпеи" и других исторических полотен.Александр Иванов
 Автопортрет — это исповедь. В зависимости от состояния человека — разная: спокойно-созерцательная, анализирующая, самобичующая или бичующая, мечтательная, скептическая или, наконец, страстная, прорывающаяся внезапно, словно по наитию, по озарению, — художник идет к холсту и изображает себя. Невмоготу не исповедаться в потаенном пред окружающими, современниками, да и перед теми, кто в неведомые годы заглядится на портрет, что-то в нем отыскивая и запоминая.
Кажется, подобное случилось и с Карлом Брюлловым, когда он, проболев семь месяцев, поставил зеркало и за два часа написал себя таким, каким мы знаем его по "Автопортрету". Перед нами человек, уверенный и смятенный, изведавший славу и в ней изверившийся, бесконечно талантливый и таланта не исчерпавший, человек красивый и холеный — кудри "романтические" будто завихрены, взгляд внимателен, но внимателен как-то через силу… Лицо строгой, лаконичной лепки, благородное, отшлифованное временем и постоянной работой мысли — лицо артиста и вместе властного, повелевающего человека, которому надоело повелевать. Художник сосредоточенно-равнодушен и удручен. Откинулся, словно устал и отдыхает, а взгляд выдает: он жестоко ранен, хотя сам с трудом осознает опасность раны.
Перед нами трагедия художника, очутившегося в тупике. Еще и совершить возможно многое, да сил осталось мало. Особенно красноречива рука, которую Брюллов приучил передавать "мысли и чувства подобно тому, как скрипач передает на скрипке то, что чувствует". Рука крепкая, изящная, хваткая, но уже… уроненная.
С "Автопортрета" смотрит не тот Брюллов, что в академии изобразил себя, безмятежного, в образе Нарцисса. Брюллов, совсем отличный от автопортрета в "Последнем дне Помпеи" — там лицо моложе и округлее, волосы вольные и взгляд пусть встревоженный, но уверенный — взгляд сильного, здорового, энергичного человека…
Еще таким художник ехал из Италии на родину. Ехал триумфатором, впереди везли его "трофей" — "Последний день Помпеи", — которому уже рукоплескал Рим. В Петербурге к картине шли как к новоявленным святым мощам, только бы сподобиться. Гоголь писал: "Это светлое воскресение живописи, пребывавшей долгое время в каком-то полулетаргическом состоянии".
Давайте посмотрим глазами современника Брюллова на это, до сих пор впечатляющее полотно и почувствуем уловленную силу грозной стихии, сметающей мимолетность человеческого бытия; сокрушающей жилища, статуи богов и императоров. В этом усматривали намек на события 14 декабря 1825 года. Увидим характеры людей, их реакцию — ужас, непонимание, ожидание неминуемого — и общую панораму движения человеческой массы: в композиции более тридцати фигур. В полотне еще сохраняется статичность — наследие классических установок, но группы людей уже оживают и движутся. А если мы обратимся к эскизу, то увидим: он еще более динамичен, фигура в красном покрывале придает ему реальную ощутимость непостоянства. Вспомним, что одной из медалей Брюллов в свое время был награжден именно "за экспрессию".
"Мысль картины, — писал Гоголь, — принадлежит совершенно вкусу нашего века, который, как бы чувствуя свое странное раздробление, стремится совокуплять все явления в общие группы и выбирает сильные кризисы, чувствуемые целой массой".
Очень высоко оценил картину Пушкин:
Автопортрет — это исповедь. В зависимости от состояния человека — разная: спокойно-созерцательная, анализирующая, самобичующая или бичующая, мечтательная, скептическая или, наконец, страстная, прорывающаяся внезапно, словно по наитию, по озарению, — художник идет к холсту и изображает себя. Невмоготу не исповедаться в потаенном пред окружающими, современниками, да и перед теми, кто в неведомые годы заглядится на портрет, что-то в нем отыскивая и запоминая.
Кажется, подобное случилось и с Карлом Брюлловым, когда он, проболев семь месяцев, поставил зеркало и за два часа написал себя таким, каким мы знаем его по "Автопортрету". Перед нами человек, уверенный и смятенный, изведавший славу и в ней изверившийся, бесконечно талантливый и таланта не исчерпавший, человек красивый и холеный — кудри "романтические" будто завихрены, взгляд внимателен, но внимателен как-то через силу… Лицо строгой, лаконичной лепки, благородное, отшлифованное временем и постоянной работой мысли — лицо артиста и вместе властного, повелевающего человека, которому надоело повелевать. Художник сосредоточенно-равнодушен и удручен. Откинулся, словно устал и отдыхает, а взгляд выдает: он жестоко ранен, хотя сам с трудом осознает опасность раны.
Перед нами трагедия художника, очутившегося в тупике. Еще и совершить возможно многое, да сил осталось мало. Особенно красноречива рука, которую Брюллов приучил передавать "мысли и чувства подобно тому, как скрипач передает на скрипке то, что чувствует". Рука крепкая, изящная, хваткая, но уже… уроненная.
С "Автопортрета" смотрит не тот Брюллов, что в академии изобразил себя, безмятежного, в образе Нарцисса. Брюллов, совсем отличный от автопортрета в "Последнем дне Помпеи" — там лицо моложе и округлее, волосы вольные и взгляд пусть встревоженный, но уверенный — взгляд сильного, здорового, энергичного человека…
Еще таким художник ехал из Италии на родину. Ехал триумфатором, впереди везли его "трофей" — "Последний день Помпеи", — которому уже рукоплескал Рим. В Петербурге к картине шли как к новоявленным святым мощам, только бы сподобиться. Гоголь писал: "Это светлое воскресение живописи, пребывавшей долгое время в каком-то полулетаргическом состоянии".
Давайте посмотрим глазами современника Брюллова на это, до сих пор впечатляющее полотно и почувствуем уловленную силу грозной стихии, сметающей мимолетность человеческого бытия; сокрушающей жилища, статуи богов и императоров. В этом усматривали намек на события 14 декабря 1825 года. Увидим характеры людей, их реакцию — ужас, непонимание, ожидание неминуемого — и общую панораму движения человеческой массы: в композиции более тридцати фигур. В полотне еще сохраняется статичность — наследие классических установок, но группы людей уже оживают и движутся. А если мы обратимся к эскизу, то увидим: он еще более динамичен, фигура в красном покрывале придает ему реальную ощутимость непостоянства. Вспомним, что одной из медалей Брюллов в свое время был награжден именно "за экспрессию".
"Мысль картины, — писал Гоголь, — принадлежит совершенно вкусу нашего века, который, как бы чувствуя свое странное раздробление, стремится совокуплять все явления в общие группы и выбирает сильные кризисы, чувствуемые целой массой".
Очень высоко оценил картину Пушкин:
Везувий зев открыл —
Дым хлынул клубом, пламя
Широко развилось, как боевое знамя…
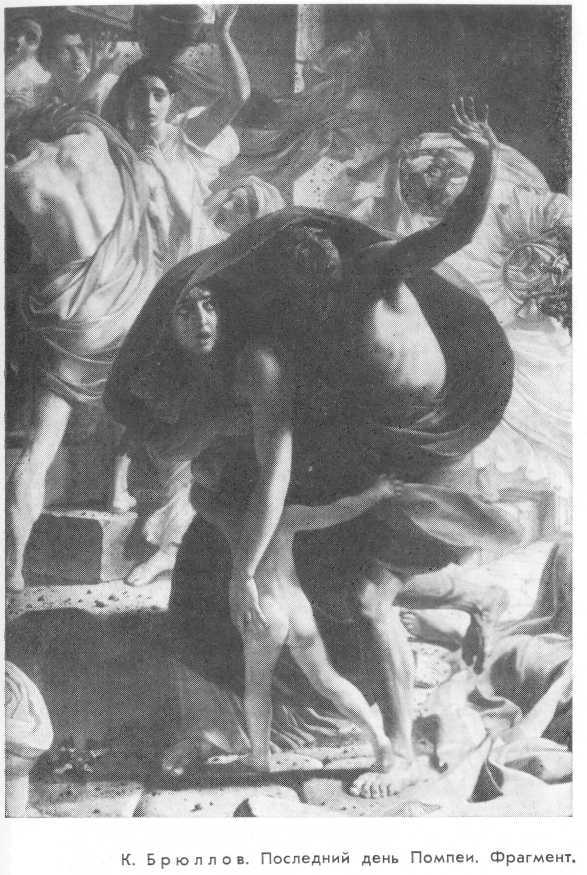
ЧЕСТЬ И ЛЮБОВЬ
Целую вашу душу, которая по чистоте своей способна все понять вполне.Василий Андреевич Тропинин (1776 — 1857) — русский портретист первой половины XIX века. Крепостной графа Моркова. Учился в Академии художеств "посторонним" учеником. В 1823 году был отпущен на волю. Осенью 1824 года получил звание академика. Жил в Москве. Он "лбом стену прошиб". Его терпение назвали высоким — все претерпел ради таланта. Современники очень любили этого внешне мягкого и податливого, а на поверку несокрушимого человека. Его владелец граф Морков дарованию своего крепостного противился, как мог. Не позволил доучиться в Академии художеств: "Толку не будет!" Попытался превратить художника в кондитера. Граф выиграл — он получил к столу великолепные торты. Но рисовать Тропинин не перестал. Затем графу понадобился маляр — и Тропинин усердно красил колодцы, заборы, кареты… И продолжал рисовать. Наконец граф смирился, но захотел, чтобы Тропинин стал лишь "домашним мазуном" и украшал стены портретами членов барской семьи. Художник изображал их, но одновременно создал портрет народного мстителя Устима Кармелюка. Известна история, когда гость-француз сконфузил и графа, и невольно ранил Тропинина. Гость побывал в мастерской у художника, и, как только Тропинин вошел в столовую, галантный француз бросился усаживать его за стол. Но лакей Тропинин обязан стоять за стулом графа, прислуживать за обедом… Тропинин, конечно, человек, побеждающий великим, бесконечным трудом: "Случалось, где работал, там и засыпал". Но не только трудом. Под личиной благодушно-приятного услужливого человека его железная воля таила глубоко запрятанный бунт и страстную любовь к свободе. Ничто, самое унизительное, не могло его унизить, он бы снес; избрал тяжкий и долгий путь преодоления, в котором каждый день становился каплей, точащей камень… Высокое терпение вкупе с общественным мнением побеждают. И граф, этот старый лицемер, вынужден был даровать сорокасемилетнему художнику вольную — одному, без семьи. Милость неблагородная. Граф приглашает остаться у него, пользоваться великолепной мастерской, обещает протекцию — устроить на хорошую службу. Но вчерашний верный раб тотчас со всех ног бежит прочь от своего "благодетеля", не принимая милостей и должностей. Да здравствует свобода! Годы унижения и приспособления канули в прошлое. Художник не выносит теперь пренебрежения. Своим поведением утверждает: все люди равны, должны быть равны. В назначенный час приходит к сановнику, писать с него портрет, а барин "изволит почивать" — Тропинин поворачивается и уходит. Уезжает из Петербурга. Так он протестует… Тропинин прославился как мастер "домашнего", "халатного" портрета. Человек в то время — во время реакции последекабристского периода — больше раскрывался именно в таких условиях. Кого только не встретим мы в портретной галерее художника: герои 1812 года, купцы и вельможи, профессора Московского университета и чиновники, артисты и художники, простые люди. …Брюллов, облокотившийся на конторку, печален. Надменно-печален. Небрежно-артистичен, снисходителен. Взор тяжело и с некоторым подозрением упирается в вас и давит. В эту минуту Брюллов не рисуется, не скрывается под маской. Перо вольно играет в руке, исполнено того же настроения, что и художник: Брюллов может вычертить им прекрасный абрис или метнуть его, как стрелу. И оно полетит… Совсем не "Великий Карл живописи" на рисунке Тропинина: томящийся, усталый человек небольшого росточка, чем-то явно встревоженный. Ироничное, тронутое скепсисом лицо пытается улыбнуться, но выходит полуулыбка, полугримаса. Хочет радоваться, да не может. Подобное состояние Брюллова замечает и Пушкин, когда пишет из Москвы, что художник "…хандрит, боится русского холода и прочего". И прочего — это того, что ненавистно и самому поэту. Рисунок свидетельствует о том, что Брюллов откровенен с человеком, которому полностью доверяет. Человек этот — Тропинин. Их встреча — праздник для Тропинина, но и для Брюллова тоже. Едва приезжает в Москву, уже в гостях у Тропинина. А тот спешит сам накрыть стол и убрать цветами. Так он рад. Встречаются как добрые старые знакомые. Обоюдный интерес и взаимопритяжение очевидны. Разница в летах — Тропинину под шестьдесят, Брюллову около сорока — не мешает им дружить. Тропинина не угнетает громкая слава гостя, он не завидует, гордится ею. Брюллову нравятся работы Тропинина, "превосходного художника", чье влияние. находят в "Гадающей Светлане", написанной Брюлловым в Москве. И палитра Тропинина становится сочнее, выразительнее. Особенно отмечает Брюллов портрет бухгалтера Малого театра Павла Васильева ("Портрет гитариста"), который на вечерах у Тропинина играл на гитаре, услаждая слух присутствующих, и Брюллова тоже. На этих вечерах они рисуют, устраивают вернисажи и концерты. Нервный, мятущийся Брюллов находит у Тропинина отдохновение, ему уютно у московского друга. Часто на двери тропининской квартиры появляется нетерпеливая надпись: "Был К. Брюллов". Был — не застал. Тропинин пишет портрет Брюллова у античных обломков на фоне Везувия и говорит: "Да и сам-то он настоящий Везувий!" Но все "везувианские" черты остаются на подготовительных рисунках — Тропинин словно губкой стер с лица друга заботы и тревоги, представил его нам приветливым и благополучным, метром, артистом, уверенным в себе и с достоинством принимающим поклонение и хвалу. Таким, возможно, Брюллов был "на людях"… В том особенность Тропинина-художника, человека доброго, пекущегося о том, чтобы творчество его стало источником радости и утешения. Прежде всего думающего о настроении и душевном здоровье даже совсем незнакомых ему людей — близких изображаемого человека и друзьях. Художнику хочется, чтобы все они видели на портрете лицо, достойное уважения, радостное и веселое. "Пусть они, — говорил он, — его видят и помнят в счастливую эпоху". Слишком много горя хлебнул Тропинин на своем веку — хотелось ему хоть по крохе добавлять добра. Но это вовсе не означает, что он писал людей такими, какими им желалось казаться. "Художник… должен быть хозяином своего дела. Нельзя позволять и соглашаться на все требования снимающего с себя портрет…" Фальши не терпел. Когда заставляли модель приукрашивать, восставал. Заказчики, бывало, отказывались от портретов. Писал как бы отношение своей модели к другим людям, а уже потом намекал на профессию и занятия. Если у Брюллова скульптор И. П. Витали поглощен и воодушевлен своей работой (бюстом Брюллова), то у Тропинина он радушный и гостеприимный хозяин, к которому можно идти и "жить на хлебах". Живопись, полагал он, обязана служить воспитанию, учить жить "чище, нравственнее". Не потому ли выстраивается у него галерея портретов, где люди без пороков? Наверное, художник был сентиментален. Жил среди своих картин, птичек и цветов, никому не причинял зла. Готов был приветить каждого, переступившего порог его дома. С удовольствием читал Карамзина. Возможно, глаза его во время чтения увлажнялись… Вспомним о победном шествии в те годы русского сентиментализма, о его прекрасной, возвышенной сути. О проповеди благородства и искренности человеческих чувств, верности и любви к природе… Герои портретов Тропинина добры, слегка задумчивы, иные склонны к размышлению и анализу. Их можно упрекнуть, что они не спешат демонстрировать свой интеллект. На самом деле они, очевидно, интереснее, чем кажутся. И пусть они порой довольно обыденны, не столь загадочны, как, скажем, у Рокотова, и не столь пылки, как у Кипренского… Но при этом — значительны. Художник не заботится о психологическом анализе личности — не дано ли ему былоэто или не считал себя вправе выносить на суд людской спрятанное глубоко в тайниках души? Не заглядывал за "панцирь" внешнего облика, не смотрел на модель критическим оком?.. Только в поздних работах проглядывает желание приоткрыть "панцирь". Кисть художника, обычно спокойная, порой равнодушная, волнуется там, где соприкасается с личностью искрящейся, незаурядной. В известном смысле Тропинин — живописец настроения, вспыхнувшего чувства приязни, любопытства, восхищения — в этом случае будто и дарования ему добавлялось, возвышало талант. Москву когда-то очаровал "золотистый" тенор П. Булахова. На портрете его доброе, открытое, чуть даже простоватое ("необыкновенное его добродушие и наивность") лицо ласково-непринужденного человека на "рокотовском" фоне. Краски светлые, играющие. Не этот ли портрет имел в виду И. Н. Крамской, когда назвал художника "первым импрессионистом в русской живописи"? Тропинин замечает среди привычных лиц в обществе новые. Его кисть запечатлевает бодрых, деловых людей, рождающихся воротил. Одни из них умнее, с более широким кругозором, способностью к живому осмыслению — как недавний крепостной, богатый шуйский купец и мануфактурщик Диомид Киселев. Другие — наглые мастера безжалостной хватки и продуманного пути к успеху ("Портрет неизвестного с сигарой"). Преуспевающий и самодовольный человек беспощадно-весело поглядывает на мир, который немедленно надлежит "цивилизовать", дабы получить побольше барыша. "Не видели, чтоб он задумывался над чем-нибудь болезненно и мучительно, по-видимому, его не пожирали угрызения утомленного сердца, не болел душой, не терялся никогда в сложных, трудных или новых обстоятельствах". Перед нами разновидности гончаровского Штольца. Эпоха, в которую жил Тропинин, была эпохой Пушкина и декабристов. Быть может… вам и нам настанет час блаженный Паденья варварства, деспотства и царей… — писала, обращаясь к заточенным декабристам, поэтесса графиня Ростопчина, которую мы также встречаем в тропининской портретной галерее. Люди тогда проверялись отношением к поэту и героям Сенатской площади. В двух портретах великих актеров и великих трагиков — Павла Мочалова и Василия Каратыгина выражены все пристрастия Тропинина, его нежная и верная душа, чутко и честно откликающаяся на окружающую жизнь. Известно, что Мочалов плакал над посланием Пушкина в Сибирь. Каратыгину в день 14 декабря 1825 года "представление" на Сенатской площади было "не по вкусу". Портрет Пушкина (гравюра с портрета О. Кипренского) стоял у Мочалова на столе, стихи поэта актер любил читать. Зато Каратыгин отзывался о "Борисе Годунове": "галиматья в шекспировском роде"… И на портрете Василий Каратыгин, в прошлом коллежский регистратор, отмеченный за "прилежание и аккуратность", а ныне "лейб-гвардейский трагик", любимец императора, очень скучен, очень важен, очень благопристоен. Красивое и умное "роковое" лицо Мочалова смоделировано страстями и страданиями. Оно какое-то скованно-остановившееся перед несправедливым недружелюбным миром. Лицо властителя, ничего хорошего от своей власти не ждущего. Трагически недоброе лицо отчаянного и отчаявшегося человека. "Худо! Все очень худо", — как бы говорил он и будил в людях то, что они так удачно забывают в обычной жизни. Павел Мочалов — актер из дворовых людей, к этому времени уже легенда. С лавой всеувлекающей и всепожирающей, с черной тучей, разражающейся громом и молнией, сравнивал его Белинский. Мочалов, непревзойденный Гамлет и Карл Моор, был на сцене тучей, вихрем, сонмом страстей, испытывал там восторг освобождения — "творил около себя миры одним словом, одним дыханием". Видевший Мочалова десятилетним мальчиком, Достоевский запомнил его навсегда: "Это подействовало на мою духовную сторону очень плодотворно". Началось время реакции. Узко очерченный круг слу-жебно-домашних забот удушающе плотно охватил энергию и талант человека. Надлежало быть пассивно-спокойным и уравновешенно-рассудительным: всякое активное действие казалось подозрительным. Вершителями судеб становятся ретивые исполнители царской воли. "Одна лишь звонкая и широкая песнь Пушкина, — писал Герцен, — звучала в долинах рабства и мучений". Тропинин рисовал Пушкина. Заказчик С. А. Соболевский просил "нарисовать ему Пушкина в домашнем его халате, непричесанного…". Властный, нетерпеливый и скорбный Пушкин смотрит с рисунка. Человек свободы, гнева и печали. Халат на его плечах словно императорская тога. Пушкин, переживший прощание с казненными декабристами, чью виселицу начертал на листе, исписанном стихами. Отбывший семилетнюю ссылку и не покорившийся. Смертельный враг всяческого зла, уверенный, что "народ, гоняемый слугами, поодаль слушает певца". В Москву Пушкин привез с собой из ссылки набело переписанного "Бориса Годунова", в котором так грозно безмолвствует народ. На портрете Пушкин — такой же царственный и порывистый, как и на рисунке, но исчезла горечь, душа поэта смотрит "пробудившимся орлом". Тропикин боготворил поэта, и Пушкин подарил ему искорку своего. мятежного гения. Художник создал образ национального поэта, человека вдохновенного и прекрасного: высоко поднята его голова, светло чело. Пушкин гордо устремлен навстречу божественному глаголу. С портретом произошла странная история — он исчез и пропадал двадцать девять лет. Потом внезапно объявился. Старый мастер был очень взволнован: "Судите, что взглянуло на меня этими глазами… какие минуты я провел, рассматривая черты, мною же самим когда-то положенные". На Тропинина вновь глянул его Пушкин, зазвучала музыка его речи, вернулось очарование вдохновения — все это было единственным и неповторимым. Его попросили подновить портрет. Художник ужаснулся: "На это рука моя не подымется! Это будет святотатством. Это писано с самого Пушкина!" Тропинин — один из первых русских художников, кто писал лица безмолвствовавшего народа. Устим Кармелюк и Самсон Суханов во главе созданных его кистью народных типов: "Ямщика", выжидательно опершегося на кнутовище; блаженного "Странника", "Отставного солдата"; "Слуги со штофом", "Головы нищего старика"… На лицах печать мудрости, долготерпения. Впрочем, в лице Устима Кармелюка долготерпения нет. Есть ожесточенное отчаяние. Глухие безысходные глаза. Кармелюк, грабивший помещиков и оделявший бедных, приговоренный к смертной казни, дважды бежавший из тюрьмы. Гнев и горе высушили его лицо, сведенное в кулак напряжением борьбы. Добрый, добродушный Тропинин в этом портрете проговаривается. Верный лакей своего графа явно гордится "разбойником", сочувствует ему. И Самсоном Сухановым гордится тоже. Суханов, как и Тропинин, сам всего достиг. Своими сильными крестьянскими талантливыми руками, которые на портрете так тяжело и уверенно опираются на каменотесный молоток, кирешку. Пройдите по Ленинграду: Исаакиевский и Казанский соборы, Горный институт, Биржа… Целый лес колонн воздвиг Суханов. Человек исключительного дарования, он вырубал из монолитного камня колонны неограниченной величины. Достаточно вспомнить "Александрийский столп" (высота 47,5 метра, вес около 500 тонн) в Петербурге. И в Москве оставил каменотес свою память — пьедестал "Минина и Пожарского"… Первый в истории русской живописи портрет мастерового. С юности и до последних дней Тропинину дорог образ женщины из народа. Сначала это кареглазая украинка, крестьянка-подолянка, гоголевская красавица, мечтательная и ясноликая. Потом простая русская женщина… На мгновение оторвалась от своей работы обаятельная "Кружевница", чтобы доверительно взглянуть на нас. "И знатоки, и не знатоки, — писал П. П. Свиньин, современник художника, — приходят в восхищение при взгляде на картину, соединяющую поистине все красоты живописного искусства: приятность кисти, правильное, счастливое освещение, колорит ясный, естественный, сверх того в сем портрете обнаруживается душа красавицы". Тропинин рисует городских мастериц или дворовых девушек — "Кружевниц", "Белошвеек", "Золотошвеек" — скромных тружениц, видит их поэтичными и ласковыми; они не только милы и добры, но подчеркнуто-значительны, естественны и на картине, и в жизни. Многие из них могли быть "бедными Лизами". Художник в известной степени идеализирует своих героинь. Впоследствии это приведет к тому, что они на его картинах превращаются в мещаночек, уже в "Девушке с горшочком роз" замечается заученная, обязательная приветливость. Зато образ старости ("За починкой белья") против правды не грешит. Картина создает впечатление резкой встречи холода и тепла. Не способствует ли тому законченность очертаний и мнимая вечность вещей интерьера, живущих как бы своей отдельной жизнью? Четкость и чистота властвуют в углу комнаты, где за столом сидит старушка, жена художника, в далеких своих днях — девушка из украинского села Кукавка. Она склонила над бельем тяжелое от жизни, от дум лицо. На стене зеркало, в нем видим мы старого художника, рисующего портрет сына. Задумчивые, солнечные мальчики на картинах Тропинина — образ будущего. Золотистый и теплый "Портрет сына" один из шедевров русской живописи XIX века; страстный и умоляющий голос надежды. Глядя на портрет, понимаешь — сын был для художника светочем, он радовался ему. Насколько было возможно, Тропинин жил свободным художником. Не шел на поводу у заказчиков, помогал начинающим ("нас, учеников, принимал, как отец принимает детей", — писал один из них); не занимал официальных должностей, обязывающих к повиновению. Вот как реагировал на современное ему общество и холодное, выспреннее официальное искусство: "Все и везде эффект, во всем и во всех ложь". На старости лет впервые встал перед всеми в полный рост на "Автопортрете" с сознанием исполненного долга и своего назначения художника. "Патриарх Московской школы" выходит нам навстречу из уютных комнат, увешанных его полотнами ("составляли всю роскошь квартиры"), грузный, большой, смотрит радушно и твердо. Прост, уверен, несуетлив, "царствует спокойно" — будто бы даже пытается встать монументом на фоне Кремля, но слишком много в нем доброты, слишком много живого внимания, чтобы превратиться в памятник… Через всю жизнь пронес и сохранил в себе Василий Андреевич Тропинин "душевные способности и редкие достоинства", как отмечал К. Брюллов, "истинные блага на земле — честь и любовь…".Карл Брюллов

ВЕТКА И ДЕРЕВО
Историческая заслуга Иванова та, что он сделал для всех нас, русских художников, огромную просеку…Александр Андреевич Иванов (1806 — 1858), окончив Академию художеств, более двадцати лет живет и работает в Италии. Создает знаменитую картину "Явление Христа народу". Не менее известными и самостоятельными живописными произведениями являются этюды к этому полотну. На фоне неба, гор, моря — ветка. Такая одинокая и самостоятельная. Знаменитая "Ветка" Александра Иванова — маленький этюд, один из трехсот к огромной картине "Явление Христа народу". Ветка как порыв жизни, как ее вечность. Переплелись, полуобнялись причудливо-точно изогнутые ветви. Ветка как рука, дарящая миру листья — огоньки жизни. Они трепещут на этой "ладони", на красивых и сильных "пальцах". Улетают и остаются. Художник сумел заметить и показать нам свет, пробивающийся сквозь листву, и воздух, окутывающий ветку. Свет изменчив и непостоянен, разно ложатся тени, потому листья и темно-зеленые, и совсем бархатные, и совсем светлые, нет-нет да покажутся и спрячутся, тронутые золотом, — осень близко?..И. Н. Крамской
 С веткой рядом голубое, светлое от земли небо и лиловые, в коричнево-красных и зеленых оттенках горы, сине-голубая полоска воды, в которую ветка глядится.
Ветка живет и радуется этому соседству. Волшебство ее в том, что она как бы и создает, украшает пространство, рождая впечатление глубины и неизмеримости. Присмотришься — ветка будто летит близко к нам, но высоко-высоко над землей, над водой. Мы слышим звенящий голос пространства, ощущаем солнечный свет и касаемся мягкой дымки тумана. И понимаем, насколько высоко многоцветное прозрачно-непостоянное небо… Песня ветки и песня пространства.
Иванов называл свои этюды к большой картине "конченными этюдами", "…в них, — говорил он, — заключено лучшее время моей жизни". И мы слышим это время, как слышим радость мастера, умеющего создавать совершенное. Когда смотришь на "Ветку", представляешь небольшую фигурку мастера у мольберта, его добрые сияющие глаза, слышишь его детский смех. Он высоко ставил свою миссию художника.
Александр Иванов писал не просто оливковую ветвь, не просто пейзаж, а часть мироздания, портрет пейзажа. Изображал природу "портретным способом" — стремился, как говорили, постичь ее душу. Не проводил границы между собой и природой, чувствовал себя ее частью, а саму природу — частью своего творчества. Стараясь понять и боясь что-либо упустить, всматривался в пейзаж сосредоточенно-внимательно, до боли в глазах. И глаза болели, да так, что вынужден был прекращать на время работу. Зато деревья и травы в его картинах — живые. Например, "Дерево в тени": мнится, что это некое прекрасное существо пришло на берег и клонится к воде. Художник ощущал заповедность природы, любовался далью и спокойной удалью простора. Видел природу, ярко пылающей множеством красок и настроений. Потому в красках у Александра Иванова есть та призрачно-материальная легкость, которая рождается соединением света, воздуха и движения.
Александр Иванов родился и жил художником. Человек мягкий, он умел быть жестким и твердым, когда речь шла о цели его жизни, цели его искусства. Умел сражаться с "околичностями". Хотел писать прекрасные картины, отражающие передовую мысль, а не тянуться в струнку перед власть имущими, что было неизбежно "в шитом высокостоящем воротнике".
Почти тридцать лет писал он свою философскую поэму — "Явление Христа народу", где главным героем был народ и тревожно билась мысль: произойдет ли ожиданное? Пусть произойдет! Все отразилось в этой сложной картине: и трагедия личной любви художника, и его любовь к человечеству, и постоянные поиски главного смысла живописи, и утверждение новой "тональной" системы…
Иванову близки были эстетические идеи декабристов, свойствен глубокий демократизм, большое сочувствие к человеку-труженику. Он хочет решать историческую тему, проникая в суть злободневных проблем, которыми живет общество.
О великой его картине "Явление Христа народу" написано много трудов, понять ее непросто, и мы предлагаем вам почитать и составить о ней свое мнение.
Настоящий подвижник, Иванов работает стоически, напряженно. Свою жизнь посвящает искусству во имя будущей жизни. Называет себя переходным художником. "Мы живем в эпоху приготовления для человечества лучшей жизни… Мы должны быть добры и достойны этого трудного переходного времени".
Когда смотришь на "Ветку", думаешь и о том, что она подобна самому художнику. Многие годы он жил вдали от родины. Как ветка в этюде — одна, без дерева. Но именно дерево питает ее… Художник постоянно встречается с лучшими людьми России.
"…вы подаете не только великий пример художникам, — говорил Герцен, — но даете свидетельство о той непочатой, цельной натуре русской… за которую… мы так страстно любим Россию, так горячо надеемся на будущность!" Иванов приносит в жертву все, что имеет, — любовь, личное благоустройство, здоровье. Не жалеет ничего. Человек общительный, он затворяется в мастерской. Стремится понятие красоты и истины воедино соединить в своих картинах. Сделать искусство проповедником передовых идей времени. "Новое время требует нового искусства. Соединить технику Рафаэля с идеями новой цивилизации — вот задача искусства в настоящее время".
За гробом Александра Иванова шла передовая мысль России: Чернышевский, Добролюбов, Некрасов и среди студентов юный Крамской…
С веткой рядом голубое, светлое от земли небо и лиловые, в коричнево-красных и зеленых оттенках горы, сине-голубая полоска воды, в которую ветка глядится.
Ветка живет и радуется этому соседству. Волшебство ее в том, что она как бы и создает, украшает пространство, рождая впечатление глубины и неизмеримости. Присмотришься — ветка будто летит близко к нам, но высоко-высоко над землей, над водой. Мы слышим звенящий голос пространства, ощущаем солнечный свет и касаемся мягкой дымки тумана. И понимаем, насколько высоко многоцветное прозрачно-непостоянное небо… Песня ветки и песня пространства.
Иванов называл свои этюды к большой картине "конченными этюдами", "…в них, — говорил он, — заключено лучшее время моей жизни". И мы слышим это время, как слышим радость мастера, умеющего создавать совершенное. Когда смотришь на "Ветку", представляешь небольшую фигурку мастера у мольберта, его добрые сияющие глаза, слышишь его детский смех. Он высоко ставил свою миссию художника.
Александр Иванов писал не просто оливковую ветвь, не просто пейзаж, а часть мироздания, портрет пейзажа. Изображал природу "портретным способом" — стремился, как говорили, постичь ее душу. Не проводил границы между собой и природой, чувствовал себя ее частью, а саму природу — частью своего творчества. Стараясь понять и боясь что-либо упустить, всматривался в пейзаж сосредоточенно-внимательно, до боли в глазах. И глаза болели, да так, что вынужден был прекращать на время работу. Зато деревья и травы в его картинах — живые. Например, "Дерево в тени": мнится, что это некое прекрасное существо пришло на берег и клонится к воде. Художник ощущал заповедность природы, любовался далью и спокойной удалью простора. Видел природу, ярко пылающей множеством красок и настроений. Потому в красках у Александра Иванова есть та призрачно-материальная легкость, которая рождается соединением света, воздуха и движения.
Александр Иванов родился и жил художником. Человек мягкий, он умел быть жестким и твердым, когда речь шла о цели его жизни, цели его искусства. Умел сражаться с "околичностями". Хотел писать прекрасные картины, отражающие передовую мысль, а не тянуться в струнку перед власть имущими, что было неизбежно "в шитом высокостоящем воротнике".
Почти тридцать лет писал он свою философскую поэму — "Явление Христа народу", где главным героем был народ и тревожно билась мысль: произойдет ли ожиданное? Пусть произойдет! Все отразилось в этой сложной картине: и трагедия личной любви художника, и его любовь к человечеству, и постоянные поиски главного смысла живописи, и утверждение новой "тональной" системы…
Иванову близки были эстетические идеи декабристов, свойствен глубокий демократизм, большое сочувствие к человеку-труженику. Он хочет решать историческую тему, проникая в суть злободневных проблем, которыми живет общество.
О великой его картине "Явление Христа народу" написано много трудов, понять ее непросто, и мы предлагаем вам почитать и составить о ней свое мнение.
Настоящий подвижник, Иванов работает стоически, напряженно. Свою жизнь посвящает искусству во имя будущей жизни. Называет себя переходным художником. "Мы живем в эпоху приготовления для человечества лучшей жизни… Мы должны быть добры и достойны этого трудного переходного времени".
Когда смотришь на "Ветку", думаешь и о том, что она подобна самому художнику. Многие годы он жил вдали от родины. Как ветка в этюде — одна, без дерева. Но именно дерево питает ее… Художник постоянно встречается с лучшими людьми России.
"…вы подаете не только великий пример художникам, — говорил Герцен, — но даете свидетельство о той непочатой, цельной натуре русской… за которую… мы так страстно любим Россию, так горячо надеемся на будущность!" Иванов приносит в жертву все, что имеет, — любовь, личное благоустройство, здоровье. Не жалеет ничего. Человек общительный, он затворяется в мастерской. Стремится понятие красоты и истины воедино соединить в своих картинах. Сделать искусство проповедником передовых идей времени. "Новое время требует нового искусства. Соединить технику Рафаэля с идеями новой цивилизации — вот задача искусства в настоящее время".
За гробом Александра Иванова шла передовая мысль России: Чернышевский, Добролюбов, Некрасов и среди студентов юный Крамской…

ХУДОЖНИКИ ОБ ИСКУССТВЕ А. А. ИВАНОВ (Из писем и записных книжек)
Рассмотрите краткость времени, и вы уверитесь, что быстрые успехи русских во всех отраслях просвещения ясно показывают, что мы щедро наделены природой способностями. Как художник в подтверждение сего скажу, что в нашем холодном к изящному веке я нигде не встречал столь много души и ума в художественных произведениях. Не говоря о немцах, но сами итальянцы не могут равняться с нами ни в рисовании, ни в сочинении, ни даже в красках, они отцвели, находясь между превосходными творениями славных своих предшественников. Мы предшественников не имеем, мы только что сами начали — и с успехом! Чего же должно ждать, если каждый из нас обойдет критическим образом лучшие произведения великих живописцев? Мне кажется, нам суждено ступить еще далее!!! Клянусь вековою постепенностию образования ума человеческого, что новорожденным россиянам суждено ступить выше великих мужей живописи… Обыкновенный образ жизни художника русского следующий: молодые лета он употребляет на начальные познания по искусству, сопровождаемые бестолковыми методами наук в Императорской Академии художеств. Когда искусство его, управляемое более природными способностями, нежели просвещением, подвинется на из-вестную степень совершенства, то Академия дает ему золотую медаль, шпагу и с этим-то благородием отпускает нищего художника вступить в свет… Известие о состоянии русских художников в Риме, без сомнения, должно быть для вас весьма любопытно и важно. Из этих художников главное ваше внимание обращено на Брюллова как на живописца, вполне сформированного по части исторической, части, заключающей в себе все прочие. Но если нельзя не отдать справедливости его успехам, то сия же самая справедливость заставляет взвесить и те способы, которые он имел преимущественно перед другими для своего образования, и, говоря об его ошибках, нельзя не подумать об упущениях людей, им правивших, упущениях, которые отчасти вовлекли его в те ошибки… Вообще Брюллова напрасно обвиняли в лености, потере времени и проч. Когда он учился в Академии, там науки были в самом жалком положении. А между тем он должен был необходимо учиться языкам иностранным, начитываться всего, чего требует от художника наш просвещенный век. …Между тем его композиция "Последний день Помпеи" долго зрела в его голове, долго чертил он ее в своих альбомах и наконец теперь уже выполнил на огромной холстине. Рим смотрит на него с удивлением, и мы не сумневаемся, что соотечественники не менее будут радоваться блестящему результату его трудов. …Начав "Аполлона, занимающегося пением со своими любимцами Гиацинтом и Кипарисом", "Иисуса, являющегося Марии Магдалине" и эскиз "Появление Мессии", я пред окончанием сих трех важных работ за необходимое счел видеть все то, чем Италия отличалась в живописи, изучить характер всех школ и, наконец, составить из них себе метод. Наглядка в Венеции и копирование с Тициана много мне помогли к окончанию большой моей картины и эскиза, которые уже после разных перемен и переписок, естественных учащемуся, доведены до окончательного вида. …По приезде моем в отечество я бы весьма желал поселиться в Москве как для удобнейшего производства предметов из русской истории, так и для избежания с. — петербургской Академии художеств, которая со всем ее причтом ужасает меня при одном воспоминании. …Россия еще только расцветает, художники почти еще ничего не произвели. Только с Брюлло они начинают быть известными в просвещенной Европе, и неужели этим все и кончится? Невозможно, нет! Если сверстники мои и я не будем счастливы, то следующее за нами поколение пробьет себе непременно столбовую дорогу к славе русской, и потомки увидят вместо "Чуда от остии в Больсене", "Атиллы, побеждаемого благословением папы" блестящие эпохи из всемирной и отечественной истории, исполненные со всеми точностями антикварскими, столь нужными в настоящем веке. …Предметы, меня окружающие, все как будто одни и те же; страсти людей, их радости, их горе, их забота, их поступки хотя и наблюдаются, но это записывается карандашом в фигурах и служит запасным магазином…НЕРАСКАЯВШИЙСЯ ГРЕШНИК
Разгорается новая звезда… и засверкает скоро всеми красками. Ах, если бы он не был крепостным! …Григорий — силища русская самобытная.Григорий Васильевич Сорока (1823 — 1864) — самобытный русский крепостной художник. Пейзажист и портретист. Жил в Тверской губернии. Художник прикоснулся взглядом к пейзажу и унес его с собой, как видение. В картине чувствуешь нежность прикосновения. Она называется "Рыбаки", а хочется именовать ее сложно, как иное музыкальное произведение, например: "Этюд двух рыбаков с зеркальной гладью воды, скользящим челном, обелисками, загорающимися на противоположном берегу, как две свечи, с усадьбой и деревенькой". Линия берега ритмична, краски пригашены вечерним светом, а контуры резки. Мягкая, неназойливая, естественная мелодия. В чарующей поэтической зеленой стране хотелось бы жить. Но откуда столь пронзительное чувство печали?.. Откуда в реалистическом пейзаже ощущение ирреальности, иллюзорности?.. Неволя и страсть к свободе перехлестнулись вокруг Григория Сороки таким мучительным жгутом, разорвать который у него недоставало сил. Сорока — раб, крепостной, частица владений помещика Милюкова. И Сорока — вольный, гордый человек. Нежный человек, с израненной душой, с растоптанными надеждами. Быть бы ему, как заведено, казачком в доме барина, затем оброк, солдатчина. Но приметил барин старание: что увидит, обязательно зарисует — и решил воспитать "придворного" живописца… Ну что ж, он добился своего — художник оставил нам его портрет. Как будто спокоен старик, а как все же недобр, как скучен. Брови — что крылья орла-стервятника, рот тонкогубый, зло сжатый, нос клювом. Глаза цепки и холодны. Не пожалеет и заклюет. Руку помощи не протянет, а плетью по спине вытянет. Да еще таится в глазах задумчивая недобрость: не так еще он властвует, как хотел… С того момента как заметил помещик талант в своем казачке, началась меж ними нескончаемая война… Но было в жизни Сороки и светлое: знакомство с Алексеем Гавриловичем Венециановым и учеба у него. Сорока написал портрет своего учителя и духовного отца. Написал скромно по колориту — тот скромен был. Написал добрым, но точно знающим предел своей доброты — никому не внушал он губительных иллюзий. Написал упрямым — трудная жизнь научила постоянной борьбе… Учение у Венецианова окрылило Сороку. Но воспарение кончилось стычкой с помещиком, и Сороку наказали. Встревоженный Венецианов осторожно заступается: "Я грешников кающихся люблю и на них надеюсь…" Венецианов кривил душой — знал, что Сорока "грешник" нераскаивающийся… Под влиянием известной картины Венецианова крепостной художник написал и свое "Гумно". Учитель хвалил за непосредственность восприятия, пластику, верное ощущение светотени. Нас сегодня очень трогает и та добрая симпатия, с которой изображены крестьянские девушки на полотне… Сорока рисует портреты дворовых. Двадцать один год исполняется ему, когда пишет он "Кабинет в Островках", где показывает себя мастером. "Срезает" первый план и вводит зрителя прямо в кабинет. На столе перед нами счеты, металлические ножницы, гусиное перо, черная конная фигурка — пресс-папье, свеча, бронзовые часы, череп, бумага… Предметы выписаны любовно, с пониманием их назначения, ощущением материальной красоты и силы. Пространство комнаты изображено сжато, целеустремленно, оно как бы "втягивает" в себя взгляд зрителя и устремляет через окно — к озеру… На диване сидит мальчик в розовой рубашке и читает книгу. Картину впоследствии сравнивали с "лучшими образцами русской художественной прозы…" Венецианов Сороку хвалил, пророчил: "Разгорается новая звезда…", брал с собой в соседние деревни и города писать иконы. Помещику все это не очень нравилось, он часто бывать у Венецианова запретил, а потом и вовсе определил Сороку садовником — знай, сверчок, свой шесток. Венецианов утешал ученика: "…при садоводстве рисованье… принесет большую пользу, и рисованью — садоводство…" А помещику с отчаянной горечью писал: "Это я ему говорил, чтобы что-нибудь сказать". В это время и появилась скорбная складка на лбу у художника. Она заметна и в "Автопортрете" Сороки. Аккуратно, волосок к волоску, причесан, в сюртучке, при галстуке. Самолюбивая гордость соседствует с печалью — спокойной, привычной — и с застенчивым простодушием. Где-то бежала большая жизнь, там властвовал "Карл Великий живописи" — Брюллов. Знал, о том Сорока понаслышке. Собственная жизнь казалась никчемной. Единственное упование на Венецианова, но учителя уносит нелепая гибель… Свою тоску Сорока выражает в пейзажах-идиллиях. Художник, по существу, очень лирический, интимный, в природе он видел некую высокую гармонию, божество, своего вольного прекрасного товарища. Таков пейзаж "Вид на озеро в усадьбе Островки". Желтенькая часовенка, как игрушечная. Лес густой, кустистый, дымчатый. Стынь воды, впитавшей в себя и краски леса, и желтизну часовенки, и отражение Красноватых сходен… И наступают прямо на зрителя остролистые камыши. Невдалеке рыбак тащит лодку на берег. Даль озера уже не пуста, зритель здесь не чужой, потому что художник как бы поставил его рядом с собой и приобщает к своему душевному видению. Видению человека, который здесь жил, радовался, а более всего страдал. И вот художник-раб создает пейзаж-памятник — эпический, величавый, спокойный. И пейзаж ранящего одиночества. Ибо писан он узником, подглядывающим за свободой в зарешеченное оконце. Так и шла жизнь. Без учителя, без товарищей, без творческой атмосферы. Писал портреты — хозяев да соседей, картины для помещичьих гостиных, подстригал кусты, высаживал цветы, следил за газонами. Обостренно-трепетно чувствовал жизнь каждого листика, вольного листика. Однажды, придя из сада, попросил о вольной. Хозяин высмеял и наказал… Любимую отнял и велел жениться на нелюбимой. Терялся смысл бытия, тянуло к рюмке, мастерство оставалось, а талант потухал, острота зрения его сердца становилась для крепостного художника клонящей ношей… Когда отменили крепостное право, Григорий Сорока уже выбился из сил. Правда, в первые дни возмечтал о новой жизни. Но свобода оказалась призрачной. Сорока "явился агитатором" и написал царю жалобу на своего бывшего хозяина. Письмо вернулось в Тверь, где решено было "за сделанные грубости и ложные слухи" наказать жалобщика розгами. Тогда художник пошел на окраину деревни и повесился в сарае…А. Г. Венецианов

МЕЖ МНОЙ И ЧЕСТНЫМИ СЕРДЦАМИ
…личности замечательной в отношении художественной совестливости.Иван Николаевич Крамской (1837 — 1887) — известный портретист. Автор жанровых полотен, решающих философские темы. В 1857 году поступил в Академию художеств, а в 1863 году возглавляет "бунт 14-ти", направленный против косности системы художественного образования, и оставляет академию. Руководил Петербургской художественной артелью — первым независимым объединением русских художников. На портрете — человек, у которого было очень много врагов и которого очень любили верные друзья. Человек смелый и умный, страстный и преданный литературному делу и поэзии. Всю свою сознательную жизнь воевавший с самодержавием, сострадавший бедам своего народа и горячо любивший родину. Крамской показал Некрасова прощающимся, но и восстающим. Художник проводил дни у больного писателя и видел: мир сузился для него до постели, но и остался таким же широким, безбрежным, как прежде… Выроненно лежат исписанные листы. Но еще не бессильны сильные когда-то руки. Брошенный недугом на подушки, Николай Алексеевич Некрасов призывает к себе свою музу. Как и когда-то, на Сенной, видит ееБ. В. Асафьев
Бледную, в крови,
Кнутом иссеченную…
Уверенно заклинает:
Меж мной и честными сердцами
Порваться долго ты не дашь
Живому, кровному союзу!
Любви, негодованья, мщенья
Зажги огонь в моей груди!
Сейте разумное, доброе, вечное
Сейте!..
…широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе…
Сила народная,
Сила могучая,
Совесть спокойная,
Правда живучая!
И Музе я сказал:
Гляди!
Сестра твоя родная!

ХУДОЖНИКИ О ХУДОЖНИКАХ И. Н. КРАМСКОЙ. Из писем В. В. Стасову
…Что касается прогрессивных идей Иванова, то, разумеется, я тут вместе с вами готов ставить сколько угодно восклицательных знаков, настоящих, а не из приличия только; тем более что я ни на минуту не забываю того, что если многие идеи Иванова теперь почти ходячие между лучшими художниками, то в 30-х годах это просто — революция… Как давно я был приготовлен к пониманию Иванова, может вам дать понятие следующее. Когда в 58-м году я увидел его картину, то вот что я тогда думал: "Есть такие создания у художников, которые можно считать совершенными портретами, лучше и похожее которых напрасно стараться и сделать. К числу их надо отнести: Юпитера, Венеру Милосскую, голову Мадонны (Сикстинской) и "Крестителя" Иванова. Вы видите, что если в группировке можно усмотреть незрелость, то вы поймете только, что я хочу сказать. Мне тогда не было 22 лет, и, уж конечно, все это было пока на степени инстинктов. Но я не хотел вас занимать собственной персоной, это только к слову — я хочу только сказать, что многие вещи я уже знал без книги и был убежден внимательным изучением Иванова работ. Но вот какая сторона была для меня нова и особенно интересна: это его судьба. Ни одной еще трагедии я не читал с таким глубоким и захватывающим дух волнением. Положим, тут все связано роковым образом, то есть его идеи и результаты труда его неизбежно ведут к трагической развязке; он умирает естественно, никто лично не виноват в его смерти, а между тем есть где-то виноваты! Я его чую!.. Вот когда я готов сказать: жизнь выше Шекспира! А. С. Суворину…Все говорят: русские художники пишут сухо, слишком детально, рука их чем-то скована, они решительно не способны к колориту, концепции их несоразмерны, темны, мысли их направляются все в сторону мрака, печали и всяческих отрицаний. Ну, так я ж вам говорю, что если это верно (а дай бог, чтобы это было верно), так это голос божий, указывающий, что юноша ищет правды, желает добра и улучшения. Вы скажете: да художника-то нет! Верно, художника нет, но есть то, из чего только и может быть художник. Легко взять готовое, открытое, добытое уже человечеством, тем более что такие люди, как Тициан, Рибейра, Веласкез, Мурильо, Рубенс, Ван Дейк, Рембрандт, и еще много можно найти, много показали, как надо писать. …Когда вы смотрите на живое человеческое лицо, вспоминаете ли вы Тициана, Рубенса, Рембрандта? Я за вас отвечаю весьма храбро и развязно: "Нет!" Вы видите нечто, нигде вами не встречаемое! Это значит — вы видите иначе. Значит, русский художник видит не так, как художники других племен. И если он художник, то ему нет другого выхода, как создать свой собственный язык. И чем он оригинальнее и независимее, чем честнее и талантливее, тем ему труднее. А труднее вот почему: потому что русского художника никто не учит. У него нет учителей и не было. Вот почему русское искусство так медленно поднимается в росте.Ф. А. Васильеву. 1872 г.
…Итак, мы тут живем и работаем. Шишкин нас просто изумляет своими познаниями, по два и по три этюда в день катает, да каких сложных, и совершенно оканчивает. И когда он перед натурой (я с ним несколько раз пытался садиться писать), то точно в своей стихии, тут он и смел и ловок, не задумывается: тут он все знает, как, что и почему. Но когда нужно нечто другое, то… Вы знаете. Я думаю, что это единственный у нас человек, который знает пейзаж ученым образом, в лучшем смысле, и только знает. Но у него нет тех душевных нервов, которые так чутки к шуму и музыке в природе и которые особенно деятельны, не тогда, когда заняты формой и когда глаза ее видят, а, напротив, когда живой природы нет уж перед глазами, а остался в душе общий смысл предметов, их разговор между собой и их действительное значение в духовной жизни человека, и когда настоящий художник под впечатлением природы обобщает свои инстинкты, думает пятнами и тонами и доводит их до того ясновидения, что стоит их только формулировать, чтобы его поняли. Конечно, и Шишкина понимают: он очень ясно выражается и производит впечатление неотразимое, но что бы это было, если бы у него была еще струнка, которая могла бы обращаться в песню. Ну, чего нет, того нет: Шишкин и так хорош… Шишкин — верстовой столб в развитии русского пейзажа, это человек-школа. Но живая школа. Но ведь после школы наступает жизнь, и хотя тоже школа, но другими приемами, чем прежде передаваемая, — это он, как и следовало ожидать, отрицает: вечная история. Впрочем, что ж. что я произношу приговоры? Ведь Шишкин до сих пор еще не перестал расти, и черт его знает, до которых пор он вырастет, а что он растет — это несомненно.В. В. Стасову. 1876 г.
…Быть может, я ошибаюсь, но мне кажется справедливым, чтобы художник был одним из наиболее образованных и развитых людей своего времени. Он обязан не только знать, на какой точке стоит теперь развитие, но и иметь мнения по всем вопросам, волнующим лучших представителей общества, мнения, идущие дальше и глубже тех, что господствуют в данный момент, да вдобавок иметь определенные симпатии и антипатии к разным категориям жизненных явлений. …Репин обладает способностью сделать русского мужика именно таким, каким он есть. Я знаю многих художников, изображающих мужичков, и хорошо даже, но ни один из них не мог никогда сделать даже приблизительно так, как Репин. Разве у Васнецова есть еще эта сторона. Я, например, уж на что стараюсь добросовестно передавать, а не могу же не видать разницы. Даже у Перова мужик более легок весом, чем он есть в действительности; только у Репина он такой же могучий и солидный, как он есть на самом деле… Продолжаю утверждать — Репин еще подарит нас доказательствами своей силы. Надо только отказаться от иллюзий и не навязывать человеку того, чего в нем нет. Вспомните, что особенно хорошо у Репина? Самое сильное "-Бурлаки" и "Музыканты", трактованные как группа людей просто и ничего больше. Идея в "Бурлаках" есть помимо воли Репина, она в самом факте, а то, что он умышленно прибавлял, только, по-моему, ослабило силу впечатления…В. М. Васнецову. 1878 г.
…Я вот что думаю. Вся русская школа за последние 15 лет больше рассказывала, чем изображала. Вы попали в ту полосу, когда это направление начинает проходить. В настоящее время тот будет прав, кто изобразит действительно, не намеком, а живьем. Что изобразит? Да все! Не станет же талантливый человек тратить время на изображение, положим, тазов, рыб и пр. Это хорошо делать людям, имеющим уже все, а у нас дела непочатый угол. Вы один из самых ярких талантов в понимании типа; почему вы не делаете этого? Неужели потому, что не можете? Нет, потому что вы еще не уверены в этом. Когда вы убедитесь, что тип, и только пока один тип составляет сегодня всю историческую задачу нашего искусства, вы найдете в своей натуре и знание и терпение, словом, вся ваша внутренность направится в эту сторону, и вы произведете вещи поистине изумительные. Тогда вы положите в одну фигуру всю свою любовь, и посмотрел бы я, кто с вами потягается? …Вы положительно должны поехать к Репину и видеть его картину "Иван Грозный убил своего сына". (Боже мой, какая избитая тема и избитый эффект! Да это было: Шварц и пр.! Словом, странно!) Нет, положительно поезжайте, если незнакомы — познакомьтесь… Видеть необходимо! Необходимо убедиться лично (так сказать, вложить персты), что русское искусство, наконец, созревает. Вы не можете себе представить, какое это отрадное убеждение… Репин поступил по отношению к огромному числу и художников, и прочих умных людей даже неделикатно. А именно: умные люди всегда имеют теории, и теории иногда столь все разрешающие, что это удивительно! Странно, конечно, только одно, что плоды теории всегда тощи, но это теоретиков ни на волос не смущает. Например, скажу о себе. Я был очень благополучен, придумав теорию, что историческая картина поскольку интересна, нужна и должна останавливать современного художника, поскольку она параллельна, так сказать, современности и поскольку можно предложить зрителю намотать себе что-нибудь на ус. Серьезно говоря, чем не теория? В ней и глубина и… ну, словом, только умный человек может дойти до таких выводов, а потому: что такое убийство, совершенное зверем и психопатом, хотя бы и собственного сына? Решительно не понимаю, зачем? Да еще, говорят, он напустил крови! Боже мой, боже мой! Иду смотреть и думаю: еще бы! Конечно, Репин талант, а тут поразить можно… но только нервы. И что же я нашел? Прежде всего, меня охватило чувство совершенного удовлетворения за Репина. Вот она, вещь, в уровень таланту. Судите сами. Выражено и выпукло выдвинуто на первый план — нечаянность убийства! Это самая феноменальная черта, чрезвычайно трудная и решенная только двумя фигурами… Что же из этого следует? Ведь искусство (серьезное, о котором можно говорить) должно возвышать, влить в человека силу подняться, высоко держать душевный строй?.. Да, конечно, да! Ну а эта картина возвышает?.. Не знаю. К черту полетели все теории!! Впрочем, позвольте… кажется, возвышает, не знаю, наверное, как и сказать. Но только кажется, что человек, видевший хоть раз внимательно эту картину, навсегда застрахован от разнузданности зверя, который, говорят, в нем сидит. Но, может быть, и не так, а только… вот он, зрелый плод.

КРАСОТА НЕОБЪЯСНИМАЯ
С Саврасова появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родной земле.Алексей Кондратьевич Саврасов (1830 — 1897) — один из создателей русской национальной пейзажной живописи,мастер лирического пейзажа. Член-учредитель Товарищества передвижников. Жил и работал в Москве. Земля, на которой жил Саврасов, была для него любимая. Красавица. А лучше сказать — раскрасавица! Всегда ему нравилась — и в радости и в печали. Художник даже говорил: "Надо быть всегда влюбленным, если это дано — хорошо, нет — что делать, душа вынута". Особенно любил, когда природа только начинала расцветать… В Московском училище живописи, ваяния и зодчества, где преподавал, еще, бывало, твердят о программах да об экзаменах, а Саврасов уже знает: распускаются фиалки, на дубах кора высохла, грачи прилетели… На улицах Москвы он сам — большой, неуклюжий, возбужденный — казался вестником весны. Первым из преподавателей устремлялся в поле, леса, парки, а следом тянулась стайка учеников, которых любил и звал за город, на натуру: "…Там красота необъяснимая. Весна". Всю жизнь он писал весну. Вот "Ранняя весна" — с проталиной, еще неуютно глядящейся среди снегов; с избой, удивленно всматривающейся в эту проталину своими подслеповатыми окнами; с ликующим небом, где облака совсем по-весеннему легки и задумчивы… Одна из картин позднего периода — "Весна. Огороды". Что, казалось бы, в ней особенного?.. А нам сразу же вспоминаются восхитительный запах оттаявшей земли, удивительный аромат весеннего утра. Привольно вздыхают рыжие огороды, а зимняя хмарь поднимается неохотно в бездонное небо. На наших глазах дома оттаивают от зимы, и куры, бесцеремонные властители новой поры, деловито роются в земле. Ничего, казалось бы, особенного… Великий секрет живописи Саврасова в ее кажущейся простоте. Он умел глубоко чувствовать и понимать природу, видеть ее красоту. Не старался объяснять, истолковывать. А словно пел в унисон, кисть его была разбужена восхищением. Сохранял на полотне то, что его волновало, что любил. Так писал всю жизнь. Двадцати четырех лет стал академиком, не являясь воспитанником Академии художеств, но это не вскружило ему голову. Не превратился в модного художника, остался самим собой. Потому и сумел в сорок один год создать свою лучшую картину "Грачи прилетели"… Тоже о весне. Впоследствии судьбу Саврасова называли фантастической. Говорили несправедливо и с непониманием, что до "Грачей" он "проявил себя в ряде довольно бесцветных картинок". А у него не было бесцветных картинок. Даже в самые тяжкие годы своего бездомного и нищенского житья находил в себе силы и писал пейзажи прекрасные… В трудный для себя час пришел он к П. М. Третьякову и попросил денег. Тот не отказал, но предложил художнику дописать начатую картину: елки спускаются к роднику… Саврасов не стал, потому что вещь зеленая, а зеленую надо создавать летом… Тогда он бежал по жизни, как большой, смертельно раненный зверь. "Куда? Куда уйти от этой ярмарки? — спрашивал. — Кругом подвал, темный, страшный подвал., я там хожу". А когда писал картину "Грачи прилетели", переживал, может быть, свои лучшие часы, о "подвале" и не думал. Сейчас эта картина стала хрестоматийной, примелькалась в тысячах репродукций — и мы уже заранее смотрим на нее с почтением, не давая себе подчас труда разобраться, в чем все-таки ее очарование. В "Грачах" все просто, безыскусно, обычно. Весна. Март. И грачи действительно прилетели. А непросто и этой картине соприкосновение мгновения встречи и мгновения расставания. И холоден день, а везде рассеяны крохи тепла. И невеселая картина, но и не грустная. Душа оттаивает и волнуется. Словно вышел ты, глянул вдаль, и взгляд твой увяз среди еще не убегающих снегов и победно темнеющей земли, да и потерялся за линией горизонта, обозначенной рыжинкой леса… Даль такая на многих картинах Саврасова: что-то всегда манило и тревожило его в необъятных просторах. Любил, писать Волгу, ее бескрайний многокрасочный простор… Смотришь в небо и натыкаешься взглядом на нависающий полог клубящейся тучи, где вместе с юной грозой еще таится стылая зимняя хмурость. Ускользаешь от нее в синь "окна" и восхищаешься голубой бесконечностью неба… Хоть под ногами еще лежит снег, но уже не схвачены морозом тени берез, они рассеянно пали на снег, как будто указывают дорожки, по которым бежать ручьям. Снег не зимний, а алмазно вспыхивает — испещрен ударами, которые наносит весна. Всмотритесь — сколь много оттенков в этом, пытающемся вобрать в себя цвета и силу весны и потому погибающем, весеннем снеге. Весенний снег — снег-отступник перед нами, уже примирившийся с большой проталиной. Все живет и движется в этой картине. Мы слышим "разговор" берез, уже "поживших", искривленных годами и жизнью, и совсем юных, стыдливо выходящих из воды. Сказание о русской березе. И торжествуют грачи. Не только гонцы весны — ее хозяева. Хлопочут, устраиваясь на березах. Быстры, порывисты, деловиты. У каждой птицы свое настроение, своя занятость. Апофеоз этой занятости — грач, задумчиво стоящий на снегу с веточкой в клюве. Виновник негромкого, почти незаметного, но торжества. Еще секунда, и он взлетит, понесет веточку к гнезду — спокойный, рассудительный, любопытствующий. Картине свойственно единое дыхание. Когда предполагали, что она создана в один день, исходили из рождающегося впечатления удивительной гармонии. Передний план неразрывно связан с простирающимися полями, легко уходящими к горизонту. Дома поселка за забором — естественная граница, не разъединяющая, но соединяющая два плана в картине: ближний и дальний. Органично вписываются в пейзаж домики и старая церковь с колоколенкой. Жилье человека здесь так же естественно, как березы и грачи… Картина пасмурна, а мы везде чувствуем солнечный свет — светится теплый влажный камень церкви, и забор, и крыша дома. И снег малинится, и тучи слегка розовеют. Зима не возродится. Надежда рождается и не исчезает… Небольшую картину "Грачи прилетели" сравнивали с вступлением к "Снегурочке", опере Римского-Корсакова, она стала национальной картиной, вобравшей в себя негромкую красоту ярославских, костромских, московских земель — сердца России. Известный учитель русских живописцев П. П. Чистяков, увидев картину, написал: "…полное впечатление чистого художественного произведения"… В пейзаже "Грачи прилетели" нет человека, но есть все, чем он жив: его дом, его природа, его небо, его птицы, его дали, есть уголок его родины. Перед нами земля всех, на ней живущих. Картина, как и многие другие полотна Саврасова, демократична. Художник поднимает цветастое пламя радуги ("Радуга") над деревенскими домиками да сарайчиками. Его картина "Домик в провинции. Весна" светится красной железной крышей, теплой стеной. Милый провинциальный уют расцветает с приходом весны. Во многих работах Саврасова звучат драматические ноты. Рядом с картиной "Грачи прилетели" висит в Третьяковке "Проселок": деревья, "задрав" свои кроны, унылыми путниками бредут по размытой, драгоценно сверкающей лужицами дороге вдоль ржаного спелого поля. Обнаженно светится, переливается красками мокрая земля… В "Ночке" лес над рекой или озером встает сказочной стеной. Тревожное небо освещено луной, а белые облака поднимаются живыми горами. Лунный луч призрачно освещает озерную гладь, бежит по воде, словно кто-то идет сюда, к берегу, к лесу. Будто слышится: шумят вокруг большие деревья. Удивительны у Саврасова лунные ночи. Так и хочется сказать — ослепительные лунные ночи, создающие иллюзию глубокого, почти мертвого сна. Резкие тени от деревьев, домов, кладбищенских крестов кажутся пугающими, словно бы тенями чего-то давнего, погибшего, но заявляющего свою власть на обнаженное лунной ночью поле. Этот мотив повторяется и в картине "У сельского кладбища в лунную ночь". Церковка. Голые деревья. Вдали избы и виднеется фигурка человеческая — согбенная, с палочкой: мать ли плакала у могилы, отцу ли не спалось? И возникает беспокойство: бредет человек, беспощадно освещенный лунным светом, — куда, зачем? Изломанными щупальцами тянутся тени деревьев. Загадочно-прекрасным кажется лунной ночью и болото. Пейзаж у Саврасова — не просто природа, но жизнь человека, часть его жизни, часть его счастья, без которого он существовать не может, не хочет… Художник был влюблен в свою землю, у него душа была не "вынута". Он действительно совершил "подвиг любви": не соблазняясь, не предавая, честно рассказывал о своей любви к природе. Когда его сравнивали с добрым доктором, то вспоминались, очевидно, безвестные знаменитые земские врачи, которые многое знали, многое понимали и главное — чувствовали. Вот и Саврасов призывал: "Главное — чувствуйте".И. И. Левитан

ГЛАШАТАЙ ИСТИН ВЕКОВЫХ
…Московская школа… яркий отпечаток страстного увлечения и художественного подъема, вызванного удивительной личностью и горячей проповедью Перова.Василий Григорьевич Перов (1834 — 1882) — один из основоположников русской реалистической живописи второй половины XIX века, член-учредитель Товарищества передвижных выставок. Жил и работал в Москве. Вce страдания мира отражались в этом оцепеневшем человеке. Достоевский словно сидит в огромном бездонном космосе. Не всесильный, не бог, очень обыкновенный интеллигент своего времени. Перова даже упрекали, что показал, он просто разночинца и никого более. Из космоса своих мыслей смотрит Достоевский на вращающуюся землю, покрытую липкой паутиной лжи и насилия. Видения, сцены, события чередой проходят перед сосредоточенным взором писателя… Любопытна деталь — у всех портретируемых Перовым глаза светятся, они с искоркой, лишь у крестьянина Фомушки-сыча недоверчиво-скептический тусклый взгляд, да у Достоевского глаза темным-темны. Они темны от страданий. Достоевский положил ногу на ногу, нервно замкнул руки на колене, задумался глубоко, тяжко и так страшно, что, кажется, не очнется — образовал вокруг себя некий "магический круг", в котором будто бы сконцентрировалась вся прожитая жизнь. Он "как бы в себя смотрит" — и через кристалл этой жизни глядит на землю, все видит, скорбно оценивает, каждого человечка взвешивает на весах совести, но героев своих произведений берет из своего сердца. В это время Достоевский пишет "Бесов". О Николае Ставрогине он так и сказал: "Я из сердца взял его"… Перед нами многое переживший и испытавший, многое повидавший человек, который за участие в кружке петрашевцев был подвергнут "смертной казни расстрелянием", казни избег, но навсегда остался под полицейским надзором. Властитель дум, уже знаменитый писатель, автор "Униженных и оскорбленных", "Преступления и наказания", "Идиота"… Достоевский талант Перова чтил. О картине "Проповедь на селе" отозвался: "Тут почти вся правда", об "Охотниках на привале": "Что за прелесть!", о портретах: "Угадывает главную мысль лица". Перов пришел к Достоевскому со своей правдой, и писатель, который в то время уединялся в своем кабинете и никого видеть не хотел, с Перовым сдружился, принял его, услышал его "горячую проповедь" и откликнулся на нее. Потому и портрет удался и стал "мучительно-прекрасным", пс мнению Крамского, одним "из лучших портретов русской школы". Портрет заказан был Перову П. М. Третьяковым, который Достоевского любил трепетно и застенчиво, называл его пророком: "Был всему доброму учитель, это была наша общественная совесть". Перов написал не пророка — совесть. И работой своей остался доволен: "горячо будет". Перова находили умным, желчным, иронично-самолюбивым. И вместе с тем, вспоминает К. Коровин, замечалось в нем что-то детское. Он был одновременно и суров и беззащитен. А на автопортрете представился сильным и властно-мрачноватым. Повернулся к нам требовательно, словно бы именно он взыскующий судья нашим поступкам. Он судья своему времени — "поэт скорби", показывавший в картинах горькую судьбу, бесправие, рабство и нищету народа. 1 …Горе крепкими когтями вцепилось в убогую крестьянскую жизнь и гонит ее в бесконечно-горький путь по безмерной земле на фоне бескрайнего неба: "Проводы покойника". Оно отчаянно согнуло спину вдовы крестьянина, "…глядя на эту одну спину, — писал Григорович, — сердце сжимается, хочется плакать". Какая-то жуть затонувшего царства есть в другой картине — "Последний кабак у заставы". Все реально до мелочей и полно привидений, злой околдованности, давящей тоски и предчувствий. Страшно угарным веет из красноватых окон кабака. Среди этого грозящего молчания, рокового одиночества, холода, снега — бесконечно терпелива и затеряна женская фигурка, она безмолвно молит о спасении. Два столба заставы с самодержавными орлами, на верхушках застыли знаками всесильного мрачного царства, стражами у дороги, которая вьется, уводит из ниоткуда в никуда. "У заставы, в харчевне убогой Все пропьют бедняки до рубля" (Некрасов). Последний кабак, последний пир во время чумы, последняя дань городу-спруту… Город-призрак, город-губитель возникает в бледно-золотистом тумане над жертвой, в картине "Утопленница" — неумолимо и грозно, а его верный раб, равнодушный страж — будочник сидит возле тела утопленницы… "Тройка" Перова долго висела в комнатах П. М. Третьякова, с которым художника связывала тесная дружба. Когда сегодня мы смотрим, как дети отчаянно волокут огромную, обледеневшую бочку мимо кремлевской стены, нелегкая судьба учеников мастерового трогает нас, но более всего поражает какая-то бесконечность движения. Словно не будет конца изнуряюще-надрывному пути… Перов смотрел на искусство как на тяжелую, необходимую обществу работу. "Позор артистам, — говорил он, — сделавшим из него (искусства. — В. Л.) забаву и уронившим его настолько, что оно будет годно возбуждать только мелкие и грязные страстишки, но не высокие чувства души человеческой". С первых своих картин художник выступал, мастером социальной сатиры, обличителем язв самодержавно-крепостнического государства. В картине "Первый чин. Сын дьячка, произведенный в коллежские регистраторы" разве простой коллежский регистратор перед нами? Это же Наполеон перед Аустерлицем. Будущий повелитель канцелярий и обирала. Мертвая хватка чувствуется в сыне дьячка. Он крохотный, но уже такой необходимый столпик империи. "Будешь ты чиновник с виду и подлец душой". Слова Некрасова могли быть подписаны под картиной. Ограниченный и туповатый, но ненасытный и не знающий сомнений, сын дьячка примеряет фрак и триумфально готовится в подлецы. Великий гнев Перова особенно явственно ощущаем мы в сатирических рисунках, где изображаемые им персонажи грубы, угловаты, обнаженно-обличительны. Лица-гримасы, фигуры-идолы. Дико выпучены глаза и разодран гневным криком рот у "Генерала, требующего лошадей". Беспредельно злобна барыня-салтычиха, выслушивающая наушницу… Художник создает целую галерею разных типов русской жизни. Глядя в пол, безнадежно терзает гитару "Гитарист-бобыль"… Умудренный терпением "Странник", ладно снарядившийся в дорогу, смотрит на нас со спокойным достоинством. Высохший, вымороченный жизнью "Учитель рисования" оставил все свои мечты и желания. Бурное негодование в официальных кругах вызвал "Сельский крестный ход" Перова, думали даже, что художник может "попасть в Соловецкий". Обошлось. Но картину убрали с выставки и запретили ее репродуцирование. Крестный ход — пьяное шествие, бредущее по болотистой осенней земле в ненастную, промозглую погоду. Из рук дьячка валится Евангелие и пасхальное яйцо, дьякон ползает по крыльцу, а священник почти вываливается из избы, с трудом понимая, очевидно, где он и зачем… Обличает служителей церкви и "Чаепитие в Мытищах", где шарообразный франт-монах, заплывший жиром довольства и благополучия, брезгливо отворачивается от нищего, солдата-калеки. Еще Белинский замечал, что "ядро коренного московского народонаселения составляет купечество". Оно смотрит на нас с картин Перова во всей своей безобразной наготе. Купеческая орда предстает в картине "Приезд гувернантки в купеческий дом". "Сам", держащий жизнь за глотку, вышел навстречу гувернантке, грохоча сапогами и выпятив живот. Дико и тупо-оценивающе смотрит он на девушку, в чьей скромной, стесняющейся фигурке угадывается вся биография: бедность, желание выстоять, достоинство и подневольность… Обитатели застойно-животного мира глядят на нее, как на заморскую диковину… В "Портрете Камынина" художник живописал "купеческого царя"; на невыразительном, недобром лице на месте рта прорублена щель не для мудрых слов и песен, а для скрипучих назиданий и изводящих укоров. Камынин — власть, сила; его топыристые пальцы сцеплены покрепче амбарного замка. Все узнали в Камынине одного из героев "темного царства" Островского: "Вот… он, знаменитый Тит Титыч Островского". Портрет вызвал большое недовольство у заказчиков. Они спрятали его и на выставках выставлять не разрешили. Один из своих рисунков Перов назвал "Современной идиллией". - посадил купца на трон среди славословящих. Естественно, что именно Перов написал портрет своего любимого драматурга Островского. …Большой, неспокойный, очень живой человек упирает в колени руки, готовые к жесту, к движению. Островский смотрит — светит глазами, уверенный взгляд останавливает вас, столько в нем яркости, что его трудно выдержать. Плотный и ядреный человек излучает неуемное любопытство, энергию и гостеприимство. Художник представляет нам знаменитого драматурга как натуру сильную и широкую… Всего четыре года работал Перов над портретами, но сумел создать великолепную галерею психологических образов. "Эти все люди живут и дышат", — говорил В. В. Стасов. Композитор и пианист А. Г. Рубинштейн на портрете работы Перова не только воздействует "гипнозом своей мощной художественной личности", но словно бы изнемогает сам под его бременем, под лавиной музыки. Сидит нервно, руки нетерпеливы, тайное недовольство не дает ему покоя. Как бы сосредоточивается перед прыжком, перед схваткой. Особенность Перова-портретиста в том, что не мгновение жизни человека, не движение ума и чувства передавал он, а проницал всю его жизнь и как бы писал ее итог. …В глубоком кресле, на троне своей старости сидит Даль. Глаза его, "быстрые, проницательные… стального отлива", светятся — свет идет издалека, может быть, еще от тех дней, когда ездил Даль, Казак Луганский, с Пушкиным по оренбургским степям и когда Пушкин весело надписал ему свои сказки: "Твоя от твоих! Сказочнику Казаку Луганскому — сказочник Александр Пушкин". Давно это было. Давно умер Пушкин — на руках у Даля, Даль провел у постели смертельно раненного поэта последнюю ночь!.. Прошли годы. Как славно потрудившийся человек глядит Казак Луганский на дело рук своих, которые бережно сложил перед собой на коленях. Длинные, "музыкальные" пальцы долгие годы неутомимо водили гусиным пером… Окончен главный труд жизни — Толковый словарь, столь знаменитый словарь Даля и в прошлом и в нынешнем веках. Собраны и изданы русские пословицы, написаны сказки. Как-то Даль сказал.: "Назначение человека именно то, чтоб делать добро". Красив и покоен Даль в минуту, когда пришла пора соизмерять намерения, усилия и достигнутое. Перова часто сравнивали с писателями — властителями умов в XIX веке. Называли то Гоголем, то Достоевским, то Некрасовым живописи. Как бы там ни было, а кисть художника, его взгляды были всегда созвучны темам, всегда волновавшим русскую литературу, потому что темы эти рождала нелегкая и противоречивая действительность. Роль Перова в истории русского искусства огромна. Его бескомпромиссность и стремление показать правду жизни нашли самый горячий отклик в сердцах современников, особенно в сердцах молодых современников, его учеников. В Московском училище живописи и ваяния, где он был профессором, "все жило Перовым, дышало им, носило отпечаток его мыслей, слов, деяний". К ученикам Пе-ров был очень добр, помнил и свои бедствования в ранней юности, умел воодушевлять чувства молодых людей, зажигать мысль, на многое открывал глаза. "И мы тогда еще слепые, — вспоминал художник М. В. Нестеров, — прозревали…" Его авторитет был так велик, что Крамской звал его "папой московским" и очень волновался, когда "папа" вместе с Шишкиным пришел смотреть его "Майскую ночь". В чужих краях чувствовал себя неуютно, не смог выдержать назначенного пенсионерского срока в Европе, мешало ему работать там "незнание характера и нравственной жизни народа". С любовью и уважением создает Перов образ труженика и мыслителя в картине "Русский крестьянин". На фоне бледно-голубого неяркого весеннего неба, на вершине холма одиноко сидит он, главный хозяин всей земли, сложив перед собой натруженные руки. Вокруг на просторах — весна. Крестьянин задает себе нелегкие вопросы и думает горькую думу…М. В. Нестеров

ХУДОЖНИКИ О ХУДОЖНИКАХ Г. Г. МЯСОЕДОВ
Из очерка жизни и деятельности Товарищества передвижных художественных выставок Когда я поселился в Москве, среди московских художников более заметным и влиятельным был В. Г. Перов, около которого группировались художники. Благодаря влиянию Перова мне удалось собрать подписи к написанному мною проекту устава Товарищества передвижных художественных выставок… Перебравшись из Москвы в Петербург, там я нашел Н. Н. Ге, несколько постаревшего, но по-прежнему живого, впечатлительного и увлекающегося. Идея внести искусство в провинцию, сделать его русским, расширить его аудиторию, раскрыть в нее окна и двери, впустив свежего и свободного воздуха, была Николаю Николаевичу весьма по сердцу, и он взялся за нее горячо и увлек Крамского, который в то время относился к Ге с большим почтением. Дело Товарищества снова поднялось на ноги, собраны были подписи, между которыми были подписи Гуна, Клодта М. К., Прянишникова, Перова, К. Маковского, Корзухина, В. Якоби и др. Вначале дело передвижения по России велось без помощи посторонних сил, члены сами сопровождали выставку, исполняя обязанности артельщика, кассира и т. д. Это был героический период Товарищества. Общество принимало выставки картин с большим интересом, как новинку… В то время когда мы решились пойти своей дорогой, не было уже недостатка в людях, сделавших себе некоторую известность работами самостоятельного характера, а за ними вслед пробивались молодые побеги, стремившиеся к свету и правде. Новые общественные условия, одновременно отодвинувшие меценатство на второй план, освободили место, к счастью, не оставшееся пустым. Мецената заменил любитель, не платонический любитель и знаток, готовый всегда осудить художника просвещенным советом, но любитель-покупатель, любитель-коллектор, симпатизирующий всему отечественному и совершенно свободный от культа формы или стиля, главным образом ценивший в искусстве его живое начало. Запросы его встретили ответ во всем, что не умело или не желало улечься в одобренные формы. И в русской школе образовалось небольшое самостоятельное течение, то течение, которому любители писать о художествах усвоили потом название нового искусства, не поясняя, что должно означать это название. Мне кажется, что новость его заключается главным образом в его искренности: оно решилось говорить о том, что ему близко и хорошо известно, с чем рядом оно родилось и выросло: оно решилось быть правдивым, или, как принято говорить, реальным, не допускать подделок и подражаний, не желая казаться более того, чем оно есть, при помощи чужих пьедесталов. Во имя этой наклонности к искренности новое искусство навлекло на себя немало упреков и порицаний: упреков в крайнем реализме, отсутствии высших стремлений, отвращении ко всему прекрасному и идеальному и т. д. В этих упреках сказывалось то древнее воззрение на искусство, которое отводило ему роль утешителя в скорбях, вытекающих от излишеств благ мира, роль забавы досужих людей, лучшего после мебели украшения барских стен и пр. Товарищество, сложившееся в период перелома, объединило почти все, что умело, или только хотело быть искренним и правдивым по мере сил и таланта. Это произошло само собой, в силу обязательства, которое оно на себя приняло, — знакомить Россию с русским искусством, а не с теми имитациями, которые, как бы ни были искусны, останутся бесследными для русской школы. Это реальное направление мало-помалу проникло почти всюду, не только в сознание художников, но также в сознание публики, которая начала относиться к искусству с меньшей легкостью и предъявлять более серьезные требования. Подъем национального чувства в России создал новые точки опоры и дал доступ новому искусству на все выставки, не исключая выставок Академии художеств. Последние потерпели, в свою очередь, заметное изменение, потеряв казенный распорядок, в котором авторы произведений играли пассивную роль, и, перейдя через несколько метаморфоз, эти выставки приняли до некоторой степени общественный характер, при котором нашлось место для участия в устройстве и их распорядке самим авторам… Нахожу весьма для нас знаменательным то, что дело наше, начатое в 1870 году, ныне переживает 26-й год официального существования. Четверть века мы работаем в одном направлении, не чувствуя ни усталости, ни разочарования и не сомневаясь в полезности нашего дела… Члены Товарищества вступили в него в таком порядке: Мясоедов, Перов, Каменев, Саврасов, Аммосов, Аммон, Ге, Крамской, М. П. Клодт, М. К. Клодт, Прянишников, Шишкин, Боголюбов, Гун, В. Е. Маковский, Максимов, Брюллов, Савицкий, Куинджи, Бронников, Беггров, Киселев, Ярошенко, В. М. Васнецов, Литов-ченко, Лемох, Н. Е. Маковский, Репин, Поленов, Волков, К. Е. Маковский, Леман, Суриков, Неврев, Харламов, Кузнецов, Бодарев-ский, Дубовской, А. М. Васнецов, Светославский, Шильдер, Архипов, Левитан, Остроухое, Загорский, Лебедев, Степанов, Позен, Касаткин, Милорадович, Шанкс, Серов, Богданов-Бельский, И. П. Богданов, Корин, Ендогуров, Нестеров, Бакшеев, Орлов, Ко-станди. За последние 10 лет в Товарищество вступили 23 члена. В настоящее время оно состоит из 42 членов и неопределенного, постоянно меняющегося числа экспонентов…То скромное дело, которому мы служим, оставит свой след и поможет русскому искусству возвратиться на родную почву, выработать свой язык, свои приемы, свое мировоззрение, без которых всякие стремления к высокому, идеальному и прочее останутся упражнениями в живописи, лишенными серьезного значения.ВСПЫХНУЛ БЛЕСТЯЩЕЙ ЗВЕЗДОЮ
…то, что было у Васильева, а именно — поэзия, что и есть главное в искусстве, а в пейзаже в особенности.Федор Александрович Васильев (1850 — 1873) — ученик Крамского. Член Общества поощрения художников. Заболел туберкулезом, и уже в 23 года скончался. Автор проникновенных поэтичных пейзажей. Человек импульсивный, задорный, задирающий, словно предчувствующий свои отмеренные годы, а потому торопящийся жить, но не впопыхах, а весело, с радостным шумом, стараясь и тем как будто себя утвердить, и о том заставить говорить… Поведение такое естественно: человек еще очень молодой, талантливый необыкновенно — это подтвердят первые же картины. И что было ставить ему в упрек пристрастие к лимонного цвета перчаткам и блестящему цилиндру, когда он по первому зову мчался с приятелем — ни много ни мало, как перекричать водопад Иматру. Что было упрекать его, когда он с детства не знал сытости, а видел каждый рубль, да что там — каждую копейку в некоем ореоле и сам сызмальства тянул лямку труда подневольного, ради денег: то разнося письма, то помогая реставрировать картины… Что раздражаться некоторым фатовством и дендизмом этого якобы "хохотуна-весельчака", отставного члена "Общества вольных шалопаев", отпускающего насмешки, подчас и несправедливые… Будь он только таким, отшатнулся бы от него великий правдолюбец и правдоискатель среди художников русских — И. Н. Крамской. Да, отстраняясь, присмотрелся повнимательнее и простил молодому художнику Федору Васильеву его предерзостность и некоторое тщеславие. Узнал его ранимую душу, открыл в нем радость живописца: "…прихожу в восторг от прекрасных деревьев". За внешней бравадой разглядел баррикады, которыми юноша ограждался от внешнего сурового, неприглядного мира. Баррикады буффонады, смеха, задора. За ними скрывался тот Васильев, портрет которого Крамской и написал: скуластый, серьезный — сквозь напряженную задумчивость проглядывает трепетная и даже робкая душа, вглядывающаяся в мир настороженно, даже как-то беззащитно. Таким увидел его Крамской и полюбил. И восхитился природным, столь уверенно, на удивление, зреющим талантом, — ведь Васильев в Академии художеств не учился, за что чиновники канцелярий от искусства ругали его самоучкой.М. М. Антокольский
 Конечно, он многому учился сам, посещал вечернюю рисовальную школу Общества поощрения художников, изучал творчество Шишкина и Крамского. Но все же не оставляет впечатление: Васильев-художник возникает вдруг, как из пены рожденный, — настолько по-новому он понимает и пишет русский пейзаж. Настолько неудержимо богатым и расточительным был его талант, которым, казалось, не дорожил, не знал ему меры, не лелеял, не холил, но расходовал беспощадно, словно взмыленных лошадей гнал, будучи убежден, что на следующей станции ждет свежая тройка. Вспомните рассказ Репина, ужаснувшегося, когда Васильев стал срезать уже готовые, так поразившие Репина своей красотой купы облаков… Срезал он их с полотна, как будто небрежно, походя, а на самом деле уверенно, чувствуя: это не то еще, что в душе запечатлелось. Громадный талант рождал громадную взыскательность. "Казалось бы, — писал Крамской, — все места заняты… но искусство беспредельно, приходит новый незнакомец и спокойно занимает свое место, никого не тревожа…" Это и верно, да не совсем. Не так уж спокойно Федор Васильев занял свое место, да и потревожил многих, в том числе учителя и родственника своего — Ивана Ивановича Шишкина, считавшегося тогда классиком эпического пейзажа. "Потревожил" — определение мягкое. Васильев ворвался вихрем, пошатнул устоявшиеся понятия и открыл живую, "дышащую" прелесть русской природы. Обычно его предшественником называют хорошего русского художника Сильвестра Щедрина, но последний писал почти исключительно итальянские пейзажи в их классической композиции: часть города, гавань, море, облака… Правда, если не обращать внимания на видовые аксессуары, южные белые дома, распятия, разноязычную толпу на пристани, — и у Щедрина можно разглядеть намек на пейзаж настроения, великим мастером которого нарекли Федора Васильева. И все же только напмек…
Васильева именовали романтиком, а он был скорее ведуном — ведал о том, о чем другие и не подозревали. Приходил к природе, когда она разговаривала наиболее откровенно, драматично, являла свои тайны, свой характер, — в переломные моменты бытия. Его пейзажи-откровения стали доверительным диалогом человека и природы.
Восемнадцать лет, а он уже признанный пейзажист. Молод, а жаден. Молод, а понимающ: красоту следует впитывать, собирать, зарабатывать. На ходу замечает и забирает с собой "огромный кусок радуги", "ветлы и избы", "скот и людей". Для него — "вся жизнь наружу!". Как сквозь магический кристалл открывал для себя то, мимо чего другие проходили равнодушно.
И вот появляется "Оттепель" — ей присуждается первая премия на конкурсе Общества поощрения художников.
…Просыпаются и земля и небо. Облака, еще не оформившиеся, тянутся, почти задевая землю. Темнеет уводящая вдаль дорога среди уже не белого, но еще не сдающегося буреющего снега. Все только начинается. Ветер обнажает зябкие кусты. Согнувшийся путник с ребенком минуют бедную избенку, придавленную снежным покровом, — неведомо, сколько им еще брести по бездорожью, по чернеющей грязи. Движется облачная тень, придавая полотну глубину. Ощущение печали, какой-то безысходности. Смотришь — и нет радости, а оторваться от картины трудно, словно слышишь печальную, но удивительно красивую песню… так мягки линии, так нежны краски, — чудится за всем этим неяркий, разгорающийся свет. Своим спокойным, раздумчивым тоном картина контрастировала с написанным ранее, полотном "Перед дождем", где все насыщено ожиданием грозы: темное небо, встревоженные птицы, расшумевшиеся деревья. Буйные, яркие блестки света и пятна тени изменили цвета, они вспыхнули неестественно, "раскаленные" до предела: запылала рубашонка на мальчишке, деревья засверкали золотом, гуси обернулись белыми-пребелыми лебедями… Васильев показывает нам русский пейзаж — "прозу, превращенную в фантастику", — отличающийся богатством цветовых характеристик, необычайно выразительной динамикой, живой светотенью, цельностью общей гаммы красок.
Обрушивается болезнь. И еще более резко, чем прежде, встает перед Васильевым вопрос: "Что такое художник? Что такое человек? Что такое жизнь?" Уже не имея сил возводить баррикады самозащиты и вовремя прикрываться маской, он только принимает удары. И снова деньги! Деньги! Они все необходимее: их съедает дача в Крыму, где поселяется художник, съедает болезнь, необходимость содержать мать и брата. Васильев вынужден идти на нравственные компромиссы и выполнять заказ великого князя- украшать ширмы. Совершает насилие над собой, чтобы писать этакую "мерзость" для князя. Наконец создает "несчастную картину" — "Эрик-лик". И даже безгранично любящий его Крамской, отчетливо понимая отчаянное положение своего младшего товарища, сокрушенно разводит руками, стараясь хоть как-то смягчить свое отрицательное мнение. А что смягчать? Тот и сам знал: плохо. Но в глубине души надеялся: мерзость, конечно, а может, талант все же вывезет. Талант не вывез. Вдали от друзей и выставок художник порой, терял критерий мастерства. Но все искупает лихорадочная работа в "неограниченном царстве" — в тесной квартирке, пронизанной сквозняками. В чем-то уступая, он все же до последних дней держится как боец, не расстается с надеждой, не выпускает кисти из рук — как нить, привязывающую к жизни. А ведь в его неограниченном царстве-квартирке нельзя "писать сразу… массами", но только "по частям, до того мелким, что картина иногда делается похожа на ситец…". Не квартира — клетка, из которой он вырывается все реже и реже.
"Человека заперли в комнату, которую постепенно наполняют дымом до того, что человек этот кричал: "Я задыхаюсь, выпустите дым!" Ему отвечают люди с чистого воздуха: "Скорей сделайте усилие и не задыхайтесь, не задыхайтесь только — вот уж и хорошо".
"Пойдемте погулять?" — так грустно-призывно заканчивает он письмо Крамскому.
"О болото! болото!.. — тоскуя, восклицал он из Крыма. — Неужели не удастся мне опять дышать этим привольем, этой живительной силой просыпающегося над дымящей водой утра?"
"Болото в лесу" художник не успел кончить. Но картина уже доносит до нас многокрасочное дыхание болота, деревьев, влажной травы; картина словно плещется контрастными цветами…
В Крыму же он пишет "Мокрый луг", перед которым Крамской долго-долго сидел очарованный: "…свет на первом плане. И эта тень — такого рода, что я не знаю ни одного произведения русской школы, где бы так обворожительно это было сработано…"
Картина сложных переживаний, восхищения, памяти о былом, свидание с юностью (странно звучит это в двадцать два года), глубокого проникновения в многокрасочный мир. Тень смятенных облаков гасит блеск влажной травы, темнит загадочное зеркало воды, отражающее неяркое небо. Перебегает рождающийся и угасающий луч солнца… Создается ощущение живого прикосновения к дышащему простору, подчеркнутое одинокой значительностью купы деревьев. Движущаяся тень уничтожает застылость, все неустойчиво, все пульсирует, все живет. Общий образ — настроение — не затмевает деталей: каждый камешек, каждая былинка выписаны любовно, они — часть целого, где все соразмеримо: дальние и ближние планы, гамма тонов…
Вместо подписи под "Мокрым лугом" Васильев рисует сломанный якорь. Символ крушения надежд. Он отчаялся и написал полотно, которое вновь явилось новым словом в пейзажной живописи.
"В Крымских горах". Горделива и печальна эта картина. Может быть, потому, что, являя будущее творчества художника, стала завещанием. Несовместимо ужились в ней "здравствуй" и последнее "прости" самому себе и друзьям.
Не прорывающийся внезапно стон, а песня отступающего сражаясь; не мрачная и траурная, звучащая трепетно и тонко, вот-вот оборвется…
Писал картину отважный боец: "… работаю каждый день до тех пор, пока кисти в руках видны". "В Крымских горах" — своеобразная исповедь. Могучие противоборствующие сосны на склоне горы — не в них ли видел художник далекого Крамского с его Артелью, под уставом которой и сам уверенно подписался некогда? А тощенькая, с облетающей кроной, тянущаяся за сестрами, трагически не успевающая сосенка, не он ли сам?.. И не является ли — синеватый горный кряж, каменистый щит — вечный, возвышающийся и возвышающий, теряющийся в облаках — дорогой искусства, единственно самобытного и памятного, как подвиг? Идти по дороге — испытание, долга она и трудна, а все ж приманчива и для него неизбежна.
Картину писал "упорно-печальный" человек, сроднившийся, нет, сжившийся со страданием. Выступающий против социальной неправедности: "…мало ли гибнет на земле русской… людей, у которых по их беспомощности могут отнять все!"
"В Крымских горах" — открытие в пейзажной живописи.
Пейзаж эпичен и неспокоен. На первом плане тревожно высветляется часть склона — видишь каждую "жилку" земли, ее беззащитную обнаженность, словно ушедшая тень неосторожно сняла сохраняющий покров. Подвижная светотень создает впечатление напряженного ожидания. Несовместимые, казалось бы, категории — величественность и непостоянство — в этом пейзаже неразрывны. Радостное ощущение красоты природы ("О Крым!., что за поэзия!"), предвосхищение будущего, неукротимое желание парить в вышине… Крамской писал: "Что-то туманное, почти мистическое, чарующее, точно не картина, а во сне какая-то симфония доходит до слуха оттуда, сверху…"
Крамскому казались лишними волы и телега, а Васильев, очевидно, хотел оттенить возвышенность мечтаний непреложностью идущей мимо повседневной жизни — неумолимой, словно равнодушной.
Всегда драматичный, романтический пейзаж настроения — здесь становится предсказанием, предвидением.
Крамской писал, что "какая-то сила" вовлекает зрителя "все дальше и дальше" — от сосен, ввысь, к облакам… Крамской — верный друг. Когда Васильев тоскливо мечется по комнате, ему представляется: откроется дверь, и возникнет Крамской.
Через него он, прикованный к Крыму, слышит голос
Большой земли, живет почти полнокровно, еще борясь: "Замечательно то, что у нас с Вами и враги одни и те же!" В эти дни своего последнего, 1873 года, двадцатитрехлетний Васильев духом сражается с болезнью, бравирует в письмах: "Бежит мимо глаз этакая, сударь мой, Италия, Гишпания… А мы дивуемся, чертом сидим. А? Махнем?"
Ему не удалось вырваться в Петербург, побывать в Италии, Испании. Но картину свою закончил и победил на конкурсе Общества поощрения художеств. Узнал о том. Был счастлив. Сумел показать "момент… нравственного света"; сумел не только выстоять, но сделать еще один, пусть последний, шаг вперед.
Роль Федора Васильева в искусстве велика. Он создал пейзаж мятежа — в жизни природы и мятежа своего духа, пейзаж облагораживающий и волнующий. На скромном памятнике на могиле художника друзьями высечена надпись:
Конечно, он многому учился сам, посещал вечернюю рисовальную школу Общества поощрения художников, изучал творчество Шишкина и Крамского. Но все же не оставляет впечатление: Васильев-художник возникает вдруг, как из пены рожденный, — настолько по-новому он понимает и пишет русский пейзаж. Настолько неудержимо богатым и расточительным был его талант, которым, казалось, не дорожил, не знал ему меры, не лелеял, не холил, но расходовал беспощадно, словно взмыленных лошадей гнал, будучи убежден, что на следующей станции ждет свежая тройка. Вспомните рассказ Репина, ужаснувшегося, когда Васильев стал срезать уже готовые, так поразившие Репина своей красотой купы облаков… Срезал он их с полотна, как будто небрежно, походя, а на самом деле уверенно, чувствуя: это не то еще, что в душе запечатлелось. Громадный талант рождал громадную взыскательность. "Казалось бы, — писал Крамской, — все места заняты… но искусство беспредельно, приходит новый незнакомец и спокойно занимает свое место, никого не тревожа…" Это и верно, да не совсем. Не так уж спокойно Федор Васильев занял свое место, да и потревожил многих, в том числе учителя и родственника своего — Ивана Ивановича Шишкина, считавшегося тогда классиком эпического пейзажа. "Потревожил" — определение мягкое. Васильев ворвался вихрем, пошатнул устоявшиеся понятия и открыл живую, "дышащую" прелесть русской природы. Обычно его предшественником называют хорошего русского художника Сильвестра Щедрина, но последний писал почти исключительно итальянские пейзажи в их классической композиции: часть города, гавань, море, облака… Правда, если не обращать внимания на видовые аксессуары, южные белые дома, распятия, разноязычную толпу на пристани, — и у Щедрина можно разглядеть намек на пейзаж настроения, великим мастером которого нарекли Федора Васильева. И все же только напмек…
Васильева именовали романтиком, а он был скорее ведуном — ведал о том, о чем другие и не подозревали. Приходил к природе, когда она разговаривала наиболее откровенно, драматично, являла свои тайны, свой характер, — в переломные моменты бытия. Его пейзажи-откровения стали доверительным диалогом человека и природы.
Восемнадцать лет, а он уже признанный пейзажист. Молод, а жаден. Молод, а понимающ: красоту следует впитывать, собирать, зарабатывать. На ходу замечает и забирает с собой "огромный кусок радуги", "ветлы и избы", "скот и людей". Для него — "вся жизнь наружу!". Как сквозь магический кристалл открывал для себя то, мимо чего другие проходили равнодушно.
И вот появляется "Оттепель" — ей присуждается первая премия на конкурсе Общества поощрения художников.
…Просыпаются и земля и небо. Облака, еще не оформившиеся, тянутся, почти задевая землю. Темнеет уводящая вдаль дорога среди уже не белого, но еще не сдающегося буреющего снега. Все только начинается. Ветер обнажает зябкие кусты. Согнувшийся путник с ребенком минуют бедную избенку, придавленную снежным покровом, — неведомо, сколько им еще брести по бездорожью, по чернеющей грязи. Движется облачная тень, придавая полотну глубину. Ощущение печали, какой-то безысходности. Смотришь — и нет радости, а оторваться от картины трудно, словно слышишь печальную, но удивительно красивую песню… так мягки линии, так нежны краски, — чудится за всем этим неяркий, разгорающийся свет. Своим спокойным, раздумчивым тоном картина контрастировала с написанным ранее, полотном "Перед дождем", где все насыщено ожиданием грозы: темное небо, встревоженные птицы, расшумевшиеся деревья. Буйные, яркие блестки света и пятна тени изменили цвета, они вспыхнули неестественно, "раскаленные" до предела: запылала рубашонка на мальчишке, деревья засверкали золотом, гуси обернулись белыми-пребелыми лебедями… Васильев показывает нам русский пейзаж — "прозу, превращенную в фантастику", — отличающийся богатством цветовых характеристик, необычайно выразительной динамикой, живой светотенью, цельностью общей гаммы красок.
Обрушивается болезнь. И еще более резко, чем прежде, встает перед Васильевым вопрос: "Что такое художник? Что такое человек? Что такое жизнь?" Уже не имея сил возводить баррикады самозащиты и вовремя прикрываться маской, он только принимает удары. И снова деньги! Деньги! Они все необходимее: их съедает дача в Крыму, где поселяется художник, съедает болезнь, необходимость содержать мать и брата. Васильев вынужден идти на нравственные компромиссы и выполнять заказ великого князя- украшать ширмы. Совершает насилие над собой, чтобы писать этакую "мерзость" для князя. Наконец создает "несчастную картину" — "Эрик-лик". И даже безгранично любящий его Крамской, отчетливо понимая отчаянное положение своего младшего товарища, сокрушенно разводит руками, стараясь хоть как-то смягчить свое отрицательное мнение. А что смягчать? Тот и сам знал: плохо. Но в глубине души надеялся: мерзость, конечно, а может, талант все же вывезет. Талант не вывез. Вдали от друзей и выставок художник порой, терял критерий мастерства. Но все искупает лихорадочная работа в "неограниченном царстве" — в тесной квартирке, пронизанной сквозняками. В чем-то уступая, он все же до последних дней держится как боец, не расстается с надеждой, не выпускает кисти из рук — как нить, привязывающую к жизни. А ведь в его неограниченном царстве-квартирке нельзя "писать сразу… массами", но только "по частям, до того мелким, что картина иногда делается похожа на ситец…". Не квартира — клетка, из которой он вырывается все реже и реже.
"Человека заперли в комнату, которую постепенно наполняют дымом до того, что человек этот кричал: "Я задыхаюсь, выпустите дым!" Ему отвечают люди с чистого воздуха: "Скорей сделайте усилие и не задыхайтесь, не задыхайтесь только — вот уж и хорошо".
"Пойдемте погулять?" — так грустно-призывно заканчивает он письмо Крамскому.
"О болото! болото!.. — тоскуя, восклицал он из Крыма. — Неужели не удастся мне опять дышать этим привольем, этой живительной силой просыпающегося над дымящей водой утра?"
"Болото в лесу" художник не успел кончить. Но картина уже доносит до нас многокрасочное дыхание болота, деревьев, влажной травы; картина словно плещется контрастными цветами…
В Крыму же он пишет "Мокрый луг", перед которым Крамской долго-долго сидел очарованный: "…свет на первом плане. И эта тень — такого рода, что я не знаю ни одного произведения русской школы, где бы так обворожительно это было сработано…"
Картина сложных переживаний, восхищения, памяти о былом, свидание с юностью (странно звучит это в двадцать два года), глубокого проникновения в многокрасочный мир. Тень смятенных облаков гасит блеск влажной травы, темнит загадочное зеркало воды, отражающее неяркое небо. Перебегает рождающийся и угасающий луч солнца… Создается ощущение живого прикосновения к дышащему простору, подчеркнутое одинокой значительностью купы деревьев. Движущаяся тень уничтожает застылость, все неустойчиво, все пульсирует, все живет. Общий образ — настроение — не затмевает деталей: каждый камешек, каждая былинка выписаны любовно, они — часть целого, где все соразмеримо: дальние и ближние планы, гамма тонов…
Вместо подписи под "Мокрым лугом" Васильев рисует сломанный якорь. Символ крушения надежд. Он отчаялся и написал полотно, которое вновь явилось новым словом в пейзажной живописи.
"В Крымских горах". Горделива и печальна эта картина. Может быть, потому, что, являя будущее творчества художника, стала завещанием. Несовместимо ужились в ней "здравствуй" и последнее "прости" самому себе и друзьям.
Не прорывающийся внезапно стон, а песня отступающего сражаясь; не мрачная и траурная, звучащая трепетно и тонко, вот-вот оборвется…
Писал картину отважный боец: "… работаю каждый день до тех пор, пока кисти в руках видны". "В Крымских горах" — своеобразная исповедь. Могучие противоборствующие сосны на склоне горы — не в них ли видел художник далекого Крамского с его Артелью, под уставом которой и сам уверенно подписался некогда? А тощенькая, с облетающей кроной, тянущаяся за сестрами, трагически не успевающая сосенка, не он ли сам?.. И не является ли — синеватый горный кряж, каменистый щит — вечный, возвышающийся и возвышающий, теряющийся в облаках — дорогой искусства, единственно самобытного и памятного, как подвиг? Идти по дороге — испытание, долга она и трудна, а все ж приманчива и для него неизбежна.
Картину писал "упорно-печальный" человек, сроднившийся, нет, сжившийся со страданием. Выступающий против социальной неправедности: "…мало ли гибнет на земле русской… людей, у которых по их беспомощности могут отнять все!"
"В Крымских горах" — открытие в пейзажной живописи.
Пейзаж эпичен и неспокоен. На первом плане тревожно высветляется часть склона — видишь каждую "жилку" земли, ее беззащитную обнаженность, словно ушедшая тень неосторожно сняла сохраняющий покров. Подвижная светотень создает впечатление напряженного ожидания. Несовместимые, казалось бы, категории — величественность и непостоянство — в этом пейзаже неразрывны. Радостное ощущение красоты природы ("О Крым!., что за поэзия!"), предвосхищение будущего, неукротимое желание парить в вышине… Крамской писал: "Что-то туманное, почти мистическое, чарующее, точно не картина, а во сне какая-то симфония доходит до слуха оттуда, сверху…"
Крамскому казались лишними волы и телега, а Васильев, очевидно, хотел оттенить возвышенность мечтаний непреложностью идущей мимо повседневной жизни — неумолимой, словно равнодушной.
Всегда драматичный, романтический пейзаж настроения — здесь становится предсказанием, предвидением.
Крамской писал, что "какая-то сила" вовлекает зрителя "все дальше и дальше" — от сосен, ввысь, к облакам… Крамской — верный друг. Когда Васильев тоскливо мечется по комнате, ему представляется: откроется дверь, и возникнет Крамской.
Через него он, прикованный к Крыму, слышит голос
Большой земли, живет почти полнокровно, еще борясь: "Замечательно то, что у нас с Вами и враги одни и те же!" В эти дни своего последнего, 1873 года, двадцатитрехлетний Васильев духом сражается с болезнью, бравирует в письмах: "Бежит мимо глаз этакая, сударь мой, Италия, Гишпания… А мы дивуемся, чертом сидим. А? Махнем?"
Ему не удалось вырваться в Петербург, побывать в Италии, Испании. Но картину свою закончил и победил на конкурсе Общества поощрения художеств. Узнал о том. Был счастлив. Сумел показать "момент… нравственного света"; сумел не только выстоять, но сделать еще один, пусть последний, шаг вперед.
Роль Федора Васильева в искусстве велика. Он создал пейзаж мятежа — в жизни природы и мятежа своего духа, пейзаж облагораживающий и волнующий. На скромном памятнике на могиле художника друзьями высечена надпись:
"…Быстро развившись, мгновенно он вспыхнул блестящей звездою.
Но блеск ее яркий остался навеки".

КТО ТВОЙ УЧИТЕЛЬ
Ге был оптимист, он верил в человека, верил в добро, верил в действие искусства на массы…Николай Николаевич Ге (1831 — 1894) — портретист, исторический живописец, автор картин на евангельские темы, с помощью которых он решал актуальные вопросы современности. Одно из самых знаменитых его полотен — "Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе". Н. Н. Ге — учредитель Товарищества передвижных художественных выставок..И. Е. Репин
Николай Ге знал, чему учиться, и умел выбирать учителей. "Учителя, — говорил он, — были дорогие люди, они были светлые точки нашей жизни". Художник любил и Герцена и Толстого, как он признавался, "безгранично". Два их портрета — один, написанный в зрелой молодости, другой много позже — память об учителях, размышление о совести, правде, творчестве. На портрете Герцен вышел дорогим гостем, которого очень ждали. Словно только-только вошел и, еще сохраняя инерцию движения, глянул остро, зорко — мыслью. Наверное, так оно и было. Ге давно жаждал встречи с Герценом, чей призыв — в истине и совести искать норму поведения, чтобы быть свободным, — был ему близок и дорог. Художник зачитывался его книгами, находил в них ответы на самые волнующие вопросы. Хотел даже ехать к писателю в Лондон. И вдруг тот сам — в гостях у Ге… Вот каким запечатлен Герцен на портрете: лицо озарено вдохновением, высокий лоб куполом возносится над изломами подвижных бровей. Крепкое лицо крепкого человека. По словам художника, лицо публициста и философа, чьи "идеи электризовали", кто до конца сражался с самодержавием. В 1867 году, когда писан портрет, Герцен сообщает Огареву о слухах, "что "Колокол" приказал долго жить…", и заявляет: "Ничуть не расположен к тому, чтобы своим самоубийством доставить удовольствие его величеству царю". Лицо поэта. Вот что сказал о Герцене Достоевский: "Агитатор-поэт, политический деятель — поэт, философ — в высшей степени поэт!" Создавая портрет политика и остроумца, Ге также разглядел в нем поэта. Порывистый Герцен смотрит искрометно. Когда Ге восторженно бросился ему навстречу, заметил прежде всего "живые умные глаза". Но, заглянув внутрь этих глаз, художник отшатнулся от неожиданности: перед ним стоял "глубоко несчастный человек". Лучший портрет Ге парадоксально соединяет радость жизни с грустью раздумий. Герцен смотрит на вас, он здесь, но он и там, в недавних днях тревог и разочарований. Он говорит нам и одновременно вопрошает себя. Незадолго до встречи с художником писатель пережил личную духовную драму. Герцен заново осмысливает свое место в революционном движении. Герцен — человек, навсегда разлученный с Родиной. Возможно, у Ге возникло то же ощущение, что и у Стасова, назвавшегописателя великим человеком с отрезанными крыльями. Герцену портрет понравился чрезвычайно: "Портрет идет Rembrandtish (по-рембрандтовски)". Имя писателя было запретным. Ге вез портрет в Петербург с предосторожностями, пририсовав Герцену Анну на шею. По другой версии — прикрыл картину бумагой, на которой кого-то изобразил. Герцен привел Ге к зрелости. Толстой в зрелости ему "все открыл". Они часто встречались с Толстым. Ге жил у писателя в хамовническом доме, учил живописи дочь Льва Николаевича. Толстой и Ге находят друг в друге души откликающиеся. Разговор у них "поднятый", дарящий Ге радость понимания: чтобы преодолеть муки сомнений, надо "броситься в море и плыть". И Ге это делает. Он не страшится страдать и поступать по совести. Мучительно поклоняясь искусству как выражению "совершенства всего человечества", имеет мужество оставить кисть, когда утверждается в мысли: воздействие искусства ничтожно, занятие искусством суетно. Кладет соседям печи и занимается хлебопашеством. И все же возвращается из печников и земледельцев к искусству, как к трудному подвигу во имя людей. Помогает ему понять это Толстой. …Толстой с усилием двигает пером, таким хрупким в его красивой "моторной" (по Репину), но грубой руке. Окружает писателя слышная нам тишина. Предгрозовая. Толстой как-то сердито сосредоточен, мысль, затаившаяся в глубокой складке между бровями, проливается и вонзается в бумагу кончиком пера. Свободен могучий лоб — вылеплен мощно и крепко, на все времена. Свет озаряет лоб, и кажется, что напряженное лицо писателя излучает свет: мысль освещает. Перед нами Толстой, уже создавший "Войну и мир" и "Анну Каренину", начавший писать "Так что же нам делать", "Власть тьмы" и "Народные рассказы", которые, кстати, иллюстрировал Ге. В том же 1884 году писатель уже читает домашним отрывок из "Смерти Ивана Ильича". …Толстой работает за столом в кабинете своего хамовнического дома. Сидит устойчиво, а приходит ощущение некоего непостоянства, движения, временности состояния. Словно шел-шел, жил, страдал и наконец смог сесть за стол. Впечатление о страннике усиливается и внешними приметами: вьющиеся волосы отбрасываются назад, Толстой как бы преодолевает порывы ветра — волосы охватывают голову легким пламенем… Скажи мне, кто твой друг… А может быть, вернее, скажи мне, кто твой учитель?.. Два учителя. Солнечный луч падает на лица Герцена и Толстого. Отмеченные светом правды, страдающие вместе с людьми, они сражались со злом ради людей.

ХУДОЖНИКИ О ХУДОЖНИКАХ Л. О. ПАСТЕРНАК о Н. Н. ГЕ
Мое знакомство с Н. Н. Ге произошло совсем случайно. Это было в начале 90-х годов, когда, окончательно поселившись в Москве, я стал знакомиться с художниками. Как-то я зашел к Поленовым; за вечерним чаем, кроме всей семьи их, застал незнакомого мне старика, очень живописного, с красивой головой; к моей превеликой радости, он оказался Николаем Николаевичем Ге. Я никогда не видывал его прежде, даже не знал, и был несколько удивлен, когда, здороваясь, он заговорил со мной, как со старым знакомым; более того, как с человеком близким, причем тут же во всеуслышание заявил, что смотрит на меня, как на своего последователя, на ученика и преемника его художественных взглядов и деятельности — что-то вроде этого. Хоть мне и крайне лестно было услышать такое мнение из уст выдающегося маститого художника, прославленного представителя русской живописи, однако разделить его я никак не мог; непонятным для меня так и осталось, чем и почему я заслужил поощряющий и вместе с тем странный отзыв. Несмотря на мое недоумение, он еще добавил: "Мы с вами давно друзья. Вы мой продолжатель!.." Н. Н. Ге рассказывал интересно и с большим темпераментом. В салонах Петербурга тогда только и было разговору, что о нашумевшей и имевшей большой успех исторической картине Н. Н. Ге "Петр и Алексей". Чувствовалось, что у этого художника было большое, значительное прошлое. В его лице поражали живые, умные и, несмотря на возраст, молодые, горящие глаза. А каким оригинальным, большого ума человеком он был, каким образованным и начитанным, не говоря уже о том, что он был одним из крупнейших, не стареющих душой художников-передвижников! Я так жалел потом, что не пришлось мне написать с него большого портрета. Все же я рад, что увековечил Н. Н. Ге с его великим другом в моей небольшой картине "Чтение рукописи". Он был толстовцем и был связан искренней дружбой с Львом Николаевичем. Рукопись одного из своих чудесных рассказов Лев Николаевич читал мне, но я решил изобразить на картине вместо себя его лучшего друга и написал Н. Н. Ге слушающим чтение Толстого… Но вернемся к вечеру у Поленовых. Как я уже сказал, Н. Н. Ге ошеломил меня своим внезапным признанием в момент знакомства, что он видит во мне своего последователя. Еще больше смутил он меня, когда стал хвалить виденные им мои работы. В конце вечера сказал, что хотел бы узнать меня поближе, увидеть мои вещи, еще незнакомые ему. Я с искренней радостью при- гласил его к себе, и мы тут же условились о дне и часе его прихода. Когда он пришел к нам, он очаровал всех у нас дома, до няни включительно. По тому, как этот старик, глубокий философ и последователь Толстого, смотрел мои картины, как он приглядывался, словно изучая, к каждому эскизу, рисунку, к каждому цветному этюду, видно было, что это был молодой душой, страстный, настоящий художник-живописец.В. В. СТАСОВ Из статьи "Двадцатилетие передвижников"
Товарищество независимо от того, что было создано его кистью и карандашом, представляет уж одним своим сплочением и составом пример чего-то совершенно у нас небывалого и на первый взгляд чего-то как будто немыслимого. Это ассоциация людей, существующих на свои средства, не ожидающих и никогда не требовавших ничьей посторонней помощи, существующих сами по себе и никогда не сдававших в энергии, бодрости и горячности. Когда, где можно указать у нас что-нибудь подобное? Заводились у нас, бывало, даже еще в прошлом веке, товарищества масонов, оживленных целями моральными и религиозными, — их либо скоро потом закрывали, либо они сами закрывались, потому что переходили за черту возможного в русской государственной жизни или превращались в пустейшие сборища для нелепой кукольной формалистики и мистических мечтаний; заводились у нас общества нравственные и благотворительные (как, например, общество посещения бедных), заводились общества ученые (археологическое, географическое и множество других), но все они скоро либо совсем исчезали, либо становились хилы и расслаблены — от безмерного охлаждения членов, от наступления полного их равнодушия к собственному делу. Товарищество передвижных выставок представляет какое-то необычное, несравненное исключение. Одно оно на целую Россию никогда не теряло из виду своей цели, одно оно всегда шло тем же крупным и могучим шагом, каким начало. И это целых двадцать лет! Но не надо забывать, что, кроме всех остальных товарищей, у этого несравненного художественного общества был всегда еще один товарищ, который много придавал ему силы, бодрости и надежды на жизнь. Это П. М. Третьяков, московский собиратель. С чудною, небывалою еще у нас инициативою1 он создал национальную галерею, куда радушно призывал все значительнейшие создания русского художественного творчества, но куда впускал не всех сплошь и без разбора, лишь бы художник славился в настоящую минуту, а его творения были в моде и всеобщем ходу, как это происходит у большинства собирателей-любителей: он к себе впускал новых лишь по действительному убеждению и по искренней симпатии. Раньше галереи П. М. Третьякова уже существовали у нас галереи Прянишникова и Солдатенкова. Но какая между ними разница! У тех в галереях царствуют безразличие, всеядность, односторонние и бедные вкусы, в. его галерее широкий исторический взгляд, обширные рамки и горизонты, просветленный художественной мыслью и пониманием выбор. Во все двадцать лет существования Товарищества П. М. Третьяков шел рядом с ним, участвовал во всех его боях, счастьях и несчастьях и часто принимал на себя такие же удары невежества и тупой злобы, как и само Товарищество.
О Б РАЗ "СТОЛЬ МУЧИТЕЛЬНОЙ ПРЕЛЕСТИ"
…русская жизнь осуществила изумительный парадокс: к нам в двадцатый век она привела художника, детство и юность которого прошли в XVI и XVII веках русской истории.Василий Иванович Суриков (1848 — 1916) — автор исторических полотен и портретов. Родом из Сибири. Учился в Академии художеств. Член Товарищества передвижных художественных выставок. Его знаменитые картины: "Меншиков в Березове", "Боярыня Морозова", "Покорение Сибири Ермаком", "Переход Суворова через Альпы", "Степан Разин", "Взятие снежного городка"…Максимилиан Волошин
* * *
…Она — гонимая. Бежала, бежала и остановилась на полпути. Иссиня-темно-серая бархатная шуба, опушенная дымчатым мехом, теневыми складками контрастно очертила зябнущую фигуру. Стала явной беззащитная нежность. Девушка не растеряна, не испугана, хотя поза — защищающаяся, а пряди темных волос небрежно упали на лоб. Взгляд в никуда, может быть, в себя самое, печально размышляющий, выдает странно-спокойное состояние забытья. Вот подумает о чем-то, ни о чем ли, встанет и в омут с обрыва, или, стряхнув оцепенение, заживет спокойной жизнью. Прекрасная сумеречная женщина. Техника исполнения этой акварели доведена мастером до виртуозности. Я гляжу на акварель и с сожалением думаю, как иногда мешает осведомленность. Со слов очевидцев мне известно: однажды в дождливую пору художник сидел со своей семьей в крестьянской избе. "Когда же было, где? — спрашивал себя Суриков, и вдруг точно молния блеснула в голове: — Меншиков, Меншиков в Березове". Мне известно: элегический образ станет трагическим. Девушка на акварели уже не поднимется, и самое страшное: не улыбнется. Она — Мария Меншикова, дочь светлейшего князя Римской империи, после смерти Петра I в результате дворцовых интриг сосланного в Сибирь, в Березов, с указом "давать ему и жене и сыну и дочерям корму по рублю…". Не нежной, почти прозрачной акварелью — маслом напишет Суриков Марию в картине "Меншиков в Березове". Прильнет она к своему отцу как к последней опоре. Пусть ненадежной и отчасти враждебной. Она, очевидно, простила отца, бывшего пирожника и денщика, "полудержавного властелина", мимоходом растоптавшего ее слезы и мольбы, любовь к Сапеге и отдавшего в невесты малолетнему Петру II. Что и было вменено последним Меншикову в вину наряду с попыткой представить его заморским агентом: "…дерзнул нас принудить на публичный зговор к сочетанию нашему на дочери своей княжне Марье…" И вот княжна Марья недоумевает: за что, почему, откуда пришла беда?.. Рядом с лицом отца, еще живущим остатками былой клокочущей энергии, ее матовое лицо — словно трагическая маска. Она отвернулась от мощной руки, вознесшей ее столь высоко и опустившей столь низко. А винит скорее себя, самосжигается за собственную уступчивость и нерешительность. Впрочем, что могла она, женщина начала XVIII века, все же не пирожникова — княжеская дочь?.. Уже некогда и не о чем сожалеть, только обрыв впереди. Похоронит отца, а вскоре в церкви, им срубленной, отпоют и ее… Я снова возвращаюсь к акварели, она мягче, уступчивее, ближе сердцу, в ней есть надежда. А услужливое знание некстати напоминает: Марья Меншикова писана в 1882 году с жены художника, Елизаветы Августовны Шарэ. Через шесть лет ее не стало. Суриков горевал безмерно: "…за ней ходил, за голубушкой, все почти не спал… жизнь моя надломлена, что будет дальше, и представить себе не могу". Стал задумываться, бросил живопись и уехал на родину, в Сибирь. Сибирь вылечила его душу. Он вернулся и написал "Взятие снежного городка". Колорит этого хохочущего, искрящегося весельем полотна удал и радостен. Так ярко-ярко вспыхивает электрическая лампочка перед тем, как перегореть. Но Суриков выдержал испытание. Подтверждение тому — "Горожанка", "Переход Суворова через Альпы", "Степан Разин"… Акварель "Старшая дочь Меншикова", этюд к большому полотну — как вдохновенная и порывистая запись трагедии, совершившейся и грядущей. Справедливо отмечали, что суриковские акварели — его личный дневник. Вот катит сероватые с зелеными всплесками волны Обь, вот зарисовки видов Москвы, сибирские пейзажи, итальянские акварели, наконец, портреты, отличающиеся тонким психологизмом и поэтичностью. Великий исторический живописец В. И. Суриков — и легок и труден. Его замечательные акварели предшествовали мощным "экспрессионистичным" полотнам и были самостоятельными произведениями искусства, показывая самые различные оттенки могучего таланта "самого русского из русских художников".
ХУДОЖНИКИ О ХУДОЖНИКАХ Я. А. ТЕПИН о В. И. СУРИКОВЕ
…В Москве он почувствовал, что старая Русь — настоящий его путь. С 1878 года Суриков твердо сел на Москве. С этого времени, если он не шатался где-нибудь по Руси в поисках натуры, то проживал или здесь, или в Красноярске. В 1878 году задумана "Стрелецкая казнь". Еще работая в храме Спасителя, Суриков часто заходил на Красную площадь, названную так по крови, на ней пролитой… Высшая красочная нота в "Стрельцах" дана белыми рубахами осужденных на смерть и горящими свечами в их руках, а низшая представлена черной позорной доской. Все остальное выдержано в гармонии серых и цвета запекшейся крови тонах, прекрасно передающих гул народной толпы и мрачный силуэт Василия Блаженного. Узкая цепь, соединяющая враждебные группы, как бы дрожит. В беспокойной разорванности композиции — как бы рыдание. Мглистое осеннее утро покрывает картину холодными тонами. В этой первой же своей картине Суриков обнаружил свою стихию… Эти картины, написанные в течение 80-х годов, — трилогия страдания: казнь стрельцов, ссылка Меншикова, пытка Морозовой. Суриков писал Петра, "рассердившись". Ему снились казненные стрельцы и распаляли воображение. "Во сне пахло кровью". Репин советовал ему заполнить виселицы: "Повесь, повесь!" Но Суриков не послушался — "красота победила". "Кто видел казнь — тот ее не нарисует". В 1883 году задумана "Боярыня Морозова" в таком виде, как она выражена в эскизе у Цветкова: боярыню везут по Никольской улице по направлению к Красной площади, с виднеющимися вдали кремлевскими бойницами… "Боярыня Морозова" — по тону, по цвету и свету и по цельности композиции, безусловно, выше "Стрельцов" и всех следовавших за ними произведений Сурикова. Все ее качества достигнуты гениальными по простоте средствами. Ее основная тема — русские сани и ворона на снегу. Исходя из отношений сизовато-черного крыла к розоватому снегу — вечной антитезы черного с белым, — Суриков развил их в вибрирующей массе густого воздуха… Суриков не судья истории — он ее поэт… "Боярыня Морозова", которая каждым вершком своей живописи вызывает удивление и соблазняет зрителя на тысячи комментариев, была встречена обществом с восторгом, не остывающим до сего дня. В ней Суриков действительно достиг вершины, за которой уже открывается широкая равнина уверенного, мощного мастерства… …Суриков написал "Взятие снежного городка" — предтечу "Покорения Сибири". Ему припомнилась эта старинная масленичная игра, которую он видел в раннем детстве в глухой деревне, возвращаясь с матерью из Минусинска. Почти современное явление Суриков трактовал с таким проникновением в источник игры, что от картины повеяло древней былью, когда богатыри перескакивали леса и горы. "Ермак" окончательно восстановил энергию Сурикова… Колорит, выдержанный в желтоватых и сероватых тонах с красной фигурой впереди, и воздух, густой и тяжелый, по контрасту со светлыми пятнами выстрелов, отвечает поэтическому образу кунгур-ского летописца: "Было темно от летящих стрел". В 1895 году… задуман "Суворов"… В 1897 году он ездил в Швейцарию, прошел весь знаменитый суворовский путь в суворовских гетрах и даже скатывался в снежные ущелья, повторяя подвиги суворовских солдат… Девяностые годы можно назвать героическим периодом Сурикова: Взятие городка, Покорение Сибири, Переход через Альпы. В них остроумно разрешены задачи движения, напора, падения — необходимых элементов героических действий. В XX век Суриков вступил усмиренным и даже как бы разочарованным. Хотя по-прежнему его занимают… Разин, Пугачев, Павел I, красноярский бунт, но все это рисуется в каком-то унижении. Пугачев в клетке, красноярская смута подавлена, смерть Павла — зловеще-темная, а Стенька в бездеятельности… Мощная фигура Сурикова издавна служила источником многочисленных легенд. Своеобразный и нетерпеливый, но простой и прямой по характеру, он не выносил лжи и ханжества в искусстве. Он не любил досужих советчиков и держался всегда особняком в своей закрытой мастерской, резко проводя свою твердую линию. Во время буйного расцвета Сурикова Репин и Куинджи считали его своим товарищем по свержению академических традиций. Новая школа искателей национальной красоты от него же ведет свою родословную… 1916 г.Н. К. РЕРИХ о И. Е. РЕПИНЕ
Каждому из нас от малых лет имя Репина было драгоценно. Каждая подробность его творчества любовно обсуждалась и запоминалась… Не было дома, где бы не было воспроизведений картин Ильи Ефимовича. Это были случайные гости, но народная гордость хранила бережно эти вехи жизни народа русского. "Бурлаки", "Не ждали", "Крестный ход", "Грозный", "Царевна Софья", "Запорожцы" — целый ряд творений, и каждое из них переворачивает страницу истории русского искусства. И сама творческая жизнь мастера, его умение трудиться не покладая рук, его уход в "Пенаты", его вегетарианство, его писания — все это необычное и крупное дает яркий облик великого художника. Толстой говорил: "Не могу молчать". Так же как и Репин не мог молчать и брался за перо, чтобы сказать на общую пользу. Портреты Репина составляли целую историческую галерею. Жаль, что в Париже остался превосходный карандашный портрет молодого Серова. Надеюсь, он сохранился, а хотелось бы иметь его здесь, в Гималаях. Много встреч было с Ильей Ефимовичем. Первая была в его мастерской у Калинкина моста. Повез показать ему эскизы и этюды. Ласковый мастер сказал многое доброе. В академии шептали: "Сам Репин здесь". И вот в этом "сам" звучало высшее уважение.
Репиным была отображена атмосфера дома Толстого, и тоже сам великий глубоко говорил о Репине, когда Стасов и Римский-Корсаков свезли меня после моего "Гонца". Толстой спрашивал: "А Репин одобрил?" Хотел Илья Ефимович, чтобы я был в его мастерской, а Матэ передал мне об этом.
Не только в академии, но и в Обществе поощрения художеств мы постоянно встречались. И опять пробегал шепот: "Сегодня доставили репинскую картину!" И бежали смотреть. Все чуяли нечто значительное. Когда-то на улицах Питера можно было встретить Пушкина и Гоголя, а теперь кивали друг другу: "Смотри, вон проехал Репин!" Когда пронеслась весть, что рука дикого вандала изрезала "Грозного", какое всеобщее негодование вспыхнуло! Конечно, всюду имеются вандалы…
Как прекрасно, что трудовые народы Союза почтили память великого творца! Почтили не только официально, но сердечно. Состав комитета свидетельствует, как дружно сошлись лучшие художники и писатели, чтобы еще раз поклониться нашему великому русскому мастеру. Говорили, что "Пенаты" разрушены немцами и финнами. Отвратительны такие злобные бессмысленные разрушения. Но русский народ создаст новые, нерушимые "Пенаты".
В Гималаях сегодня мы побеседуем о Репине, помянем добром, скажем: "Слава великому художнику! Слава великому народу, хранящему свое культурное достояние!"
Жаль, что в Париже остался превосходный карандашный портрет молодого Серова. Надеюсь, он сохранился, а хотелось бы иметь его здесь, в Гималаях. Много встреч было с Ильей Ефимовичем. Первая была в его мастерской у Калинкина моста. Повез показать ему эскизы и этюды. Ласковый мастер сказал многое доброе. В академии шептали: "Сам Репин здесь". И вот в этом "сам" звучало высшее уважение.
Репиным была отображена атмосфера дома Толстого, и тоже сам великий глубоко говорил о Репине, когда Стасов и Римский-Корсаков свезли меня после моего "Гонца". Толстой спрашивал: "А Репин одобрил?" Хотел Илья Ефимович, чтобы я был в его мастерской, а Матэ передал мне об этом.
Не только в академии, но и в Обществе поощрения художеств мы постоянно встречались. И опять пробегал шепот: "Сегодня доставили репинскую картину!" И бежали смотреть. Все чуяли нечто значительное. Когда-то на улицах Питера можно было встретить Пушкина и Гоголя, а теперь кивали друг другу: "Смотри, вон проехал Репин!" Когда пронеслась весть, что рука дикого вандала изрезала "Грозного", какое всеобщее негодование вспыхнуло! Конечно, всюду имеются вандалы…
Как прекрасно, что трудовые народы Союза почтили память великого творца! Почтили не только официально, но сердечно. Состав комитета свидетельствует, как дружно сошлись лучшие художники и писатели, чтобы еще раз поклониться нашему великому русскому мастеру. Говорили, что "Пенаты" разрушены немцами и финнами. Отвратительны такие злобные бессмысленные разрушения. Но русский народ создаст новые, нерушимые "Пенаты".
В Гималаях сегодня мы побеседуем о Репине, помянем добром, скажем: "Слава великому художнику! Слава великому народу, хранящему свое культурное достояние!"

И. Е. РЕПИН о В. А. СЕРОВЕ
Искусство Серова подобно редкому драгоценному камню: чем больше вглядываешься в него, тем глубже он затягивает вас в глубину своего очарования. Вот настоящий бриллиант. Сначала, может быть, вы не обратите внимания: предмет скромный, особенно по размерам; но стоит вам однажды испытать наслаждение от его чар — вы уже не забудете их. А эти подделки колоссальных размеров, в великолепных оправах, после истинных драгоценностей покажутся вам грубыми и жалкими…
…Только близкие, только товарищи-художники знают хорошо, что еще мог сделать Серов. Ах, какое глубокое горе [Валентин Александрович Серов умер в 1911 году, в возрасте 46 лет]. Какая невознаградимая потеря для искусства! В таком расцвете силы…
У меня хранится… этюд Серова с головы артиста Васильева второго (когда В. А. писал портрет своего отца в моей мастерской, он, чтобы поддержать себя реальной формой, написал этот этюд с Васильева в повороте и освещении фигуры своего отца). В это время он уже был под влиянием Чистякова, так как в Академии художеств главным образом слушался его. Эта живопись резко отличается от той, которая следовала моим приемам.
Мой главный принцип в живописи: материя как таковая. Мне нет дела до красок, мазков и виртуозности кисти, я всегда преследовал суть: тело как тело. В голове Васильева главным образом бросаются в глаза ловкие мазки и разные, но смешанные краски, долженствующие представлять "колорит"… Есть разные любители живописи, и многие в этих артистичных до манерности мазках души не чают… Каюсь, я никогда их не любил: они мне мешали видеть суть предмета и наслаждаться гармонией общего. Они, по-моему, пестрят и рекомендуют себя как трескучие фразы второстепенных лекторов. Какое сравнение с головой, которую он написал с меня… Там высокий тон, там скрипки Сарасате.
Главное сходство Серова с Рембрандтом было во вкусе и взгляде художника на все живое: пластично, просто и широко в главных массах; главное же, родственны они в характерности форм. У Серова лица, фигуры всегда типичны и выразительны до красивости. Разница же с Рембрандтом была во многом: Рембрандт более всего любил "гармонию общего", и до сих пор ни один художник в мире не сравнялся с ним в этой музыке тональностей, в этом изяществе и законченности целого. Серов же не вынашивал до конца подчинения общему в картине и часто капризно, как неукротимый конь, дерзко до грубости выбивался к свободе личного вкуса и из страха перед банальностью делал нарочито неуклюжие, аляповатые мазки — широко и неожиданно резко, без всякой логики. Он даже боялся быть виртуозом кисти, как несравненный Рембрандт, при всей своей простоте; Серов возлюбил почему-то мужиковатость мазков…
Еще различие: Рембрандт обожал свет. С особым счастьем купался он в прозрачных тенях своего воздуха…Серов никогда не задавался световыми эффектами как таковыми… он разрешал только подвернувшуюся задачу солнца, не придавая ей особого значения, и при своем могучем таланте живописца справлялся с нею легко и просто.
Вот настоящий бриллиант. Сначала, может быть, вы не обратите внимания: предмет скромный, особенно по размерам; но стоит вам однажды испытать наслаждение от его чар — вы уже не забудете их. А эти подделки колоссальных размеров, в великолепных оправах, после истинных драгоценностей покажутся вам грубыми и жалкими…
…Только близкие, только товарищи-художники знают хорошо, что еще мог сделать Серов. Ах, какое глубокое горе [Валентин Александрович Серов умер в 1911 году, в возрасте 46 лет]. Какая невознаградимая потеря для искусства! В таком расцвете силы…
У меня хранится… этюд Серова с головы артиста Васильева второго (когда В. А. писал портрет своего отца в моей мастерской, он, чтобы поддержать себя реальной формой, написал этот этюд с Васильева в повороте и освещении фигуры своего отца). В это время он уже был под влиянием Чистякова, так как в Академии художеств главным образом слушался его. Эта живопись резко отличается от той, которая следовала моим приемам.
Мой главный принцип в живописи: материя как таковая. Мне нет дела до красок, мазков и виртуозности кисти, я всегда преследовал суть: тело как тело. В голове Васильева главным образом бросаются в глаза ловкие мазки и разные, но смешанные краски, долженствующие представлять "колорит"… Есть разные любители живописи, и многие в этих артистичных до манерности мазках души не чают… Каюсь, я никогда их не любил: они мне мешали видеть суть предмета и наслаждаться гармонией общего. Они, по-моему, пестрят и рекомендуют себя как трескучие фразы второстепенных лекторов. Какое сравнение с головой, которую он написал с меня… Там высокий тон, там скрипки Сарасате.
Главное сходство Серова с Рембрандтом было во вкусе и взгляде художника на все живое: пластично, просто и широко в главных массах; главное же, родственны они в характерности форм. У Серова лица, фигуры всегда типичны и выразительны до красивости. Разница же с Рембрандтом была во многом: Рембрандт более всего любил "гармонию общего", и до сих пор ни один художник в мире не сравнялся с ним в этой музыке тональностей, в этом изяществе и законченности целого. Серов же не вынашивал до конца подчинения общему в картине и часто капризно, как неукротимый конь, дерзко до грубости выбивался к свободе личного вкуса и из страха перед банальностью делал нарочито неуклюжие, аляповатые мазки — широко и неожиданно резко, без всякой логики. Он даже боялся быть виртуозом кисти, как несравненный Рембрандт, при всей своей простоте; Серов возлюбил почему-то мужиковатость мазков…
Еще различие: Рембрандт обожал свет. С особым счастьем купался он в прозрачных тенях своего воздуха…Серов никогда не задавался световыми эффектами как таковыми… он разрешал только подвернувшуюся задачу солнца, не придавая ей особого значения, и при своем могучем таланте живописца справлялся с нею легко и просто.

ЭТО СЧАСТЬЕ, ЭТА ОТРАВА
…Вы с таким молодым, непосредственным чувством, с такой красочной полнотой показали поэзию старого родного быта, неисчерпаемые тайны нашей родины.Василий Дмитриевич Поленов (1844 — 1327) — народный художник республики, академик. Член Товарищества передвижных художественных выставок. Преподавал в Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве. …Дома высятся белоснежными крепостями, расцвечены пятнами окон и флагов. В ярко-голубой воде красными, бурыми, темно-зелеными змеями бегут блики, отражения лодок и прикорнувших у набережной барок. Их цвет на легкой, пляшущей, искрящейся воде тяжел, сочен, дерево будто плавится солнечным днем. Спустись по ступеням, зачерпни цветастую радугу и хоть ненадолго унеси с собой. Светлым и радостным увидел этот город Василий Дмитриевич Поленов. "Венеция удивительная! Это какая-то творческая фантазия". Путешествовал Поленов много: Италия, Германия, Англия, Испания, Греция, Турция, Египет, Ближний Восток. "Какие Веронезы, какие Кранахи, Вермееры… Макарт - …необузданный фантаст… чудесный Рембрандт…" Встречался с музыкантами, писателями; в салоне Полины Виардо, куда ввел его Иван Сергеевич Тургенев, знакомился с Ренаном и Золя… Учитель Поленова Павел Петрович Чистяков говаривал: мы, живописцы, народ мимолетный, бездомный. А вот Поленову в бродяжестве, за границей не жилось, как сырой тоской тянуло: "…прямо подло жить в Европе, когда в России надо работать… Чувствую себя… без почвы, без смысла…" Отказался писать блудного сына, вернулся домой, выставил картины, произошла перепалка со Стасовым. Тому вдруг показалось, что у Поленова склад души не русский. И вообще — жить бы ему за границей. А он только и дышал лесами да полями российскими. Любовь к родине для него, человека образованного и талантливого, имела особый смысл. В иные времена простая порядочность, нежелание прислуживать, кивать, поддакивать, становиться во фрунт — уже само по себе достоинство немалое. Поленов большую часть своей жизни, — а он знавал еще людей пушкинской эпохи, переписывался со Львом Толстым — прожил именно в такие времена. Вместе с другим мужественным человеком, художником В. А. Серовым, именно он в 1905 году написал протест в собрание императорской Академии художеств: "Мрачно отразились в наших сердцах страшные события 9 января". Был глубоко порядочным, совестливым человеком. Это довело до неврастении, и он познал, что жизнь — болезнь, но зато не сыщешь, пожалуй, в его жизни поступка, которого мог бы стыдиться. Таким, очевидно, родился, таким воспитали — учили гуманности, добру. Еще прадед Поленова писал "рассужденье о свободном труде крестьян" под девизом: "Хорошие нравы лучше хороших законов". Отец радовался уничтожению крепостного права. А сам Поленов начал с того, что замыслил картину "Заседание Интернационала". Человек лично храбрый, участвовал в сербо-хорватско-турецкой и в русско-турецкой войнах, был награжден медалью и крестом. Но кровь людскую, огонь сжигаемых жизней не мог запечатлеть на полотне и не хотел — цвет ее обжигал, слепил глаза. Представляется, что однажды, поселившись в Трубниковском переулке, он из окна увидел свой "Московский дворик". И глазам, сердцу, уму, отупевшим от ужасов войны, дворик явился миром, в котором очень хочется жить. А что, собственно, в этом дворике? Не какая-нибудь Венеция с дворцами и гондолами. Куры копошатся. Лошадь понурилась в своей телеге. Малыши на обычнейшей лужайке с обычнейшими ромашками. Женщина спешит с ведром воды. Сушится белье. Деревья да сараюшки. Быт как быт. А приходит ощущение счастья. Смотришь, "выходишь", минуя раму, в дворик, шагаешь тропкой и понимаешь: вот она, жизнь… Именно "Московским двориком" Поленов дебютировал на выставке передвижников и "за нее" был принят в члены Товарищества. "Московский дворик" озарен светом радости бережно хранимого чувства. В нем желанное прикосновение к теплу бытия. Без сентиментальной слезинки, без поклонения. Не станешь на колени, чтобы поцеловать эту землю, но с удовольствием пойдешь по ней, и запоешь, и поваляешься на траве, и блаженно будешь глядеть в бездонную синь, где "белеет облаков летучая гряда". Все в "Московском дворике" гармонично и мягко. Ничто резким контрастом не разрушает цветового единства. Органично соединяются жилище человека и природа. Все пронизано небесной голубизной и светом. Говорили, что от картины "веет свежестью молодости". Да и писал ее человек молодой — в 1878 году Поленову исполнилось всего тридцать четыре года. Комментируя картину, цитировали следующее: "В Москве выдуманы слова: приволье, раздолье, разгулье… Голубушка Москва любит маленький беспорядок". Под порядком подразумевалась, очевидно, линия наступающих ампирных особняков. Но уютный дворик (не они ли, эти дворики, создали Москве славу большой деревни) — не беспорядок, а явление высшего порядка, он естествен и необходим, прост и свободен, он как единый аккорд. Дворик исполнен поэзии. Сколько прелести в белой, выгоревшей на солнце детской головке. И в задумчивой фигурке, бредущей к цветку… Картина без недомолвок. Все рассказано. Так почему же в ней находили неисчерпаемую тайну нашей Родины? В обыкновенном увидено, узнано необыкновенное. Необыкновенное очарование родного края. Художники обращались тогда и к библейским сюжетам. И Поленов пишет своего Христа. Но вспомним вначале другое, более раннее полотно "Сказитель былин Никита Богданов". Потому что оба — и Христос и Никита у Поленова одной породы — странники, правдоискатели. Только первый молод, а Никита староват, темен лицом. Напряженно, устало-страдальчески вглядывается он в окружающую жизнь. И устал как будто не от странствий, а от былин своих — у него в котомке они, а не снедь и одежка. Таскает свои былины Никита по дорогам, по белу свету и раздает людям корявыми, темными руками. Сидит он, всматривается, готовит новую быль — и тогда этот обыкновенный мужик в драной синеватой рубахе, латаных штанах и лаптях поднимается фигурой величавой, этаким всеведом, вот-вот ударит посохом в землю — вода пойдет. Но не в том его сила, а в спокойствии к жизни. Деревянная стена, к которой он прислонился, светится голубоватым (цвет, особо любимый художником), желтоватым, согревающим светом, так и кажется, что пахнет, как свежесрубленная, смолой живицей — и как бы сказочный терем и избушка на курьих ножках перед нами. Однако это стена простой избы или даже сарая, рядом колесо от телеги и дуга… И Христос у Поленова — странник, как Никита, в позе усталого путника. Не вершить свою волю хочется ему, не бог он — ищущий человек. Усевшиеся вокруг любопытствуют о нем, одержимом. Теплая дневная сумрачность в картине "Христос и грешница". К утомленному путнику толпа тащит упирающуюся девушку-блудницу. Происходит действо, фигуры расставлены, как на сцене, но три нити психологического напряжения связывают картину живым клубком человеческих страстей. Три взгляда. Испуганный, надеющийся — девушки. Цепкий, мгновенно оценивающий ситуацию и уже грустящий о ее неизжитой обыденности — Христа. В следующую секунду он найдет наиболее точное определение и скажет: "Кто из вас без греха, первый брось в нее камень…" Фразу эту обладатель третьего, ожидающего, взгляда — всадник на осле — увезет и размножит по другим улицам, поселкам и городам. Христос — молодой Никита Богданов. И не суть для художника: был или не был такой человек. Суть: вот вам, вы, развратничающие братья во Христе, как можете судить других?.. Зло пытался Поленов пресекать просветительством. Сеять доброе и вечное, тот святой огонь искусства, который замечали в нем современники. Во что бы то нп стало накормить голодных духом — чем можешь и как умеешь. Создает народный и школьный театр, в своей усадьбе — музей. После Октябрьской революции его избирают председателем секции народных театров, причем этот председатель сам участвует в оформлении декораций, пишет музыку, больше всех хлопочет, наконец сооружает передвижной театр-диораму: показывать крестьянам кругосветное путешествие. За что получает неожиданный "гонорар" — мальчишка дарит ему булочку! Человек благородных устремлений, Поленов романтик и в так называемой личной жизни. "Вы исчезли, я остался, как озаренный светом… Шел снег с дождем, огромные мокрые хлопья так и залепляли лицо, всюду грязно, мокро, пронзительный ветер, а я стоял на ступеньке Вашего крыльца и был несказанно счастлив, и лучшей минуты в моей жизни не было…" На взгляд черных раскосых глаз скуластой смуглой женщины он натолкнулся случайно, на станции Орел. Любил ее долго и верно. Без взаимности. Много лет спустя она, певица Климентова, женщина, так и не нашедшая своего счастья, написала семидесятилетнему Поленову: "Рыцарь красоты! Какое славное наименование дал Вам С. Мамонтов". А рыцарь красоты все-таки свое счастье нашел. Наташа Якунчикова ждала его долгие годы. Дождалась, стала верной женой и товарищем. "Ты умеешь наслаждаться высоким в искусстве", — говорила она о нем. Жизни без театра, музыки, литературы не представлял. Театрально-музыкальные кружки, рисовальные, акварельные, увлечение старинной русской резьбой, декорационная деятельность, наконец, Абрамцевский кружок Саввы Морозова — какая-то физически невмес-тимая жизнь. А по вечерам они с Наташей читали вдвоем. Слишком много для одного человека. Но Поленов был "его величество работником", жадным к познанию и труду, владел кистью, столярным и огородным инструментами. Как богу поклонялся Александру Иванову, жил в Альбано, но пейзаж, писанный Ивановым, повторить не поимел. Стоял на перепутьях российских художественных путей и, рождая новое, увязал в приемах старой школы. Но и здесь отличался щедрой четкостью. Редко кто может похвастать такими учениками — Коровин, Архипов, Левитан, Головин, Пастернак… Они пошли дальше. Освободили мазок от сковывающих пут гладкописи. Ну а он оставался Поленовым, не признававшим школ и направлений, делившим "художников на два сорта — талантливый и бездарный". Обычно Поленова поминают в связи с солнечным "Московским двориком" и уютным "Бабушкиным садом", утверждая, что романтический пейзаж — не его стихия. Да и он сам назвал себя представителем пей-зажно-бытового жанра. Согласиться с этим трудно. Он объясняется в любви своей земле, своему краю неспокойно, пылко, как любят в первый раз и как любят на склоне лет — обжигающе. Разве не романтична "Осень в Абрамцеве" — "Федюшкино воспоминание", картина-память о сыне? Она вобрала в себя тревожную густоту — зовущую темень, яркую алость и успокаивающую желтизну. Отсветы этой буйной палитры ткут в воде богатый ковер… Из холопьего царства Поленов уходит в мягкий, прекрасный, возвышающий мир природы. Рыжевато-дымчатые кустики в картине "Ранний снег" уселись на снегу, словно зайцы, полоса угасающего осеннего пламени отделяет белую пелену от реки. А надо всем — яркое небо, уже подернувшееся туманом, — нежная переходная пора. На темной стыни "Заросшего пруда" буровато-красные и зеленые листья кувшинки, пятнышки лилий, как сигнальчики. Временный тупик, застой и ожидание близящейся грозы: что-то произойдет, случится… А когда обжигаешься червонным золотом и прорывающимся зеленым буйством "Золотой осени", невольно думаешь: человеку, столь пронзительно ощущавшему природу, трудно было жить, не захлебываясь той большой радостью, которую она ему дарила. "Целую Вашу правую руку, которая создала столько прекрасного…" Искренние слова одного из учеников. Молодая Республика Советов одному из первых присвоила Поленову звание народного художника. Нарком Луначарский в день восьмидесятилетия художника писал: "В программу нашей партии поставлено требование сделать искусство… достоянием широких масс, и в этом деле… мы всегда являемся продолжателями того пути, на который столь уверенной стопой вступил… Василий Дмитриевич Поленов". Обладая спокойным и ровным характером, годы свои Поленов прожил беспокойно. Хотел тишины и красоты, не любил осложняющих, неприятных моментов, но, следуя законам своей нравственной системы, то и дело в подобные ситуации ввязывался. Был похож на путника, идущего ночью по опасной дороге и норовящего свернуть к желтеющим огонькам дремлющей деревни. А идти-то надо… Шел. И всегда с ним рядом была любимая живопись — "это счастье, эта отрава".М. В. Нестеров

ХУДОЖНИКИ О ХУДОЖНИКАХ М. В. НЕСТЕРОВ о И. И. ЛЕВИТАНЕ
Работал Левитан упорно, хотя давалось ему все нелегко. Помню, он как пейзажист пришел к нам в натурный класс и сел писать необязательный этюд голого тела; в два-три дня он легко разрешил задачу, данную на месяц, разрешил оригинально, жизненно и изящно. Первая ученическая выставка показала еще более, что таится в красивом юноше. Его хотя и не конченый, но полный тихой поэзии "Симонов монастырь" был одной из лучших вещей выставки. Следующие выставки одна за другой давали возможность радоваться за Левитана. Не помню теперь, на которой из них он был приобретен П. М. Третьяковым для галереи. И как ни странно, этот первый успех причинил юному Левитану много огорчений. Но и это миновало, миновали постепенно и тяжелые дни нужды. Картины его стали приобретаться, хотя и за бесценок, любителями-москвичами. К этому периоду надо отнести всю так называемую "Останкинскую" деятельность Левитана, когда он работал с колоссальной энергией, изучая в природе главным образом детали. В то же время он страстно увлекался охотой.
Помню, как сейчас, зимнюю морозную ночь в Москве; меблированные комнаты "Англия" на Тверской, довольно большой, низкий, как бы приплюснутый номер в три окна, с неизменной деревянной перегородкой. Тускло горит лампа, два-три мольберта… От них тени по стенам. Тихо, немного жутко. За стеной изредка стонет тяжко больной Левитан. Поздний вечерний час. Проведать больного зашли товарищи, с ними и молодой, только что окончивший курс врач Антон Чехов. Что было тогда с Левитаном — не помню, но он быстро стал поправляться.
К. этому же приблизительно времени относится и дебют Левитана на Передвижной.
Несколько лет, проведенных на Волге в Плесе, дали целый ряд полных удивительной лирической красоты картин, который послужил серьезной, основательной, настоящей известности Левитана. В это время он успешно работал над собой. Тонкий ум его, склонный к глубокому созерцанию, помогал его таланту отыскивать истинные пути к изучению сложной северной природы. Ею техника крепла. Поездка за границу дала большую уверенность в себе…
Вернувшись, он вместе с кружком своих товарищей решительно и бесповоротно примкнул к новому движению в художестве, как то сделали за несколько лет раньше художники предыдущей эпохи — Суриков, Виктор Васнецов, Репин. Появление картин Левитана было истинной радостью для искренних ценителей его дарования…
Но незаметно подкралась болезнь. И последние два-три года Левитан работал под ясным сознанием неминуемой беды, и, как ни странно, столь грозное сознание вызывало страстный, быть может, небывалый подъем энергии, техники и чувства.
Он уходил от нас, оставляя в нашей памяти трогательный образ удивительного художника-поэта. Мое последнее свидание с Левитаном было в марте 1900 года, за несколько месяцев до его смерти. Как всегда, проездом через Москву я зашел к нему. Он чувствовал себя бодрым.
Вечер провели мы с ним вдвоем в беседе о том, что и до сих пор волнует художника. Была длинная весенняя ночь. Эта ночь соблазнила Левитана проводить меня до дому. Мы пошли с ним тихо по бульварам…
Поздно простились мы, скрепив эту памятную ночь поцелуем, и поцелуй этот был прощальным!..
Третьяковым для галереи. И как ни странно, этот первый успех причинил юному Левитану много огорчений. Но и это миновало, миновали постепенно и тяжелые дни нужды. Картины его стали приобретаться, хотя и за бесценок, любителями-москвичами. К этому периоду надо отнести всю так называемую "Останкинскую" деятельность Левитана, когда он работал с колоссальной энергией, изучая в природе главным образом детали. В то же время он страстно увлекался охотой.
Помню, как сейчас, зимнюю морозную ночь в Москве; меблированные комнаты "Англия" на Тверской, довольно большой, низкий, как бы приплюснутый номер в три окна, с неизменной деревянной перегородкой. Тускло горит лампа, два-три мольберта… От них тени по стенам. Тихо, немного жутко. За стеной изредка стонет тяжко больной Левитан. Поздний вечерний час. Проведать больного зашли товарищи, с ними и молодой, только что окончивший курс врач Антон Чехов. Что было тогда с Левитаном — не помню, но он быстро стал поправляться.
К. этому же приблизительно времени относится и дебют Левитана на Передвижной.
Несколько лет, проведенных на Волге в Плесе, дали целый ряд полных удивительной лирической красоты картин, который послужил серьезной, основательной, настоящей известности Левитана. В это время он успешно работал над собой. Тонкий ум его, склонный к глубокому созерцанию, помогал его таланту отыскивать истинные пути к изучению сложной северной природы. Ею техника крепла. Поездка за границу дала большую уверенность в себе…
Вернувшись, он вместе с кружком своих товарищей решительно и бесповоротно примкнул к новому движению в художестве, как то сделали за несколько лет раньше художники предыдущей эпохи — Суриков, Виктор Васнецов, Репин. Появление картин Левитана было истинной радостью для искренних ценителей его дарования…
Но незаметно подкралась болезнь. И последние два-три года Левитан работал под ясным сознанием неминуемой беды, и, как ни странно, столь грозное сознание вызывало страстный, быть может, небывалый подъем энергии, техники и чувства.
Он уходил от нас, оставляя в нашей памяти трогательный образ удивительного художника-поэта. Мое последнее свидание с Левитаном было в марте 1900 года, за несколько месяцев до его смерти. Как всегда, проездом через Москву я зашел к нему. Он чувствовал себя бодрым.
Вечер провели мы с ним вдвоем в беседе о том, что и до сих пор волнует художника. Была длинная весенняя ночь. Эта ночь соблазнила Левитана проводить меня до дому. Мы пошли с ним тихо по бульварам…
Поздно простились мы, скрепив эту памятную ночь поцелуем, и поцелуй этот был прощальным!..

Н. К. РЕРИХ о А. И. КУИНДЖИ
…Мощный Куинджи был не только великим художником, но также был великим Учителем жизни. Его частная жизнь была необычна, уединенна, и только ближайшие его ученики знали глубины его души. Ровно в полдень он восходил на крышу дома своего, и, как только гремела полуденная крепостная пушка, тысячи птиц собирались вокруг него. Он кормил их из своих рук, этих бесчисленных друзей своих: голубей и воробьев, ворон, галок, ласточек. Казалось, все птицы столицы слетались к нему и покрывали его плечи, руки и голову. Он говорил мне: "Подойди ближе, я скажу им, чтобы они не боялись тебя". Незабываемо было зрелище этого седого и улыбающегося человека, покрытого щебечущими пташками; оно останется среди самых дорогих воспоминаний. Перед нами было одно из чудес природы; мы свидетельствовали, как малые пташки сидели рядом с воронами и те не вредили меньшим собратьям. Одна из обычных радостей Куинджи была помогать бедным так, чтобы они не знали, откуда пришло благодеяние. Неповторяема была вся жизнь его. Простой крымский пастушок, он сделался одним из самых прославленных художников исключительно благодаря своему дарованию. И та самая улыбка, питавшая птиц, сделала его и владельцем трех больших домов. Излишне говорить, что, конечно, все свое богатство он завещал народу на художественные цели. Так вспомнилось в записном листе "Любовь непобедимая". А в "Твердыне пламенной" сказалось. "Хоть в тюрьму посади, а все же художник художником станет", — говаривал мой учитель Куинджи. Но зато он все же восклицал: "Если вас под стеклянным колпаком держать нужно, то и пропадайте скорей: жизнь в недотрогах не нуждается!" Он-то понимал значение жизненной битвы, борьбы света с тьмою. Пришел к Куинджи с этюдами служащий: художник похвалил его работы, но пришедший стал жаловаться: — Семья, служба мешают искусству. — Сколько вы часов на службе? — спрашивает художник. — От десяти утра до пяти вечера. — А что вы делаете от четырех до десяти? — То есть как от четырех? — Именно от четырех утра? — Но я сплю. — Значит, вы проспите всю жизнь. Когда я служил ретушером в фотографии, работа продолжалась от десяти до шести, но зато все утро от четырех до девяти было в моем распоряжении. А чтобы стать художником, довольно и четырех часов каждый день. Так сказал маститый мастер Куинджи, который, начав от подпаска стада, трудом и развитием таланта занял почетное место в искусстве России. Не суровость, но знание жизни давало в нем ответы, полные сознания своей ответственности, полные осознания труда и творчества… Помню, как Общество поощрения художеств пригласило меня после окончания Академии художеств помощником редактора журнала. Мои товарищи возмутились возможности такого совмещения и прочили конец искусству. Но Куинджи твердо указал принять назначение, говоря: "Занятый человек все успеет, зрячий все увидит, а слепому все равно картин не писать". Сорок лет прошло с тех пор, как ученики Куинджи разлетелись из мастерской его в Академии художеств, но у каждого из нлс живет все та же горячая любовь к Учителю жизни…
ГУСЛЯР ЖИВОПИСИ
…наше ясное солнышко — Виктор Михайлович Васнецов… В нем бьется особая струнка…Виктор Михайлович Васнецов (1848 — 1926) — автор героико-эпических и сказочных полотен, мастер монументальной живописи, театральной декорации, график-иллюстратор. Создал ряд архитектурных проектов. Профессор. Действительный членАкадемии художеств, из которой вышел в 1905 году. Член Товарищества передвижных художественных выставок. Жил вПетербурге, а затем в Москве. Гостить в тереме у Васнецова (ныне музей В. Васнецова близ Садового кольца) особенно приятно с детьми. Мой маленький товарищ и я, как обычно, путешествовали вначале по нижним комнатам: гостиной, столовой, затем витая лестница привела в мастерскую… Комнату огромную — взмахни крыльями и весело-шумно полетишь вдоль пышущих красками полотен, а хочешь — через огромное же окно вылетишь прямо в приютившийся у дома садик… Но в комнате нельзя летать, прыгать и бегать. Со стены глядит нарисованная углем детская головка, прижимающая пальцами к губам: тише! Мастер работает. И мы с маленьким товарищем, завидев символ молчания, примолкли… Хотя мастер давно уже не искал здесь цвет, нужную краску. Палитра его лежала без употребления уже пятьдесят шесть лет. Чахли кисти в берестяном коробе, а краски в тюбиках окаменели. И стоял я в недоумении: отчего же катятся слезы из детских глаз, нарисованных художником? Тишина для работы, работа для радости. А радость неотделима от грусти? О чем? О несбывшемся? А мой маленький товарищ испуганно попятился от "Бабы-яги", и я вдруг увидел, как она страшна и грозна. Ее обманут, изведут, но много вреда и бед еще принесет эта корявая старушка. Мальчишка оказался у "Царевны-Несмеяны" и уже не ушел от нее — жалко стало девушку, которую никак не могли развеселить гудош-ники и скоморохи. И впервые подумалось мне о том, что Васнецов — взаправдашний сказочный художник. Воспринимавший сказку как нечто реально существующее, бывшее, гулявшее, воевавшее и строившее на земле, он и сам там чувствовал себя увереннее, чем в мире, ему современном, который "беспокоит… мучает, так тяжело и грустно за него…". Тем более что находили у художника душу поэтическую и, говоря о нем, злоупотребляли эпитетом "нежный". Быстрый, почти летящий, тонкий, светлый, изящный, склонный к приятному разговору и задумчивости — "ясное солнышко" Виктор Михайлович, Репин рисовал с него своего Садко. С ним трудно было спорить, а фантазировать легко. Входил с улицы: "Сколько я чудес видел". И наверняка чудеса эти существовали. Или заявлял, мол, хотелось бы ему "полетать по белу свету". Именно полетать… Это и заставило его написать поэму семи сказок. Это заставляло любить музыку, уводящую от суеты сует, исцеляющую от сиюминутных тревог. Он всегда торопился в третьяковский "дом в Толмачах", садился у печки и, может быть, грезил. Музыке поклонялся, как прекрасному таинству, говорил: "музыкой можно лечиться". И лечился Бетховеном, Бахом, Моцартом "из хороших рук". Следует, очевидно, верить словам художника о своих картинах: "Все они были раздуманы и писались в ощущениях музыки". Так определяли и современники: "Картина "После побоища Игоря Святославовича с половцами" звучит как "Богатырская симфония" Бородина". Поэтическая натура привела его к сказке, народному эпосу. Первым заметил это замечательный учитель многих поколений русских художников П. П. Чистяков. Васнецов плакал, читая строки его письма: "Вы… поэт-художник. Таким далеким, таким грандиозным, по-своему самобытным русским духом пахнуло на меня, что просто загрустил: я, допетровский чудак, позавидовал вам…" Это учитель писал о картине "После побоища Игоря Святославовича с половцами". Помните, "Боян бо вещий": "Ту ся брата разлучиста на брезе быстрой Каялы; ту кровавою вина не доста: ту пир докончаша храбрии русичи: сваты попаиши, а сами полегоша на землю русскую. Ничить трава шалащами, а древо с тугою к земли преклонилось…" Васнецовское поле битвы красиво. Богатырским сном спит на своем голубоватом плаще, откинув руку, как после тяжелой работы, воин в красных сапогах. А рядом красавец юноша запрокинул каштановую голову, в сердце его вонзилась вражеская стрела… На густой траве, среди голубеньких цветов, все это сочно, негромко, будто сон нарисован. Неподвижен, словно готовящийся спуститься, занавес — край неба, и повисли в этой неподвижности рыжие коршуны — им пировать… Обаятельной лирической поэмой назвал И. Грабарь "Аленушку". Присела она на камень, поджала натруженные ноги, на золотые листья смотрит, в темную воду, ищет братца Иванушку и не находит. Околдовали его злые люди… Темен лес вдали, отчаянное ее горе оттеняет. А на этюде она еще лучше, голову на руки положила, взгляд не в воду устремлен — на зрителя, не безнадежность в ее позе — тревожное ожидание. Озабоченная, серьезненькая девочка-подросток с глазами "абрамцевской богини", "девочки с персиками" Веры Мамонтовой. Васнецова все "сажали" то на ту жердочку, то на эту. Он же уподобился изображенному им витязю, который, опустив красное копье, читает надпись на камне: "А прямо поедешь…" Так и поехал прямо, чтобы и самому целу быть, и коня сохранить. Хотя и еще две дороженьки лежали, одна — вслед за Перовым, Прянишниковым, Маковским рисовать жанровые сцены. Ведь и за "Книжную лавочку", и за "Преферанс", и за "С квартиры на квартиру" хвалили. И типы обозначены точно, и ситуации характерные. Не зря о нем говорили: "Первоклассный мог быть жанрист… очень близкий по духу к Достоевскому". Высока оценка! Васнецов владел цветом, мог разработать свое видение света и воздуха, последовав за импрессионистами. Но лишь "…в сказке, песне, былине, драме — сказывается весь целый облик народа". Объяснением этой фразе еще одно: происхождение. Васнецов родом из Вятского края — яркой, веселой, пестро раскрашенной дымковской глины, принимающей образы румяных парней с гармошками, разъезжающих на свиньях или бубенчатых тройках; из края капа — кованого узорчатого березового наплыва; кружевной деревянной и каменной резьбы… "…Человек страстный, там жила "стихия" сложная…" — говорил о нем М. В. Нестеров. Васнецов вспоминал старинные нянины "пропевы" и пытался дать выход своей стихии в сказке, сам себя называл былинником. Из "несильных вятичей". А Шаляпин почему-то замечал в нем медвежьи ухватки. Наверное, был прав — десять лет расписывать 2880 квадратных метров во Владимирском соборе — дело нешуточное. Требующее ухватистости, крепкой выносливой силы воли и тела… Впоследствии Васнецов и сам удивлялся: "Видно, в молодости все можно". Падал с лесов, разбивался… Напрасно, конечно, говорили, что его типы равны Мике-ланджело. Но правы другие: достойно возобновил живую и зримую школу иконописания. Рисовал живых в силе и страсти людей. А вот привыкший к бестелесным равнодушным ликам киевский митрополит утверждал, что в лесу "не желал бы встретиться с васнецовскими пророками". По древнерусской традиции художник шел от "привлекающих людей". Среди ломовых извозчиков встретил Ивана Петрова и чуть не закричал от радости: узнал Илью Муромца, а Алеша Попович у него похож на Андрея Мамонтова. В херувимах и серафимах Владимирского храма замечали васнецовских детей… Особой силой психологического рисунка отличается, конечно, "Царь Иван Васильевич Грозный". Ювелирно выписаны парчовый опашень и сафьяновые сапоги, уверенно топчущие двуглавого орла на ковре. В теремном окошке видна заснеженная Москва. Цветисто все вокруг — и одежда, и орнамент стен, да темновато, приглушенно. Приостановился Иван Васильевич, размышляет. Желтоватое, морщинистое, орлиное, властное и недоброе лицо. Не глядит он подобно трем богатырям, "…не обижают ли где кого". Нет. Крепко зажат в руке жезл, которым проткнет сына своего Ивана. Сам он хочет обидеть, коршуном налететь, шаг еще — и того и гляди прольется новая кровь. Умен бес, да коварен. Царя написал художник, хотел, не хотел ли — деспота. Дикое, безрассудное зло глядит из его очей… Одно из самых удачных полотен Васнецова. Этот невысокий, легкой кости человек полностью соответствовал пословице: вятский — народ хваткий. Самая любимая одежда его — рабочая синяя блуза. Когда писал, пел. Замечали, что труд почти его не утомлял. А. Куприн вывел его под именем Савинова в одном из своих рассказов — периода росписи Владимирского храма: "…он со своими длинными, небрежно откинутыми назад волосами, с бледными, плотно сжатыми губами на худом аскетическом лице как нельзя больше походил на одного из тех средневековых монахов-художников, которые создавали бессмертные произведения в тишине своих скромных келий…" Таким же благостным, истовым, бесстрастно на мир взирающим изобразил себя художник еще двадцатипятилетним: пусть бежит мимо мельтешащий день, ему, мастеру, запечатлевать явления величественные, монументальные. На нем художническая блуза с бантом, белый воротничок… А вот Крамской почти в то же время написал его в сюртуке и галстуке — с милой лукавинкой, благости ни-ни, разве что этакая обаятельная стеснительность… Конечно, подвижничество присуще характеру Васнецова. Все же около двадцати лет создавал он своих "Богатырей". До сих пор стоит подивиться "Каменному веку" в историческом музее — "образу радостного искусства" — "громадному ряду сцен и картин из жизни первобытных людей". Непреклонным написал его в 1891 году Н. Кузнецов — ратником, оглянувшимся в последний раз перед боем. Таким он и остался до последнего жизненного часа, труд сберегал его: в семьдесят семь давали не больше семидесяти и еще любовались сохранившейся красотой. Человек ласковый, необременительный, добрый к людям, он приживался в компаниях веселых, негромких, талантливых. Где не стеснялись и не стесняли. У Третьякова, в Мамонтовском кружке, где "…светло, тепло на душе…", слыл Васнецов разговорчивым, оживленным. Справедливым. Ущемили интересы художников — вышел из Товарищества передвижников… …Давайте съездим в Абрамцево. Не сохранился "Яшкин дом" (Яшка — шутливое прозвище Веры Мамонтовой), где Васнецов создавал своих "Богатырей". Но сохранились аллеи, где он гулял, гостиная, где читал любимого "Купца Калашникова", выстроенная по его чертежам церквушка-невеличка; избушка на курьих ножках: на ее фронтоне распростерла свои тонкие длинные крылья круглоглазая летучая мышь… Приезжайте в Абрамцево лучше всего золотой осенью, в дни, когда музей закрыт. Тишина поможет вам представить живого Васнецова и тех, с кем этот "рельефный" человек здесь счастливо жил, "грешный лишь в том, что мало учился и слишком расточительно обращался со своим дарованием".И. Н. Крамской

ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ
В своем полете откуда-то из горных глубин он ударился о суровую, жесткую, грубую русскую действительность, разбился и рассыпался драгоценными осколками.Михаил Александрович Врубель (1856 — 1910) окончил Петербургскую академию художеств. Его картины "Демон", "Пан", "Царевна Лебедь", "Девочка на фоне персидского ковра", многие другие, а также лучшие портреты его кисти вошли в сокровищницу русского искусства. Портрет Брюсова — последний, созданный Врубелем. Больной, падающий художник не цепляется за жизнь, но силой своей воли и гения отвоевывает каждый день творчества. Оно вспыхнуло так ярко, что казалось — в этом ослепительном огне дотла сгорит болезнь… Один из лучших портретов. Последние усилия. Врубель работает самозабвенно, без отдыха. Переделывает. Передумывает. Кончая портрет, его уже почти не видит: художник слепнет. И портрет Брюсова остается неоконченным. История портрета — не только рассказ о мужестве и подвиге. Но и о глубокой симпатии двух замечательных, образованнейших и благороднейших людей рубежа XX века. Талантливых и не торгующих своим талантом, гордых, сильных людей, презирающих все тупое, самодержавное, мещанствующее. Они встретились зимой в Петровском парке, в деревянном домике лечебницы, где было "неуютно и неживо". Брюсов пришел на свидание к Врубелю молодым, тридцатидвухлетним, но уже известным поэтом и мыслителем, чей дух был возвышен и смятен сражающейся и погибающей революцией 1905 года.А. Н. Бенуа
Так! Я незримо стены рушу,
В которых дух наш заточен.
Чтоб в день, когда мы сбросим цепи
С покорных рук, с усталых ног,
Мечтам открылись бы все степи
И волям — дали всех дорог.
 "…Врубель, середины не знающий", — говорил о нем Рерих. Врубель не знал середины, потому что знал, что такое любовь к искусству, к женщине, к друзьям. Жизнь была для него любовью, и любовь значила для него больше жизни. "Если любовь, — говорил художник, — то она сильна". Врубель врывался в жизнь со своей любовью бесстрашно и пылко, много страдал и умышленно причинял себе физические боли, чтобы уменьшить душевные. В искусство был влюблен беззаветно. "Я прильнул… к работе", — писал он.
Врубель не знал середины, потому что был очень чуток и добр. И свою родину, Россию, любил прежде всего за доброту…
Брюсова художник считал одним из лучших поэтов: "В его поэзии масса мыслей и картин". Любил перечитывать его сборники "Граду и миру" и "Венок".
Они встретились, и Врубелю понравилось лицо поэта. Стихотворение, которое Брюсов ему подарил, показалось лестным.
…Врубель писал портрет неистово, жадно, с "большим жаром".
На портрете Брюсов — будто вонзающийся во время и пространство. Угли-глаза сверкают на скуластом лице. Художник нарисовал их "устремленными вверх, к яркому свету". Поэт видит что-то далекое и неизбежно приходящее. Закованный в броню сюртука, он угловато стоит на перекрестках времени — сильный и жертвенный, творящий и пронзительно мыслящий. Брюсов, который через двенадцать лет приветственно встретит Революцию 1917 года и станет коммунистом.
На облаках, как отблеск лавы,
Грядущих дней горит пожар.
Фон портрета — как бы абстрактные конструкции, словно рождающиеся из хаоса строфы. Вначале фоном была сирень, но художник заметил, что она "не идет" поэту, и вместо сирени стали появляться контуры фрески эпохи Возрождения.
Это был портрет единства таланта, духа, мировоззрения. Исследователи находили в портрете схожесть с врубелевским автопортретом 1905 года — то же гордое достоинство и сознание своего предназначения.
Портрет очень нравился и самому Врубелю. Брюсов сказал: "После этого портрета мне других не нужно". Писал Врубелю: "Постучусь у Ваших дверей".
Но больше встретиться им не пришлось.
"…Врубель, середины не знающий", — говорил о нем Рерих. Врубель не знал середины, потому что знал, что такое любовь к искусству, к женщине, к друзьям. Жизнь была для него любовью, и любовь значила для него больше жизни. "Если любовь, — говорил художник, — то она сильна". Врубель врывался в жизнь со своей любовью бесстрашно и пылко, много страдал и умышленно причинял себе физические боли, чтобы уменьшить душевные. В искусство был влюблен беззаветно. "Я прильнул… к работе", — писал он.
Врубель не знал середины, потому что был очень чуток и добр. И свою родину, Россию, любил прежде всего за доброту…
Брюсова художник считал одним из лучших поэтов: "В его поэзии масса мыслей и картин". Любил перечитывать его сборники "Граду и миру" и "Венок".
Они встретились, и Врубелю понравилось лицо поэта. Стихотворение, которое Брюсов ему подарил, показалось лестным.
…Врубель писал портрет неистово, жадно, с "большим жаром".
На портрете Брюсов — будто вонзающийся во время и пространство. Угли-глаза сверкают на скуластом лице. Художник нарисовал их "устремленными вверх, к яркому свету". Поэт видит что-то далекое и неизбежно приходящее. Закованный в броню сюртука, он угловато стоит на перекрестках времени — сильный и жертвенный, творящий и пронзительно мыслящий. Брюсов, который через двенадцать лет приветственно встретит Революцию 1917 года и станет коммунистом.
На облаках, как отблеск лавы,
Грядущих дней горит пожар.
Фон портрета — как бы абстрактные конструкции, словно рождающиеся из хаоса строфы. Вначале фоном была сирень, но художник заметил, что она "не идет" поэту, и вместо сирени стали появляться контуры фрески эпохи Возрождения.
Это был портрет единства таланта, духа, мировоззрения. Исследователи находили в портрете схожесть с врубелевским автопортретом 1905 года — то же гордое достоинство и сознание своего предназначения.
Портрет очень нравился и самому Врубелю. Брюсов сказал: "После этого портрета мне других не нужно". Писал Врубелю: "Постучусь у Ваших дверей".
Но больше встретиться им не пришлось.

СВЕТ В ЛАДОНЯХ
Он любил природу и стремился… обогатить ее полетом мысли и украсить фантастическими парадоксами.Микалоюс Константинас Чюрленис (1875 — 1911) — композитор, художник — родился и жил в Друскининкае (Южная Литва). Картины его декоративны, насыщены экспрессией, им свойственно космологическое содержание. Судьба не щадила этого человека — он умер, когда ему не исполнилось и тридцати шести лет. Судьба вдвойне была к нему жестока: столь богато одарив, дала надежду и не позволила совершить небывалое, просто вложила в грудь нежное, сострадающее сердце, усыпала путь терниями и не отрядила охраняющих… Микалоюс Константинас Чюрленис жестокость эту понимал. "Любовь — это дорога к солнцу, вымощенная острыми жемчужными раковинами, по которым ты должен идти босиком". Он понимал и все же пошел по дороге любви. Босиком. Есть люди, которые не идти не могут. В разные времена их сжигали на кострах, им рубили головы, травили голодом… Парадоксальная ситуация: обыватель-толстосум, полноправный гражданин империй и буржуазных республик, демонстративно отворачивался от их творчества, более того — мешал, чтобы впоследствии, затравив, платить за картины, поэмы, симфонии втридорога. Здесь есть умышленное, но есть и природное непонимание. Картины Чюрлениса, например, не потешали и не утешали, но приглашали к мысли, к путешествию, не так уж и близко — к звездным мирам; заставляли задуматься о загадке бытия, о добре и зле, об истине, наконец… И обыватель не мог связать "Звездную сонату", где упруго клубились, переплетались, мягко вспыхивали, еще не виданные никем за пределами земли, миры, — и вечно торопящегося по музыкальным урокам Чюрлениса. У него ведь зимней порой из рукавов пальто торчали голые кисти рук — не было перчаток… У Чюрлениса не было перчаток, а он упорно не хотел служить. А предлагали довольно сносные и оплачиваемые должности — к примеру, директора музыкальной школы. Но вместо этого он предпочитает заниматься композицией, сочиняет фуги, прелюды, симфоническую по: му; является одним из учредителей Литовского художественного общества, устраивает художественные выставки, дирижирует. Наконец, он пишет картины, стараясь живописать музыку бытия. Николай Рерих впоследствии говорил: "Он принес новое, одухотворенное, истинное творчество. Разве этого недостаточно, чтобы дикари, поносители и умалители не возмутились… Он был не новатор, а новый". Да, ко всему прочему, он был совершенно новый. Он не был революционером, хотя в дни революции 1905 года относился к разряду сочувствующих и писал с горечью: "Большой результат дают солдатские карабины". Он не был революционером, но был новым, что в какой-то степени одно и то же. Чюрленис стремился к тому, чтобы живопись зазвучала, а краски подчинились музыкальному ритму. Он создает живописные сонаты, приравнивая каждую картину цикла к составной части этой музыкальной формы, называя картины "Аллегро", "Анданте", "Скерцо", "Финал"… Поэт Э. Межелайтис услышал в синем цвете — тихий звук, пиано; в зеленом — громкое форте. Суть не только в том, что Чюрленис выступил проповедником синтеза искусств, он путешествует "по далеким горизонтам взращенного в себе мира…". Его "путевые картины" ласковы, певучи, добры, чрезвычайно динамичны. Финал "Солнечной сонаты": молчащий колокол заткан паутиной. За ней дремлют на своих тронах старые литовские короли. Ночь. Покой. Но вспыхивает крошечное солнышко — и мрак покоя уже колеблется. Чюрленис показывает отличный от существующего мир, в котором были и сказки, и предания, и литовский характер. Там радостно катился морской прибой, унизанный жемчужной пеной, весело проносились ласточки над распластавшимися по ветру огнями свечей, сияло множество солнц, да и могло ли быть иначе — Чюрленис солнцепоклонник, его девиз "Гимн солнцу!". В картинах воля, и некоторая беспечность, и остережение: то пролетит птица — "страшный птеродактиль", и стрелец нацелит на нее свой лук; то море поднимется своей многопалой лапой, грозясь потопить маленькие кораблики… В полотнах Чюрлениса космос воспринимается художником как нечто близкое, существующее — он и сам словно отдаляется в космос, чтобы увидеть оттуда землю — и она появляется на его полотнах… Объяснять их подчас трудно, они насыщены символами. Да и вряд ли это необходимо; просто следует расположиться к доброму, участливому. Одна из картин Чюрлениса посвящена именно этому — "Дружба": женщина протягивает на ладонях неопаляющий шар, тепло своей души, сгусток света… "…Как это чудесно — быть нужным людям и чувствовать свет в своих ладонях". Он шел дорогой любви и бережно нес этот свет. Когда говорят об этом удивительном литовском мастере, емкое понятие "свет" присутствует обязательно, "разливая вокруг себя какой-то свет". Нежный, доверчивый, опекающий, беззащитный, очень внимательный и радующийся простым людям, не приспособленный к жизни — таким был Чюрленис, проносящий свет, излучающий свет своей мысли и сердца, свет добра. Любящий свою Литву. Он шел по жизни, сочинял музыку, пел литовские народные песни и писал картины, в которых тогда лишь немногие видели "умение заглянуть в бесконечность пространства". Работал по "24 — 25 часов в сутки". А наградой — полуголодное существование. Приехав в Петербург, вынужден был обходиться без мольберта, собирать крохи осыпавшейся пастели… Несмотря на это, он борется, путешествует, размышляет над жизнью… Он пишет "Истину": выплывает напряженное, остро наблюдающее лицо, знающее, провидящее, на что-то решившееся… Человек держит в руках свечу, а к ней устремляются и, обжигаясь, гибнут мотыльки. К истине не стремиться невозможно, возможно ли не погибнуть? "У меня здоровые крылья, но я прибит и очень устал… Я накоплю силы и вырвусь на свободу… Я полечу в очень далекие миры, в края вечной красоты, солнца, сказки, фантазии, в зачарованную страну…" Но вырваться не удается. Все чаще на его картинах появляется вестник беды — черное солнце. Вместо прекрасного замка — отталкивающий зловещим молчанием город, где один владыка — демон. Нужда, неуверенность, непризнание приводят художника к болезни. Он делает последнюю попытку — убегает из больницы на любимую природу, в зимний лес.Ядвига Чюрлёните
"…Слышишь, как тихо переговариваются звезды…"
И больше не возвращается к жизни.
В ОТВЕТЕ ПЕРЕД ВРЕМЕНЕМ (О советских художниках)
 Представим себе, что мы вошли в выставочный зал…
О каждой выставке думаешь: она особенная. Она отражает жизнь Родины, которой и ты сопричастен, — дает представление об искусстве XX века, дает возможность перелистать страницы истории и вглядеться в день сегодняшний: художник, если он настоящий мастер, всегда замечает то, что мы упускаем в суете будней.
На выставках интересно наблюдать и за зрителями. Здесь встречаешь "завсегдатаев", уверенных в точности своих искусствоведческих оценок; мало знающих, задиристых юношей и девушек, пылко устремляющихся прежде всего к какой-нибудь новинке, к картине малоизвестного мастера, удивляющей картине; людей, следующих за экскурсоводом и с завидным терпением, последовательно шествующих от картины к картине, что-то отмечая в блокнотиках; людей, случайно забредших, у которых просто образовалось "окно" во времени…
Я подумал: а что, если бы меня, любителя "вольных" прогулок по музеям, вдруг определили экскурсоводом? Дали группу — таких разных посетителей — и сказали: "Веди, рассказывай, приобщай".
Очевидно, я начал бы опять с автопортрета. На этот раз художников XX века.
Михаил Нестеров на "Автопортрете" явно позирующий, артистично-небрежный, в белом, "профессорском" халате, скептичный, напряженный, остужающе взглядывающий, ничего не скрывающий, чуждый светской любезности. Он не просто артист, он ученый.
Казимир Малевич в одном случае превращает себя, художника, в идола, отливающего бронзовой зеленью; в другом — в этакого венецианского дожа, непреклонного властителя.
Наталья Гончарова на автопортрете с желтыми лилиями улыбается — приветливо ли, любопытствуя ли, проходит и оглядывается. Лицо — неправильное, асимметричное, с большим ртом — выглядит лукавым, загадочно-привлекательным; она словно смеется над вами, над окружающим и над собой. Насмешливая цыганка: "Дай погадаю!" — в то же время ни в грош не ставит свои предсказания. Гончарова, чьи самобытные полотна до сих пор неоднозначно принимаются критиками и публикой. Она весело-уверенна, ее плутоватое, умное лицо не дает нам покоя.
Я долго не мог оторвать глаз от автопортретов Зинаиды Серебряковой — радующейся, обаятельной, большеглазой. Скользит по лицу милая улыбка, мягко светится тело, гамма цветов неназойлива, но каждая мелочь на портрете зажигает радостью. Солнце, согревающее нас своими лучами… Уютная, украшенная приятными сердцу вещами комнатка — часть большого мира.
С одной стороны, тонкий психологизм, а с другой — увлечение декоративностью. На это бы я обратил внимание на выставке. В автопортрете Ильи Машкова виден протест против излишнего усложнения психологической характеристики. Он явно декоративен, упрощен, условен, деформирован. Но у этого якобы боярина в шубе и высокой шапке лицо полно мрачной решимости, так не гармонирующей с шубой и фоном.
Портреты, написанные во времена общественных потрясений, они особенно привлекают внимание.
Действие, решимость, вера — вот что в автопортретах Кузьмы Пегрова-Водкина периода гражданской войны. Мерцают, колеблются краски эпохи, возникают новые цветосочетания: он выбрал свой путь, он решил, его скуластое лицо выдает напряжение мысли, ощупывающей пространство.
Борис Кустодиев, Петр Кончаловский, Александр Дейнека, Александр Волков, Игорь Грабарь, Константин Юон, Мартирос Сарьян… Художники начала века, двадцатых, тридцатых, сороковых годов, утверждающие революционный идеал, стали летописцами великих свершений Страны Советов, а также небывалых испытаний в годы Великой Отечественной войны…
Я прихожу к автопортрету Виктора Попкова и постигаю мысль о гражданской позиции художника. Минута озарения и прозрения. Он прикасается к фронтовой шинели отца, и память переносит в давно ушедшие и вечно живые дни, Будто стороной проходят красноватые тени тех, военной поры, женщин. Они ждут ответа or художника, а он — слоей от них. Видение-плач, видение-напоминание, видение-благословение. В глубоком забытьи художник, очнулся и почувствовал себя в дне сегодняшнем не случайным человеком, не временным, а продолжателем. В его сердце и душу льется живая сила людей, создавших и отстоявших мир, в котором он живет.
А затем я повел бы свою группу к "Портрету Фурманова" работы Малютина.
Кто не знает Дмитрия Фурманова? Но мне следовало бы объяснить своей группе, почему на портрете С. Малютина — счастливый, мягкий, очень добрый и задумавшийся человек. Человек работающий — в руке карандаш, на полевой сумке блокнот. Человек, еще не снявший гимнастерку, на которой в обрамлении ярко-алой ленты орден Красного Знамени. На плечи наброшена шинель. Портрет написан в 1922 году — в это время Фурманов серьезно занимается литературным трудом. Он счастлив — пишет свой знаменитый роман "Чапаев". И еще Фурманов счастлив огтого, что отдал многие годы великому делу, Революции, борьбе с белогвардейщиной. "Я часто спрашиваю себя, — писал он, — хватит или нет у меня мужества погибнуть за дело революции, — и всегда убеждаюсь, что хватит".
Путешествуя во времени, мы встречаемся с рабочими людьми, изображенными Александром Самохваловым; они, властвуя, как бы сливаются с машинами — обычные труженики и в то же время гиганты, несущие в себе величие труда. Это эпоха тридцатых годов, время строительства метро. Художник создал порт-рэг — символ эпохи — "Девушка в футболке", которую зарубежные журналисты назвали "Советской Джокондой". Молодая советская женщина, полная здоровья, сил, энергии, излучающая счастливое спокойствие духа и тела, — одета в самую распространенную одежду тридцатых годов — футболку.
Сам художник назвал "Девушку в футболке" торжествующей…
Меня всегда поражал "Портрет режиссера В. Э. Мейерхольда" П. Кончаловского — живописца страстного, сочного, яркого, любившего пировать на празднике жизни, не очень склонного к психологическому портрету. А тут — полотно резкой трагической силы. Сопоставьте с его же "Автопортретом с женой", где нарочито пышны и густы краски, объемно "лепятся" фигуры, веет ог полотна жадной радостью, удовольствием, лихостью… А здесь, в портрете Мейерхольда, буйная пляска декоративных красок как бы отторгает седого усталого человека, прилегшего на тахту.
Как разнятся в манере письма, в своем отношении к модели крупные советские мастера! Рядом с Кончаловским — П. Корин, бурный и мятущийся, неуступчивый и безмерно талантливый.
Учитель Корина — Михаил Васильевич Нестеров — хвалил себя за портрет Шадра: "Вот какой старик молодец!" Он восхищался работой скульптора Шадра, в частности его статуей "Булыжник — оружие пролетариата". "Спасибо, дорогой Иван Митрич, — писал он, — за ту радость, какую Вы мне дали…" "Живой, свежий, реальный" — так оценивал Нестеров свой портрет.
Торжество смелой мысли показал Нестеров в другом портрете — хирурга Юдина. Это острый, резкий портрет. Известный хирург показан в разговоре-споре, он целеустремлен, профиль его четок, артистичен. Благородные, изящные руки властвуют на полотне — руки мастера-виртуоза.
У прославленного архитектора Щусева на портрете Нестерова вез слилось воедино: напряженное раздумье, возраст, усталость, внезапно грянувшая война. Художник начал писать портрет 22 июня 1941 года…
Возле скульптурных портретов мне хотелось напомнить слова, которые цитировала скульптор В. И. Мухина: "Лицо человека есть лицо истории".
Ликом войны назвала Вера Мухина свой бронзовый "Портрет полковника Юсупова". Страшная, обритая, с вмятинами шрамов голова. Одноглазая — на втором глазу повязка. Прекрасная голова солдата. Тысяча смертей пролетела вокруг этой головы. На выставке "Великая Отечественная война" в 1942 году рядом с портретом Юсупова Мухина выставила и портрет полковника Хижняка. Здесь стремительная готовность к подвигу. Дивизия вышла из окружения, потому что он с немногочисленными бойцами поднялся в отвлекающую атаку и был изрешечен пулеметной очередью. Врачи признали его безнадежным. Но знаменитый хирург Юдин, о чьем портрете работы М. В. Нестерова мы уже говорили, спас полковника. И он снова воевал, до самого конца войны.
…На выставках и вернисажах не рукоплещут. Девушка из "моей" группы положила рядом с портретом из дерева — "Аргентинкой" — желтую ромашку. У другой скульптуры я заметил гвоздичку, У третьей — тоже цветы… Оставленное посетителями восхищение. Знак ответного душевного движения на запечатленный в дереве призыв художника.
Случаются минуты, когда радостное смятение открывает в душе простор для чувств смелых и гордых. Словно окунаешься в могучую, не обрушивающуюся волну и выходишь не просто освеженным, но обновленным и жаждущим найти то, что, может быть, утеряно когда-то. Обретаешь себя, насыщенного энергией, ожиданием, бодростью. И звучит в тебе музыка грядущих свершений и неожиданных очарований… Нечто подобное я пережил у работ скульптора С. Эрьзи и повел свою группу поблагодарить автора.
Лицо словно бы незрячего — провалы вместо глаз. Лицо, возносящееся ликующей мукой: он верит в свое прозрение и тянется, на ощупь, по теплу луча — к солнцу и почти обретает его. Что это за лицо! Страстное, отрешенное от неярких забот, лицо летящего к солнцу, сотворящего чудо над собой и для других.
Степан Дмитриевич Нефедов из бурлацкой семьи, мордвин. Взявший псевдонимом имя своего народа — Эрьзя.
Какой нетерпеливой и ласковой силой насыщены его работы: многочисленные женские портреты — величественные и прекрасные, нежные и размышляющие… Гимн женщине — любящей, властной, все понимающей, все прощающей и бескомпромиссной.
Что ни лицо — то характер. Настроение, Мелодия. Бывают портреты-памятники. У Эрьзи — живые портреты. Лица, выходящие из дерева, полны звонкой жизненной силы. Кажется, приложи руку — почувствуешь ток крови; приблизься — услышишь дыхание; найди верное слово — и тебе отзовутся.
Его Толстой могуч и бесконечен, как природное явление.
Его Микеланджело представляется мне лучшим скульптурным изображением гениального итальянца. Какое мучительное раздумье на исполосованном морщинами лице старика, какое неукротимое желание понять смысл своего существования и всего сущего!..
Его эрьзянки и старики мордвины просты, мудры, человечны.
Эрьзя — портретист настроений. Разорвавшийся криком рот — "Ужас", непреклонное "Мужество", лукаво-неуверенный "Каприз", леденящая "Тоска", зовущая "Фантазия" и, наконец, "Спокойствие", далекое от тревог и равнодушия. А над всем возносится тонкая, стройная, очаровательная "Юность"…
Художник побеждает кистью и сердцем — вот что сказал бы я своим слушателям на прощанье.
Представим себе, что мы вошли в выставочный зал…
О каждой выставке думаешь: она особенная. Она отражает жизнь Родины, которой и ты сопричастен, — дает представление об искусстве XX века, дает возможность перелистать страницы истории и вглядеться в день сегодняшний: художник, если он настоящий мастер, всегда замечает то, что мы упускаем в суете будней.
На выставках интересно наблюдать и за зрителями. Здесь встречаешь "завсегдатаев", уверенных в точности своих искусствоведческих оценок; мало знающих, задиристых юношей и девушек, пылко устремляющихся прежде всего к какой-нибудь новинке, к картине малоизвестного мастера, удивляющей картине; людей, следующих за экскурсоводом и с завидным терпением, последовательно шествующих от картины к картине, что-то отмечая в блокнотиках; людей, случайно забредших, у которых просто образовалось "окно" во времени…
Я подумал: а что, если бы меня, любителя "вольных" прогулок по музеям, вдруг определили экскурсоводом? Дали группу — таких разных посетителей — и сказали: "Веди, рассказывай, приобщай".
Очевидно, я начал бы опять с автопортрета. На этот раз художников XX века.
Михаил Нестеров на "Автопортрете" явно позирующий, артистично-небрежный, в белом, "профессорском" халате, скептичный, напряженный, остужающе взглядывающий, ничего не скрывающий, чуждый светской любезности. Он не просто артист, он ученый.
Казимир Малевич в одном случае превращает себя, художника, в идола, отливающего бронзовой зеленью; в другом — в этакого венецианского дожа, непреклонного властителя.
Наталья Гончарова на автопортрете с желтыми лилиями улыбается — приветливо ли, любопытствуя ли, проходит и оглядывается. Лицо — неправильное, асимметричное, с большим ртом — выглядит лукавым, загадочно-привлекательным; она словно смеется над вами, над окружающим и над собой. Насмешливая цыганка: "Дай погадаю!" — в то же время ни в грош не ставит свои предсказания. Гончарова, чьи самобытные полотна до сих пор неоднозначно принимаются критиками и публикой. Она весело-уверенна, ее плутоватое, умное лицо не дает нам покоя.
Я долго не мог оторвать глаз от автопортретов Зинаиды Серебряковой — радующейся, обаятельной, большеглазой. Скользит по лицу милая улыбка, мягко светится тело, гамма цветов неназойлива, но каждая мелочь на портрете зажигает радостью. Солнце, согревающее нас своими лучами… Уютная, украшенная приятными сердцу вещами комнатка — часть большого мира.
С одной стороны, тонкий психологизм, а с другой — увлечение декоративностью. На это бы я обратил внимание на выставке. В автопортрете Ильи Машкова виден протест против излишнего усложнения психологической характеристики. Он явно декоративен, упрощен, условен, деформирован. Но у этого якобы боярина в шубе и высокой шапке лицо полно мрачной решимости, так не гармонирующей с шубой и фоном.
Портреты, написанные во времена общественных потрясений, они особенно привлекают внимание.
Действие, решимость, вера — вот что в автопортретах Кузьмы Пегрова-Водкина периода гражданской войны. Мерцают, колеблются краски эпохи, возникают новые цветосочетания: он выбрал свой путь, он решил, его скуластое лицо выдает напряжение мысли, ощупывающей пространство.
Борис Кустодиев, Петр Кончаловский, Александр Дейнека, Александр Волков, Игорь Грабарь, Константин Юон, Мартирос Сарьян… Художники начала века, двадцатых, тридцатых, сороковых годов, утверждающие революционный идеал, стали летописцами великих свершений Страны Советов, а также небывалых испытаний в годы Великой Отечественной войны…
Я прихожу к автопортрету Виктора Попкова и постигаю мысль о гражданской позиции художника. Минута озарения и прозрения. Он прикасается к фронтовой шинели отца, и память переносит в давно ушедшие и вечно живые дни, Будто стороной проходят красноватые тени тех, военной поры, женщин. Они ждут ответа or художника, а он — слоей от них. Видение-плач, видение-напоминание, видение-благословение. В глубоком забытьи художник, очнулся и почувствовал себя в дне сегодняшнем не случайным человеком, не временным, а продолжателем. В его сердце и душу льется живая сила людей, создавших и отстоявших мир, в котором он живет.
А затем я повел бы свою группу к "Портрету Фурманова" работы Малютина.
Кто не знает Дмитрия Фурманова? Но мне следовало бы объяснить своей группе, почему на портрете С. Малютина — счастливый, мягкий, очень добрый и задумавшийся человек. Человек работающий — в руке карандаш, на полевой сумке блокнот. Человек, еще не снявший гимнастерку, на которой в обрамлении ярко-алой ленты орден Красного Знамени. На плечи наброшена шинель. Портрет написан в 1922 году — в это время Фурманов серьезно занимается литературным трудом. Он счастлив — пишет свой знаменитый роман "Чапаев". И еще Фурманов счастлив огтого, что отдал многие годы великому делу, Революции, борьбе с белогвардейщиной. "Я часто спрашиваю себя, — писал он, — хватит или нет у меня мужества погибнуть за дело революции, — и всегда убеждаюсь, что хватит".
Путешествуя во времени, мы встречаемся с рабочими людьми, изображенными Александром Самохваловым; они, властвуя, как бы сливаются с машинами — обычные труженики и в то же время гиганты, несущие в себе величие труда. Это эпоха тридцатых годов, время строительства метро. Художник создал порт-рэг — символ эпохи — "Девушка в футболке", которую зарубежные журналисты назвали "Советской Джокондой". Молодая советская женщина, полная здоровья, сил, энергии, излучающая счастливое спокойствие духа и тела, — одета в самую распространенную одежду тридцатых годов — футболку.
Сам художник назвал "Девушку в футболке" торжествующей…
Меня всегда поражал "Портрет режиссера В. Э. Мейерхольда" П. Кончаловского — живописца страстного, сочного, яркого, любившего пировать на празднике жизни, не очень склонного к психологическому портрету. А тут — полотно резкой трагической силы. Сопоставьте с его же "Автопортретом с женой", где нарочито пышны и густы краски, объемно "лепятся" фигуры, веет ог полотна жадной радостью, удовольствием, лихостью… А здесь, в портрете Мейерхольда, буйная пляска декоративных красок как бы отторгает седого усталого человека, прилегшего на тахту.
Как разнятся в манере письма, в своем отношении к модели крупные советские мастера! Рядом с Кончаловским — П. Корин, бурный и мятущийся, неуступчивый и безмерно талантливый.
Учитель Корина — Михаил Васильевич Нестеров — хвалил себя за портрет Шадра: "Вот какой старик молодец!" Он восхищался работой скульптора Шадра, в частности его статуей "Булыжник — оружие пролетариата". "Спасибо, дорогой Иван Митрич, — писал он, — за ту радость, какую Вы мне дали…" "Живой, свежий, реальный" — так оценивал Нестеров свой портрет.
Торжество смелой мысли показал Нестеров в другом портрете — хирурга Юдина. Это острый, резкий портрет. Известный хирург показан в разговоре-споре, он целеустремлен, профиль его четок, артистичен. Благородные, изящные руки властвуют на полотне — руки мастера-виртуоза.
У прославленного архитектора Щусева на портрете Нестерова вез слилось воедино: напряженное раздумье, возраст, усталость, внезапно грянувшая война. Художник начал писать портрет 22 июня 1941 года…
Возле скульптурных портретов мне хотелось напомнить слова, которые цитировала скульптор В. И. Мухина: "Лицо человека есть лицо истории".
Ликом войны назвала Вера Мухина свой бронзовый "Портрет полковника Юсупова". Страшная, обритая, с вмятинами шрамов голова. Одноглазая — на втором глазу повязка. Прекрасная голова солдата. Тысяча смертей пролетела вокруг этой головы. На выставке "Великая Отечественная война" в 1942 году рядом с портретом Юсупова Мухина выставила и портрет полковника Хижняка. Здесь стремительная готовность к подвигу. Дивизия вышла из окружения, потому что он с немногочисленными бойцами поднялся в отвлекающую атаку и был изрешечен пулеметной очередью. Врачи признали его безнадежным. Но знаменитый хирург Юдин, о чьем портрете работы М. В. Нестерова мы уже говорили, спас полковника. И он снова воевал, до самого конца войны.
…На выставках и вернисажах не рукоплещут. Девушка из "моей" группы положила рядом с портретом из дерева — "Аргентинкой" — желтую ромашку. У другой скульптуры я заметил гвоздичку, У третьей — тоже цветы… Оставленное посетителями восхищение. Знак ответного душевного движения на запечатленный в дереве призыв художника.
Случаются минуты, когда радостное смятение открывает в душе простор для чувств смелых и гордых. Словно окунаешься в могучую, не обрушивающуюся волну и выходишь не просто освеженным, но обновленным и жаждущим найти то, что, может быть, утеряно когда-то. Обретаешь себя, насыщенного энергией, ожиданием, бодростью. И звучит в тебе музыка грядущих свершений и неожиданных очарований… Нечто подобное я пережил у работ скульптора С. Эрьзи и повел свою группу поблагодарить автора.
Лицо словно бы незрячего — провалы вместо глаз. Лицо, возносящееся ликующей мукой: он верит в свое прозрение и тянется, на ощупь, по теплу луча — к солнцу и почти обретает его. Что это за лицо! Страстное, отрешенное от неярких забот, лицо летящего к солнцу, сотворящего чудо над собой и для других.
Степан Дмитриевич Нефедов из бурлацкой семьи, мордвин. Взявший псевдонимом имя своего народа — Эрьзя.
Какой нетерпеливой и ласковой силой насыщены его работы: многочисленные женские портреты — величественные и прекрасные, нежные и размышляющие… Гимн женщине — любящей, властной, все понимающей, все прощающей и бескомпромиссной.
Что ни лицо — то характер. Настроение, Мелодия. Бывают портреты-памятники. У Эрьзи — живые портреты. Лица, выходящие из дерева, полны звонкой жизненной силы. Кажется, приложи руку — почувствуешь ток крови; приблизься — услышишь дыхание; найди верное слово — и тебе отзовутся.
Его Толстой могуч и бесконечен, как природное явление.
Его Микеланджело представляется мне лучшим скульптурным изображением гениального итальянца. Какое мучительное раздумье на исполосованном морщинами лице старика, какое неукротимое желание понять смысл своего существования и всего сущего!..
Его эрьзянки и старики мордвины просты, мудры, человечны.
Эрьзя — портретист настроений. Разорвавшийся криком рот — "Ужас", непреклонное "Мужество", лукаво-неуверенный "Каприз", леденящая "Тоска", зовущая "Фантазия" и, наконец, "Спокойствие", далекое от тревог и равнодушия. А над всем возносится тонкая, стройная, очаровательная "Юность"…
Художник побеждает кистью и сердцем — вот что сказал бы я своим слушателям на прощанье.
БОГАТЫРЬ ЖИВОПИСИ
…Много я знал в жизни интересных, талантливых и хороших людей, но, если я когда-либо видел в человеке действительно высокий дух, так это в Кустодиеве.Борис Михайлович Кустодиев (1878 — 1927) — русский и советский худоШник, живописец, график, скульптор, автор театральных декораций. Учился в Академии художеств (мастерская Репина). С 1909 года академик. Тяжело болел. Член-учредитель Нового общества художников, член объединений "Мир искусства", "Союза русских художников", Ассоциации художников революционной России. Картины Кустодиева написаны единым напряжением воли. "Как бы хотелось писать картины не красками, а единым напряжением воли!" — признавался он. Нетерпеливая сила в словах художника, желание страстное — подарить свое творческое вдохновение. Подарив, снова испытать озарение, снова увидеть. Вера в неисчерпаемость своих видений — безгранична. Отношение к таланту, как к рабочему инструменту, верному и надежному: "…могу "заказать" голове картину…" Впоследствии критики признают, что Борис Михайлович Кустодиев "обладает… почти "абсолютным зреньем" в области цвета". Работает он самоотверженно, с упоением, словно по обету. По двенадцати и более часов в сутки. По пяти часов выстаивает у картины и счастлив.Ф. И. Шаляпин
 Кустодиев выказывает себя мастером на все руки — градостроителем, психологом, живописцем, этнографом…
"Все знать, все изучать… все уметь рисовать". Эти со слова — почти лозунг, почти девиз, а не просто строчка из письма.
Копить знания советовал в молодости: не опоздать бы! Освободить время для творчества, чтобы увидеть самые прекрасные дали своей фантазии. Тогда рождается "отсебятина", как он говорил, свободная композиция — картина — чудо, дитя любви и интереса. По его словам, "…красота — высшее наслаждение в жизни". Чудо. Веселое и пылающее.
Увиденное, поразившее, замыслы, фантазии теснятся, преследуют его. Он видит во сне, как его полотна оживают, но фантазия бледнеет на полотне. Кисти медлительны и осторожны. А талант торопит. А ошеломляющая красота жизни, которую он воспринимает болезненно-страстно, рождает одно желание: рисовать, рисовать, рисовать! Ему хочется быть тысячеруким. Он пробует всю "технику", имеющуюся на вооружении: масло, уголь графит, акварель, сангину, цветные карандаши, резцы гравера…
Только художник милостью божьей, талантливый от природы человек мог вот так написать о базаре: "…А что у меня сегодня хорошее настроение, так это вот почему: сегодня здесь базар… да базар такой, что я как обалделый… Только стоял да смотрел, желая обладать сверхчеловеческой способностью все это запечатлеть и запомнить и передать… годами не перепишешь!" Он на базаре как в центре стремительного многокрасочного влхря, карнавала, уносящего и сплетающего воедино товары, людей, лошадей, дуги, игрушки, лапти, платки, сапоги… Все изукрашенное, новое, броское. Все светится, все радужно.
Тогдашняя жизнь его — в постижении "ума помраченья по краскам". Написал свою первую большую картину "Базар в деревне", сердитый критик назвал ее варварской деревней, но тем не менее она получила золотую медаль.
Картина была для него живым существом, он чувствовал: наступает мгновение, когда она уже сама повелевает, ведет за собой.
Не таились ли истоки "самоуправления" картины в постоянном сомнении художника? Внешне Кустодиев похож на упрямого, разбитного, хитрого мужика-удальца. Но взгляд соколиный, захватывающий. На одной из фотографий (Деньер, Невский, 19) он и вовсе человек, желающий напасть. И на автопортрете, который прославленная флорентийская галерея Уффици заказала ему, чтобы поместить в ряду самых именитых, самых достойных мастеров Европы, — он, в меховой шапке и "купеческой" пышной шубе, оглянулся вдруг на ходу, сверкнул взглядом — сердитым, будто прицеливающимся.
Внешне Кустодиев смел и удал, на самом же деле раздираем сомнениями.
В 1909 году, уже зрелым человеком (ему исполнился тридцать один год), признанным мастером, автором "Портрета семьи Поленовых", "Сирени", "Портрета семьи Шварц в усадьбе Успенское", многочисленных портретов, пишет в письме: "…Мне никогда так много не приходилось переживать острых ощущений самого неприятного свойства от своей живописи, как теперь. Такой она мне кажется ненужной, таким старьем и хламом, что я просто стыжусь за нее… Приеду и превращусь в лесного человека и в "прекрасного садовника"… пока что все-таки работаю и завтра буду работать, как колодник, привязанный к тачке". Не стал лесным человеком, потому что был влюбленным колодником.
Кустодиев очень счастлив в ту пору. Любит и любим — жизнь устремляется к гармонической завершенности. Не живет — летит! Подобные часы и дни не повторятся более, он это почти понимает.
"…Вы помните "Четыре отрады" Валерия Брюсова? — пишет он Юлии Прошинской. — Недавно я их прочитал — как все это верно! Теперь я, кажется, переживаю самое лучшее время в своей жизни…"
Кустодиев выказывает себя мастером на все руки — градостроителем, психологом, живописцем, этнографом…
"Все знать, все изучать… все уметь рисовать". Эти со слова — почти лозунг, почти девиз, а не просто строчка из письма.
Копить знания советовал в молодости: не опоздать бы! Освободить время для творчества, чтобы увидеть самые прекрасные дали своей фантазии. Тогда рождается "отсебятина", как он говорил, свободная композиция — картина — чудо, дитя любви и интереса. По его словам, "…красота — высшее наслаждение в жизни". Чудо. Веселое и пылающее.
Увиденное, поразившее, замыслы, фантазии теснятся, преследуют его. Он видит во сне, как его полотна оживают, но фантазия бледнеет на полотне. Кисти медлительны и осторожны. А талант торопит. А ошеломляющая красота жизни, которую он воспринимает болезненно-страстно, рождает одно желание: рисовать, рисовать, рисовать! Ему хочется быть тысячеруким. Он пробует всю "технику", имеющуюся на вооружении: масло, уголь графит, акварель, сангину, цветные карандаши, резцы гравера…
Только художник милостью божьей, талантливый от природы человек мог вот так написать о базаре: "…А что у меня сегодня хорошее настроение, так это вот почему: сегодня здесь базар… да базар такой, что я как обалделый… Только стоял да смотрел, желая обладать сверхчеловеческой способностью все это запечатлеть и запомнить и передать… годами не перепишешь!" Он на базаре как в центре стремительного многокрасочного влхря, карнавала, уносящего и сплетающего воедино товары, людей, лошадей, дуги, игрушки, лапти, платки, сапоги… Все изукрашенное, новое, броское. Все светится, все радужно.
Тогдашняя жизнь его — в постижении "ума помраченья по краскам". Написал свою первую большую картину "Базар в деревне", сердитый критик назвал ее варварской деревней, но тем не менее она получила золотую медаль.
Картина была для него живым существом, он чувствовал: наступает мгновение, когда она уже сама повелевает, ведет за собой.
Не таились ли истоки "самоуправления" картины в постоянном сомнении художника? Внешне Кустодиев похож на упрямого, разбитного, хитрого мужика-удальца. Но взгляд соколиный, захватывающий. На одной из фотографий (Деньер, Невский, 19) он и вовсе человек, желающий напасть. И на автопортрете, который прославленная флорентийская галерея Уффици заказала ему, чтобы поместить в ряду самых именитых, самых достойных мастеров Европы, — он, в меховой шапке и "купеческой" пышной шубе, оглянулся вдруг на ходу, сверкнул взглядом — сердитым, будто прицеливающимся.
Внешне Кустодиев смел и удал, на самом же деле раздираем сомнениями.
В 1909 году, уже зрелым человеком (ему исполнился тридцать один год), признанным мастером, автором "Портрета семьи Поленовых", "Сирени", "Портрета семьи Шварц в усадьбе Успенское", многочисленных портретов, пишет в письме: "…Мне никогда так много не приходилось переживать острых ощущений самого неприятного свойства от своей живописи, как теперь. Такой она мне кажется ненужной, таким старьем и хламом, что я просто стыжусь за нее… Приеду и превращусь в лесного человека и в "прекрасного садовника"… пока что все-таки работаю и завтра буду работать, как колодник, привязанный к тачке". Не стал лесным человеком, потому что был влюбленным колодником.
Кустодиев очень счастлив в ту пору. Любит и любим — жизнь устремляется к гармонической завершенности. Не живет — летит! Подобные часы и дни не повторятся более, он это почти понимает.
"…Вы помните "Четыре отрады" Валерия Брюсова? — пишет он Юлии Прошинской. — Недавно я их прочитал — как все это верно! Теперь я, кажется, переживаю самое лучшее время в своей жизни…"
…Строфы поэзии — смысл бытия.
Тютчева песни и думы Верхарна.
Вас, поклоняясь, приветствую я.
Третий восторг — то восторг быть любимым…
Все видеть, все понять, все знать, все пережить,
Все формы, все цвета вобрать в себя глазами,
Пройти по всей земле горящими ступнями,
Все воспринять и снова воплотить.
 Несколько раз приезжает Шаляпин смотреть эскизы. А когда они написаны, бурно восторгается и решает их приобрести…
После премьеры Шаляпин появляется в мастерской Кустодиева, с порога запевает "Славу" и трогательно благодарит… Художник сразу "увидел" своего Шаляпина. Увидел зимой, когда мороз бодрит, и гулянье от морозного поджига отчаянней и звончей. Пушкин у Кустодиева неизменно связан с осенью, а Шаляпин с зимой…
Он у Кустодиева смотрится этаким барином, владыкой сцены. А присмотришься повнимательнее: это же Федька Шаляпин из казанской Суконной слободы. Вот стряхнет с плеч шубу, этот вятский крестьянин, грянет "Дубинушку" — тогда-то сойдет с шаляпинского лица неспокойное напряжение и дрогнет все вокруг от "песенной хмели"…
Помните: "Похожий портрет… который внутренне похож…" Портрет написан в трудные для искусства, двадцатые годы… Война, голод, разруха. Жесткое, неустоявшееся время, которому, впрочем, искусство было необходимо, как хлеб и оружие. И шла опера в стынущем зале, и, греясь от печки-"буржуйки", недоедая, писал Кустодиев свой лучший портрет, портрет-картину.
С портретом Шаляпин никогда не расставался: хранил "как драгоценнейшее достояние"; может быть, в парижском кабинете разговаривал с прежним Шаляпиным, только русским, не захватанным мировой славой.
Портрет написан как воспоминание, как знак общей памяти и душевной щедрости.
Противоречивый, вспыльчивый, человек ухабистого характера, Шаляпин с Кустодиевым доверчив, ровен, спокоен, ласков.
Замечали в нем "особенную нежность", когда заговаривал о Кустодиеве. Был он верным товарищем: таскал немощного художника на руках с четвертого этажа, добывал машину, привозил в театр и снова, на руках, — в ложу.
Приход Шаляпина — всегда праздник для Кустодиева: словно врывался в комнату огромный, распашистый, насыщенный музыкой и красками мир…
В память о том повесил Кустодиев на свою "любимую стенку" автопортрет Шаляпина, который тот нарисовал во время сеансов…
Невозможно с полным осмыслением происходящего написать, как это свинцово тяжело — не встать на собственные ноги, во всем зависеть от других. И знать, что не встанешь ни завтра, ни послезавтра, никогда. Постоянно — утомляющая боль. Высокая сила спокойного преодоления. Но уже в 1922 году впервые вырываются у Кустодиева слова отчаяния. И все-таки он сражается еще четыре года. Успевает совершить последнее путешествие и попрощаться с любимой Волгой, страной детства. Навсегда остались с ним карусели, разноцветные шары, балаганы, шарманка, ныряние под пароходы. Пестрый астраханский мир. Кустодиев говорил: "У меня и душа-то по природе Астраханка…", имея в виду не только декоративную смесь Европы и Азии, не только причастность к своей провинции — но прежде всего страну детства, ее счастливые дары…
Он успевает попрощаться и с другой страной — музеем Старых мастеров. "…Хочется работать много, много и хоть одну написать картину за всю жизнь, которая могла бы висеть хотя бы в передней музея Старых мастеров".
Когда это написано? Кем? Юнцом, только ступившим на путь служения искусству с пустой котомкой за плечами? Академиком, известным живописцем. И он даже не в сам музей Старых мастеров просится — только в переднюю. "Мы в академии не столько учились у Репина, сколько в Эрмитаже". Болезнь разлучает с Эрмитажем. На помощь приходят друзья. И наступает праздник. В белоснежной сорочке и бархатном пиджаке Кустодиев устремляется в святилище, к своим богам. Друзья проложили по лестницам доски, и он въезжает в музей на кресле-коляске. Художник странствует от Тициана к Веласкесу, затем к любимым "малым голландцам". Й наконец, Рембрандт. Из пяти часов полтоpa проводит возле его полотен. "…10 лет его не видел!.."
Наверное, после этой поездки Кустодиев смертельно устал. Но признается, что чувствует себя так, "как будто выпил крепкого пряного вина".
Он прощается с жизнью "Русской Венерой" — ликующим полотном, словно восклицающим: "Да здравствует жизнь!"
"Любовь к жизни, радость и бодрость, любовь к своему русскому — это было всегда единственным "сюжетом" моих картин", — писал Кустодиев.
Вот что было главным сюжетом — не купеческий быт, а любовь.
На последней грани жизни Кустодиев строит грандиозные планы, грезит фресками на стенах огромных зданий, замышляет триптих "Радость труда и отдыха" — в честь десятилетия Великого Октября. Выпрашивает у Грабаря для этой цели большой холст. Но усталость, накопившаяся и затмевающая, падает на него, давит, становится бесконечной. Кустодиев все еще шутит — искрится неистребимая его усмешка, он рисует шарж на дочку. Но уже знает: все кончено. Говорит жене: "…Больше я не могу работать и не хочу". И сыну: "Мне не хочется больше жить. Я смертельно устал". Не работать — значит и не жить. Не дописал портрет. Не дочитал "Портрет Дориана Грея" Оскара Уайльда:
"Художник — тот, кто создает прекрасное".
Он знал, что создавал прекрасное и честно боролся до конца. Потерпел поражение и победил.
Несколько раз приезжает Шаляпин смотреть эскизы. А когда они написаны, бурно восторгается и решает их приобрести…
После премьеры Шаляпин появляется в мастерской Кустодиева, с порога запевает "Славу" и трогательно благодарит… Художник сразу "увидел" своего Шаляпина. Увидел зимой, когда мороз бодрит, и гулянье от морозного поджига отчаянней и звончей. Пушкин у Кустодиева неизменно связан с осенью, а Шаляпин с зимой…
Он у Кустодиева смотрится этаким барином, владыкой сцены. А присмотришься повнимательнее: это же Федька Шаляпин из казанской Суконной слободы. Вот стряхнет с плеч шубу, этот вятский крестьянин, грянет "Дубинушку" — тогда-то сойдет с шаляпинского лица неспокойное напряжение и дрогнет все вокруг от "песенной хмели"…
Помните: "Похожий портрет… который внутренне похож…" Портрет написан в трудные для искусства, двадцатые годы… Война, голод, разруха. Жесткое, неустоявшееся время, которому, впрочем, искусство было необходимо, как хлеб и оружие. И шла опера в стынущем зале, и, греясь от печки-"буржуйки", недоедая, писал Кустодиев свой лучший портрет, портрет-картину.
С портретом Шаляпин никогда не расставался: хранил "как драгоценнейшее достояние"; может быть, в парижском кабинете разговаривал с прежним Шаляпиным, только русским, не захватанным мировой славой.
Портрет написан как воспоминание, как знак общей памяти и душевной щедрости.
Противоречивый, вспыльчивый, человек ухабистого характера, Шаляпин с Кустодиевым доверчив, ровен, спокоен, ласков.
Замечали в нем "особенную нежность", когда заговаривал о Кустодиеве. Был он верным товарищем: таскал немощного художника на руках с четвертого этажа, добывал машину, привозил в театр и снова, на руках, — в ложу.
Приход Шаляпина — всегда праздник для Кустодиева: словно врывался в комнату огромный, распашистый, насыщенный музыкой и красками мир…
В память о том повесил Кустодиев на свою "любимую стенку" автопортрет Шаляпина, который тот нарисовал во время сеансов…
Невозможно с полным осмыслением происходящего написать, как это свинцово тяжело — не встать на собственные ноги, во всем зависеть от других. И знать, что не встанешь ни завтра, ни послезавтра, никогда. Постоянно — утомляющая боль. Высокая сила спокойного преодоления. Но уже в 1922 году впервые вырываются у Кустодиева слова отчаяния. И все-таки он сражается еще четыре года. Успевает совершить последнее путешествие и попрощаться с любимой Волгой, страной детства. Навсегда остались с ним карусели, разноцветные шары, балаганы, шарманка, ныряние под пароходы. Пестрый астраханский мир. Кустодиев говорил: "У меня и душа-то по природе Астраханка…", имея в виду не только декоративную смесь Европы и Азии, не только причастность к своей провинции — но прежде всего страну детства, ее счастливые дары…
Он успевает попрощаться и с другой страной — музеем Старых мастеров. "…Хочется работать много, много и хоть одну написать картину за всю жизнь, которая могла бы висеть хотя бы в передней музея Старых мастеров".
Когда это написано? Кем? Юнцом, только ступившим на путь служения искусству с пустой котомкой за плечами? Академиком, известным живописцем. И он даже не в сам музей Старых мастеров просится — только в переднюю. "Мы в академии не столько учились у Репина, сколько в Эрмитаже". Болезнь разлучает с Эрмитажем. На помощь приходят друзья. И наступает праздник. В белоснежной сорочке и бархатном пиджаке Кустодиев устремляется в святилище, к своим богам. Друзья проложили по лестницам доски, и он въезжает в музей на кресле-коляске. Художник странствует от Тициана к Веласкесу, затем к любимым "малым голландцам". Й наконец, Рембрандт. Из пяти часов полтоpa проводит возле его полотен. "…10 лет его не видел!.."
Наверное, после этой поездки Кустодиев смертельно устал. Но признается, что чувствует себя так, "как будто выпил крепкого пряного вина".
Он прощается с жизнью "Русской Венерой" — ликующим полотном, словно восклицающим: "Да здравствует жизнь!"
"Любовь к жизни, радость и бодрость, любовь к своему русскому — это было всегда единственным "сюжетом" моих картин", — писал Кустодиев.
Вот что было главным сюжетом — не купеческий быт, а любовь.
На последней грани жизни Кустодиев строит грандиозные планы, грезит фресками на стенах огромных зданий, замышляет триптих "Радость труда и отдыха" — в честь десятилетия Великого Октября. Выпрашивает у Грабаря для этой цели большой холст. Но усталость, накопившаяся и затмевающая, падает на него, давит, становится бесконечной. Кустодиев все еще шутит — искрится неистребимая его усмешка, он рисует шарж на дочку. Но уже знает: все кончено. Говорит жене: "…Больше я не могу работать и не хочу". И сыну: "Мне не хочется больше жить. Я смертельно устал". Не работать — значит и не жить. Не дописал портрет. Не дочитал "Портрет Дориана Грея" Оскара Уайльда:
"Художник — тот, кто создает прекрасное".
Он знал, что создавал прекрасное и честно боролся до конца. Потерпел поражение и победил.
ХУДОЖНИКИ ОБ ИСКУССТВЕ П. П. КОНЧАЛОВСКИИ
…Я вообще не люблю в портрете давать человека в быту, а всегда стремлюсь найти стиль изображаемого человека, открыть в нем общечеловеческое, потому что мне дорого не внешнее сходство, а художественность образа. Общечеловеческого и ищу я прежде всего в оригиналах моих портретов. И в этом мне много помогают великие мастера эпохи Возрождения, умевшие создавать вечно притягательные портреты каких-то совершенно неведомых нам людей. Суриков верно говорил: "Греческую красоту и в остяке найти можно…" Портрет 1922 года ("Автопортрет с женой" 1923 года. — Ред.) обдумывался и прорисовывался у меня очень долго. Хотелось, чтобы в нем не было никакой яркости красок, чтобы весь он был насыщен тоном, светотенью. Именно не "делать" предмет, не передавать признаки его вещности, а "писать", вводить предмет в живописную его среду стремился я в этот раз. Композиция устраивалась долго, особенно в руках, пока не расположились они какой-то "восьмеркой". Свое лицо написалось у меня как-то сразу, а лицо жены пришлось работать долго. Так как весь портрет предстояло разрешить в тоне, для жены было сшито особое платье по моему рисунку: черный бархатный корсаж и бронзового цвета рукав. Бархат я многосоставно писал, многими красками, вплоть до индийской желтой. Да и вообще я сильно поработал над фактурой этого холста, много больше, чем в "Агаве", например. Были во время работы и опасные моменты: начиналась порча сделанного раньше, приходилось бросать работу, волноваться за будущее, вплоть до сомнений в своих силах, в умении осилить задачу… Много, очень много было вложено в этот портрет!.. Изучая в музеях и картинных галереях искусство великих мастеров прошлого, я всегда поражался необычайной жизненностью их передачи. Смотришь, бывало, на какой-нибудь веронезевский пир, на эту пышную, как букет, расцветающую красками своих одеяний толпу, до такой степени живую, что, кажется, движется все на холсте. Потом взглянешь на серые, одноцветные и тусклые фигуры посетителей и удивляешься: да это те же люди, та же толпа, что на холсте. Стирается грань между природой и ее воплощением. Достигнуть в живописи такой силы воплощения — вот труднейшая из задач всякого живописца, вот к чему должен он стремиться, по моему мнению. И в этом портрете (в "Семейном портрете" 1917 года. — Ред.), в фигуре дочери я именно хотел спорить с самой жизнью. Другое дело — насколько мне удалось, но я хотел именно этого…Г. НИССКИЙ о РЫЛОВЕ
Мы пришли в искусство вместе с революцией, и с первых шагов нам хотелось быть современными, честными, принципиальными в своем искусстве, хотелось найти язык, понятный и близкий народу. Уже тогда стремились мы найти свою тему, свои образы, свое, не похожее на других, художественное решение… Самая великая задача, стоящая перед художником, — быть понятным как можно большему числу людей, раскрывать перед ними красоту родной русской природы, красоту сегодняшнего дня. Бесконечно важно для художника полнокровное ощущение жизни… Я вижу обыкновенное небо, дома, деревья, шагающих людей. Я пытаюсь соразмерить свой шаг с их быстрым и смелым шагом. И когда я добиваюсь чудесного ощущения общего ритма, вот тогда я становлюсь художником — живым, неустающим, способным понять и связать самые, казалось бы, отдаленные явления жизни, понять жизнь в целом. Советскому человеку свойственно качественно новое ощущение пространства, которое чрезмерно расширилось, вплоть до космоса. Эти новые пространственные представления должны войти в сознание художника, овладеть его чувствами. Можно и старый по своим мотивам пейзаж передать с острым чувством нового, заставить звучать по-новому. Современному советскому человеку несвойственно восприятие явлений природы с ее, если можно так выразиться, задворок, с запущенных, глухих уголков. Он ищет новое в самой природе и ждет этого нового я от художника-Новаторство именно в том и заключается, чтобы уметь видеть и передать ростки нового, передать через глубокое понимание и искреннюю любовь к своему родному, национальному, передать через романтическую приподнятость своих чувств. Вспомним, как вошел в советский пейзаж Рылов. Его произведения красивы и романтичны. Он показал в своих работах наше советское завтра, показал через большую романтическую взволнованность. В голубые просторы полетели лебеди, зашумели зелеными кудрями березки… Рылов заставляет нас думать о светлом будущем, подчиняет зрителя мощному и задорному звучанию картины, заражает своим приподнятым, бодрым настроением…ЗДЕСЬ БЫЛ ЧЕЛОВЕК
Тяга к философскому истолкованию каждого явления действительности сопровождает все его работы.Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878 — 1939) — русский и советский живописец и график, профессор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Театральный художник. Теоретик искусства. Член общества "Мир искусства". Жил и работал в Ленинграде. С 1918 года преподавал в Ленинградской академии художеств. В мастерскую художник Кузьма Сергеевич Петров-Водкин входил, как можно предположить, не торопясь, приглядываясь, прикидывая, приноравливая глаз и руку, — предстояло тянуть каторжную лямку, как и далеким предкам, крепостным, бурлакам, грузчикам, плотникам. Принюхивался к краскам, словно к сапожному вару и коже, — запахам, любимым с детства: сапожничал отец. Да и сыну довелось побывать слесарем, дворником, маляром-вывесочником. Потому он требовал уважения к ремеслу: имей профессию, как столяр или слесарь.К. Ф. Юон
 Уже потом он скажет: "Клочок бумаги, обработанный Врубелем, останавливает: здесь был человек".
Здесь был человек, мастер, чей неповторимый след таланта и колоссального работолюбия — в скупых штрихах линий.
Но прежде всего ремесло! И кто же утверждает это — фантазер, безудержный выдумщик, по мнению Максима Горького, — русский родственник немецкого барона Мюнхгаузена… Духовный родственник Тартарена из Тараскона.
В заштатном городке конца XIX века Петров-Водкин ищет жизни необыкновенной, обильной опасными и романтичными приключениями. И потом — всю жизнь выдумывает. Великолепно рассказывает, особенно детям, может быть, потому, что они лучше взрослых провидят в вымысле жизненную истину, явления логичные и закономерные. Это родственник Мюнхгаузена пишет им книжку под названием "Аойя. Приключения Андрюши и Кати в воздухе, над землей и на земле".
Еще в школе случилась с ним курьезная история. Такими славились в прошлом известные живописцы. Хваля Лукаса Кранаха Старшего, современник писал о таком случае: однажды Кранах нарисовал на столе виноградную кисть — прилетела сорока и начала ее клевать. Будучи школьником, Петров-Водкин нарисовал на листе дыру, и все приняли ее за настоящую.
Фантазия его основывалась на реальности, которая требовала ремесла, а ремесло — пота. А потому — тысячи и тысячи рисунков и эскизов. "…Целый день бороздишь город. Закрываешь глаза, чтобы зафиксировать калейдоскопично поступающее в мозг, и — нет подсказа!"
Отчаянной работоспособности Петров-Водкин научился рано. Впоследствии он нарисует могучих людей — налитой, ощутимой плотности ("Рабочие"). Сжимающаяся кисть скульптурной руки — как символ, как вызов: мы все можем!
"Сварливая", как он говорил, жизнь физически закалила Петрова-Водкина, научила мужицкой практичности, сметке, умению прикидываться подчас простофилей.
"Сварливая" жизнь подарила жадность к познанию и во многом не смогла ее насытить.
Он безудержно выдвигал множество гипотез, вечно искал, самодельничал. В иных ситуациях терялся, ему не хватало, по собственному признанию, юности — сразу попал во взрослый мир. Тоскующий о юности человек любовался ею на своих полотнах. Почитаемых учителей — Серова и Врубеля — запечатлел "Играющими мальчиками". Символически, разумеется. Беззаботная игра, борьба, своеобразный танец ребячьей удали. Оранжевые с красными тенями — горящие тела. Для этого пламени необходим и зеленый купол земного шара, и синее небо. Светлый реквием. И действительно, "они кричат, орут и до сей поры". О свежей радости жизни, о неосознанной, геометрической точности движений, которую уловил, более того — сочинил — художник.
Ему не хватало юности, всю жизнь он искал ее. Не в том ли причина, что, по свидетельствам современников, ко многому подходил с неожиданной стороны, сражался с ветряными мельницами, но в его речах всегда "мелькали драгоценные крупицы мудрости… доморощенной, а не взятой напрокат".
Наверстывал упущенное, читал запоем, был завсегдатаем Художественного театра, простаивал в очередях за билетом на Шаляпина, днем рисовал, ночами писал драму… Был сведущ в законах физики, геометрии, физиологии, астрономии…
Жадность познания заставляла его открывать Америки. Он не стеснялся этого. Любил раскрываться, мыслить вслух, рассуждать, не краснея за иные нелепицы, — был естествен, не "работал" на публику. В разговоре искал, сочинял, сопереживал — собеседнику с ним было интересно.
Человек крайностей, в иное время держался в стороне, давал зарок молчания. Затем — мог, например, в пух и прах разругаться на выставке с самым уравновешенным из уравновешенных, Н. К. Рерихом, или весьма нелестно отозваться о ком-нибудь из признанных авторитетов. И если возникали группировки, то, как правило, никто его не считал своим. Одни опасались его, другие обвиняли в консерватизме.
Но зато дружил верно и нежно. С Б. М. Кустодиевым — восемнадцать лет. И тот его очень любил, хотя — при встречах они неизбежно "пикировались". Часто вместе слушали музыку, которую оба любили. А Петров-Водкин к тому же играл на скрипке любимые сонаты Моцарта, может быть, следуя совету Альбрехта Дюрера, — чтобы согреть кровь.
"Сварливая" жизнь воспитала его решительным и рисковым. Упрямому человеку с волевым скуластым лицом солдата, напряженными бровями, целеустремленным взглядом, словно говорящим: я знаю, чего хочу в жизни, — ничего не стоило, скажем, взять напрокат велосипед и покатить за границу (и это на самой заре велосипедного спорта), поучиться, потрогать на ощупь живопись Беклина, Штука, Ленбаха; удивиться на "бесстыдство обнаженных красок" французских мастеров. Ради живописного дела совал свой длинный нос всюду, вплоть до Везувия. Тот ответил свирепой негостеприимностью: присыпал слегка вулканической пылью и пошвырял камешками.
Храбрость его — от жадности рабочего любопытства.
Во время землетрясения в Крыму был там вместе с семьей и не уехал: "Я буду работать. Это такое событие, которое может не повториться…
Жена согласилась, и они остались.
Работяга и фантазер, он хотел стать настоящим искусником или, как еще говорил, — цветочувствителем. За границей на него обрушиваются изваянные из мрамора, отлитые из бронзы и запечатленные кистью фантазии великих мастеров.
Из многочисленных имен западноевропейских живописцев, близких ему по душе, он выделяет особо: "Мадонна с ребенком" Джованни Беллини — одна "из сердечнейших вещей в мировой живописи".
Возьмем на заметку его определение — "сердечнейшая".
Петров-Водкин поклоняется великим мастерам и учится, но исподволь начинает борьбу. Декларативно заявляет об этом, когда доносится до него весть о восстании 1905 года. "…Подождите, не шумите! — вслух кричу я "Персею", и всем статуям, и всему окружению, — вы свои дела сделали, очередь шуметь нам!!"
Тысячи парижских эскизов, африканская серия, первые полотна: "Сон", "Греческое панно", "Берег" — живые картины, театральные представления застывшего движения — изнурительное, повседневное сражение не на жизнь, а на смерть за свое самобытное, петрово-водкинское.
Едва появившись на свет, будущий художник сразу же попал в расписанную караульщиком Андреем Кондратьичем колыбель, которая "как в солнечном свете, над полем песнь жаворонка…". Откроем книгу Петрова-Водкина "Хлыновск" и узнаем о знакомых его детства: иконописце "древнего обычая" Филиппе Парфеныче, между красками которого существовала сцепленность, не будь ее, "…как бабочки, вспорхнули бы"; и о старце Варсонофии-доличнике, кому снились по ночам лица, а изобразить их он не мог; о живописце-вывесочнике Толкачеве с его голыми, базарными, вздорящими между собой красками.
Знал художник и новгородское письмо. "Встречался" с Рублевым и Дионисием.
Суриков, Репин, Васнецов, Касаткин, Архипов, Пастернак, Левитан, Серов, Коровин — длинен перечень учителей Петрова-Водкина. Особо свято для него имя Александра Андреевича Иванова, "основоположника русской новейшей изобразительности".
Не был одним в поле. Чаще это ему помогало, иногда мешало. Но сражение за свою самобытность приносит ему первую внушительную и яркую победу. Картина "Купание красного коня" провозглашается знаменем, вокруг которого можно сплотиться, и водружается над входной дверью выставочного зала.
"Красного коня" сравнивали со степной кобылицей Блока, искали истоки в фольклоре, считали его прародителями карающих коней Георгия Победоносца…
…Рассекается ощутимо упругая и ощутимо живая зеленовато-голубая стихия. Испуганно устремляется к мирному охристо-розоватому берегу рыжий конь. Упрямится, а все же идет в глубину — белый. А красный мощно вырастает из этой стихии. Взгляд его дик, но одухотворен. Конь нестерпимо красен, но не раскален, не обжигающ. Огромен, но легок. И юноша-всадник изящен, грациозен, поводья держит символически; всаднику просто нельзя не держать поводья. Помчи сейчас конь, и не удержать неукротимого бега…
Волевое, упрямое, разумное лицо коня — алого потока жизненной крови, несущей человека. Конь-знамя, конь-символ поднял ногу, сделал шаг и… "Что сбудется в жизни?" — спрашивал художник, переводя дух после многолетней работы. Пожалуй, он был доволен собой.
Время смутное, предгрозовое — 1912 год.
Картина словно пророчествовала. Словно светила.
"Не учить, не развлекать вы должны, а светить… легче… усыплять тайну в душе другого, чем освещать путь к ней", — говорил Петров-Водкин ученикам — открывал им сокровенное.
Он был солнцепоклонником в переносном и буквальном смысле — за солнцем путешествует в Самарканд: "Я полон красок и полотен…"
Для "цветочувствителя" Петрова-Водкина краски — живые существа, населяющие город: его картину. Если им душно и тесно, они ссорятся. Если город светел и тих, им привольно и радостно. А иногда происходят бурные процессы — резкая обостренность одних красок сталкивается с мягкостью других. Возникает движение…
Острым глазом схватывает его Петров-Водкин и хочет продлить бесконечно и успеть запечатлеть, перенести на полотно. Как, например, бешеный порыв бури — в картину "Ураган".
"…Он жив… и в то же время… мертв… Необыкновенная воздушность фигуры, этот полет на невидимых крыльях — удивительны" — так сказал Леонид Андреев о сраженном офицере в картине Петрова-Водкина "На линии огня".
В движении, взаимоотношениях предметы, как люди, выявляют свой характер, а живые существа вспыхивают еще ярче.
Движение — наступление на пространство.
Во Флоренции Петров-Водкин знакомится с творениями Леонардо да Винчи, представляет себе его зримо. "…Напал на проект-рисунок "Эспланады — темпля в пустыне" и взбудоражился от… совпадения моей памятки с этим произведением. Значит, мерещившийся мне… космический масштаб произведения искусства возможен…"
Памятка — посещение Исаакиевского собора в детстве. Ощущение себя частицей огромного неизвестного мира. Прикосновение к тайне, которая иногда умещается в наивный, казалось бы, вопрос ребенка: "Мама, а что такое звезды?"
Это Петров-Водкин назовет ощущением планетарного порядка.
Художники говорили о нем: на земные вещи смотрит как бы по возвращении из космоса. А он от цветастости, от зримой ощутимости, желанности всего земного — по траектории движения — хотел шагнуть в космос. Взглянуть жадными глазами землянина на пространство неизмеримое.
Потому и любил "жадно тоскующего по мировым полетам" Врубеля.
Потому тянулся к масштабам грандиозным. Когда готовилась постановка "Бориса Годунова", грозился: келью закатаю во всю сцену; собирались возводить Дворец Советов, начал проектировать росписи. Не успел…
Хотел сделать глаза жителя земли всевидящими.
И для того показывает предметы сверху и сбоку, окружает другими отражающими плоскостями: чтобы открыть все грани, показать в полном объеме.
Космос манит Петрова-Водкина, о нем он много знает. Его даже избирают членом Французского астрономического общества. Но книга "Поверхность земной коры" — одна из самых любимых. Все начинается с земли. В прошлом именитые и прославленные художники метили свои полотна символическими знаками. Впоследствии лишь скромно ставили инициалы или подпись. Если бы Петрову-Водкину пришлось нарисовать свой художнический герб — наверное, изобразил бы он свою любимую планету — Землю. Самое высокое и почетное звание, по его разумению, — быть художником своей земли. Земли, на которой совершаются поистине космические социальные сдвиги: побеждает Революция, отливаясь в форму невиданного доселе государства.
А Петров-Водкин пишет натюрморты. Этот сорокалетний человек в свитере, наголо остриженный, но с усами и бородкой, с чеканно плотным лицом — лишь впадины у висков, как удары прожитых лет, — полон динамической силы. Переплетаются зеленые, синие, голубоватые плоскости и сферичности неспокойно жизненного фона. Мы видим художника на мгновение отвернувшимся, сосредоточенным… Для того чтобы снова переделывать, вносить свое, рушить и строить.
Но не красное знамя впереди полков пишет художник, а на красном фоне — яблоки. Белые, ало-желтые, зеленоватые — округлые, почти катящиеся, сочные плоды. "Розовый натюрморт" светится ягодами на мерцающей плоскости стола цвета нежного заката. А стакан — хрустальная емкость с животворной влагой под яблоневой веткой.
Яблоки — символ жизненного налива.
Картина влюбленного, радующегося человека. Невозможно отчаявшемуся человеку так яростно передать свет, идущий изнутри ягод и плодов.
Художник, как потом отмечали, "сальерианского", рационалистического склада — идет в Революцию, бережно неся в ладонях цвета жизни, свою душевную ласку, — и выплескивает их, расчетливо и умно, на холст. В нем пробуждается лирик, человек нежный, обладающий поэтическим даром.
Позже это особенно проявится в портрете Анны
Ахматовой. Она прикрыла глаза, ждет, когда же зазвучит первая строка. Лицо поэтессы некрасиво, напряженные жилы видны на шее, словно вырастающей из скомканной жести одежды. Но затаенная грусть, запрятанная слеза, трогательно поднятая бровь — все в ее лице лучится светлым чувством. Эта женщина готова теплотой своей души согреть и украсить жизнь других…
И еще полотно: на изломе городского окна — верная скрипка. Она не выброшена, не повешена в дальнем углу. Кажется: художник оставил ее ненадолго. Он вернется к окну, чтобы сыграть свои импровизации, может быть, новые мелодии нового времени.
Натюрморты — скрипичные этюды. Вот вам и деление. Для Революции он пишет скрипичные этюды.
Вокруг лилась кровь, гибли за Революцию люди, сражавшиеся за нее: рабочие, крестьяне, интеллигенты. О них, о их героических делах потом будут сложены стихи и песни. И радость цветения, и скрипка были так же необходимы для Петрова-Водкина, как и для его современников. В настоящем, в будущем, всегда. Но прозвучит и щемяще-скорбная мужественная нота… Мастер создаст яркий документ, весомей многих протоколов и резолюций. На розовой скатерти картофелины, ломоть с геометрической точностью отрезанного хлеба — ни крошки лишней (не зря же доверяли Петрову-Водкину делить академические пайки), и на жестком листке красивой синей бумаги — беловато-желтоватая с голубыми отсветами и ржавчиной, будто кованое изделие, сплющенная селедка. Памятник времени. Участник тогдашних знаменательных событий, несомненно, повесил бы эту щемяще-правдивую картину у себя в доме. И в дни грядущие стала бы она ему отрадой и символом нравственного очищения. Как боевая шашка, как первый орден на красных ленточках…
Петров-Водкин не спешит "отобразить" оптимистическую трагедию свершающегося. Эта тема долгие годы будет жить у него в сердце, а потом сразу, как птица, вырвется на волю. Он не спешит, ибо к сражавшимся за правое дело красногвардейцам и красноармейцам относится, как сам признавался, с нежностью.
Но перечислим его революционные обязанности: член комиссии по делам искусств при Петроградском Совете, член Особого совещания по делам искусств, член комиссии по реформе Академии художеств, член Совета вольной философской ассоциации; профессор, избранный студентами… Петров-Водкин выступает с докладами об искусстве будущего. Он неуемен и как организатор. Ко всему прочему, создает проект и осуществляет оформление одной из петроградских площадей к первой годовщине Октября…
В облике Петрова-Водкина находили что-то от Востока, от иконы, приписывали ему азиатскую замкнутость и мистическую неподвижность…
Но святые лики у Петрова-Водкина не получались. Как сказал о его первой иконе протопоп: "Плясовица… Глазами стрекает… Святить не буду!"
Плясовиц рисовал Петров-Водкин.
Портрет девушки — портрет существа неземного, этакой Аэлиты, полюбить ее нельзя и поклоняться не хочется — стыло-жгуч, как замерзшая сталь, ее взгляд. Диковатые глаза вносят дисгармонию, душевный разлад, отталкивают.
Вспомним о мадонне Беллини: сердечнейшая…
Плясовицы станут у Петрова-Водкина сердечнейшими и заживут на иконах нового времени. Напишет он Мадонну Революции — и никто потом не создаст такого трогательного символа. Женщина на балконе людной и холодной петроградской улицы — словно сама Революция. Она в белой косынке, работница. За спиной полощется, нет, застывает чеканными линиями знамени красная накидка. Люди внизу ныряют в арочную синеву, идут по тускло-матовой мостовой еще как-то неприкаянно. Свершились огромные перемены. Мир смещен, мир строится. А женщина, олицетворяющая жизнь, женщина с лицом цвета рабочего загара собранна, внимательна, пытлива. Ей обеспечивать будущее маленькому человечку на ее коленях. Свою гордую силу словно переливает она из своей руки в руку малыша.
Позже художник вернется к этой теме, нарисовав в хаосе "Композиции" женщину с ребенком. Ей еще претит мирская неустроенность, но отворачивается не брезгливо, а от пыли, бьющей в глаза. Ребенок же тянет руки к изломанным линиям. Ему их переделывать, созидать невиданные доселе конструкции…
Пройдет четырнадцать трудных лет, пока сумеет художник переплавить фантазию, впечатления, отделить ненужные наслоения, найти путь от Мадонны революционного символа к Мадонне революционного действия и вновь рассказать, о днях, которые потрясли мир.
Мы, оглядывая комнату, не сомневаемся: да, 1919 год. Смята и брошена на табуретку газетная жесть. Розовые стены, тепло-коричневый пол, цветок, ломоть хлеба на серо-зеленой скатерти — домашняя гармония вдруг взрывается яркой оконной синью. Двадцать один тридцать пять на ходиках. Тревога. Наступает Юденич. Глава семьи, очевидно, возьмет винтовку и уйдет…
Мы не найдем на картине художника, но здесь он — неприметный, бритоголовый, скуластый. Где-то в дальнем углу. И не в оконную грозу смотрит, не на мужа, не на женщину в красной юбке. А на девочку, которую та прижимает к себе. Испугана девочка, но в глазах надежда: все будет хорошо?
И верится нам: знает художник — не просто, не скоро, но все будет хорошо.
Девочка вырастет, наденет красный платок, станет комсомолкой. Хороша она, женственна, тонкие брови, резко прочерченная молодая сила, плясовица, которой молиться не надо — идти за ней, куда позовет…
Или станет "Девушкой в сарафане" из рабоче-крестьянской семьи, спокойно-величавой держательницей мира. Впоследствии критики дружно определят, что художник по-новому, но и традиционно — от икон Андрея Рублева — рассказал о русском типе женской красоты.
Она станет женщиной. Однажды "За самоваром" произойдет немой разговор. Смещенные в плоскости предметы — движущаяся, зыбкая граница. Внимательно-вопросительное, выжидательное выражение лица у мужчины. И женщина не безмятежна, загадочна, размышляет о причине их спора, размолвки. Она станет матерью…
Первые шаги ребенка — ах, как радуется мать, как неожиданно замирает рядом с ней девушка — придет и ее черед выполнять ответственную женскую миссию…
Пришел новый мир, и ушли с полотен безмятежные, счастливые и укоряющие лица богоматерей, призывающие к думам о бренности суеты житейской, к страстям, запрятанным в глубине душевных тайников. Работницы и крестьянки, которым поить, кормить, обихаживать семью, и нести на себе житейские заботы, и жить ясно, открыто, заняли их место.
Но не перестали они быть мадоннами.
Многие утверждали, что лишь впоследствии нашел
Петров-Водкин содержание своих картин в жизни народа. А равнина русская и меловые горы за Хвалынском — Хлыновском, и леса, и Волга — всегда жили в его сердце.
"…Только в Хлыновске бывают такие весны".
Стал он поэтом будней, как верно подметили собратья по перу. И не мог не стать им.
"Полдень. Лето". Реквием отцу.
История крестьянской жизни на Волге с ее суденышками, изломамикустарников и деревьев. Встреча косаря и девушки; мать с младенцем; подпасок со стадом; мужик в красной рубахе колет дрова; спят косари — муж и жена… А вот и проводы кого-то из близких в последний путь…
Гордо красуются на первом плане медовые желтые яблоки, и мальчишка тянет к ним руки.
Картина многопланова, как будто в ней перемешаны иконные клейма-жития. И в то же время целостна, ибо сама природа мягкими, приглушенными красками оттеняет, как главное, обыкновенную жизнь человека труда.
Программное заявление художника: кто он и откуда есть родом.
Потому выступал он в юности, по его словам, "на демонстрации протестов с "долой" и "да здравствует" под казачьи нагайки…".
Потому Петров-Водкин стал живописцем и летописцем Революции: "Любовь моя тяжкая гиря ведь…" Художник убежден: он сможет передать ритмы и цвет своей эпохи: мерцающий, летящий, побуждающий к дерзанию.
На его автопортрете лишь резкие линии от носа к губам придают самоуверенному выражению лица некоторую скорбность, сомнение. Взгляд испытующ: художник подобен боксеру, отброшенному в угол и готовящемуся к новой атаке. Он действительно пойдет в атаку и напишет лучшие свои полотна. Постареет, потощеет, но выражение упрямой уверенности не выцветет, только приобретет оттенок какой-то фанатической обреченности. Все ли, что мог, он сделал?
Снова вернется к "Красному коню", посадит на него уже опытного всадника, пустит вскачь по крутым склонам. Синеют горы, пропадают домишки городка (волжской ли, другой земли?) и летит-летит красный конь. Фантазия о Революции.
Фантазия — убийственная вещь, когда для нее нет выхода в реальное событие! Так скажет художник и напишет полотно "После боя". Погиб командир. Через плечо пулеметная лента, за поясом гранаты, в руке винтовка. Он уже в том синеватом мире, откуда нет возврата. Он уже воспоминание, которое не забывается никогда. Пал с честью, вечная слава герою!.. А жизнь продолжается, и ее цвета господствуют в картине.
Комиссар в кожаной куртке без излишнего трагизма прощается с товарищем. Уста его закрыты, но поза динамична. Рука сжата в кулак — павший оживает в нем — и переходит к молодому бойцу в папахе. Вдохновенному поэту. Красный шарф усиливает это впечатление. Кольт за поясом, руки отталкиваются от стола — сейчас он пойдет воевать с мировой буржуазией, беззаветно преданный великой идее, ради которой погиб командир.
И торжественно оплакивает последнего третий боец.
Но погибнет и комиссар.
У картины "Смерть комиссара" на Венецианской международной выставке будут останавливаться, сидеть, задумываться о событиях, происходивших в огромной стране на востоке.
…И падает комиссар. "На той далекой, на гражданской". Плавно опускается к земле. Еще рука сжимает винтовку, стремительное движение — только вперед! — еще влечет неудержимо, но уже встречный удар пули останавливает его. Комиссар словно парит над землей, лицо его повернуто вслед атакующим бойцам. Не слова прощания в его взгляде — комиссар не думает о себе, он там, в атаке, где кипит бой… Но, роняя винтовку, подхватывает почти убитое Комиссарове тело красноармеец, надеясь вернуть его к жизни и понимая непоправимость случившегося.
Колеблющееся мгновение замедлил на полотне художник — оно происходит, повторяется вечно. Смерть коммуниста в бою за правое дело, дело революции.
Лицо комиссара уже оттеняет грустное недоумение отрешенности и сожаления, запрокидывается голова, опускаются отяжелевшие руки. Он погибает, как бы врастая в бойца. Гибель героя и мотив пьеты — совпадают: идет бой, изящные облачка снарядных разрывов плывут в воздухе — некогда долго оплакивать. Скорбную муку, горькую нежность выражает лицо бойца, поддерживающего комиссара. Слепое от горя лицо. Мелодия тоски пролилась в мир. Погиб герой. Умерла частица души тех людей, которые бесповоротно уносятся в водоворот сражения вслед за огоньком Красного знамени. Бойцы "уплывают" за горизонт, лишь один оглядывается на комиссара. Тревожно бьют барабаны. Вперед и вперед! И бойцы устремляются вперед, за округлый бок земли… Пестрый ковер земли, изрезанный оврагами и украшенный камнями (они кажутся россыпью драгоценностей). В голубовато-розовой дымке открываются дали. Пейзаж ласков. Земля красива. Земля Родины, которую комиссар хотел видеть счастливой. Земля, которую завоевывают и защищают с надеждой.
Округлый бок земли. Художник смотрит на изображаемое как бы сбоку и сверху, подчеркивая тем самым сферичность пространства. Его бесконечность. Этот "космический" взгляд, свойственный творчеству художника, утверждает значительность мысли: комиссар погибает за правду всей земли. И потому он бессмертен, потому нет в картине безысходности горя, потому бесконечно движение отряда революционных бойцов вслед за Красным знаменем. Они уходят в легенду, в вечность.
Картина "Смерть комиссара" — оптимистическая элегия.
Очевидно, не случайно для главного образа позировал Петрову-Водкину поэт Спасский. У комиссара умное, тонкое лицо и могучие рабочие руки. Воин, частица массы и человек возвышенный. Не впадая в аффектацию, негромко, но выразительно, истинно поэтически сумел художник воспеть подвиг героев гражданской войны, красноармейцев.
Картина написана в 1928 году, к 10-летию Красной Армии.
Создавая монументальные полотна, Петров-Водкин и в жанре портрета проявит себя тонким психологом.
Вот большелобый, артистичный Андрей Белый. Широкий рот не уродует лицо, а диспропорцией лишь усиливает странную индивидуальность лепки. Прозрачные глаза обещают пророческое слово, впервые и всерьез.
У писателя С. Д. Мстиславского лицо словно вырезано из отлежавшегося под дождями и ветрами корневища, по извилинам которого прочтешь нелегкую 5ио-графию. В дубленую древесину вмонтированы драгоценные камни глаз. Они кажутся чужими, они словно вырываются, словно пытаются осветить путь, грядущий и нелегкий.
Человек захлебывающегося воображения, высекающий острым умом из твердого кремня повседневности искру вдохновения, Петров-Водкин пишет не только портреты, сюжетные полотна, пейзажи, натюрморты, оформляет спектакли, иллюстрирует… Взыскательный читатель, художник М. В. Нестеров сравнивает прекрасное, по его мнению, писательство Петрова-Водкина с "Семейной хроникой" С. Т. Аксакова.
"Оно янтарными бусами сверкнет на морозном солнце и сольется обратно в гущу янтарей".
Это о зерне.
Или: "Август — это во всех ртах яблоки".
Цитировать афористичные повести Петрова-Водкина — "Хлыновск", "Пространство Эвклида", "Самар-кандия" — можно бесконечно.
Три повести, двенадцать пьес, двадцать рассказов сочинил многоликий Петров-Водкин.
Он представлял новое Возрождение, которое началось у нас в России в канун Революции и вызвало к жизни десятки дарований, "явлений невероятных", когда она свершилась.
Петров-Водкин называл его возрождением самой сущности живописи, ее реализма. Призывал: отвечать за все до конца! Но порой в угоду "демагогически-вульгаризаторским" критикам отдавал предпочтение своим "сальерианским" чертам характера и писал картины, которые теперь называют слащавыми. Но их число ничтожно.
Петров-Водкин признан прижизненно: профессор Ленинградской академии художеств, заслуженный деятель искусств РСФСР. В 1936 — 1937 годах в Ленинграде и Москве — его персональные выставки. Вышла небольшая монография, где говорилось, что он "…является одним из крупнейших советских художников" и "в последующие годы стремится выйти из формалистско-стилистического тупика". Последнее мнение, очевидно, все-таки возобладало.
Но состоялось и второе рождение Петрова-Водкина. Ошеломленные зрители уходили с выставки, узнав о существовании "великого русского художника XX века"; ощутив, как сказал француз Пюви де Шавани, один из любимых художников Петрова-Водкина, чего может достигнуть художник, который не был бесплодным и бесчестным.
Уже потом он скажет: "Клочок бумаги, обработанный Врубелем, останавливает: здесь был человек".
Здесь был человек, мастер, чей неповторимый след таланта и колоссального работолюбия — в скупых штрихах линий.
Но прежде всего ремесло! И кто же утверждает это — фантазер, безудержный выдумщик, по мнению Максима Горького, — русский родственник немецкого барона Мюнхгаузена… Духовный родственник Тартарена из Тараскона.
В заштатном городке конца XIX века Петров-Водкин ищет жизни необыкновенной, обильной опасными и романтичными приключениями. И потом — всю жизнь выдумывает. Великолепно рассказывает, особенно детям, может быть, потому, что они лучше взрослых провидят в вымысле жизненную истину, явления логичные и закономерные. Это родственник Мюнхгаузена пишет им книжку под названием "Аойя. Приключения Андрюши и Кати в воздухе, над землей и на земле".
Еще в школе случилась с ним курьезная история. Такими славились в прошлом известные живописцы. Хваля Лукаса Кранаха Старшего, современник писал о таком случае: однажды Кранах нарисовал на столе виноградную кисть — прилетела сорока и начала ее клевать. Будучи школьником, Петров-Водкин нарисовал на листе дыру, и все приняли ее за настоящую.
Фантазия его основывалась на реальности, которая требовала ремесла, а ремесло — пота. А потому — тысячи и тысячи рисунков и эскизов. "…Целый день бороздишь город. Закрываешь глаза, чтобы зафиксировать калейдоскопично поступающее в мозг, и — нет подсказа!"
Отчаянной работоспособности Петров-Водкин научился рано. Впоследствии он нарисует могучих людей — налитой, ощутимой плотности ("Рабочие"). Сжимающаяся кисть скульптурной руки — как символ, как вызов: мы все можем!
"Сварливая", как он говорил, жизнь физически закалила Петрова-Водкина, научила мужицкой практичности, сметке, умению прикидываться подчас простофилей.
"Сварливая" жизнь подарила жадность к познанию и во многом не смогла ее насытить.
Он безудержно выдвигал множество гипотез, вечно искал, самодельничал. В иных ситуациях терялся, ему не хватало, по собственному признанию, юности — сразу попал во взрослый мир. Тоскующий о юности человек любовался ею на своих полотнах. Почитаемых учителей — Серова и Врубеля — запечатлел "Играющими мальчиками". Символически, разумеется. Беззаботная игра, борьба, своеобразный танец ребячьей удали. Оранжевые с красными тенями — горящие тела. Для этого пламени необходим и зеленый купол земного шара, и синее небо. Светлый реквием. И действительно, "они кричат, орут и до сей поры". О свежей радости жизни, о неосознанной, геометрической точности движений, которую уловил, более того — сочинил — художник.
Ему не хватало юности, всю жизнь он искал ее. Не в том ли причина, что, по свидетельствам современников, ко многому подходил с неожиданной стороны, сражался с ветряными мельницами, но в его речах всегда "мелькали драгоценные крупицы мудрости… доморощенной, а не взятой напрокат".
Наверстывал упущенное, читал запоем, был завсегдатаем Художественного театра, простаивал в очередях за билетом на Шаляпина, днем рисовал, ночами писал драму… Был сведущ в законах физики, геометрии, физиологии, астрономии…
Жадность познания заставляла его открывать Америки. Он не стеснялся этого. Любил раскрываться, мыслить вслух, рассуждать, не краснея за иные нелепицы, — был естествен, не "работал" на публику. В разговоре искал, сочинял, сопереживал — собеседнику с ним было интересно.
Человек крайностей, в иное время держался в стороне, давал зарок молчания. Затем — мог, например, в пух и прах разругаться на выставке с самым уравновешенным из уравновешенных, Н. К. Рерихом, или весьма нелестно отозваться о ком-нибудь из признанных авторитетов. И если возникали группировки, то, как правило, никто его не считал своим. Одни опасались его, другие обвиняли в консерватизме.
Но зато дружил верно и нежно. С Б. М. Кустодиевым — восемнадцать лет. И тот его очень любил, хотя — при встречах они неизбежно "пикировались". Часто вместе слушали музыку, которую оба любили. А Петров-Водкин к тому же играл на скрипке любимые сонаты Моцарта, может быть, следуя совету Альбрехта Дюрера, — чтобы согреть кровь.
"Сварливая" жизнь воспитала его решительным и рисковым. Упрямому человеку с волевым скуластым лицом солдата, напряженными бровями, целеустремленным взглядом, словно говорящим: я знаю, чего хочу в жизни, — ничего не стоило, скажем, взять напрокат велосипед и покатить за границу (и это на самой заре велосипедного спорта), поучиться, потрогать на ощупь живопись Беклина, Штука, Ленбаха; удивиться на "бесстыдство обнаженных красок" французских мастеров. Ради живописного дела совал свой длинный нос всюду, вплоть до Везувия. Тот ответил свирепой негостеприимностью: присыпал слегка вулканической пылью и пошвырял камешками.
Храбрость его — от жадности рабочего любопытства.
Во время землетрясения в Крыму был там вместе с семьей и не уехал: "Я буду работать. Это такое событие, которое может не повториться…
Жена согласилась, и они остались.
Работяга и фантазер, он хотел стать настоящим искусником или, как еще говорил, — цветочувствителем. За границей на него обрушиваются изваянные из мрамора, отлитые из бронзы и запечатленные кистью фантазии великих мастеров.
Из многочисленных имен западноевропейских живописцев, близких ему по душе, он выделяет особо: "Мадонна с ребенком" Джованни Беллини — одна "из сердечнейших вещей в мировой живописи".
Возьмем на заметку его определение — "сердечнейшая".
Петров-Водкин поклоняется великим мастерам и учится, но исподволь начинает борьбу. Декларативно заявляет об этом, когда доносится до него весть о восстании 1905 года. "…Подождите, не шумите! — вслух кричу я "Персею", и всем статуям, и всему окружению, — вы свои дела сделали, очередь шуметь нам!!"
Тысячи парижских эскизов, африканская серия, первые полотна: "Сон", "Греческое панно", "Берег" — живые картины, театральные представления застывшего движения — изнурительное, повседневное сражение не на жизнь, а на смерть за свое самобытное, петрово-водкинское.
Едва появившись на свет, будущий художник сразу же попал в расписанную караульщиком Андреем Кондратьичем колыбель, которая "как в солнечном свете, над полем песнь жаворонка…". Откроем книгу Петрова-Водкина "Хлыновск" и узнаем о знакомых его детства: иконописце "древнего обычая" Филиппе Парфеныче, между красками которого существовала сцепленность, не будь ее, "…как бабочки, вспорхнули бы"; и о старце Варсонофии-доличнике, кому снились по ночам лица, а изобразить их он не мог; о живописце-вывесочнике Толкачеве с его голыми, базарными, вздорящими между собой красками.
Знал художник и новгородское письмо. "Встречался" с Рублевым и Дионисием.
Суриков, Репин, Васнецов, Касаткин, Архипов, Пастернак, Левитан, Серов, Коровин — длинен перечень учителей Петрова-Водкина. Особо свято для него имя Александра Андреевича Иванова, "основоположника русской новейшей изобразительности".
Не был одним в поле. Чаще это ему помогало, иногда мешало. Но сражение за свою самобытность приносит ему первую внушительную и яркую победу. Картина "Купание красного коня" провозглашается знаменем, вокруг которого можно сплотиться, и водружается над входной дверью выставочного зала.
"Красного коня" сравнивали со степной кобылицей Блока, искали истоки в фольклоре, считали его прародителями карающих коней Георгия Победоносца…
…Рассекается ощутимо упругая и ощутимо живая зеленовато-голубая стихия. Испуганно устремляется к мирному охристо-розоватому берегу рыжий конь. Упрямится, а все же идет в глубину — белый. А красный мощно вырастает из этой стихии. Взгляд его дик, но одухотворен. Конь нестерпимо красен, но не раскален, не обжигающ. Огромен, но легок. И юноша-всадник изящен, грациозен, поводья держит символически; всаднику просто нельзя не держать поводья. Помчи сейчас конь, и не удержать неукротимого бега…
Волевое, упрямое, разумное лицо коня — алого потока жизненной крови, несущей человека. Конь-знамя, конь-символ поднял ногу, сделал шаг и… "Что сбудется в жизни?" — спрашивал художник, переводя дух после многолетней работы. Пожалуй, он был доволен собой.
Время смутное, предгрозовое — 1912 год.
Картина словно пророчествовала. Словно светила.
"Не учить, не развлекать вы должны, а светить… легче… усыплять тайну в душе другого, чем освещать путь к ней", — говорил Петров-Водкин ученикам — открывал им сокровенное.
Он был солнцепоклонником в переносном и буквальном смысле — за солнцем путешествует в Самарканд: "Я полон красок и полотен…"
Для "цветочувствителя" Петрова-Водкина краски — живые существа, населяющие город: его картину. Если им душно и тесно, они ссорятся. Если город светел и тих, им привольно и радостно. А иногда происходят бурные процессы — резкая обостренность одних красок сталкивается с мягкостью других. Возникает движение…
Острым глазом схватывает его Петров-Водкин и хочет продлить бесконечно и успеть запечатлеть, перенести на полотно. Как, например, бешеный порыв бури — в картину "Ураган".
"…Он жив… и в то же время… мертв… Необыкновенная воздушность фигуры, этот полет на невидимых крыльях — удивительны" — так сказал Леонид Андреев о сраженном офицере в картине Петрова-Водкина "На линии огня".
В движении, взаимоотношениях предметы, как люди, выявляют свой характер, а живые существа вспыхивают еще ярче.
Движение — наступление на пространство.
Во Флоренции Петров-Водкин знакомится с творениями Леонардо да Винчи, представляет себе его зримо. "…Напал на проект-рисунок "Эспланады — темпля в пустыне" и взбудоражился от… совпадения моей памятки с этим произведением. Значит, мерещившийся мне… космический масштаб произведения искусства возможен…"
Памятка — посещение Исаакиевского собора в детстве. Ощущение себя частицей огромного неизвестного мира. Прикосновение к тайне, которая иногда умещается в наивный, казалось бы, вопрос ребенка: "Мама, а что такое звезды?"
Это Петров-Водкин назовет ощущением планетарного порядка.
Художники говорили о нем: на земные вещи смотрит как бы по возвращении из космоса. А он от цветастости, от зримой ощутимости, желанности всего земного — по траектории движения — хотел шагнуть в космос. Взглянуть жадными глазами землянина на пространство неизмеримое.
Потому и любил "жадно тоскующего по мировым полетам" Врубеля.
Потому тянулся к масштабам грандиозным. Когда готовилась постановка "Бориса Годунова", грозился: келью закатаю во всю сцену; собирались возводить Дворец Советов, начал проектировать росписи. Не успел…
Хотел сделать глаза жителя земли всевидящими.
И для того показывает предметы сверху и сбоку, окружает другими отражающими плоскостями: чтобы открыть все грани, показать в полном объеме.
Космос манит Петрова-Водкина, о нем он много знает. Его даже избирают членом Французского астрономического общества. Но книга "Поверхность земной коры" — одна из самых любимых. Все начинается с земли. В прошлом именитые и прославленные художники метили свои полотна символическими знаками. Впоследствии лишь скромно ставили инициалы или подпись. Если бы Петрову-Водкину пришлось нарисовать свой художнический герб — наверное, изобразил бы он свою любимую планету — Землю. Самое высокое и почетное звание, по его разумению, — быть художником своей земли. Земли, на которой совершаются поистине космические социальные сдвиги: побеждает Революция, отливаясь в форму невиданного доселе государства.
А Петров-Водкин пишет натюрморты. Этот сорокалетний человек в свитере, наголо остриженный, но с усами и бородкой, с чеканно плотным лицом — лишь впадины у висков, как удары прожитых лет, — полон динамической силы. Переплетаются зеленые, синие, голубоватые плоскости и сферичности неспокойно жизненного фона. Мы видим художника на мгновение отвернувшимся, сосредоточенным… Для того чтобы снова переделывать, вносить свое, рушить и строить.
Но не красное знамя впереди полков пишет художник, а на красном фоне — яблоки. Белые, ало-желтые, зеленоватые — округлые, почти катящиеся, сочные плоды. "Розовый натюрморт" светится ягодами на мерцающей плоскости стола цвета нежного заката. А стакан — хрустальная емкость с животворной влагой под яблоневой веткой.
Яблоки — символ жизненного налива.
Картина влюбленного, радующегося человека. Невозможно отчаявшемуся человеку так яростно передать свет, идущий изнутри ягод и плодов.
Художник, как потом отмечали, "сальерианского", рационалистического склада — идет в Революцию, бережно неся в ладонях цвета жизни, свою душевную ласку, — и выплескивает их, расчетливо и умно, на холст. В нем пробуждается лирик, человек нежный, обладающий поэтическим даром.
Позже это особенно проявится в портрете Анны
Ахматовой. Она прикрыла глаза, ждет, когда же зазвучит первая строка. Лицо поэтессы некрасиво, напряженные жилы видны на шее, словно вырастающей из скомканной жести одежды. Но затаенная грусть, запрятанная слеза, трогательно поднятая бровь — все в ее лице лучится светлым чувством. Эта женщина готова теплотой своей души согреть и украсить жизнь других…
И еще полотно: на изломе городского окна — верная скрипка. Она не выброшена, не повешена в дальнем углу. Кажется: художник оставил ее ненадолго. Он вернется к окну, чтобы сыграть свои импровизации, может быть, новые мелодии нового времени.
Натюрморты — скрипичные этюды. Вот вам и деление. Для Революции он пишет скрипичные этюды.
Вокруг лилась кровь, гибли за Революцию люди, сражавшиеся за нее: рабочие, крестьяне, интеллигенты. О них, о их героических делах потом будут сложены стихи и песни. И радость цветения, и скрипка были так же необходимы для Петрова-Водкина, как и для его современников. В настоящем, в будущем, всегда. Но прозвучит и щемяще-скорбная мужественная нота… Мастер создаст яркий документ, весомей многих протоколов и резолюций. На розовой скатерти картофелины, ломоть с геометрической точностью отрезанного хлеба — ни крошки лишней (не зря же доверяли Петрову-Водкину делить академические пайки), и на жестком листке красивой синей бумаги — беловато-желтоватая с голубыми отсветами и ржавчиной, будто кованое изделие, сплющенная селедка. Памятник времени. Участник тогдашних знаменательных событий, несомненно, повесил бы эту щемяще-правдивую картину у себя в доме. И в дни грядущие стала бы она ему отрадой и символом нравственного очищения. Как боевая шашка, как первый орден на красных ленточках…
Петров-Водкин не спешит "отобразить" оптимистическую трагедию свершающегося. Эта тема долгие годы будет жить у него в сердце, а потом сразу, как птица, вырвется на волю. Он не спешит, ибо к сражавшимся за правое дело красногвардейцам и красноармейцам относится, как сам признавался, с нежностью.
Но перечислим его революционные обязанности: член комиссии по делам искусств при Петроградском Совете, член Особого совещания по делам искусств, член комиссии по реформе Академии художеств, член Совета вольной философской ассоциации; профессор, избранный студентами… Петров-Водкин выступает с докладами об искусстве будущего. Он неуемен и как организатор. Ко всему прочему, создает проект и осуществляет оформление одной из петроградских площадей к первой годовщине Октября…
В облике Петрова-Водкина находили что-то от Востока, от иконы, приписывали ему азиатскую замкнутость и мистическую неподвижность…
Но святые лики у Петрова-Водкина не получались. Как сказал о его первой иконе протопоп: "Плясовица… Глазами стрекает… Святить не буду!"
Плясовиц рисовал Петров-Водкин.
Портрет девушки — портрет существа неземного, этакой Аэлиты, полюбить ее нельзя и поклоняться не хочется — стыло-жгуч, как замерзшая сталь, ее взгляд. Диковатые глаза вносят дисгармонию, душевный разлад, отталкивают.
Вспомним о мадонне Беллини: сердечнейшая…
Плясовицы станут у Петрова-Водкина сердечнейшими и заживут на иконах нового времени. Напишет он Мадонну Революции — и никто потом не создаст такого трогательного символа. Женщина на балконе людной и холодной петроградской улицы — словно сама Революция. Она в белой косынке, работница. За спиной полощется, нет, застывает чеканными линиями знамени красная накидка. Люди внизу ныряют в арочную синеву, идут по тускло-матовой мостовой еще как-то неприкаянно. Свершились огромные перемены. Мир смещен, мир строится. А женщина, олицетворяющая жизнь, женщина с лицом цвета рабочего загара собранна, внимательна, пытлива. Ей обеспечивать будущее маленькому человечку на ее коленях. Свою гордую силу словно переливает она из своей руки в руку малыша.
Позже художник вернется к этой теме, нарисовав в хаосе "Композиции" женщину с ребенком. Ей еще претит мирская неустроенность, но отворачивается не брезгливо, а от пыли, бьющей в глаза. Ребенок же тянет руки к изломанным линиям. Ему их переделывать, созидать невиданные доселе конструкции…
Пройдет четырнадцать трудных лет, пока сумеет художник переплавить фантазию, впечатления, отделить ненужные наслоения, найти путь от Мадонны революционного символа к Мадонне революционного действия и вновь рассказать, о днях, которые потрясли мир.
Мы, оглядывая комнату, не сомневаемся: да, 1919 год. Смята и брошена на табуретку газетная жесть. Розовые стены, тепло-коричневый пол, цветок, ломоть хлеба на серо-зеленой скатерти — домашняя гармония вдруг взрывается яркой оконной синью. Двадцать один тридцать пять на ходиках. Тревога. Наступает Юденич. Глава семьи, очевидно, возьмет винтовку и уйдет…
Мы не найдем на картине художника, но здесь он — неприметный, бритоголовый, скуластый. Где-то в дальнем углу. И не в оконную грозу смотрит, не на мужа, не на женщину в красной юбке. А на девочку, которую та прижимает к себе. Испугана девочка, но в глазах надежда: все будет хорошо?
И верится нам: знает художник — не просто, не скоро, но все будет хорошо.
Девочка вырастет, наденет красный платок, станет комсомолкой. Хороша она, женственна, тонкие брови, резко прочерченная молодая сила, плясовица, которой молиться не надо — идти за ней, куда позовет…
Или станет "Девушкой в сарафане" из рабоче-крестьянской семьи, спокойно-величавой держательницей мира. Впоследствии критики дружно определят, что художник по-новому, но и традиционно — от икон Андрея Рублева — рассказал о русском типе женской красоты.
Она станет женщиной. Однажды "За самоваром" произойдет немой разговор. Смещенные в плоскости предметы — движущаяся, зыбкая граница. Внимательно-вопросительное, выжидательное выражение лица у мужчины. И женщина не безмятежна, загадочна, размышляет о причине их спора, размолвки. Она станет матерью…
Первые шаги ребенка — ах, как радуется мать, как неожиданно замирает рядом с ней девушка — придет и ее черед выполнять ответственную женскую миссию…
Пришел новый мир, и ушли с полотен безмятежные, счастливые и укоряющие лица богоматерей, призывающие к думам о бренности суеты житейской, к страстям, запрятанным в глубине душевных тайников. Работницы и крестьянки, которым поить, кормить, обихаживать семью, и нести на себе житейские заботы, и жить ясно, открыто, заняли их место.
Но не перестали они быть мадоннами.
Многие утверждали, что лишь впоследствии нашел
Петров-Водкин содержание своих картин в жизни народа. А равнина русская и меловые горы за Хвалынском — Хлыновском, и леса, и Волга — всегда жили в его сердце.
"…Только в Хлыновске бывают такие весны".
Стал он поэтом будней, как верно подметили собратья по перу. И не мог не стать им.
"Полдень. Лето". Реквием отцу.
История крестьянской жизни на Волге с ее суденышками, изломамикустарников и деревьев. Встреча косаря и девушки; мать с младенцем; подпасок со стадом; мужик в красной рубахе колет дрова; спят косари — муж и жена… А вот и проводы кого-то из близких в последний путь…
Гордо красуются на первом плане медовые желтые яблоки, и мальчишка тянет к ним руки.
Картина многопланова, как будто в ней перемешаны иконные клейма-жития. И в то же время целостна, ибо сама природа мягкими, приглушенными красками оттеняет, как главное, обыкновенную жизнь человека труда.
Программное заявление художника: кто он и откуда есть родом.
Потому выступал он в юности, по его словам, "на демонстрации протестов с "долой" и "да здравствует" под казачьи нагайки…".
Потому Петров-Водкин стал живописцем и летописцем Революции: "Любовь моя тяжкая гиря ведь…" Художник убежден: он сможет передать ритмы и цвет своей эпохи: мерцающий, летящий, побуждающий к дерзанию.
На его автопортрете лишь резкие линии от носа к губам придают самоуверенному выражению лица некоторую скорбность, сомнение. Взгляд испытующ: художник подобен боксеру, отброшенному в угол и готовящемуся к новой атаке. Он действительно пойдет в атаку и напишет лучшие свои полотна. Постареет, потощеет, но выражение упрямой уверенности не выцветет, только приобретет оттенок какой-то фанатической обреченности. Все ли, что мог, он сделал?
Снова вернется к "Красному коню", посадит на него уже опытного всадника, пустит вскачь по крутым склонам. Синеют горы, пропадают домишки городка (волжской ли, другой земли?) и летит-летит красный конь. Фантазия о Революции.
Фантазия — убийственная вещь, когда для нее нет выхода в реальное событие! Так скажет художник и напишет полотно "После боя". Погиб командир. Через плечо пулеметная лента, за поясом гранаты, в руке винтовка. Он уже в том синеватом мире, откуда нет возврата. Он уже воспоминание, которое не забывается никогда. Пал с честью, вечная слава герою!.. А жизнь продолжается, и ее цвета господствуют в картине.
Комиссар в кожаной куртке без излишнего трагизма прощается с товарищем. Уста его закрыты, но поза динамична. Рука сжата в кулак — павший оживает в нем — и переходит к молодому бойцу в папахе. Вдохновенному поэту. Красный шарф усиливает это впечатление. Кольт за поясом, руки отталкиваются от стола — сейчас он пойдет воевать с мировой буржуазией, беззаветно преданный великой идее, ради которой погиб командир.
И торжественно оплакивает последнего третий боец.
Но погибнет и комиссар.
У картины "Смерть комиссара" на Венецианской международной выставке будут останавливаться, сидеть, задумываться о событиях, происходивших в огромной стране на востоке.
…И падает комиссар. "На той далекой, на гражданской". Плавно опускается к земле. Еще рука сжимает винтовку, стремительное движение — только вперед! — еще влечет неудержимо, но уже встречный удар пули останавливает его. Комиссар словно парит над землей, лицо его повернуто вслед атакующим бойцам. Не слова прощания в его взгляде — комиссар не думает о себе, он там, в атаке, где кипит бой… Но, роняя винтовку, подхватывает почти убитое Комиссарове тело красноармеец, надеясь вернуть его к жизни и понимая непоправимость случившегося.
Колеблющееся мгновение замедлил на полотне художник — оно происходит, повторяется вечно. Смерть коммуниста в бою за правое дело, дело революции.
Лицо комиссара уже оттеняет грустное недоумение отрешенности и сожаления, запрокидывается голова, опускаются отяжелевшие руки. Он погибает, как бы врастая в бойца. Гибель героя и мотив пьеты — совпадают: идет бой, изящные облачка снарядных разрывов плывут в воздухе — некогда долго оплакивать. Скорбную муку, горькую нежность выражает лицо бойца, поддерживающего комиссара. Слепое от горя лицо. Мелодия тоски пролилась в мир. Погиб герой. Умерла частица души тех людей, которые бесповоротно уносятся в водоворот сражения вслед за огоньком Красного знамени. Бойцы "уплывают" за горизонт, лишь один оглядывается на комиссара. Тревожно бьют барабаны. Вперед и вперед! И бойцы устремляются вперед, за округлый бок земли… Пестрый ковер земли, изрезанный оврагами и украшенный камнями (они кажутся россыпью драгоценностей). В голубовато-розовой дымке открываются дали. Пейзаж ласков. Земля красива. Земля Родины, которую комиссар хотел видеть счастливой. Земля, которую завоевывают и защищают с надеждой.
Округлый бок земли. Художник смотрит на изображаемое как бы сбоку и сверху, подчеркивая тем самым сферичность пространства. Его бесконечность. Этот "космический" взгляд, свойственный творчеству художника, утверждает значительность мысли: комиссар погибает за правду всей земли. И потому он бессмертен, потому нет в картине безысходности горя, потому бесконечно движение отряда революционных бойцов вслед за Красным знаменем. Они уходят в легенду, в вечность.
Картина "Смерть комиссара" — оптимистическая элегия.
Очевидно, не случайно для главного образа позировал Петрову-Водкину поэт Спасский. У комиссара умное, тонкое лицо и могучие рабочие руки. Воин, частица массы и человек возвышенный. Не впадая в аффектацию, негромко, но выразительно, истинно поэтически сумел художник воспеть подвиг героев гражданской войны, красноармейцев.
Картина написана в 1928 году, к 10-летию Красной Армии.
Создавая монументальные полотна, Петров-Водкин и в жанре портрета проявит себя тонким психологом.
Вот большелобый, артистичный Андрей Белый. Широкий рот не уродует лицо, а диспропорцией лишь усиливает странную индивидуальность лепки. Прозрачные глаза обещают пророческое слово, впервые и всерьез.
У писателя С. Д. Мстиславского лицо словно вырезано из отлежавшегося под дождями и ветрами корневища, по извилинам которого прочтешь нелегкую 5ио-графию. В дубленую древесину вмонтированы драгоценные камни глаз. Они кажутся чужими, они словно вырываются, словно пытаются осветить путь, грядущий и нелегкий.
Человек захлебывающегося воображения, высекающий острым умом из твердого кремня повседневности искру вдохновения, Петров-Водкин пишет не только портреты, сюжетные полотна, пейзажи, натюрморты, оформляет спектакли, иллюстрирует… Взыскательный читатель, художник М. В. Нестеров сравнивает прекрасное, по его мнению, писательство Петрова-Водкина с "Семейной хроникой" С. Т. Аксакова.
"Оно янтарными бусами сверкнет на морозном солнце и сольется обратно в гущу янтарей".
Это о зерне.
Или: "Август — это во всех ртах яблоки".
Цитировать афористичные повести Петрова-Водкина — "Хлыновск", "Пространство Эвклида", "Самар-кандия" — можно бесконечно.
Три повести, двенадцать пьес, двадцать рассказов сочинил многоликий Петров-Водкин.
Он представлял новое Возрождение, которое началось у нас в России в канун Революции и вызвало к жизни десятки дарований, "явлений невероятных", когда она свершилась.
Петров-Водкин называл его возрождением самой сущности живописи, ее реализма. Призывал: отвечать за все до конца! Но порой в угоду "демагогически-вульгаризаторским" критикам отдавал предпочтение своим "сальерианским" чертам характера и писал картины, которые теперь называют слащавыми. Но их число ничтожно.
Петров-Водкин признан прижизненно: профессор Ленинградской академии художеств, заслуженный деятель искусств РСФСР. В 1936 — 1937 годах в Ленинграде и Москве — его персональные выставки. Вышла небольшая монография, где говорилось, что он "…является одним из крупнейших советских художников" и "в последующие годы стремится выйти из формалистско-стилистического тупика". Последнее мнение, очевидно, все-таки возобладало.
Но состоялось и второе рождение Петрова-Водкина. Ошеломленные зрители уходили с выставки, узнав о существовании "великого русского художника XX века"; ощутив, как сказал француз Пюви де Шавани, один из любимых художников Петрова-Водкина, чего может достигнуть художник, который не был бесплодным и бесчестным.

ХУДОЖНИКИ ОБ ИСКУССТВЕ А. А. ДЕЙНЕКА
О чем я мечтаю? Мечтаю украшать архитектуру цветом, чтобы она была веселой, писать фрески или набирать ряды мозаик, чтобы они были эпосом наших дней. Чтобы они были ритмичны и выразительны, как сама — природа, и человек себя чувствовал среди них смелее, полнокровнее и богаче.* * *
Есть непреложное в ритме молодости, смелости. Мужество имеет свою динамику. Новое — свои живописные планы. Поэтому я люблю писать людей, познавая их внутренний мир через их видимый, зримый ритм, писать пейзажи в их закономерной стройности; поэтому человек у меня не расползается в живописном месиве, а строится как цветной, объемный, четкий образ.* * *
В наше время существует изумительное слово "новаторство". Во всем прогрессивном, искреннем, ищущем мы видим корни этого понятия. Новаторство придает новый, более глубокий смысл трудовым процессам — будь это на заводе, в полях, в лабораториях ученых. Наше новаторство вытекает из социальной природы нашего общества. Вот почему художник должен особенно глубоко присматриваться ко всем новым явлениям, находить в них пластику, живописную красоту, формы, раскрывающие духовный мир советского человека.* * *
Я люблю спорт; Я могу часами смотреть на бегунов, пятиборцев, пловцов, лыжников. Мне всегда казалось, что спорт облагораживает человека, как все красивое. Мы очень разбрасываемся, мы живем в беспокойное время, уж очень много на нашу долю выпало впечатлений. Может быть, поэтому мы так внимательны к человеку и его человеческому достоинству.* * *
Народ предлагает художникам решать трудные, но заманчивые задачи — работать над образом нашего современника, гармонически сочетающего духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Моральный кодекс строителей коммунизма включает в себя высокие нравственные принципы — любовь к Родине, к труду, чувство товарищества. Вот за что надо бороться сегодня, вот что главное в искусстве сегодняшнего дня. В наше творчество войдут и заботы о красоте квартир, парков, городов, одежды, предметов обихода. В быт придет разумная красота, утилитаризм должен сомкнуться с эстетикой. Деятельность художника включается в круг здоровых потребностей человека. Непочатый край работы для художников хороших и разных.* * *
На Западе особенно часто понятие свободы прилагается к сфере искусства, и мы вправе поразмыслить над этим… Слово "свобода" несет в себе широкий смысл, и, может быть, прежде всего гражданский смысл. Говорят, что буржуазное искусство свободно. Но ведь и рантье, и художник в капиталистической стране целиком зависят от конъюнктуры рынка. Их искусство не несет свободы народу, да, по сути дела, оно и не нужно ему. Оно идейно безлико, а значит, лишено осознанного смысла и непонятно окружающим. Пропаганда всего больного, бесперспективного — можно ли это назвать свободным творчеством? Самый свободный человек не поведет машину навстречу идущему потоку. Свободу любят, за нее борются, потому что свобода — это счастье. Свобода общества и отдельного человека неразделимы. Человек не может быть равнодушен ни к новым открытиям, ни к настоящему новому искусству. Наши люди великим напряжением заслужили право на прекрасное искусство, заработали право утверждать на земле мир, счастье, дружбу, право бороться за свободу, утверждая на земле коммунизм…КАК СВЕТЛЫЙ ЛЕНЬ И КАК ЗАГАДКА
…Вы достигаете удивительной силы и убедительности. "Пыланье" юга выражено как ни у кого.Мартирос Сергеевич Сарьян (1880 — 1972) — Герой Социалистического Труда, народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий. Жил в городе Ереване. Они вернулись из странствий в Армению молодыми. Сорок один и двадцать пять — возрасты, которым равно свойственно нетерпение дерзания. Они вернулись в свою Армению, ставшую советской. "Маленький печальный Ереван, — напишет потом Сарьян, — начал улыбаться и вскоре засиял как солнце". Они вернулись на родину, чтобы не оставлять ее никогда. Чувство большее, чем дружба, соединило судьбы уже зрелого мастера Сарья-на и молодого поэта Чаренца — любовь к своей земле, искусство, революция. В 1923 году Сарьян написал портрет Чаренца. В том же году он создал картины о своей любимой, ставшей свободной Армении. Звучит хорал о вольном отчем крае. Горы — гигантский орган — дарят музыку полуденной тишине, зеленым садам и полям, древнему монастырю, синей реке. Слыша эту музыку, танцуют на крыше армянского дома женщины. "Горы" — синеватые, мягко-зеленые, зеленые с синеватым отливом, ярко-пестрые и огненно-красные — расстилаются до горизонта, подступают к селению, к желтому полю, которое пашет пахарь… Сарьян, сын крестьянина, написал мирный край и мирный труд; землю, празднично засиявшую всеми красками под солнцем радости и свободы. "Я привкус солнца в языке Армении родной люблю…" — так сказал Чаренц. Сарьян нарисовал его в гимнастерке. Нарисовал солдатом, отстоявшим свободу. "Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза" — эти слова Брюсова предпослал Чаренц своему "Красному сонету". Поэт вошел в грозу гражданской войны под знаменем цвета Революции. Он был среди тех, кто защищал Царицын. Сражался против дашнаков. Ранее слагавший песни бледнопечальной девушке, в горниле этой борьбы становится, как сам писал, солдатом, трибуном, большевиком. Поднимался в атаку, ходил в разведку, слагал стихи и поэмы о том, что пришли "неистовые, как гроза…". Он был среди неистовых. Он — "красный поэт". И сонет у него красный, и "красные вихри пошли по всем дорогам…", и год — красный… Сарьян очень любил Чаренца и его стихи. Он написал портрет, сложный по своему содержанию, как сложен был сам Чаренц. 1923 год для них обоих — год радости, надежд, окры-лений. На фотографии того времени Сарьян, ученик великих русских художников Серова и Коровина, уже признанный мастер — он полон искристой энергии и уверенного ожидания. У него живые, знающие, быстрые глаза. Он не только пишет картины, но и принимает самое деятельное участие в создании художественного музея. Чаренц возвращается в Ереван известным поэтом — в Москве выходит двухтомник его стихов. В 1923 году он заканчивает роман "Страна Наири", сатиро-драмати-ческую поэму "Кавказ — Тамаша", откликается на болезнь Ленина стихотворением "Я и Ильич"… Большой интерес вызывает его доклад "Современная русская поэзия…". Сарьян нарисовал поэта-солдата, чья "песнь летит стрелой к заре грядущих дней"; нежного лирика, хранящего "любовь-ожог в груди…". Мужественного человека. У него волевое, крепкой лепки лицо. Он принял решение, он не отступит, он размышляет. Напряженная и жесткая складка у губ… Он ясен, как светлый день, и он — загадка. Египетская маска цвета обожженной глины брошена художником на ковер, как смятенная судьба, как лицо трагедии; страдальчески изломаны брови, замкнута линия скорбного рта, вечный вопрос застыл в широко распахнутых глазах. Сарьяну всегда нравились мудрость и навеки застывшие чувства масок. Чаренц как будто не обращает внимания на маску. Он упрям и провидящ. Уже не заявляет: "Я скоморох", но еще не избыл сверхочарования поэзией железа и пара; "электричества блеск волшебный" для него в ту пору равен свету восходящего солнца. Но в том-то и была волшебная сила Сарьяна-мастера, Сарьяна-художника, что он, может быть, знал Чаренца лучше, чем поэт сам себя. Сарьян показал его незастывшим, движущимся, меняющимся. "Мы сейчас уже не там, где были минуту назад, секунду назад". Так говорил художник. Он запечатлел на полотне поэта, уходящего от сумятицы юности и приходящего к постоянству зрелых размышлений. Двадцать шесть Чаренцу, а на портрете дашь ему больше. Чаренц, испытывающий себя, ускоряющий время, вопрошающий жизнь и- себя. Кажется, откроются его уста и скажет он много красивых, сильных, вещих слов. Что и произошло, как предсказал художник, — впоследствии назвали Чаренца "одним из самых талантливых, выдающихся поэтов…".А. Бенуа — М. Сарьяну
 Сарьян нарисовал его в гимнастерке — он знал, что Чаренц останется солдатом всегда. Он уронил в его мужественное лицо, смоделированное тенями — отсветами гимнастерки, зернышко сомнения — понимал Чаренца-мыслителя; показал его чистым и бескорыстным, каким всегда остается большой поэт: "…Душа — это все, что имею…"
Чаренц — на фоне ковра, коричневые цветы словно звезды на синем небе, и вспоминаешь строки: "Я — звездный поэт…"
Это один из лучших портретов Сарьяна, показавший образ земного звездного поэта. Портрет впитал краски армянской земли: гимнастерка цвета весенних лугов, желто-коричневые полосы фона — цвета солнечных полей; маска цвета терракоты, характерного для древне-армянских строений, ковер — синева неба… Яркая цветовая гамма создает психологическое напряжение, рассказывает биографию поэта и пророчит… Не зря сравнивали Сарьяна с Матиссом и Сезанном.
Пройдет время, Сарьян напишет очень много картин. Станет варпетом: мастером, учителем. Крупнейшим мастером живописи, повелителем чистого и жаркого цвета. Народ Армении при жизни возведет ему памятник — на улице Московян стремительно поднимется гордое здание музея Сарьяна. Проходишь его залами, слушаешь тишину и видишь свет. Картины рассказывают о любви человека к своей родине и к жизни…
Стоит на высокой горе арка со стихотворной строкой — памятник Чаренцу. Сарьян часто бывал там.
Чаренц никогда не умирал для Сарьяна. Пыль времени мгновенно заносит лишь временщиков. А Сарьян написал поэта таким, каким тот и был, — вечным. Почему? Вот как Сарьян отвечал на этот вопрос: "Человек — он весь в делах своих. Ни в чинах, ни в звании, ни в орденах, только в делах своих рук, своего ума. Только то, что ты сделаешь для людей, о тебе и будет напоминать потомкам".
Сарьян говорил, что народ бессмертен. А поскольку и он и Чаренц были верными сынами своего народа — кистью и словом живописали биение его сердца и высокие движения его души, — бессмертны и они. Никогда не умирают хорошие художники, хорошие поэты, хорошие люди.
Сарьян нарисовал его в гимнастерке — он знал, что Чаренц останется солдатом всегда. Он уронил в его мужественное лицо, смоделированное тенями — отсветами гимнастерки, зернышко сомнения — понимал Чаренца-мыслителя; показал его чистым и бескорыстным, каким всегда остается большой поэт: "…Душа — это все, что имею…"
Чаренц — на фоне ковра, коричневые цветы словно звезды на синем небе, и вспоминаешь строки: "Я — звездный поэт…"
Это один из лучших портретов Сарьяна, показавший образ земного звездного поэта. Портрет впитал краски армянской земли: гимнастерка цвета весенних лугов, желто-коричневые полосы фона — цвета солнечных полей; маска цвета терракоты, характерного для древне-армянских строений, ковер — синева неба… Яркая цветовая гамма создает психологическое напряжение, рассказывает биографию поэта и пророчит… Не зря сравнивали Сарьяна с Матиссом и Сезанном.
Пройдет время, Сарьян напишет очень много картин. Станет варпетом: мастером, учителем. Крупнейшим мастером живописи, повелителем чистого и жаркого цвета. Народ Армении при жизни возведет ему памятник — на улице Московян стремительно поднимется гордое здание музея Сарьяна. Проходишь его залами, слушаешь тишину и видишь свет. Картины рассказывают о любви человека к своей родине и к жизни…
Стоит на высокой горе арка со стихотворной строкой — памятник Чаренцу. Сарьян часто бывал там.
Чаренц никогда не умирал для Сарьяна. Пыль времени мгновенно заносит лишь временщиков. А Сарьян написал поэта таким, каким тот и был, — вечным. Почему? Вот как Сарьян отвечал на этот вопрос: "Человек — он весь в делах своих. Ни в чинах, ни в звании, ни в орденах, только в делах своих рук, своего ума. Только то, что ты сделаешь для людей, о тебе и будет напоминать потомкам".
Сарьян говорил, что народ бессмертен. А поскольку и он и Чаренц были верными сынами своего народа — кистью и словом живописали биение его сердца и высокие движения его души, — бессмертны и они. Никогда не умирают хорошие художники, хорошие поэты, хорошие люди.
ХУДОЖНИКИ О ХУДОЖНИКАХ ЕВГЕНИИ КИБРИК о А. Н. САМОХВАЛОВЕ
Александр Николаевич Самохвалов — фигура особенная в нашем искусстве, и в первую очередь тем, что он один из немногих, кто создал первые образы новых, советских людей, не только запечатлев черты их внешности, но, больше того, воспев их, увековечив. Поэтическое и радостное, влюбленное восприятие новой, советской эпохи отличает все творчество Самохвалова. Есть нечто общее в характере творчества Самохвалова и Дей-неки, прежде всего то, что новое в их искусстве не только в темах и сюжетах, но и в форме, отчетливо тяготеющей к монументальности, вернее, к значительности, передающей чувство людей революционной эпохи, захваченных сознанием исторической исключительности совершающегося на их глазах с их участием. Особенным я называю Самохвалова и потому, что его художественная одаренность имеет универсальный характер, выходя даже за пределы многообразия форм изобразительного искусства, в которых он проявил себя широко и оригинально, создав удивительно много и в области станковой и монументальной живописи, и в книжной иллюстрации, и в театре, и в прикладном искусстве, и в скульптуре малых форм. Он обладал и литературным даром в области художественной прозы и поэзии. Может быть, именно эта универсальность натуры позволила ему создать свой стиль как некую оригинальную концепцию, естественно выражавшуюся во всем, что он делал: сразу узнаешь Самохвалова и в рисунке, и в живописи, и в пластике, и в декоративных мотивах — во всем, чего касалась творческая рука художника. Так говорить можно только о большом художнике, оригинальном и сильном, поющем своим голосом. Все живое имеет своих родителей, своих предков, историю своего происхождения, что полностью относится и к искусству. Эта интереснейшая книга, написанная самим художником, позволяет понять обстоятельства и историю его формирования и те импульсы, которые эти обстоятельства сообщили таланту будущего мастера. Но определился мастер самостоятельно, и сейчас, когда мы легко можем увидеть все им сделанное и оценить его по достоинству, первое, что бросается в глаза, — именно художественная самостоятельность Самохвалова. Явление редкостное и драгоценное. Таким он представлялся мне долгие годы нашей дружбы, таким вижу его и сейчас, мысленно оглядывая длинный ряд его произведений. Возникая, они всегда волновали новизной и жизненностью. Огромное впечатление производила выставка 1940 года в большом зале ленинградского Союза художников, где были показаны его картина "Появление В. И. Ленина на II Всероссийском съезде Советов" и масса превосходных этюдов к этой картине. Картина была в те дни настоящим художественным открытием, ибо это, пожалуй, первая или одна из первых картин на большую историко-революционную тему ярко-поэтического, романтического характера. Это же ощущение встречи с чем-то новым и захватывающим сопровождало знакомство и с его знаменитой "Девушкой в футболке", и с его иллюстрациями к "Истории одного города" М. Е. Салтыкова-Щедрина, и с его серией "Метростроевок", и с его огромным панно для Всемирной выставки в Париже в 1937 году, и со многими другими его работами.Т. Н. ЯБЛОНСКАЯ о Б. Н. ЯКОВЛЕВЕ
Посетители Третьяковской галереи, да и все ценители изобразительного искусства, помнят и любят одно из лучших произведений советской пейзажной живописи — картину "Транспорт налаживается" Бориса Николаевича Яковлева. Написанная на заре советского искусства — в 1923 году, картина и сегодня пленяет нас свежим поэтическим чувством, искренней радостью автора за первые удачи в преодолении страной послевоенной разрухи… В последующие годы Борис Николаевич в результате многолетних творческих поездок по стране — на Урал, в Карелию, в Баку — создал несколько прекрасных серий нового жанра в советской живописи — индустриального пейзажа, явившись, по сути, его основателем. Написанные в трудных походных условиях, эти полотна полны истинного вдохновения и жизненной правды, они — яркое свидетельство героического, вдохновенного труда строителей первых пятилеток… Одной из любимейших тем художника была Москва. Он писал ее бесконечное количество раз. Писал и ее сердце — Кремль и Красную площадь, писал ее улочки и дворики. Особенно трогает этюд Красной площади в горестный день похорон Владимира Ильича. Трепещут поникшие траурные знамена, напряженное волнение в рядах трудящихся, пришедших проститься с Ильичей. Многие годы художник жил и работал в Подмосковье, в чудесных окрестностях Звенигорода, так полюбившихся в свое время певцам русской природы Саврасову и Левитану. Здесь, на берегу Москвы-реки, Яковлев написал ряд прекрасных лирических пейзажей… Много и с увлечением работал Борис Николаевич и как маринист. На всех выставках художников-маринистов экспонировались его перламутровые гурзуфские пейзажи… Блестяще окончив Московское училище живописи, ваяния и зодчества и получив в 1918 году премию имени Левитана за свой натюрморт и пейзаж, Борис Яковлев продолжал неустанно учиться, оттачивал свое профессиональное мастерство. "Необходима постоянная тренировка глаза и последовательность накопления навыков брать свежо и непосредственно", — говорил художник. В своей статье о "Цвете в живописи" он настойчиво проводил мысль, что только высокопрофессиональная живопись дает жизнь картине… Меня всегда поражал в Борисе Николаевиче высокий профессионализм буквально во всем: как продуманно, удобно была оборудована его мастерская!.. В мастерской у Бориса Николаевича все было приспособлено для работы — никаких излишеств. Но зато как трогали в ней простые сухие цветы, привезенные из Михайловского…ВО ИМЯ ДОБРА
Я полюбил Грузию благодаря творчеству Ладо Гудиашвили.Владимир (Ладо) Давидович Гудиашвили (1896 — 1980) — народный художник СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии. С 1926 года преподавал в Тбилисской академии художеств.Рокуэлл Кент
* * *
В белоснежной рубахе и темно-синем халате художник ходит по мастерской, увешанной картинами. Создается иллюзия, что они возникают, когда он приближается к ним и бережно касается. Мастер словно беседует с воплощенными замыслами и таким образом проверяет свою жизнь… "Вокруг художника должен быть особый "магический воздух", — говорил он. К нему хочется подойти, дотронуться рукой, взять что-нибудь, пусть самый пустяк, — не в поклонническом угаре, но с глубоким почтением к человеку, с честью и пользой употребившего свой талант. Мы видим портреты художника-предшественника, который особенно дорог Гудиашвили своей безыскусственной простотой, бескорыстной верностью живым краскам, вдохновляющей модели. Образ Нико Пиросманишвили, " которым Ладо Гудиашвили встречался в юности, — один из самых любимых. На его портретах Пиросманишвили неодноликий, непохожий, грустный от переполняющей любви к жизни. Перед нами возникают как бы разные сущности удивительного, богато одаренного человека. Благородный, изысканный, тонкие длинные пальцы, высокая шея, поэтическое лицо, овеянное дымкой усталости. Лицо светится, как образ, как икона. Бесконечно ласковый, стремящийся не пропустить и самой малости, чтобы успеть занести ее на "холст"-клеенку. И — уже без мечты и воображения — он брошен на пол своей "хижины" умирающим, раздавленным "машиной" буржуазного общества, рука еще хватается за соломинку — кисть у колченогого стола под лестницей, по которой шаги, шаги, шаги… Гудиашвили, этот "грузинский Гоген", вслед Пиросмани рисует старотбилисскую богему, жизнь кинто — торговцев, разносчиков, мелких продавцов, уличных стихотворцев и певцов, не совсем еще обнищавших босяков, "прожигающих" жизнь, веселящихся на пиру во время чумы. Художник не обличает их — печалится о загубленных, пропадающих судьбах. Кинто опустошены, они изображаются непременно с вином и скудной закуской; они потерянные, никому не нужные люди, — но посмотрите, какая тоска, какая глубокая грусть затаилась в их взорах. Картину "Хаши" — мастер, как бы подчеркивая свою преемственную связь с Пиросманишвили, пишет на клеенке. Фигуры кинто деформированы, лица иссушены жизнью… В "Тосте на рассвете" у женщины судорожное движение человека, попавшего в трясину: она еще пытается вырваться, но изломы фигуры выражают отчаяние — ее удерживает пристальный взгляд одного из кинто, который еще пытается утвердить свою власть и в этом мирке… Противоречивый мир кинто художник хорошо знал, еще в свою бытность в Париже он исполнял знаменитый танец кинтоури. Он изображает мир, о котором не сожалеет, но скорбит об утраченных возможностях — отсюда столь явная элегичность полотен. Особенно показательна картина "Рыба цоцхали", которую называли энциклопедией старотбилисской богемы. Картина изящна, прямо-таки балетны танцующие лошади, по-своему очаровательны три кинто, которые вместо того, чтобы принять из рук рыбака еще трепещущую рыбу, вдруг обнялись, как три брата, и задумались. Веселье оставило их на мгновение, стройные, бесшабашные, они кажутся опереточными фигурами в остановившемся спектакле с потухшей музыкой. Они задумались об иллюзорности своего существования — момент озарения и сблизил их на короткое время… Музыкальный ритм и резкие смены ритма в картине не противоречат друг другу, но создают единый слаженный лирический и напряженный строй картины. Гудиашвили — художник-энциклопедист, который, нарушая известное присловье, стремится объять необъятное и многого достигает. Он производит впечатление неостановимого и неиссякаемого. Портреты, фрески, лирические полотна, картины, воспевающие колхозный труд: "Возвращение колхозной бригады с работы", "Сбор чая"; одним из первых в Грузии художник отражает гигантскую поступь социалистической индустрии: "Ферро-марганцевый завод в Зестафони"; известны другие его картины, объединенные пониманием ритма эпохи — напряженного и созидающего. Гудиашвили создавал картины острой политической направленности: "Расстрел парижских коммунаров" или "Обреченный Китай"; исторические произведения, серии, посвященные берикам — ряженым и клоунам, народному действу, карнавалу. Такова кееноба — протест против персидских захватчиков — здесь художник позволяет высказать свое презрительное, сквозь смех, гневное слово… Сатиру Гудиашвили сравнивали с "Капричос" Гойи. "Зло всегда противостоит человеку, и в конце концов лик его всегда безобразен" — так считает художник. Как гадки, зачумлены, мерзки у него враги рода человеческого. Изображенные в виде обезьян, они невежественно-бездумны, цель их в одном — безобразничать, унижать, издеваться. "Капричос" Гудиашвили были начаты в годы войны и обличали фашизм. Два полюса в серии рисунков: вершина достижений человеческого духа — классические произведения искусства — и беснующиеся мракобесы. "Кто знает, как это им пригодится", — подписывает художник под рисунком, где обезьяна с лицом Геббельса тащит старинное полотно, вторая вслед за ней — статую Венеры, третья — античный бюст… Ничтожество ворует и прячет великое. Августейший клерикал отрубает голову инакомыслящему. Никчемные, надутые, тупо недоумевающие обезьяны собрались возле тела прекрасной женщины. Зло гадко, но зло и страшно. Художник высмеивает, ненавидит и предупреждает. На нас надвигается "Прицел обезьяны" — и становится страшно… Малюсенькая, но пышущая энергией злобы и уничтожения обезьяна вскарабкалась на тело убитой молодой женщины… Зло страшно и коварно. Оно старается обмануть, оно рядится в человечность. Художник изображает его в виде ослов и полумедведей, зверей, которые играют на гитарах и усыпляют лживыми серенадами прекрасных девушек… Художник представляет загадочную простоту и увлекающую сложность жизни. Он, проповедник и защитник добра, показывает нам красоту жизни в облике женщины, которая дарит радость, любовь и которая, словно сама природа, щедра, умиротворяюща… Прекрасные женщины Гудиашвили — большеглазые, с лебединой шеей, волосы их словно опахало. Огромные глаза сверкают мягко, нежно, словно бы задумчиво. Искрометно-горячи тела и одежды в пляске, проносится настоящий "Вихрь" — картина о жизненном вихре, ликующем и победоносном. "Этери перед зеркалом" — свидание со своей силой, нежностью и красотой. Со своей настоящей радостью. "Предсвадебное омовение" — народный обряд, предвкушение радости торжества. Ушла незрелая юность, далека еще шаткая старость — торжествует пора мощи, зрелости, веселья. "Колхозные девушки" идут, увенчанные виноградом, как три богини с грузинских гор, хозяйки жизни, ее начало… Женщины, созданные кистью Ладо Гудиашвили, — это поэма и симфония жизнеутверждения и жизнесла-вия. Они приходят в мир созидать и утешать, они проходят, и сразу же начинают петь птицы и расцветать цветы, их прикосновение оставляет искру жизни — гордой и насыщенной всеми красками… Мастер говорит: "Не перестаю удивляться, какое это чудо — человек! Смотришь на него и невольно думаешь о поразительной способности природы порождать удивительные существа". "Весна. Первая любовь": юноша дарит девушке красный цветок — свою верность, поклонение, страсть. А возле девушки вырастает белый цветок, как символ ее чистоты и нежности… Жизнь неразрывна и едина. С противоположного берега смотрят влюбленные олени. Человек и природа счастливы в мире и единстве… Ладо Гудиашвили внимательно наблюдает и передает нам свое любование народным действом — карнавалом, когда смех не только искрится и остужает, как родниковая вода, или обжигает взглядом любимого человека, или стегает хлесткой плеткой презрения и гнева… Посмотрите, как откровенно-весела и простодушно радостна вакханалия в "Днях мачари"… Посмотрите, как уважающе пишет художник труд коллективный и его результаты: "Возвращение колхозной бригады", "Сборщики чая". Борис Пастернак писал художнику: "Будни, в которые Вас посещаешь, становятся праздником…" Нам загадочно улыбается "Фреска", ее таинственность — как знак желанного общения, как воплощение мечты, как философское раздумье… Да здравствует жизнь! — провозглашает Ладо Гудиашвили. — Да здравствует торжество жизни радостной и доброй, и да погибнет зло!
ХУДОЖНИКИ ОБ ИСКУССТВЕ А. А. ПЛАСТОВ
Начиная пытать счастье на картинах, я на первых порах столкнулся, к своему недоумению и огорчению, с совершенно непредвиденным обстоятельством: у меня мало было этюдов, а того что было, едва хватало на довольно суммарный эскиз. Вот тебе и амбар мой с полными закромами! Чтобы облечь образ в плоть и кровь, потребовалась опять уйма всяких этюдов. Но моя, так сказать, практика накапливания все же сделала доброе дело. На основании мною просмотренного и зафиксированного идея легче оформлялась в голове; вторичное обращение к натуре за помощью обогащало первоначальный замысел. Я раз навсегда убедился, что, каким бы ты выдающимся прирожденным колористом, фактурщиком ни был, всегда иди за советом к матери-натуре, к правде окружающего, терпеливо выслушай сто раз, что она, эта натура, тебе раскроет и расскажет, и ты никогда не будешь внакладе. Тогда уже наверняка ты донесешь до зрителя то, что хочешь донести, и не бойся, не расплещешь… Познакомившись с тематикой художественной выставки "20 лет РККА и Военно-Морского Флота", я приуныл. Все было или не по моим силам, или такого порядка, что и без меня бы нашлись мастера сделать это преотлично. Я решил предложить свою тему, так называемую "встречную", "Купанье коней". Тему мою приняли, и я стал сочинять по имеющимся материалам. Как и ожидал я, их оказалось мало даже для эскиза. Мне дали командировку в кавалерийскую часть. Все было как нельзя лучше. Кони один другого лучше, бесподобные наши кавалеристы, гостеприимное начальство, солнце, тепло, романтические пейзажи кавказских предгорий. Эскиз обогатился до неузнаваемости как в композиции, так и в живописном воплощении. Перед тем как начать картину, опять налег на этюды. Пристрелку пришлось вести с большим упорством, настойчивостью и выдержкой. Натура была столь изобильна и неисчерпаема, что иногда, и довольно часто, я становился в тупик: когда же я должен остановиться и на чем остановиться? Самое противоположное было одинаково пленительным, и едва я приостанавливался в собирательстве этюдного войска, как тотчас же начинало ныть сердце — мало, положительно мало-Кончена война, кончена победой великого советского народа над чудовищными, небывалыми еще во всей истории человечества силами зла, смерти и разрушения. Какое же искусство мы, художники, должны взрастить сейчас для нашего народа? Мне кажется — искусство радости. Что бы это ни было — прославление ли бессмертных подвигов победителей или картины мирного труда, миновавшее безмерное горе народное или мирная природа нашей Родины, — все равно все должно быть напоено могучим дыханием искренности, правды и оптимизма.
О КРАСНОМ ВЕЧЕРЕ ЗАДУМАЛАСЬ ДОРОГА
…Ромадин — один из художников, умеющих жить в полном ладу со счастьем.Николай Михайлович Ромадин (род. в 1903 г.) — действительный член Академии художеств СССР, народный художник СССР, лауреат Государственной премии. Чтобы природу полюбить, ее надо заметить. Но чтобы передать эту любовь на полотне, мало зоркости глаза и дара живописца — необходимо еще особое состояние души, вызывающее ответное чувство: ощущение травинки, дерева, реки, облаков… Вот стоит у самой воды ольха ("Ольха"). Под порывами ветра и дождей перепутались ее тонкие, почти безлистные, осенние ветви. Бегут к ней по холмистому серо-синему водному простору "барашки", мечется над ней рассерженное небо, а она, такая тонкая, растревоженная, бесстрашная и доверчивая… Как приглянулась художнику? Как выбрал он ее? Или она его выбрала? Может, за то выбрала, что приходил со своим мольбертом и в роскошные солнечные, и в хмурые дни. Может, за то, что смотрит он на природу счастливыми глазами. У каждой поры года для него свой характер и настроение. "Весна" (цикл "Времена года"). Большие деревья гулко устремляются к розовым лоскутьям облаков в голубеньком небе. Малые сосенки, как ребятишки, бредут по пояс в темном кипящем соке талой воды… Счастливая радость пробуждения!.. "Лето" — полновесное, вечное. Зрелые белые облака и река в расцвете сил и красок приносят ощущение природной густоты, даже сытости, если хотите… У каждого природного явления замечен художником свой, наиболее характерный, поражающий наше воображение миг. Мы удивляемся невесомости рождающихся облаков ("Облака"). Видим нарисованный дождь и вдруг явственно понимаем — это след особенно яростного удара воды по воздуху — удара, высекающего дождевую искорку. Кажется, нигде не увидишь столько прекрасных закатов. Час расставания природы с уходящим днем — драматичный, напряженный, волнующий час. Вот падает на дремучий лес последний луч, и выступают из синеватой мглы вольные раскидистые деревья — в красном зареве; а отсветы зарева торжественными складками парчи уходят в глубь озера или реки. Последний взгляд, час последней встречи и неминуемой разлуки, час радостный, жаркий, тревожный — гимн великому лесу, великой природе. И если бы ты вдруг оказался тогда на том берегу, у того далекого костерка, что уже загорелся желтым пятнышком встречь ночи, — то следил бы с замиранием сердца, с возрастающим душевным ликованием за столь интенсивной светомузыкой, а родившееся настроение надолго бы стало обновляющей радостью. Перед нами земля, которая вспоила и вскормила художника. Земля, любимая навсегда. Исхоженная тропинками, дорожками, дорогами… Для Николая Ромадина дорога — спутница, неотъемлемая часть пейзажа, след человека, его путь к Добру и Красоте. "О красном вечере задумалась дорога…" И мы действительно видим затихшую, провожающую день дорогу. Над густыми тенями машут "красные крылья заката…".К. Паустовский
О красном вечере задумалась дорога,
Кусты рябин туманной глубины.
Изба-старуха челюстью порога
Жует пахучий мякиш тишины.
В ОТВЕТЕ ПЕРЕД ВРЕМЕНЕМ
Краски в его руках подобны мембране, чутко реагирующей на человеческий голос.Евсей Евсеевич Моисеенко (род. в 1916 г.) — народный художник СССР, лауреат Ленинской премии. В детстве, а это были годы Великой Октябрьской социалистической революции, по улицам белорусского села Уваровичи, где жил будущий художник, пронеслись красные конники. "…Они мне казались гигантами. Это было необыкновенно! Такими помню я их и поныне — они действительно были гигантами". Кавалеристы с красными звездами на шлемах принесли с собой то новое, светлое, что утвердилось навсегда. Много лет спустя художник возвращается к своему "видению", он, уже состоявшийся мастер, чья жизнь прошла под знаком красных звезд, пишет картину "Красные пришли". Перед нами — вихрь Революции. Ветер полощет знамя, лошади и всадники неудержимо устремлены вперед — художник передает "неусидчивый", поспешный, неостановимый ритм времени; показывает его подлинных героев — сынов народа. Село уже засыпает, на улице тишина, но в одной избе зажегся свет, и, свесившись с крыльца, глядит на воинов Революции мальчонка (не себя ли нарисовал художник?). Живопись мастера, как отмечают искусствоведы, — легка, красочные пятка порывисты, не спешат соединиться, но словно соревнуются друг с другом, создавая впечатление живого движения. У Евсея Моисеенко замечают дар импровизатора, но дар этот укрепляется тяжелым трудом, поисками; полотну предшествуют многочисленные эскизы. "Начинают многие, — говорит художник, — но не многиххватает на бесконечный труд, на неустанные усилия, а порой и лишения". Дар импровизатора заключается и в том, чтобы, многое перепробовав и "перебродив", затем сразу выплеснуть, как будто только что родившуюся картину, на холст… В "Вестниках" — огненный порыв, безудержная стремительность, всадник и лошадь — единое мчащееся целое: летит весть, радостная ли, печальная, но столь необходимая где-то там, где ее ждут. Позже у художника возникает потребность рассказать о проводах. О том, как в далекие годы гражданской войны уходили красные бойцы воевать за счастье людей. Старая мать истово, сосредоточенно-раздумчиво крестит выросшего сына своего, безбожника. Из грубой солдатской шинели беззащитно торчит воротник рубашки в горошину, а в руках шлем с красной звездой. Безмолвно глядят с икон на проводы притихшие лики святых. Апофеоз гражданской войны в "Черешне", где художник отобразил свое романтическое, поэтическое восприятие тех дней, показал нам, как герои, оставаясь с нами, уходят в легенду, становятся строкой песни, отторгаются в историческую вечность. На пригорке, у селения, остановилась тачанка. Краткий миг отдыха — продолжающееся движение живет в лошадях, готовых умчать тачанку вдаль по ослепительно белой дороге. А бойцы лежат на зеленой траве — они и отдыхают, и мечтают, и думают безмятежно: в позах и движениях какая-то тягучая грациозная медлительность — они словно являются нам в воспоминаниях, мы наблюдаем их, как в замедленной киносъемке. Время возносит своих героев на пьедестал благодарной памяти. Кисть художника показывает их истоптанные, тяжелые сапоги, их утомленные, натруженные тела, но все это окутано ореолом легкой приподнятости, бойцы лежат на земле и будто парят над ней… Земля, ярко-зеленая от травы, нежно баюкает оторванных от нее войной людей. А в центре — фуражка с черешней. Ягода сочная, холодящая губы, брызжущая соком; ягода весны и раннего лета, плод первого труда, вечной любви к земле. Мирная ягода. Она светится в фуражке — символ той жизни, за которую они сражаются… "Невозможно быть новатором в искусстве, являясь обывателем в жизни" — кредо мастера. Творчество и жизнь; творчество как составная часть жизни — пламенеющая, вдохновенная, выражающая самое сокровенное, характерное и необходимое. В фильме о художнике есть любопытный эпизод: встреча со старой матерью. В ответ на шутливый и все же горестный материнский упрек: забыл матку, наверное, на волах в гости едешь, — художник стремится не то чтобы оправдаться, но поведать матери — где он, что и как. А может, отчитаться? Отчитаться перед родным уголком земли, откуда родом, откуда мать провожала… Вот он, дом старой матери, увешанный вязками лука, дом, где художника всегда ждут. Дом, где он вырос, говорит мать, не художником — хорошим человеком. Прежде всего этим гордится она: сын вырос не обывателем, а добрым и нужным людям. И верно: только человек доброжелательный, справедливый, чтущий общественный интерес, способен развить свое дарование, завоевать признание и любовь. Настоящий талант добр. И счастье талантливого художника в том, что есть у него мать, родина, есть главная идея. Сын снова уезжает от матери — отрывает его нетерпеливая жизнь. А детство его возвращается. В картинах. "Художник начинается с его биографии, с его детства, с того, что он полюбил, чему стал предан, с его совести…" "Мальчишки", "Из детства", "Сергей Есенин с дедом". Последняя картина, как только была выставлена, привлекла внимание своей новизной, суровой правдивостью, и тому не мешала некоторая стилизация, в чем упрекали художника. Не зная своего деда, сумел ли бы написать мастер этого иконописного старика в белой рубахе — прямого, словно восстающего. А рядом деревенский мальчишка с голубыми глазами-васильками. И тоже глядит непримиримо… Евсей Моисеенко: "Истинный мастер всегда в ответе перед временем…" Две войны за спиной у художника, увиденная детскими глазами — гражданская, и позже — Великая Отечественная война, когда он защищал свою Родину с оружием в руках, изведал радость побед и горечь плена — томился в фашистском концлагере. Естественно, он не мог не писать войну. Ибо до сих пор она колоколом звучит в душе и сердце художника, коммуниста и гражданина. "Матери и сестры": на наших глазах фигуры женщин, которые провожают мужчин, уходящих на фронт, становятся жестокими, сопротивляющимися, ощутимо валится на плечи тяжесть. Молодые женщины словно бы сгибаются, а старые принимают беду стоически… Душа этого прощания — девчоночка, тонкая белая стеб-линка, все тянется и тянется вослед ушедшим… Картина трагической достоверности и глубокой веры в силу женскую. В "Победе" Моисеенко видели мотив "пьесы", мотив жертвенности. Руины города, конец войны. Победа! Но раздается последняя автоматная очередь, и падает товарищ солдата-победителя; падает, неловко складывая ноги и опуская голову ему на грудь. Последний павший в боях. И кричит солдат от радости победы, от ненависти и боли… У этой картины чувствуешь, что война не стала для Евсея Моисеевича легендой, она еще не кончилась для него: еще, возможно, до сих пор просыпается он, ощущая на плечах гимнастерку солдата или куртку узника концлагеря… "Крутого замеса человек, — сказал о нем писатель Федор Абрамов, - …выварен в самых крутых щелоках эпохи". Может быть, именно потому чувствуешь в его картинах нежность к "малому" миру детства, к лошади, к тихой прелести родной природы. Художник часто вспоминает ночное. Поле, небо, звезды… Грозы ночные, сбиваются лошади, не едят, прядут ушами… Молнии — "мы прячемся под армяки…" Негромко, но так проникновенно и ласково, так любовно и бережно звучит "стих" его совсем небольших картин — "Овражки", "В деревне", "Стожки", "Дождик"… Всего лишь речка светится в балке, да лошади пьют этот свет. Всадник, накрывшись одежкой, трусит под косым дождем на черной лошади, рядом — трогательный жеребенок… Видения его души… Отправляясь куда-нибудь в дорогу, Моисеенко берет с собой альбом, томик Есенина.Таир Салахов
Край любимый!
Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных…
ХУДОЖНИКИ О ХУДОЖНИКАХ АНДРЕЙ ГОНЧАРОВ о Ю. И. ПИМЕНОВЕ
Я познакомился с ним более полувека тому назад. В большой и шумной литографской мастерской Вхутемаса он сидел на рабочем столике, далеко вытянув ноги, и пристально рассматривал окружающих. Это был Юрий Пименов — тогда новичок среди студентов графического факультета Высших художественно-технических мастерских, а ныне народный художник СССР, лауреат Ленинской и Государственной премий. С первых же минут знакомства, не сойдясь в каких-то суждениях по искусству, мы заспорили. Он был горяч, стремителен, напорист, и дискуссия продолжалась достаточно долго, хотя, о чем шел спор, теперь мы оба уже не помним. Мы подружились. Нас объединяли молодость, общая студенческая скамья, бескорыстная любовь к искусству, искреннее желание познать новое и неизведанное. Нами владел тот светлый дух революционной романтики, которым дышало то время и который окрылял как учеников, так и учителей, никогда не знавших и не произносивших слова "самовыражение". Мы вместе учились у Фаворского и Павлинова, вместе подрабатывали мелкой журнальной работой, снабжая главным образом журнал "Самолет" своими иллюстрациями, представлявшими некую смесь из фотомонтажа и рисования, которую в нынешнем поп-арте гордо величают "коллажем". Вместе усваивали дизайнерскую мысль того времени о том, что художник, подобно мастерам Возрождения, не может замыкаться в узкие рамки лишь одного вида изобразительного искусства, и вместе рвались работать в театре… С первых шагов его самостоятельных художественных выступлений стало ясно, что Юрий Пименов незаурядный талант, хотя живое ощущение жизни в его работах было заслонено ненужными выдумками и поверхностными приемами. Даже в таких сильных живописных работах, как те, что изображали героиню романа Достоевского — Настасью Филипповну в Павловске, — это было очень заметно. Надо сказать, что обращался он к литературной тематике не только потому, что хорошо знал и любил поэзию и литературу, особенно литературу русскую, но и потому, что в этой тематике находил отклик тем духовным переломам, что он переживал в это время… Советская живопись знает немало замечательных полотен, глубоко созвучных своему времени. Среди них — картина Пименова "Новая Москва", написанная в 1937 году, одна из самых удивительных по своей неувядаемой свежести. В ней художник решительно заявил, что он, коренной москвич, любит этот родной ему город, в котором он подметил и будет подмечать дальше все происходящие перемены и будет о них рассказывать зрителю. Слово это художник сдержал. Широко известна серия картин "Новые кварталы", за которую в 1967 году ему была присуждена Ленинская премия, картин, в которых он с такой любовью рассказывает о раздвигающихся границах Москвы, о новых домах и новых улицах, и в самую первую очередь о тех простых, доверчивых и веселых людях, которые дают и новым кварталам, и новым картинам Пименова новую жизнь…Ю. И. ПИМЕНОВ о Т. Н. ЯБЛОНСКОЙ
Искусство Яблонской — искусство удивительно чистое, доброе и здоровое; здоровое тем подлинным здоровьем, которое не выдумаешь и не подделаешь. Во всей своей живописи — ив ранних пространственно-жанровых вещах, и в более поздних откровенно декоративных работах, и в последних — опять пространственно-жанровых (правда, выполненных уже несколько по-другому, с задумчивостью, вернее, размышлением) Яблонская остается художником с доброй душой, и именно это и создает цельный, совершенно особый и очень привлекательный образ ее искусства. Всякое художественное явление живет не в изолированном пространстве, оно живет в современной ему жизни и среди современного ему искусства. И, оценивая любое художественное явление, мне кажется, надо соотносить его и с художественной культурой страны, и с культурой времени, сравнивать не только о работами, близкими по задачам, но оценивать в общем потоке развития искусства. Тогда многое может стать нагляднее и понятнее. И среди разных бесчеловечных выдумок некоторых направлений современного буржуазного искусства, с одной стороны, среди унылых и скучных ремесленных изделий — с другой, искусство такого художника, как Яблонская, с ее доброй душой, с ее чистым цветом и любовью к своим героям, — такое искусство вызывает чувство благодарности. И она действительно любит своих героев — молодых женщин и детей, и девушек в прозрачной фате, и парней в гуцульской одежде, и сморщенных старушек с розовыми младенцами на руках. В последних своих работах, как я уже. говорил, Яблонская захватывает все более глубокие и тонкие области. Печальной и торжественной смотрится ее картина "Безымянные высоты", где какой-то кусок земли становится Землею с большой буквы, не просто пейзажем, а пейзажем-символом, пейзажем — напоминанием о трагических годах войны. В другой картине последнего времени, которая называется "Юность", Яблонская поднимает очень большую тему, тему воспоминаний и современности, тему молодости и прошлого. И решает все это очень глубоко и пластически красиво. Очень трудно найти удачнее характер, силуэт, образ молодого современника, с его постановкой фигуры, с его движением. Все это новая земля искусства, и шаги по ней бывают неверными и неожиданными. Но Яблонская хорошо решила эту задачу и отлично связала образ своего молодого современника с вечной землей и с темно-синим озерком и заставляет зрителя глубоко задуматься над этой картиной. И в третьей, новой своей работе — "Жизнь продолжается" — Яблонская опять ставит зрителя перед картиной, в которую заложена глубокая человеческая мысль, и написана она, эта картина, красиво, умно и доступно в самом прекрасном смысле этого слова. Стена чистого украинского дома, и на завалинке под ласковым осенним солнцем сидят люди — старичок в полушубке, в зимней шапке, со своей стариковской палкой, и молодая женщина с ребенком — у нее курносое задорное лицо, и ее руки (натруженные, как у крестьянки, и нежные, как у матери) держат закутанного в простынку и одеяло ребенка. Солнце ложится на белую стену, на окно; початки кукурузы, развешанные наверху, попадают в тень. Картина полна глубокого смысла, какой-то особенной лирической музыкальности, грусти уходящего и радости живущего. Так Яблонская, много работая, развивая свою жизненную тему, ища ей настоящее выражение, поднимается как подлинный художник на большую высоту искусства.ПОМНИ, ПОМНИ
Вам дан дивный мир рисования.Павел Дмитриевич Корин (1892 — 1967) — народный художник СССР, академик, лауреат Ленин- ской и Государственной премий. Корин хотел, чтобы у него никогда не было "кисти сонной". В художнике, мастере ценил волю, волнение и великие мысли. Вот его счастье: "Поймал такое облачко розовое от заката, что и сейчас приятно". На портрете работы Нестерова он юный, сильный, уверенный и, пожалуй, честолюбивый. Стоит с палитрой в руках, как смелый человек, давший себе клятву: сражаться и по возможности побеждать. Он говорил, что пришел в живопись через игольное ушко иконописи, у которой научился "упорству, упорству и упорству…". Но "вырваться из иконописи, из ее канонов… поистине значило ободрать с себя кожу…".Константин Коровин
 "Ободрал с себя кожу" и стал живописцем. Но древних иконописцев всегда чтил, иконы древнего письма собирал и свое великолепное уникальное собрание принес в дар Третьяковской галерее.
Свою Родину — Палех, маленький уголок земли, — рисует широкой панорамой, и уголок этот становится необозримым. Ему все дорого: и стебелек, и копна сена, и домик, и колокольня, улетающая в небо, так похожая на ракету… Здесь он родился в доме, которому "более ста лет". А родословная его семьи, крестьян-иконописцев, и вовсе имела трехсотлетнюю историю.
Когда-то Нестеров в поучение-объяснение сказал ему: "Искусство — это подвиг!" Корин поверил и всегда жил по этому закону. Подвиг — подвижничество во имя чего-то. Корин стал подвижником искусства, много и медленно работал, учился — копировал, рисовал "Окна РОСТА", оформлял революционные праздники, писал лозунги… Драматург Афиногенов, который был вместе с ним в Сорренто, заметил, что Корин "тихий, задумчивый, ко всему присматривающийся".
Присматривался не спеша. Уже за тридцать было, когда сказал сам себе: "Пора становиться художником". И написал две акварели: "Моя мастерская" и "В мастерской художника". Вторую сразу же приобрела Третьяковская галерея.
Свою мастерскую рисует с удовольствием — там он счастлив. Слепок с античной фигуры мудреца, фолианты любимых книг, топор и пила, икона… Как бы врата в святилище. А в самом святилище обилие слепков с антиков, нехитрая мебель: стол с чайником, печка, табурет… Комната, где нет ничего лишнего, где ждет жадная, нетерпеливая и методичная работа. И тем не менее он оставляет свою мастерскую.
"Меня всегда волновало, — говорил Корин, — а что там, за леском, за лесом?" За леском оказалась Италия. Поездка в страну Данте и Леонардо да Винчи была полна "бродячего жития и усталости до одурения". Поездка проходила под девизом: "Помни".
"Помни, как нарисованы руки".
"Помни розовый тон".
"Помни суровую торжественность и лаконизм".
"Помни величавые силуэты, величавые жесты".
"Помни, помни…" Ездил, ходил, смотрел, рисовал — на рисунках возникают великие творения итальянских скульпторов и архитекторов; он копирует работы живописцев. Восемь часов кряду сидит у картины Орканья "Триумф смерти": "Сила великая и жуткая". Познавая искусство Высокого Возрождения, испытывает полноту воли и сердца (то, что сформулировалось в Сикстинской капелле). Радуется гордой воле в творениях Рафаэля, великому духу жизни в скульптуре Микеланджело, его обжигают краски Тинторетто — "Краски, как пламя…" У Рафаэля Корин поклоняется "идеалу высочайшего художественного благородства", находит у него много общего с Андреем Рублевым. Он счастлив тем, что находится там, где "ходили со своими думами и мечтали" художники Возрождения… В его мастерской слепки с работ Донателло, Верроккио, Микеланджело, "Венеры Милосской", большие фотографии "Давида" и "Моисея", икон Рублева.
Через много лет судьба вновь сведет Корина с Рафаэлем. Сняв шляпу, встретит он "Сикстинскую мадонну", которую привезут из поверженной гитлеровской Германии в Пушкинский музей. Корин будет руководить реставрацией многих шедевров Дрезденской галереи…
А пока он с благоговением ходит по улицам, где ходил почитаемый им Александр Иванов; по улице Систина, где жил Гоголь… В Помпеях отыскивает места, служившие Брюллову натурой для прославленной картины. В Риме находит набережную, с которой писал Сильвестр Щедрин. Чашечка кофе, которую он выпивает в кафе "Греко", где часто собирались русские мастера, для него символична и знаменательна… Корин чувствует с ними. кровную связь. Ведь он наследует давние и крепкие традиции русской живописной школы. Он — ученик Нестерова, учителями которого были Перов и Крамской, друзьями — Левитан и Васнецов… Великая честь, которой удостоен, рождает у него сверхскромность. Возле дома, где жил Александр Иванов, Корин постоял, но войти не решился. В Париже на выставке встретил Коровина, заговорить не сумел. Словно боялся — что-то спугнуть.
…До сих пор поражает воображение посетителей дома-музея огромный нетронутый холст 12X8 метров. Это несостоявшийся "Реквием", который Максим Горький предложил переименовать в "Русь уходящую".
Картина не состоялась, потому что написать ее такой, как задумалось, — уже было невозможно. Старая церковная Русь слишком быстро уходила в прошлое, чтобы интересовать современников.
Картина осталась в портретах-этюдах к ней. В доме-музее видим мы галерею выразительных, удивляющих типов старой Руси, даже, пожалуй, угнетающих нас ушедшей, эфемерной ныне, но все же доносящейся из тех времен силой.
…Отец и сын. Связь, и уже расторжение связи поколений. Привычно-угрюмо несущий нелегкую думу отец, человек силы необычайной, знающий, на что ее тратить. И сын, якобы смиренный — нервно переплетенные пальцы, потупленные, неспокойные глаза, выдающие бунт-смятение…
…Устрашающий "Нищий" — лесное корявое чудище кустистое, голова вросла в плечи, руки-клешни. На морщинистом лице не мука, не страдание — опасение. Он словно настороженно, сам в себе, притаился. Когда Корин рисовал "Нищего" — думал о химерах Нотр-Дам, образах Орканьи.
…"Слепец вытянул свои пальцы-антенны, о которых Горький взволнованно сказал: он ими видит.
… И монастырская братия представлена. Князья церкви и проповедники. Честолюбцы, которые ни перед чем не остановятся. Ради веры живущие. И люди случайные, характера отнюдь не смиренного. На "Молодом монахе" ряса не с его плеча, взгляд разбойный — Корин говорил, что он потом пошел "с кистенем гулять"; писал с него позже образ воина в триптихе "Александр Невский".
Люди фанатичные, бесповоротные, реликтовые. Художник хотел, чтобы в "Руси уходящей" звучали "пафос и стон" "Реквиема" Берлиоза. В своих портретах к "Руси" находил "что-то готическое, торжественное". Это — торжественность ухода навсегда.
Корин считал портреты трудным жанром, отличающимся сверхсовершенством, и называл их сонетами.
М. В. Нестеров рассказывал: "У меня нет никаких затей на портретах… Я избегаю изображать так называемые "сильные страсти", предпочитая им… человека, живущего внутренней жизнью". Корин также стремился показывать внутреннюю жизнь, только ему хотелось сконцентрировать ее во "внутреннюю духовную осанку", чтобы "разгадать" и показать человека в минуту высшего духовного взлета — "каков он есть в своем лучшем проявлении". Как и Нестеров, он никогда не писал случайных портретов — "людей с убогим, мещанским мышлением…". Его привлекал "неповторимый склад личности"… Вслед за Нестеровым художник мог сказать: "Тут со мной что-то случилось", — когда встречал, человека, которого не мог не нарисовать. На его портретах — люди, умеющие жить торжественно и гордо, сражаясь. Не случайно маршал Жуков, глянув на свой портрет работы Корина, сказал: "Лицо полевое". А когда художник удивился, пояснил: "Такое бывает на поле боя".
Свои модели художник представлял как бы на поле боя.
"Я видел Горького, — писал Корин, когда создавал портрет писателя, — мыслителя и борца за человеческую правду".
С той минуты, как Алексей Максимович, с трудом взобравшись на шестой этаж арбатского дома, увидел картины Корина, он относился к художнику с нежным вниманием. Корин говорил, что в его жизни Горький был призывом и надеждой.
На прогулках в Сорренто он "подглядел" Горького — "задумчивого, сосредоточенного".
"Меня потом обвиняли… — писал Корин, — что он одинокий и суровый. Но я его увидел таким, увидел его высокую угловатую фигуру, шедшую в глубокой задумчивости на фоне Неаполитанского залива".
…На берегу Неаполитанского залива Горький задумался печально и сурово. А взгляд его страдальчески-мягок. Нестеров утверждал: "…у Горького, за жесткими его усами я чувствую доброту". Корин написал доброго, но непримиримого Горького. Словно сама совесть вышла и встала перед людьми в виде немолодого и усталого человека, но борца, полного неустанной энергии и тревоги о мире, заботы о его будущем. В том же году, когда Корин писал этот портрет, на VII Всесоюзной конференции ВЛКСМ Горький говорил: "Вы — "молодая гвардия рабочих и крестьян", вы — хозяева своей страны, и нет и не может быть ни одного вопроса в нашей действительности, который стоял бы вне вашего внимания". Ни один вопрос действительности не стоял вне внимания Горького.
"Ура! Ура! Ура! — восклицал Корин в письме жене. — Пашенька, портрет вышел!.. Всем нравится! Сам Алексей Максимович доволен".
"Да этот старик, — сказал драматург Афиногенов о портрете, — моложе многих из нас".
Особенность многих коринских портретов в том, что его модели, несмотря на преклонный возраст, излучают молодую энергию и задор.
Нестеров назвал удивительно молодым портрет Леонидова, прекрасного актера МХАТа, изображенного уже в преклонном возрасте.
"Если через много лет, — сказал знаменитый актер, — люди захотят узнать, каким был артист Леонидов, пусть посмотрят на этот портрет". На нем Леонидов глубоко, может, и горько задумался. Великолепный Дмитрий Карамазов, Иван Грозный, Пугачев, Гобсек, он сознает свое актерское величие. Сейчас, на исходе жизни, это уже не радует его, он привык к славе и считает ее естественным явлением. Он живет сегодняшним состоянием, которое властно поворачивает его думу к прошлому. И правая, нервно сжавшаяся рука словно держит эту, внезапно налетевшую думу. Актер, философ, поэт, торжественно сидит он в парадном костюме с орденами. Не исповедуется ли перед самим собой?..
Не исключено, что в раздумьях актера нашел Корин и созвучное своим тревогам. Свое понимание, свое проникновение в жизнь оригинала он сумеет передать на полотне. Будет тем счастлив. "Это было мое воскресение", — скажет потом о портрете.
О Качалове говорили, что он обладает "секретом молодости". На его портрете работы Корина мы возраста артиста также не ощущаем. С фотографий того, 1940 года на нас смотрит мягкий, улыбчивый, добродушный Качалов. Таким, собственно, он и встретил Корина у себя дома. Но Корин видел и знал другого Качалова — повелевающего слушающими людьми. И потому он отказался от "домашнего" образа артиста и попросил его предстать таким, каков он, когда читает от автора в "Воскресении"… Качалов предстал. На портрете он возносится, повелевает, торжествует. Строг и вдохновенен. В воспоминаниях современники писали о нем: "Властитель дум. Чародей сцены. Кумир молодежи…" Качалов появлялся на сцене — все вставали. Выходил из театра — подхватывали под руки и несли к машине… Берендей, Чацкий, Гамлет, Барон, Глумов, Иван Карамазов, Ивар Карено, царь Федор, Репетилов, Иванов, Вершинин… К моменту написания портрета Качалов — уже человек из легенды. Великий актер. Таким хотел увидеть его и увидел Павел Корин. Таким мы видим актера на одной из фотографий, где он репетирует Чацкого: поза, жест, силуэт схожи. Неудивительно, ведь в мастерской Корина Качалов во время сеанса декламирует, и мастерская озаряется блеском и освещается трепетным шумом театра. Качалов читает Шекспира, Пушкина, Блока, Горького…
Ранее уже говорилось, что Корин в портретах хотел "выявить духовную осанку человека". Духовная осанка Качалова — строгий восторг вдохновения; сплав духовной силы и культуры актера со страстью мысли литературного произведения. Духовная осанка народного артиста Качалова — благородство. "Нельзя кричать на людей!" — в свое время эта фраза считалась качаловской, о ней помнят по сей день.
Молод и Нестеров, семидесятисемилетний старец, учитель Корина. Он стремительно присел на кресло и одновременно словно бы отталкивается от него. Победоносно выносит вперед свою оригинально обтесанную высоколобую голову. Как нетерпелив его жест, как твердо и изящно опирается он о подлокотник! Какая энергия интеллектуального напора в нем, сколько неуемного любопытства, желания понять и убедить! И упоения разговором: "Приглашает меня художественная молодежь поделиться с ними чем-то, послушать моих "сказок" о том о сем".
Перед нами один из лучших художников своего вре" мени (в том году Нестеров пишет портреты скульптора Мухиной и певицы Кругликовой). Еще по десять часов кряду просиживает он у мольберта… Портрет Нестерова — это и портрет учителя, который поставил Корина на стезю живописца, ценил его как "человека высоких понятий, способностей и настроений". Портрет лк)бви и огромного уважения. Нестеров сам сказал о портрете: "Лучший из всех, с меня написанных".
Творчество Коненкова Корин называл Пергамом. Человек в рабочем халате скульптора похож на былинного летописца — "видения проходят предо мною", — в ком, несмотря на годы, сохранились удаль и сила воина. В те дни скульптор работает над фигурой Самсона, разрывающего цепи. Наконец-то воплощалась в жизнь его давняя мечта (когда-то, в канун революции 1905 года, онужесо-здавал "Самсона" — скульптура тогда была разбита).
Сарьян, "его взгляд, вся его поза" поразили Корина на одном из заседаний в Академии художеств. Художник тут же набросал эскиз портрета. Серьезен, даже суров старый армянский мастер, он вслушивается, а больше всматривается, непреклонный и знающий. Как будто сидит на вернисаже или в мастерской и взыскательно глядит на картину. Не оценивает — понимает. Сарьян стар, но красив — красотой человека, сумевшего открыть в себе и ерхранить навсегда мастера.
Итальянского художника Ренато Гуттузо Корин рисовал в его мастерской, в Риме. Гуттузо сидит в легком деревянном кресле — и свободно, и слегка напряженно, готовый тут же подняться и подойти к мольберту. Но глубокая, внезапная дума озаботила, тревожно преломила бровь, резко обозначила черты красивого мужественного лица…
О многих из людей, изображенных художником, можно сказать: "Се бо люди крылаты!.." Эти слова из древнерусской повести приходят на память Корину, когда он создает триптих "Александр Невский" и вспоминает дни своей молодости, мужиков из соседней деревни: "Шли они по улицам с вилами на плечах — рослые, крепкие, могучие, как богатырская рать. Шли и пели… Они остались в моем сознании героями народных былин".
Взяв за основу черты образа древней фрески в Кидекше, именно такого человека изобразил он во второй части триптиха — в "Северной балладе". Лицо русского воина полно удалой силы, воли и смелости; его протянутая рука как бы останавливает надвигающуюся опасность и одновременно показывает женщине, стоящей рядом, красоту родного края. Когда художник пишет древнерусскую женщину, то вспоминает свою мать: "Она была гордая, непреклонная".
Именно непреклонным создает он и Александра Невского.
Кто-то сказал о триптихе: "Иконописцы писали твореным золотом, а Корин — каленым железом". Корин создавал образ человека, олицетворявшего "щит и меч" Родины. Человек, закованный в металл, — непобедимый воин. В картине находили, правда, некоторую театральность и холодную торжественность. Но вспомним: она была написана в суровом 1942 году. Олицетворяла уверенность в победе, была гимном мужеству, стойкости, непоколебимости.
"Ободрал с себя кожу" и стал живописцем. Но древних иконописцев всегда чтил, иконы древнего письма собирал и свое великолепное уникальное собрание принес в дар Третьяковской галерее.
Свою Родину — Палех, маленький уголок земли, — рисует широкой панорамой, и уголок этот становится необозримым. Ему все дорого: и стебелек, и копна сена, и домик, и колокольня, улетающая в небо, так похожая на ракету… Здесь он родился в доме, которому "более ста лет". А родословная его семьи, крестьян-иконописцев, и вовсе имела трехсотлетнюю историю.
Когда-то Нестеров в поучение-объяснение сказал ему: "Искусство — это подвиг!" Корин поверил и всегда жил по этому закону. Подвиг — подвижничество во имя чего-то. Корин стал подвижником искусства, много и медленно работал, учился — копировал, рисовал "Окна РОСТА", оформлял революционные праздники, писал лозунги… Драматург Афиногенов, который был вместе с ним в Сорренто, заметил, что Корин "тихий, задумчивый, ко всему присматривающийся".
Присматривался не спеша. Уже за тридцать было, когда сказал сам себе: "Пора становиться художником". И написал две акварели: "Моя мастерская" и "В мастерской художника". Вторую сразу же приобрела Третьяковская галерея.
Свою мастерскую рисует с удовольствием — там он счастлив. Слепок с античной фигуры мудреца, фолианты любимых книг, топор и пила, икона… Как бы врата в святилище. А в самом святилище обилие слепков с антиков, нехитрая мебель: стол с чайником, печка, табурет… Комната, где нет ничего лишнего, где ждет жадная, нетерпеливая и методичная работа. И тем не менее он оставляет свою мастерскую.
"Меня всегда волновало, — говорил Корин, — а что там, за леском, за лесом?" За леском оказалась Италия. Поездка в страну Данте и Леонардо да Винчи была полна "бродячего жития и усталости до одурения". Поездка проходила под девизом: "Помни".
"Помни, как нарисованы руки".
"Помни розовый тон".
"Помни суровую торжественность и лаконизм".
"Помни величавые силуэты, величавые жесты".
"Помни, помни…" Ездил, ходил, смотрел, рисовал — на рисунках возникают великие творения итальянских скульпторов и архитекторов; он копирует работы живописцев. Восемь часов кряду сидит у картины Орканья "Триумф смерти": "Сила великая и жуткая". Познавая искусство Высокого Возрождения, испытывает полноту воли и сердца (то, что сформулировалось в Сикстинской капелле). Радуется гордой воле в творениях Рафаэля, великому духу жизни в скульптуре Микеланджело, его обжигают краски Тинторетто — "Краски, как пламя…" У Рафаэля Корин поклоняется "идеалу высочайшего художественного благородства", находит у него много общего с Андреем Рублевым. Он счастлив тем, что находится там, где "ходили со своими думами и мечтали" художники Возрождения… В его мастерской слепки с работ Донателло, Верроккио, Микеланджело, "Венеры Милосской", большие фотографии "Давида" и "Моисея", икон Рублева.
Через много лет судьба вновь сведет Корина с Рафаэлем. Сняв шляпу, встретит он "Сикстинскую мадонну", которую привезут из поверженной гитлеровской Германии в Пушкинский музей. Корин будет руководить реставрацией многих шедевров Дрезденской галереи…
А пока он с благоговением ходит по улицам, где ходил почитаемый им Александр Иванов; по улице Систина, где жил Гоголь… В Помпеях отыскивает места, служившие Брюллову натурой для прославленной картины. В Риме находит набережную, с которой писал Сильвестр Щедрин. Чашечка кофе, которую он выпивает в кафе "Греко", где часто собирались русские мастера, для него символична и знаменательна… Корин чувствует с ними. кровную связь. Ведь он наследует давние и крепкие традиции русской живописной школы. Он — ученик Нестерова, учителями которого были Перов и Крамской, друзьями — Левитан и Васнецов… Великая честь, которой удостоен, рождает у него сверхскромность. Возле дома, где жил Александр Иванов, Корин постоял, но войти не решился. В Париже на выставке встретил Коровина, заговорить не сумел. Словно боялся — что-то спугнуть.
…До сих пор поражает воображение посетителей дома-музея огромный нетронутый холст 12X8 метров. Это несостоявшийся "Реквием", который Максим Горький предложил переименовать в "Русь уходящую".
Картина не состоялась, потому что написать ее такой, как задумалось, — уже было невозможно. Старая церковная Русь слишком быстро уходила в прошлое, чтобы интересовать современников.
Картина осталась в портретах-этюдах к ней. В доме-музее видим мы галерею выразительных, удивляющих типов старой Руси, даже, пожалуй, угнетающих нас ушедшей, эфемерной ныне, но все же доносящейся из тех времен силой.
…Отец и сын. Связь, и уже расторжение связи поколений. Привычно-угрюмо несущий нелегкую думу отец, человек силы необычайной, знающий, на что ее тратить. И сын, якобы смиренный — нервно переплетенные пальцы, потупленные, неспокойные глаза, выдающие бунт-смятение…
…Устрашающий "Нищий" — лесное корявое чудище кустистое, голова вросла в плечи, руки-клешни. На морщинистом лице не мука, не страдание — опасение. Он словно настороженно, сам в себе, притаился. Когда Корин рисовал "Нищего" — думал о химерах Нотр-Дам, образах Орканьи.
…"Слепец вытянул свои пальцы-антенны, о которых Горький взволнованно сказал: он ими видит.
… И монастырская братия представлена. Князья церкви и проповедники. Честолюбцы, которые ни перед чем не остановятся. Ради веры живущие. И люди случайные, характера отнюдь не смиренного. На "Молодом монахе" ряса не с его плеча, взгляд разбойный — Корин говорил, что он потом пошел "с кистенем гулять"; писал с него позже образ воина в триптихе "Александр Невский".
Люди фанатичные, бесповоротные, реликтовые. Художник хотел, чтобы в "Руси уходящей" звучали "пафос и стон" "Реквиема" Берлиоза. В своих портретах к "Руси" находил "что-то готическое, торжественное". Это — торжественность ухода навсегда.
Корин считал портреты трудным жанром, отличающимся сверхсовершенством, и называл их сонетами.
М. В. Нестеров рассказывал: "У меня нет никаких затей на портретах… Я избегаю изображать так называемые "сильные страсти", предпочитая им… человека, живущего внутренней жизнью". Корин также стремился показывать внутреннюю жизнь, только ему хотелось сконцентрировать ее во "внутреннюю духовную осанку", чтобы "разгадать" и показать человека в минуту высшего духовного взлета — "каков он есть в своем лучшем проявлении". Как и Нестеров, он никогда не писал случайных портретов — "людей с убогим, мещанским мышлением…". Его привлекал "неповторимый склад личности"… Вслед за Нестеровым художник мог сказать: "Тут со мной что-то случилось", — когда встречал, человека, которого не мог не нарисовать. На его портретах — люди, умеющие жить торжественно и гордо, сражаясь. Не случайно маршал Жуков, глянув на свой портрет работы Корина, сказал: "Лицо полевое". А когда художник удивился, пояснил: "Такое бывает на поле боя".
Свои модели художник представлял как бы на поле боя.
"Я видел Горького, — писал Корин, когда создавал портрет писателя, — мыслителя и борца за человеческую правду".
С той минуты, как Алексей Максимович, с трудом взобравшись на шестой этаж арбатского дома, увидел картины Корина, он относился к художнику с нежным вниманием. Корин говорил, что в его жизни Горький был призывом и надеждой.
На прогулках в Сорренто он "подглядел" Горького — "задумчивого, сосредоточенного".
"Меня потом обвиняли… — писал Корин, — что он одинокий и суровый. Но я его увидел таким, увидел его высокую угловатую фигуру, шедшую в глубокой задумчивости на фоне Неаполитанского залива".
…На берегу Неаполитанского залива Горький задумался печально и сурово. А взгляд его страдальчески-мягок. Нестеров утверждал: "…у Горького, за жесткими его усами я чувствую доброту". Корин написал доброго, но непримиримого Горького. Словно сама совесть вышла и встала перед людьми в виде немолодого и усталого человека, но борца, полного неустанной энергии и тревоги о мире, заботы о его будущем. В том же году, когда Корин писал этот портрет, на VII Всесоюзной конференции ВЛКСМ Горький говорил: "Вы — "молодая гвардия рабочих и крестьян", вы — хозяева своей страны, и нет и не может быть ни одного вопроса в нашей действительности, который стоял бы вне вашего внимания". Ни один вопрос действительности не стоял вне внимания Горького.
"Ура! Ура! Ура! — восклицал Корин в письме жене. — Пашенька, портрет вышел!.. Всем нравится! Сам Алексей Максимович доволен".
"Да этот старик, — сказал драматург Афиногенов о портрете, — моложе многих из нас".
Особенность многих коринских портретов в том, что его модели, несмотря на преклонный возраст, излучают молодую энергию и задор.
Нестеров назвал удивительно молодым портрет Леонидова, прекрасного актера МХАТа, изображенного уже в преклонном возрасте.
"Если через много лет, — сказал знаменитый актер, — люди захотят узнать, каким был артист Леонидов, пусть посмотрят на этот портрет". На нем Леонидов глубоко, может, и горько задумался. Великолепный Дмитрий Карамазов, Иван Грозный, Пугачев, Гобсек, он сознает свое актерское величие. Сейчас, на исходе жизни, это уже не радует его, он привык к славе и считает ее естественным явлением. Он живет сегодняшним состоянием, которое властно поворачивает его думу к прошлому. И правая, нервно сжавшаяся рука словно держит эту, внезапно налетевшую думу. Актер, философ, поэт, торжественно сидит он в парадном костюме с орденами. Не исповедуется ли перед самим собой?..
Не исключено, что в раздумьях актера нашел Корин и созвучное своим тревогам. Свое понимание, свое проникновение в жизнь оригинала он сумеет передать на полотне. Будет тем счастлив. "Это было мое воскресение", — скажет потом о портрете.
О Качалове говорили, что он обладает "секретом молодости". На его портрете работы Корина мы возраста артиста также не ощущаем. С фотографий того, 1940 года на нас смотрит мягкий, улыбчивый, добродушный Качалов. Таким, собственно, он и встретил Корина у себя дома. Но Корин видел и знал другого Качалова — повелевающего слушающими людьми. И потому он отказался от "домашнего" образа артиста и попросил его предстать таким, каков он, когда читает от автора в "Воскресении"… Качалов предстал. На портрете он возносится, повелевает, торжествует. Строг и вдохновенен. В воспоминаниях современники писали о нем: "Властитель дум. Чародей сцены. Кумир молодежи…" Качалов появлялся на сцене — все вставали. Выходил из театра — подхватывали под руки и несли к машине… Берендей, Чацкий, Гамлет, Барон, Глумов, Иван Карамазов, Ивар Карено, царь Федор, Репетилов, Иванов, Вершинин… К моменту написания портрета Качалов — уже человек из легенды. Великий актер. Таким хотел увидеть его и увидел Павел Корин. Таким мы видим актера на одной из фотографий, где он репетирует Чацкого: поза, жест, силуэт схожи. Неудивительно, ведь в мастерской Корина Качалов во время сеанса декламирует, и мастерская озаряется блеском и освещается трепетным шумом театра. Качалов читает Шекспира, Пушкина, Блока, Горького…
Ранее уже говорилось, что Корин в портретах хотел "выявить духовную осанку человека". Духовная осанка Качалова — строгий восторг вдохновения; сплав духовной силы и культуры актера со страстью мысли литературного произведения. Духовная осанка народного артиста Качалова — благородство. "Нельзя кричать на людей!" — в свое время эта фраза считалась качаловской, о ней помнят по сей день.
Молод и Нестеров, семидесятисемилетний старец, учитель Корина. Он стремительно присел на кресло и одновременно словно бы отталкивается от него. Победоносно выносит вперед свою оригинально обтесанную высоколобую голову. Как нетерпелив его жест, как твердо и изящно опирается он о подлокотник! Какая энергия интеллектуального напора в нем, сколько неуемного любопытства, желания понять и убедить! И упоения разговором: "Приглашает меня художественная молодежь поделиться с ними чем-то, послушать моих "сказок" о том о сем".
Перед нами один из лучших художников своего вре" мени (в том году Нестеров пишет портреты скульптора Мухиной и певицы Кругликовой). Еще по десять часов кряду просиживает он у мольберта… Портрет Нестерова — это и портрет учителя, который поставил Корина на стезю живописца, ценил его как "человека высоких понятий, способностей и настроений". Портрет лк)бви и огромного уважения. Нестеров сам сказал о портрете: "Лучший из всех, с меня написанных".
Творчество Коненкова Корин называл Пергамом. Человек в рабочем халате скульптора похож на былинного летописца — "видения проходят предо мною", — в ком, несмотря на годы, сохранились удаль и сила воина. В те дни скульптор работает над фигурой Самсона, разрывающего цепи. Наконец-то воплощалась в жизнь его давняя мечта (когда-то, в канун революции 1905 года, онужесо-здавал "Самсона" — скульптура тогда была разбита).
Сарьян, "его взгляд, вся его поза" поразили Корина на одном из заседаний в Академии художеств. Художник тут же набросал эскиз портрета. Серьезен, даже суров старый армянский мастер, он вслушивается, а больше всматривается, непреклонный и знающий. Как будто сидит на вернисаже или в мастерской и взыскательно глядит на картину. Не оценивает — понимает. Сарьян стар, но красив — красотой человека, сумевшего открыть в себе и ерхранить навсегда мастера.
Итальянского художника Ренато Гуттузо Корин рисовал в его мастерской, в Риме. Гуттузо сидит в легком деревянном кресле — и свободно, и слегка напряженно, готовый тут же подняться и подойти к мольберту. Но глубокая, внезапная дума озаботила, тревожно преломила бровь, резко обозначила черты красивого мужественного лица…
О многих из людей, изображенных художником, можно сказать: "Се бо люди крылаты!.." Эти слова из древнерусской повести приходят на память Корину, когда он создает триптих "Александр Невский" и вспоминает дни своей молодости, мужиков из соседней деревни: "Шли они по улицам с вилами на плечах — рослые, крепкие, могучие, как богатырская рать. Шли и пели… Они остались в моем сознании героями народных былин".
Взяв за основу черты образа древней фрески в Кидекше, именно такого человека изобразил он во второй части триптиха — в "Северной балладе". Лицо русского воина полно удалой силы, воли и смелости; его протянутая рука как бы останавливает надвигающуюся опасность и одновременно показывает женщине, стоящей рядом, красоту родного края. Когда художник пишет древнерусскую женщину, то вспоминает свою мать: "Она была гордая, непреклонная".
Именно непреклонным создает он и Александра Невского.
Кто-то сказал о триптихе: "Иконописцы писали твореным золотом, а Корин — каленым железом". Корин создавал образ человека, олицетворявшего "щит и меч" Родины. Человек, закованный в металл, — непобедимый воин. В картине находили, правда, некоторую театральность и холодную торжественность. Но вспомним: она была написана в суровом 1942 году. Олицетворяла уверенность в победе, была гимном мужеству, стойкости, непоколебимости.
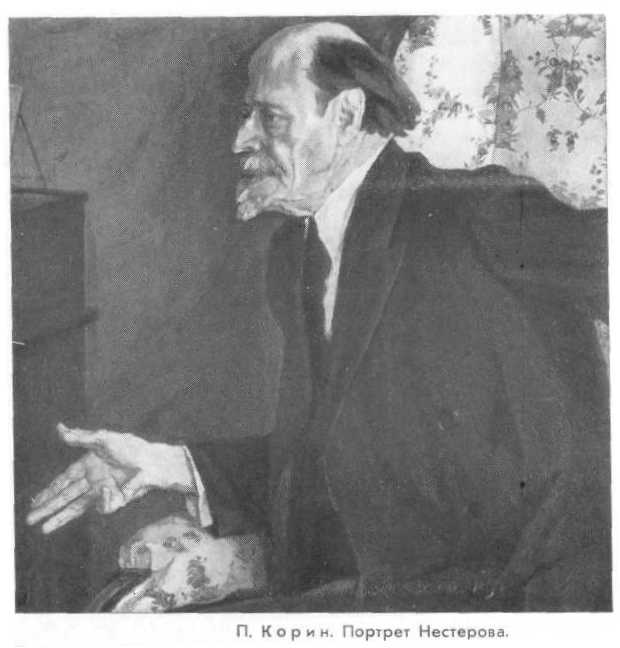 Героическая тема всегда привлекала художника. Он замысливает триптих о Дмитрии Донском, его мозаики для станции метро "Комсомольская" отражают основные вехи военной истории нашей Родины.
Корин неоднократно и настойчиво говорил, что он — художник своего времени: "Современность — душа искусства". Он считал, что следует "стремиться к искусству возвышенному, героическому, страстному, чтобы оно звучало Марсельезой, Интернационалом". Однажды его упрекнули, что его творчество "на фанфарах". Тогда мудрый Нестеров заметил, что настоящее искусство в той или иной мере "все на фанфарах"…
Трудный и счастливый творческий путь прошел Павел Корин. Одной из самых больших удач его личной и творческой жизни было то, что рядом с ним всегда была его жена, он называл ее ласково — Пашенька. Играла ему на фисгармонии, переводила нужные книги, позировала, кормила и лечила, научилась у него тонкому мастерству реставрации, создала ему дома обстановку, в которой он мог свободно и вдохновенно работать (и сейчас она хранит для всех этот дом-мастерскую)…
Они никогда не расставались. Даже, когда Корин был в Италии, каждый день писал оттуда письма Пашеньке. Одну из лучших своих картин — "Гвоздику" — он подарил ей, когда она выходила его, заболевшего тифом. Во время болезни Прасковья Тихоновна каждый день приносила ему любимые его красные гвоздики…
Героическая тема всегда привлекала художника. Он замысливает триптих о Дмитрии Донском, его мозаики для станции метро "Комсомольская" отражают основные вехи военной истории нашей Родины.
Корин неоднократно и настойчиво говорил, что он — художник своего времени: "Современность — душа искусства". Он считал, что следует "стремиться к искусству возвышенному, героическому, страстному, чтобы оно звучало Марсельезой, Интернационалом". Однажды его упрекнули, что его творчество "на фанфарах". Тогда мудрый Нестеров заметил, что настоящее искусство в той или иной мере "все на фанфарах"…
Трудный и счастливый творческий путь прошел Павел Корин. Одной из самых больших удач его личной и творческой жизни было то, что рядом с ним всегда была его жена, он называл ее ласково — Пашенька. Играла ему на фисгармонии, переводила нужные книги, позировала, кормила и лечила, научилась у него тонкому мастерству реставрации, создала ему дома обстановку, в которой он мог свободно и вдохновенно работать (и сейчас она хранит для всех этот дом-мастерскую)…
Они никогда не расставались. Даже, когда Корин был в Италии, каждый день писал оттуда письма Пашеньке. Одну из лучших своих картин — "Гвоздику" — он подарил ей, когда она выходила его, заболевшего тифом. Во время болезни Прасковья Тихоновна каждый день приносила ему любимые его красные гвоздики…
ХУДОЖНИКИ ОБ ИСКУССТВЕ Н.В.ТОМСКИЙ
…Вот мы часто говорим: нужно как можно более проникновенно и глубоко вглядеться в ленинский облик. Что это значит? Скульптор, стремящийся лучше познать Ленина, должен обстоятельно изучить его во всех проявлениях динамического характера, неукротимой энергии, бушующей в этом человеке. Очень важно задумываться над обстановкой, из которой так трудно было аайти выход, а Ленин его всегда находил. Только значительные, масштабные мысли рождают соответствующие жесты, движения, выражение лица. Вот почему так важно умение отвлечься от частностей в психологическом строе образа, в самой постановке фигуры и сообщенном ей движении найти именно ленинские черты характера, воплощающие смысл его деятельности, раскрывающие его мудрость, силу и душевную красоту. Вспоминаю такой эпизод в работе над памятником Ленину для Орла, установленным в 1949 году на центральной площади города. Когда я работал над этим проектом, хотелось, как всегда, связать его с каким-то жизненным фактом из жизни Владимира Ильича или его выступлением. Перечитывая ленинские речи, я обратил внимание на одну из них, произнесенную на совещании председателей уездных, волостных и сельских исполнительных комитетов Московской губернии 15 октября 1920 года. Характеризуя положение молодой Советской Республики к концу гражданской войны, он подчеркивал прочность и непобедимость Советской власти. Эту глубокую ленинскую уверенность мне и захотелось запечатлеть в памятнике… Хочется остановиться еще на одной работе над образом Ленина, начатой в 1961 году. Речь идет о проекте памятника на Юго-Западе Москвы, который создавался в содружестве с известным советским зодчим Александром Васильевичем Власовым. Уже само расположение будущего памятника в живописнейшем районе столицы, на высоком обрывистом берегу Москвы-реки, возлагает на авторов монумента решение весьма сложных задач, в особенности еще и потому, что издали памятник должен рассматриваться на фоне высотного здания университета. …Зрители, подходящие к нему, увидели бы дугу огромной архитектурной стены — полуциркуля. Круглые статуи, расположенные в ее углублениях, и большие рельефы, украшающие стену на всем ее протяжении, должны были эпически рассказать об основных этапах борьбы нашей партии за победу коммунизма, о всенародном движении за мир во всем мире. По замыслу авторов проекта, там должна была быть создана новая площадь, целиком посвященная отображению в художественно-скульптурных образах величайших событий в жизни партии и народа. Впереди, перед полукруглой стеной, располагаются две симметрично стоящие скульптурные группы, отражающие революции 1905 и 1917 годов. А изображение рельефа, опоясывающего стену, точно гигантская каменная летопись, повествует о событиях величайшей из революций. Проходя вдоль этой стены и познакомившись с изобразительным повествованием художника, зрители приближаются к основному элементу скульптурной композиции — огромной фигуре Владимира Ильича Ленина. Она является как бы синтезом моей почти полувековой работы над образом Ленина и вобрала в себя все наиболе выразительное, что удалось найти в воплощении дорогого образа. Ленин изображен как основатель Советского государства. При рассмотрении проектов памятника Ленину для Москвы жюри отметило четыре проекта, в том числе и вышеописанный. Была создана творческая группа для создания окончательного проекта памятника в составе скульпторов М. Бабурина, Л. Головниц-кого, А. Кибальникова и Н. Томского, а также архитекторов Я. Б. Белопольского, Л. В. Воскресенского и В. В. Лебедева. Им поручено использовать все лучшее, что уже достигнуто в проектировании памятника с учетом пожеланий Художественного совета Министерства культуры СССР и Градостроительного совета Москвы, С тех пор сделано многое. Каждый из четырех скульпторов представил свой вариант ленинской фигуры, которая должна явиться зрительным и логическим центром огромного мемориального комплекса. Гигантская фигура, высотой около ста метров, явится, по нашему замыслу, доминантой, возглавляющей весь архитектурный комплекс Юго-Запада Москвы. Она должна быть видна издалека, точно реющий над миром светозарный образ Ленина… В конце 1967 года правительство Германской Демократической Республики обратилось ко мне с просьбой создать для Берлина памятник Ленину, который был открыт к 100-летию со дня рождения Владимира Ильича. По замыслу немецких градостроителей, этот памятник явился композиционным центром вновь созданной площади Ленина… Меня очень волновала и увлекла эта ответственная творческая задача. Как всегда, я прежде всего попытался представить себе идейное значение этого памятника. Ведь он воздвигнут в самом сердце Европы, символизируя победу ленинских идей, торжество дела социализма. Вот почему я решил изваять фигуру вождя на фоне красного знамени, реющего над могущественным лагерем социалистических стран. Ленинские идеи парят над миром — вот главная мысль, которую мне хотелось выразить в своей новой работе…СЕВЕРНАЯ ПЕСНЯ
…Попков поднимается до понимания безграничной ценности жизни.Виктор Ефимович Попков (1932 — 1974) — советский живописец. Учился в Московском государственном художественном институте имени В. И. Сурикова. Лауреат Государственной премии СССР (посмертно). Виктор Попков был бесстрашным человеком. Это бесстрашие потрясло меня на выставке на Кузнецком мосту, у картины "Работа окончена". Там он изобразил себя, художника, упавшим на матрац в глубоком сне-забвении. Он выглядит хрупким, беззащитным, обреченно-скорбным, полностью "выжатым" работой. Он отдал ей все силы. Отдал ей сегодня всю свою жизнь. И если ему предстояло жить завтра, это была бы уже совсем другая жизнь. Огромный город входит в окно мастерской как неисчерпаемый мир. Художник чувствовал себя бесконечно богатым, чтобы так раздаривать свои жизни этому миру. На окне у художника стоял цветок, который ярко, пронзительно, приковывающе светит в его картинах. "Солдатская кровь" говорят о цветке в народе и связывают с ним тревожные приметы. Попков не страшился примет. Знал "одну, но пламенную страсть" — живопись. Но жил не только для нее. О том ведомо всем, кому он помог, кого ободрил, с кем поделился своей силой. Он всегда говорил верное смелое слово — и в живописи и в жизни. Как дышал. Когда он ушел из жизни, Дмитрий Жилинский сказал: "Нам очень не хватает Виктора Попкова. Он умел рисковать". В его автопортретах есть отстраненность и задумчивость, но нет удивления и равнодушия. Его лицо — лицо человека, забывающего о себе, лицо уверенного проповедника. Взгляд пронзителен и неостановим. Виктор Попков был очень беспокойным человеком. Не "ищущим" — искал не то, что находится случайно; искал, зная: обязан найти, найдет. Он был "находящим" человеком. В "Осенних дождях" он написал Пушкина, как мог бы написать и себя самого. Тонкая, упорная фигура поэта — на осеннем ветру беззащитна, полна вызова, борьбы, поэзии — вдохновенная и словно улетающая. Художник и сам надевал "пушкинские одежды" — фрак и прочее, не только, чтобы "вжиться в образ", хотел почувствовать себя Пушкиным. Имел на то право, ощущал с поэтом кровное родство. Как ощущал родство и с людьми, которых писал в своих картинах. О цикле "Мезенские вдовы" сказано много. Вот художник вспоминает, как они сидели в избе — одинокие, обездоленные войной женщины: "То ли я задремал, то ли забылся, но, очнувшись, вдруг ясно увидел всю сцену, которая сдвинула для меня и время и пространство, соединив воедино их жизнь, мою и жизнь погибших дорогих людей. Я вспомнил и моего в- тридцать шесть лет убитого на фронте отца, и мою несчастную мать… О, война, что ты, подлая, сделала…" В красном (художник любил красный цвет) — вдовы пляшут и поют ("Воспоминания. Вдовы"). Маркс глядит на них из угла, где прежде была божница. Женщина ("Одна") стоит на фоне темной деревянной стены. В красном углу фотография мужа в буденовке. Серебряно светится самовар, а в окне — чудо деревянного зодчества — силуэт церковки виден сквозь кисею занавески. И стоит женщина, как покорная неодолимая жизнь, опустив неловкие всесильные руки… Виктор Попков бесконечно и трогательно любил и уважал этих женщин-тружениц: "настоящие люди". Именно в них, простых русских женщинах, видел истоки силы, которая позволяла ему писать свои картины так, как он мог и хотел. Вдовы поют ("Северная песня") — аскетические лица заострены годами. На угловатых фигурах одинаковые платья, их красновато-сиреневый цвет, как отблеск того самого, ярко-алого, тревожно "проливающегося" в синем окне цветка — отблеск "Солдатской крови". Трагическая символика: цветок тянется к вдовам. Но картина не о прошлом — о настоящем. Стол, застеленный синеватой белизны скатертью, отделяет вдов от внимающих песне юношей и девушек, "ученых студентов", собирателей фольклора. Они слушают песню как клокочущую огнем и кровью жизнь. Они тоже в этой песне, в тоске воспоминаний и надежде. И рыжеволосая девушка, тонкий стебелек, могла бы быть мезенской вдовой… Кисть художника резкая на той, "военной", стороне стола, здесь смягчается, здесь больше полутонов, размышлений, будущего. А будущее — вот оно, к углу печи прислонилась девчоночка-златовласка, как вестник, — допоется песня, девчоночка выйдет и скажет слово, от которого что-то переменится. Нежность, верность, боль прикосновения. Как и в знаменитой картине "Шинель отца". Художник заночевал в избе. — под голову ему подложили шинель. И сукно ожило, заговорило голосом отца-солдата, пришла в избу напряженная строгая эпоха, час испытаний. Художник, человек средних лет, в свитере и замшевых туфлях, надел фронтовую шинель, стоит задумчиво, трогая ее борта и словно недоумевая… Ровесник отца, он стал с ним рядом, прикоснулся к ушедшим дням обнаженным сердцем и понял внезапно и отчетливо: он причастен ко всему, что происходит в жизни, и ответствен за все. Видениями проходят у него за спиной тени мезенских вдов… "Трагичность радостная" — слова Виктора Попкова. И было бы странно не вспомнить о том, что он ездил не только на свой любимый русский Север. Изъездил всю страну, видел ее гигантские стройки — не зря его картина "Строители Братской ГЭС" была и остается одной из самых значительных картин о наших современниках… Художник писал реальную жизнь и был ее сказителем. Тяжело-красный монумент быка воздвигнут на берегу синего моря. "Вечер" — баллада о красном быке. Избы деревни Кимжы кажутся сказочными теремами на красном закатном берегу "острова Буяна". И людей, живущих в этих теремах, он писал реально и сказочно. "Молодые из деревни Куланово" — это принц Гамлет с Офелией и в то же время современные ребята со своим достоинством, молодечеством, красованием… Мальчишка прибежал из своей деревни, около которой пасется навсегда полюбившаяся художнику белая лошадь (он рисовал ее неоднократно), и застыл у резного деревянного столба: перед ним ярко засветилось чудо древнерусской живописи… Прекрасны рисунки Попкова — они сделаны с натуры, эти рисунки-стихотворения. Разве не видите вы в одном из них "печального смысла семейных фотографий", как тонко сказал поэт Николай Рубцов. Разве не мил вашему сердцу мудрый и изящно-легкий крестьянин дед Нечаев? Разве не похож на любопытного воробья мальчишка, взобравшийся на плетень, — красота родных мест перед ним и вся страна. Трогающая сердце повесть — картина "Хороший человек была бабка Анисья". Прекрасная осень окружает могилу с аккуратно-прощальным венком. Прекрасное дерево увенчано литой коричневой листвой. Как всегда, равнодушно мечутся сороки… А люди думают, вспоминают о бабке Анисье, которая легла здесь в землю — рядом со старинным поваленным могильным камнем и памятником с солдатской красной звездой… Плачут ее подружки, а стайка прекрасных девушек в модных сапожках не кощунственна своей молодостью. Для них бабка Анисья еще не умерла сейчас, просто ушла в землю. Пройдет время, только тогда они поймут: нет больше хорошего человека — бабки Анисьи — и пожалеют о ней вдвойне. Это правдивое сказание о человеческой жизни.В. С. Манин

ХУДОЖНИКИ ОБ ИСКУССТВЕ
Искусство — это творчество, направленное к постижению верховных вопросов бытия. Это единственное звено, связывающее человека с тайнами мироздания… Искусство — движение человека, его вечный путь, вечная борьба за новые и новые откровения.КузьмаПетров-Водкин
В наше время существует изумительное слово "новаторство. Во всем прогрессивном, искреннем, ищущем мы видим корни этого понятия. Новаторство придает новый, более глубокий смысл трудовым процессам — будь это на заводе, в полях, в лабораториях ученых. Наше новаторство вытекает из социальной природы нашего общества. Вот почему художник должен особенно глубоко присматриваться ко всем новым явлениям, находить в них пластику, живописную красоту, формы, раскрывающие духовный мир советского человека. …Считаю искренность в искусстве основой его. Эта искренность лежит в идеалах, присущих своему времени. Она создает стиль и утверждает время. Во времени остались и грандиозное смятение Микеланджело, и глубочайшая величавость Пуссена, и проникновенная ясность Вермеера, и тоска перовских "Деревенских похорон". Счастлив тот художник, у которого найдутся образы закрепить свое дело, искусство, которое определит время. Мы живем в бурное время, уж очень много на нашу долю выпало впечатлений. Может быть, поэтому мы так внимательны к человеку и его человеческому достоинству. Может, здесь лежит единство понятия, ключ нашего времени… Александр Дейнека
Самый строгий экзамен для произведения искусства — проверка временем. Хочется напомнить ленинское положение, говорящее, что процесс познания начинается с живого созерцания. Чем тщательнее изучает художник действительность, тем ярче ему удается раскрыть взятую тему, тем больше оснований полагать, что его работа окажется долговечной. А для того чтобы этого добиться, нельзя забывать завета великого Леонардо да Винчи работать так, чтобы зрители могли с легкостью "распознать состояние их души по их позе", то есть — самое главное — уметь. выразить внутренний мир человека. Николай Томский
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ Музеи и благородные музейщики
 Закончился наш рассказ о великих и известных мастерах, творцах Прекрасного. Мы благодарны им, открывающим нам великое чудо жизни. Но как не сказать — с благодарностью и уважением — о тех, кто бережет и сохраняет произведения искусства, кто находит их, подчас затерянных во времени; возрождает из небытия картины и скульптуры. Короче гозоря, как не вспомнить о собирателях, о музейных работниках, о реставраторах, о людях, благодаря которым в разных городах и селах страны открываются свои "третьяковки". Рассказом об этих благородных и бескорыстных старателях, верных служителях Прекрасного и хотелось бы закончить эту книгу.
Мастер создает картину. Музей ее сохраняет для многих поколений… И — да здравствуют музеи, эти источники горячих споров и жажды приобщения к высокому искусству.
Уже много говорено о перенасыщенности музеев посетителями. Пытались усмотреть в этом моду. Но мода преходяща, а очереди все удлиняются… Сейчас за год в музеях бывает более 140 миллионов человек. Только восемьсот тысяч организованных экскурсий! Однажды в Эрмитаже я увидел, как экскурсанты надвигались, сшибались, расходились, сметая на своем пути жалких одиночек. Не успел я подойти к микельанджеловскому согнувшемуся мальчику, как тут же толпа поглотила меня. Попытался скрыться у Тициана — то же самое… Больше повезло в доме-квартире А. С, Пушкина; любезные сотрудницы музея пропустили в трехминутный перерыв между двумя экскурсиями, и я успел почти в одиночестве послушать, как бьют часы в этой грустной и дорогой для нас квартире. Бьют — как когда-то… Мгновенное соприкосновение веков. Словно исчезаешь в том далеком времени — и возвращаешься…
Музейный "взрыв" не модой порожден, это явление социальное: растет общий уровень культуры. И чем дальше, тем сильнее будет у людей тяга к прекрасному, к досугу, содержательность которого, по словам Карла Маркса, определяет гармоническое развитие человеческой личности.
Не все знают, что экспозиции музеев (то, что открыто для обозрения) составляют порой лишь небольшую часть общего числа картин, а сотни и тысячи экспонатов хранятся в запасниках и фондах. Поэтому необходима постоянная забота о том, чтобы эти картины сохранились и не были повреждены.
Более тридцати лет преданно, страстно, настойчиво занимается сохранностью картин Нина Ивановна Ромашкова в Государственной Третьяковской галерее. Ее деятельность поистине подвижническая.
И коль мы упомянули о московской Третьяковке, как ее любовно называют москвичи, вспомним ее дочерние собрания, или "малые третьяковки". Так называются возникающие повсеместно сельские и заводские народные картинные галереи. Немногим более двадцати лет прошло с тех пор, как в подмосковном селе Лья-лове открылась первая сельская картинная галерея…
Теперь многие села заслуженно гордятся своими собраниями произведений искусства. Свыше трех тысяч работ советских мастеров хранит художественная галерея в селе Воронове — собрал их Роман Анатольевич Луговской, подаривший, кстати, и свою личную богатую коллекцию картин родному селу.
Инициатором создания картинной галереи в полесском селе Криничное стал заведующий отделом пропаганды и агитации Мо-зырского райкома партии Сергей Иванович Костян. Теперь здесь ежегодно открывается выставка работ белорусских художников. Большой музей создан в украинском селе Пархомовке. Здесь хранится три тысячи полотен, А подлинная душа музея, его создатель и хранитель — учитель истории Афанасий Лунев.
Сколько замечательных подвижников в нашей стране, бескорыстно отдавших свои силы и средства, — чтобы восстановить забытое, сохранить подлинники, приобщить многих людей к культуре, научить их понимать прекрасное. В дар землякам-костромичам передал свое собрание мастер-краснодеревщик Павел Николаевич Ухов, организовавший в родных местах сельскую "Третьяковку".
На основе коллекции металлурга Ивана Варламовича Рех-лова создана Шушенская картинная галерея. Около 600 подлинных картин, рисунков, этюдов в этой галерее посвящено ленинской теме.
В селе Орловка (Киргизия) организатором музея советских художников стал Теодор Гергардович Герцен, бухгалтер, художник-любитель. А основой Ульяновской картинной галереи (Калужская область) стали картины уроженца этих мест художника А. В. Киселева. Душой же новой галереи стала педагог Татьяна Федоровна Смирнова.
Два сельских учителя — Александр Федорович Миняев и Иван Иванович Булахов — создали в Домотканове "Комнату Серова". Теперь там открыт музей, филиал Калининской областной картинной галереи.
А музей волжского городка Плеса, связанного с именем Левитана, начался с обращения супругов Пророковых — лауреата Ленинской премии художника Бориса Пророкова и его жены — к их коллегам: послать свои работы в общественную галерею.
Из частных собраний образовалась Тарусская картинная галерея, куда передал свою коллекцию русской и западноевропейской живописи ученый-агроном Н. П. Ракитский…
Все это люди щедрой души, доброго сердца… Всегда так велось на Руси. Только раньше единицы делали великое дело просвещения искусством, а сейчас сотни и тысячи продолжают деятельность П. М. Третьякова, М, К. Тенишевой, И. С. Остроухова, Д. С. Яворницкого, С. И. Щукина.
Подвиги наших музейщиков и реставраторов значительны, но подчас незаметны. Висят в музеях полотна, восхищаются ими посетители. Но всегда ли мы знаем, какова их история и кто сохранил бесценное народное достояние? Много сил и времени было потрачено научным сотрудником Маргаритой Ивановной Луневой, прежде чем она открыла работы интересной русской художницы Елены Андреевны Киселевой. А сотрудник Ярославского музея Сергей Пенкин восстановил биографии художников Тарханова и Мыльникова. Иван Николаевич Ларионов, много лет бывший директором Псковского музея-заповедника, спасал картины в суровые годы войны…
Самых добрых слов заслуживают и реставраторы. Их долгому многолетнему труду обязаны мы возвращением из небытия портретов Григория Островского, Федора Тулова, портретов из города Зарайска, ценных образцов живописи в Воскресенском соборе, в станице Старочеркасской; Екатерининского, Меншиковского и.
Останкинского дворцов; многих других прекрасных произведений.
Посещая дом Айвазовского в Феодосии, мы вспоминаем имя Н. С. Барсамова, многолетнего директора музея; называем Эрмитаж и вспоминаем подвижнический труд его директора Б. Б. Пиотровского, а Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, конечно, связан с именем директора И, А. Антоновой.
Музей произведений живописи — это дом, где собраны картины, но он тогда бывает светлым, радостным и радующим, когда он еще и дом, где работают люди, для которых эти картины — вся жизнь, вся любовь. Именно поэтому, завершая эту книгу, я не могу не вспомнить свои встречи с музейными работниками двух "провинциальных" музеев — Астраханской картинной галереи имени Б. М. Кустодиева и Костромского музея изобразительных искусств.
Мы знаем подвижника, покровителя талантов, собиравшего замечательные картины, словно улавливавшего солнечные лучи. Человека, оставшегося в жизни и памяти народной — огромной картинной галереей — Павла Михайловича Третьякова. Каждому в стране известна Третьяковка, драгоценный камень в "короне" города… А ведь у нас в России были люди, подобно ему, собирающие произведения живописи, но о них мы знаем гораздо меньше. И что ни город — то свое имя, свой Третьяков! Вот и здесь, в Астрахани, основу картинной галереи составляет собрание П. М. Догадина.
…Научный сотрудник Астраханской картинной галереи Инна Анохина показывала мне его фотографии: молодой, стройный, с умным лицом. Отбился от купеческой стаи, не прибился к чиновничьей.
Его, человека образованного (читал на английском, немецком, французском языках), неудержимо и страстно влекло искусство. Какие-то средства, доставшиеся по наследству, позволили начать собирательство. Природный вкус помогал ему приобретать действительно талантливые работы. Купил, например, одиннадцать этюдов Левитана… Завязал личное знакомство с Коровиным и Нестеровым. А этюд последнего к "Отроку" повесил над своей кроватью… Помогал ему собирать картины и автографы писателей Гиляровский, знаменитый дядя Гиляй. Вот что писал ему Догадин: "Осуществилась, благодаря Вам, моя давнишняя мечта иметь автограф милого незабвенного Антона Павловича. За это приношу Вам самую искреннюю и глубокую благодарность. Буду хранить его как большую драгоценность, а впоследствии вместе с коллекцией картин и рисунков передам музею своего родного города". Письмо датировано пятым апреля 1915 года. Несколько строчек — а человек виден. Догадин созидал мир желанный и близкий. И не для себя одного. Еще в 1915 году Догадин хочет передать сокровища свои родному городу. Но решается на этот шаг только после Октябрьской революции. Он передает губернскому Совету свою коллекцию. Совет назначает его хранителем ее.
Когда сейчас проходишь по залам Астраханской картинной галереи, думаешь о том, что она прежде всего — "астраханка". Все то прекрасное, что находится в ее стенах, ассоциируется для жителей с красотой городских улиц, площадей, домов, парков. Я понял это, побродив вместе с художником Леонидом Максутовым по городу, из очаровательных деталей которого и складывался его неповторимый облик.
Максутов — сотрудник галереи, верный ее служитель и рыцарь. Про каждого работника галереи можно это сказать. Все они — хранители и экскурсоводы, просветители и чернорабочие. Сотрудник галереи Галина Волчкова с удовольствием садится в автобус и едет "за тридевять земель" читать лекции и показывать диапозитивы.
Я был счастлив знакомством с этими людьми, истинными под-зижниками.
"А.Лузей — человек, которому не надо мешать, если не можешь помочь"; "Я приходил сюда в разном настроении — музей всегда оставался таким же хорошим"; "Злым из музея никогда не уходил" — это несколько афористичных мыслей сотрудника Астраханской картинной галереи Алика Камкина. Емкие фразы, в них и кодекс поведения музейного работника, и определение музея как носителя самых возвышенных для человека чувств.
Музей уничтожает зло, музей прививает добро. Музей вдохновляет. Убери галерею из города — будет зиять огромная, ничем не восполнимая пустота, изменится ритм городской жизни.
…Приходят в картинную галерею молодые работники. Как понять им, что служение миру прекрасного есть и служение доброму в себе. Как понять, что служение доброму в себе есть и служение людям, которые с явным или затаенным любопытством смотрят картины, водят детей по залам и, мешая другим, объясняют во весь голос: "Посмотри, Мишенька, как похоже вазочка нарисована, а тетя какая красивая, а дождичек настоящий…" Как научиться не улыбаться этому иронически… Главный хранитель Астраханской картинной галереи — Калерия Михайловна Чернышева, за двадцать лет работы в галерее — научилась. Ей всякая тяга к прекрасному, пусть и самая наивная — благо. Прикоснется она чутким словом своим, словно жезлом волшебным, — и картина начинает с вами разговаривать.
Калерию Михайловну очень радует, что в галерее почти все крупнейшие русские мастера представлены: и Аргунов, и Венецианов, и Ф. Васильев, и Саврасов, и ранний Левитан — "Лилии. Ненюфары" — неожиданно яркое для художника полотно, где крупные листья лилий жестко сидят на воде, окружая белые чашечки цветов, и из глубины тянутся гибкие стебли… Есть А. Рябушкин, М. Нестеров; серия работ К. Коровина с его пестротой, сочностью — люди, предметы возникают миражами из света и цвета; монументальный Крымов, феерический Судейкин… Целый зал Б. Кустодиева, тут и прелестные "Головка девочки", и "Жатва": небо — желтое, с красными, зелеными, бурыми полосами — движение рассеивающегося солнечного пламени, закрутится-завертится и снова сгустится в солнечный шар… Есть Кузнецов, Архипов, Фальк…
Более года готовила Калерия Михайловна выставку работ Веры Хлебниковой.
Выставка — живое зеркало. И мы видим в нем душу, сердце, эрудицию работника музея. Но как же много он должен знать, чтобы создать выставку произведений искусства. Альбрехт Дюрер говорил: "Не худо, чтобы человек многому учился, хотя иные невежды и против этого и говорят, что науки делают высокомерными". Мы-то знаем, что путь к высокомерию лежит через невежество-и полузнание.
Выставка, о которой речь, начала возникать с одной фотографии и двух-трех стихотворений. Выставка работ Веры Владимировны Хлебниковой, младшей сестры поэта Велемира Хлебникова, предварялась фоторассказом о семье Хлебниковых, уроженцев и жителей Астрахани. Портреты, автографы, рисунки… Велемир Хлебников и его сестра родились в этом краю.
Леонид Максутов водил меня к дому, где они жили. Улочка — чистенькая, уютная и зеленая, — возносит этот дом, словно волна гордый корабль. Дом стал особенным, стал памятником, стал притягательным. Иногда здесь собираются астраханские поэты и любители поэзии,
Велемир Хлебников, занявший свое место среди русских советских поэтов, здесь, в Астрахани, звучит более выпукло, свежо. И ты лучше понимаешь и ощущаешь его через настроение города и природы. Достаешь с полки томик, и знакомые строки совершенно по-иному раскрывают образ "дервиша", "великолепнейшего и честнейшего рыцаря поэзии". Он возникает человеком с горячо пульсирующей кровью, подлинным "казначеем чернил золотых у весны…"
Хлебников, сам раздумывавший о доле живописца, становится первым учителем сестры. Они были очень схожи. Художник П. Митурич, муж Веры Хлебниковой, писал: "Она напоминает брата. Та же застенчивость, та же сдержанность в словах, отсутствие искусственности, абсолютная правдивость. Стойкая и бескорыстно отдающая себя работе". Стараниями работников Астраханской картинной галереи все, что можно было собрать из ее работ, собрано.
Художница оживляла заколдованную природой лесную жизнь — за простыми извивами дерева замечаешь мускулы прячущегося лешего и лица удивленно-простодушных и мудрых древолюдей. Лесная жизнь — сказочная и реальная.
Вера Хлебникова жила искренне, неровно, импульсивно и, пожалуй, самоотверженно. Писала урывками. Случился у нее в жизни период, когда она была только няней — для сына и престарелых родителей ("они похожи на старые деревья", которые "надо поливать лаской"). Она выхаживала их и месяцами не прикасалась к холсту. Воспитывала сына, заранее утвердившись в мысли, что он станет художником. И это сбылось — он известен нам как иллюстратор, пейзажист, портретист. Это — Май Митурич-Хлебников. Он и помогал Калерии Михайловне готовить выставку. Ее стараниями выставка превратилась в рассказ не только о творчестве, но о жизни целого круга одаренных людей, принесших славу ее родному городу.
Так встретились в галерее два человека — музейный работник и художник. Встретились потому, что оба талантливы — душой, бескорыстным служением искусству. И выставка принесла посетителям музея радость открытия нового художника.
Закончился наш рассказ о великих и известных мастерах, творцах Прекрасного. Мы благодарны им, открывающим нам великое чудо жизни. Но как не сказать — с благодарностью и уважением — о тех, кто бережет и сохраняет произведения искусства, кто находит их, подчас затерянных во времени; возрождает из небытия картины и скульптуры. Короче гозоря, как не вспомнить о собирателях, о музейных работниках, о реставраторах, о людях, благодаря которым в разных городах и селах страны открываются свои "третьяковки". Рассказом об этих благородных и бескорыстных старателях, верных служителях Прекрасного и хотелось бы закончить эту книгу.
Мастер создает картину. Музей ее сохраняет для многих поколений… И — да здравствуют музеи, эти источники горячих споров и жажды приобщения к высокому искусству.
Уже много говорено о перенасыщенности музеев посетителями. Пытались усмотреть в этом моду. Но мода преходяща, а очереди все удлиняются… Сейчас за год в музеях бывает более 140 миллионов человек. Только восемьсот тысяч организованных экскурсий! Однажды в Эрмитаже я увидел, как экскурсанты надвигались, сшибались, расходились, сметая на своем пути жалких одиночек. Не успел я подойти к микельанджеловскому согнувшемуся мальчику, как тут же толпа поглотила меня. Попытался скрыться у Тициана — то же самое… Больше повезло в доме-квартире А. С, Пушкина; любезные сотрудницы музея пропустили в трехминутный перерыв между двумя экскурсиями, и я успел почти в одиночестве послушать, как бьют часы в этой грустной и дорогой для нас квартире. Бьют — как когда-то… Мгновенное соприкосновение веков. Словно исчезаешь в том далеком времени — и возвращаешься…
Музейный "взрыв" не модой порожден, это явление социальное: растет общий уровень культуры. И чем дальше, тем сильнее будет у людей тяга к прекрасному, к досугу, содержательность которого, по словам Карла Маркса, определяет гармоническое развитие человеческой личности.
Не все знают, что экспозиции музеев (то, что открыто для обозрения) составляют порой лишь небольшую часть общего числа картин, а сотни и тысячи экспонатов хранятся в запасниках и фондах. Поэтому необходима постоянная забота о том, чтобы эти картины сохранились и не были повреждены.
Более тридцати лет преданно, страстно, настойчиво занимается сохранностью картин Нина Ивановна Ромашкова в Государственной Третьяковской галерее. Ее деятельность поистине подвижническая.
И коль мы упомянули о московской Третьяковке, как ее любовно называют москвичи, вспомним ее дочерние собрания, или "малые третьяковки". Так называются возникающие повсеместно сельские и заводские народные картинные галереи. Немногим более двадцати лет прошло с тех пор, как в подмосковном селе Лья-лове открылась первая сельская картинная галерея…
Теперь многие села заслуженно гордятся своими собраниями произведений искусства. Свыше трех тысяч работ советских мастеров хранит художественная галерея в селе Воронове — собрал их Роман Анатольевич Луговской, подаривший, кстати, и свою личную богатую коллекцию картин родному селу.
Инициатором создания картинной галереи в полесском селе Криничное стал заведующий отделом пропаганды и агитации Мо-зырского райкома партии Сергей Иванович Костян. Теперь здесь ежегодно открывается выставка работ белорусских художников. Большой музей создан в украинском селе Пархомовке. Здесь хранится три тысячи полотен, А подлинная душа музея, его создатель и хранитель — учитель истории Афанасий Лунев.
Сколько замечательных подвижников в нашей стране, бескорыстно отдавших свои силы и средства, — чтобы восстановить забытое, сохранить подлинники, приобщить многих людей к культуре, научить их понимать прекрасное. В дар землякам-костромичам передал свое собрание мастер-краснодеревщик Павел Николаевич Ухов, организовавший в родных местах сельскую "Третьяковку".
На основе коллекции металлурга Ивана Варламовича Рех-лова создана Шушенская картинная галерея. Около 600 подлинных картин, рисунков, этюдов в этой галерее посвящено ленинской теме.
В селе Орловка (Киргизия) организатором музея советских художников стал Теодор Гергардович Герцен, бухгалтер, художник-любитель. А основой Ульяновской картинной галереи (Калужская область) стали картины уроженца этих мест художника А. В. Киселева. Душой же новой галереи стала педагог Татьяна Федоровна Смирнова.
Два сельских учителя — Александр Федорович Миняев и Иван Иванович Булахов — создали в Домотканове "Комнату Серова". Теперь там открыт музей, филиал Калининской областной картинной галереи.
А музей волжского городка Плеса, связанного с именем Левитана, начался с обращения супругов Пророковых — лауреата Ленинской премии художника Бориса Пророкова и его жены — к их коллегам: послать свои работы в общественную галерею.
Из частных собраний образовалась Тарусская картинная галерея, куда передал свою коллекцию русской и западноевропейской живописи ученый-агроном Н. П. Ракитский…
Все это люди щедрой души, доброго сердца… Всегда так велось на Руси. Только раньше единицы делали великое дело просвещения искусством, а сейчас сотни и тысячи продолжают деятельность П. М. Третьякова, М, К. Тенишевой, И. С. Остроухова, Д. С. Яворницкого, С. И. Щукина.
Подвиги наших музейщиков и реставраторов значительны, но подчас незаметны. Висят в музеях полотна, восхищаются ими посетители. Но всегда ли мы знаем, какова их история и кто сохранил бесценное народное достояние? Много сил и времени было потрачено научным сотрудником Маргаритой Ивановной Луневой, прежде чем она открыла работы интересной русской художницы Елены Андреевны Киселевой. А сотрудник Ярославского музея Сергей Пенкин восстановил биографии художников Тарханова и Мыльникова. Иван Николаевич Ларионов, много лет бывший директором Псковского музея-заповедника, спасал картины в суровые годы войны…
Самых добрых слов заслуживают и реставраторы. Их долгому многолетнему труду обязаны мы возвращением из небытия портретов Григория Островского, Федора Тулова, портретов из города Зарайска, ценных образцов живописи в Воскресенском соборе, в станице Старочеркасской; Екатерининского, Меншиковского и.
Останкинского дворцов; многих других прекрасных произведений.
Посещая дом Айвазовского в Феодосии, мы вспоминаем имя Н. С. Барсамова, многолетнего директора музея; называем Эрмитаж и вспоминаем подвижнический труд его директора Б. Б. Пиотровского, а Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, конечно, связан с именем директора И, А. Антоновой.
Музей произведений живописи — это дом, где собраны картины, но он тогда бывает светлым, радостным и радующим, когда он еще и дом, где работают люди, для которых эти картины — вся жизнь, вся любовь. Именно поэтому, завершая эту книгу, я не могу не вспомнить свои встречи с музейными работниками двух "провинциальных" музеев — Астраханской картинной галереи имени Б. М. Кустодиева и Костромского музея изобразительных искусств.
Мы знаем подвижника, покровителя талантов, собиравшего замечательные картины, словно улавливавшего солнечные лучи. Человека, оставшегося в жизни и памяти народной — огромной картинной галереей — Павла Михайловича Третьякова. Каждому в стране известна Третьяковка, драгоценный камень в "короне" города… А ведь у нас в России были люди, подобно ему, собирающие произведения живописи, но о них мы знаем гораздо меньше. И что ни город — то свое имя, свой Третьяков! Вот и здесь, в Астрахани, основу картинной галереи составляет собрание П. М. Догадина.
…Научный сотрудник Астраханской картинной галереи Инна Анохина показывала мне его фотографии: молодой, стройный, с умным лицом. Отбился от купеческой стаи, не прибился к чиновничьей.
Его, человека образованного (читал на английском, немецком, французском языках), неудержимо и страстно влекло искусство. Какие-то средства, доставшиеся по наследству, позволили начать собирательство. Природный вкус помогал ему приобретать действительно талантливые работы. Купил, например, одиннадцать этюдов Левитана… Завязал личное знакомство с Коровиным и Нестеровым. А этюд последнего к "Отроку" повесил над своей кроватью… Помогал ему собирать картины и автографы писателей Гиляровский, знаменитый дядя Гиляй. Вот что писал ему Догадин: "Осуществилась, благодаря Вам, моя давнишняя мечта иметь автограф милого незабвенного Антона Павловича. За это приношу Вам самую искреннюю и глубокую благодарность. Буду хранить его как большую драгоценность, а впоследствии вместе с коллекцией картин и рисунков передам музею своего родного города". Письмо датировано пятым апреля 1915 года. Несколько строчек — а человек виден. Догадин созидал мир желанный и близкий. И не для себя одного. Еще в 1915 году Догадин хочет передать сокровища свои родному городу. Но решается на этот шаг только после Октябрьской революции. Он передает губернскому Совету свою коллекцию. Совет назначает его хранителем ее.
Когда сейчас проходишь по залам Астраханской картинной галереи, думаешь о том, что она прежде всего — "астраханка". Все то прекрасное, что находится в ее стенах, ассоциируется для жителей с красотой городских улиц, площадей, домов, парков. Я понял это, побродив вместе с художником Леонидом Максутовым по городу, из очаровательных деталей которого и складывался его неповторимый облик.
Максутов — сотрудник галереи, верный ее служитель и рыцарь. Про каждого работника галереи можно это сказать. Все они — хранители и экскурсоводы, просветители и чернорабочие. Сотрудник галереи Галина Волчкова с удовольствием садится в автобус и едет "за тридевять земель" читать лекции и показывать диапозитивы.
Я был счастлив знакомством с этими людьми, истинными под-зижниками.
"А.Лузей — человек, которому не надо мешать, если не можешь помочь"; "Я приходил сюда в разном настроении — музей всегда оставался таким же хорошим"; "Злым из музея никогда не уходил" — это несколько афористичных мыслей сотрудника Астраханской картинной галереи Алика Камкина. Емкие фразы, в них и кодекс поведения музейного работника, и определение музея как носителя самых возвышенных для человека чувств.
Музей уничтожает зло, музей прививает добро. Музей вдохновляет. Убери галерею из города — будет зиять огромная, ничем не восполнимая пустота, изменится ритм городской жизни.
…Приходят в картинную галерею молодые работники. Как понять им, что служение миру прекрасного есть и служение доброму в себе. Как понять, что служение доброму в себе есть и служение людям, которые с явным или затаенным любопытством смотрят картины, водят детей по залам и, мешая другим, объясняют во весь голос: "Посмотри, Мишенька, как похоже вазочка нарисована, а тетя какая красивая, а дождичек настоящий…" Как научиться не улыбаться этому иронически… Главный хранитель Астраханской картинной галереи — Калерия Михайловна Чернышева, за двадцать лет работы в галерее — научилась. Ей всякая тяга к прекрасному, пусть и самая наивная — благо. Прикоснется она чутким словом своим, словно жезлом волшебным, — и картина начинает с вами разговаривать.
Калерию Михайловну очень радует, что в галерее почти все крупнейшие русские мастера представлены: и Аргунов, и Венецианов, и Ф. Васильев, и Саврасов, и ранний Левитан — "Лилии. Ненюфары" — неожиданно яркое для художника полотно, где крупные листья лилий жестко сидят на воде, окружая белые чашечки цветов, и из глубины тянутся гибкие стебли… Есть А. Рябушкин, М. Нестеров; серия работ К. Коровина с его пестротой, сочностью — люди, предметы возникают миражами из света и цвета; монументальный Крымов, феерический Судейкин… Целый зал Б. Кустодиева, тут и прелестные "Головка девочки", и "Жатва": небо — желтое, с красными, зелеными, бурыми полосами — движение рассеивающегося солнечного пламени, закрутится-завертится и снова сгустится в солнечный шар… Есть Кузнецов, Архипов, Фальк…
Более года готовила Калерия Михайловна выставку работ Веры Хлебниковой.
Выставка — живое зеркало. И мы видим в нем душу, сердце, эрудицию работника музея. Но как же много он должен знать, чтобы создать выставку произведений искусства. Альбрехт Дюрер говорил: "Не худо, чтобы человек многому учился, хотя иные невежды и против этого и говорят, что науки делают высокомерными". Мы-то знаем, что путь к высокомерию лежит через невежество-и полузнание.
Выставка, о которой речь, начала возникать с одной фотографии и двух-трех стихотворений. Выставка работ Веры Владимировны Хлебниковой, младшей сестры поэта Велемира Хлебникова, предварялась фоторассказом о семье Хлебниковых, уроженцев и жителей Астрахани. Портреты, автографы, рисунки… Велемир Хлебников и его сестра родились в этом краю.
Леонид Максутов водил меня к дому, где они жили. Улочка — чистенькая, уютная и зеленая, — возносит этот дом, словно волна гордый корабль. Дом стал особенным, стал памятником, стал притягательным. Иногда здесь собираются астраханские поэты и любители поэзии,
Велемир Хлебников, занявший свое место среди русских советских поэтов, здесь, в Астрахани, звучит более выпукло, свежо. И ты лучше понимаешь и ощущаешь его через настроение города и природы. Достаешь с полки томик, и знакомые строки совершенно по-иному раскрывают образ "дервиша", "великолепнейшего и честнейшего рыцаря поэзии". Он возникает человеком с горячо пульсирующей кровью, подлинным "казначеем чернил золотых у весны…"
Хлебников, сам раздумывавший о доле живописца, становится первым учителем сестры. Они были очень схожи. Художник П. Митурич, муж Веры Хлебниковой, писал: "Она напоминает брата. Та же застенчивость, та же сдержанность в словах, отсутствие искусственности, абсолютная правдивость. Стойкая и бескорыстно отдающая себя работе". Стараниями работников Астраханской картинной галереи все, что можно было собрать из ее работ, собрано.
Художница оживляла заколдованную природой лесную жизнь — за простыми извивами дерева замечаешь мускулы прячущегося лешего и лица удивленно-простодушных и мудрых древолюдей. Лесная жизнь — сказочная и реальная.
Вера Хлебникова жила искренне, неровно, импульсивно и, пожалуй, самоотверженно. Писала урывками. Случился у нее в жизни период, когда она была только няней — для сына и престарелых родителей ("они похожи на старые деревья", которые "надо поливать лаской"). Она выхаживала их и месяцами не прикасалась к холсту. Воспитывала сына, заранее утвердившись в мысли, что он станет художником. И это сбылось — он известен нам как иллюстратор, пейзажист, портретист. Это — Май Митурич-Хлебников. Он и помогал Калерии Михайловне готовить выставку. Ее стараниями выставка превратилась в рассказ не только о творчестве, но о жизни целого круга одаренных людей, принесших славу ее родному городу.
Так встретились в галерее два человека — музейный работник и художник. Встретились потому, что оба талантливы — душой, бескорыстным служением искусству. И выставка принесла посетителям музея радость открытия нового художника.
* * *
А теперь еще об одной незабываемой встрече — в Костроме. Никто не объяснит: почему именно Виктор Игнатьев открыл художника XVIII века Григория Островского. "Высадился" в городе Солигаличе, как на неведомом материке, и счастливо обнаружил. Виктор Игнатьев, директор Костромского музея изобразительных искусств, был уверен: "в недрах" области скрывается изрядное количество неведомых сокровищ живописи. Убеждение не придуманное, а научно обоснованное и продуманное; Игнатьев — сторонник теории мощных традиционных провинциальных школ живописи. Когда Игнатьев недрогнувшей рукой взялся за разрушающиеся холсты, в душе его уже бурлила сладкая лихорадка ожидания, рожденная природным чутьем и профессиональным предположением. Быстрое логическое умозаключение связало отысканные полотна с двумя портретами, выставленными в экспозиции Солигаличского музея. Игнатьев "увидел", угадал талантливого живописца XVIII века, ибо до реставрации сказать что-либо определенное было невозможно. Много говорили и писали о средней руки помещиках Черевиных. В суматохе первых дней открытия вознесли Черевиных чуть ли не в самые передовые люди России. Островский же относится к изображаемой фамилии весьма трезво. Без обольщения. Можно сказать, что только благодаря Григорию Островскому мы и вспоминаем это семейство, жившее в XVIII веке. Художник-невидимка, растворившийся в огромном этом веке. Впрочем, судить о личности художника возможно и по портретам, созданным им. Как о человеке острого глаза, свободной мысли и трезвого суждения. На его полотне Черевины — в меру ограниченные и заурядные, с неизбежной долей крепостнической жестокости. Представляется, что Григорий Островский писал портреты не по доброй воле — по твердому и настойчивому заказу. Был ли он крепостным или просто бедствующим, "домашним" художником — неведомо. Но писал по жгучей необходимости, иначе с какой бы стати ему еще и соседей Черевиных, помещиков? А он ведь добросовестно, старательно воспроизводит их упитанные лица, важно посаженные головы. И лишь когда пишет детей или тех взрослых, которые чем-либо ему приглянулись, кисть его теплеет: из обычного помещичьего обличья проглядывает живой трепетный человек. Во всяком случае, Елизавете Черевиной он явно симпатизировал — неяркий, мягкий, дневной свет рождает движение в лице девушки с широко раскрытыми, искренними, тревожно вопрошающими глазами. На другом портрете мы видим девушку в более зрелом возрасте: еще юной, но уже дамой — и живописец ощутимо теряет к ней интерес, будто сожалея о чем-то несостоявшемся… В "Портрете молодого мужчины" Островский передает характер деятельный, волевой… И будущего командира костромского ополчения в войну 1812 года — Дмитрия Черевина он изображает довольно смышленым, честолюбивым полумальчиком-полуюношей. Но если Островский — новое имя в истории русской живописи XVIII века, то такого художника, как Рокотов, представлять читателям нет необходимости. А здесь, в музее, есть и Рокотов. Есть и искрящийся мягким лукавством доброты, обаянием женской прелести портрет розовощекой Евдокии Лопухиной работы неизвестного художника. Перед нами снова неведомое: кто же автор портрета? Загадочный восемнадцатый век, у которого Виктор Игнатьев отвоевал частицу "суши", озадачивает целой серией новых загадoк. Как мы удивительно богаты и как расточительны! Как нередко "открываем" то, чего не следовало по небрежности ранее закрывать… В костромском музее организована первая персональная выставка крестьянского сына — Ефима Честнякова. Это уже наш век. Честь открытия этого имени принадлежит сотрудникам музея Вера Лебедевой и Владимиру Макарову. Виктор Игнатьев лишь взял в руки большую дворницкую лопату-скребок и стал расчищать тропу к несуществующему ныне дому художника. Ходишь по выставке и задумываешься — что ни полотно, то страница мудрой философской сказки. А фигура художника предстала почему-то огромной среди его словно бы игрушечного и в то же время вполне реального города. Взмахнет рукой — город оживает, мчатся лошадки на колесиках, из диковинных домиков-снопов выходят жители, из леса — звери. А унылый, словно исполняющий служебные обязанности, лесовик бесстрастно несет на могучих руках то ли русалку, то ли просто уворованную девушку, которая не кричит и не сопротивляется, она знает: законам сказки надо повиноваться. Участвуют в этом сказочном представлении о своей жизни люди, которые жили рядом с художником. Я слушал поэтический комментарий главного хранителя музея Сергея Палюлина к серии, где изображалась трогательная жизнь Лилинья и Люлиньи, и думал: как согревает душу, как возвышает этот словно бы выдуманный мир, словно бы представляемый, словно бы существующий, мир воспевающий и откровенный. Тесный мир на картинах Ефима Честнякова — ни одного незанятого местечка в картине. Будто не хотел обидеть кого-то, не поместив на своем полотне… Костромской музей, конечно, "маленький, но милый", как афористично и дружелюбно определила Елена Малягина, реставратор. А мы добавим: маленький, но богатый. Неожиданный Богданов-Вельский, не менее неожиданный пейзаж Богаевского — золотистый, палевый, закатный. И ожиданное "Гулянье" Кустодиева, часто гостившего в Костроме. И отчаянно-синий "Залив" Рериха. Здесь хранятся работы Кузнецова, Фалька, Кончаловского, Бебутовой, Шевченко, Татлина. А что говорить о запаснике, которым всерьез озабочен Сергей Палюлин: он пока не в силах отреставрировать все потемневшие, попорченные временем картины. И герои 1812 года пока что глядят на белый свет лишь сквозь расчищенное реставратором окошечко… — Что вы цените в своих сотрудниках? — спросил я Игнатьева. — Любят свое дело. Неслучайные люди. Я беседовал с этими "неслучайными людьми". Это истинные подвижники. Работают много — исследования, каталоги, экспедиционные поездки, экскурсии, лекции в колхозах и на предприятиях, работа в архивах и библиотеках, выставки… В небольших современных городах бьется много сердец, питающих энергией его главные "магистрали". И одно из них, но такое необходимое — музей. Он не только принимает экскурсии, его эстетическое влияние проникает буквально в каждый трудовой коллектив, в каждую школу, техникум… Он не только пропагандирует возвышенное, но учит возвышенно жить. Мы шли по старинному проспекту, а нам наперерез спешила к зданию музея группка школьников. Хлопнула тугая музейная дверь… Уезжая из Костромы, вспоминая увиденное — Ипатьевский монастырь; ГРЭС, крупнейшую в Европе, знаменитую пожарную каланчу… — я долго раздумывал: каково же главное впечатление от полюбившегося старинного русского города? Все-таки вот эти школьники, спешащие в музей.ПЕРЕЧЕНЬ ИМЕН
Алпатов Михаил Владимирович (1902) — доктор искусствоведения, действительный член Академии художеств СССР. Альберта Леон-Баттиста (1404 — 1472) — итальянский художник, архитектор, ученый, теоретик искусства и философ. Анджелико да Фьезоле Фра Беато (1387 — 1455) — флорентийский живописец. Антокольский Марк Матвеевич (1843 — 1902) — русский скульптор. Аретино Пьетро (1492 — 1557) — итальянский поэт, драматург, публицист. Ариосто Лудовико (1474 — 1533) — итальянский поэт позднего Высокого Возрождения. Аристотель (384 — 322 до и. э.) — древнегреческий философ и ученый-энциклопедист. Асафьев Борис Владимирович (1884 — 1949) — композитор, музыкальный и художественный критик, историк и теоретик музыки. Ахматова Анна Андреевна (1889 — 1966) — поэтесса. Батюшков Константин Николаевич (1787 — 1855) — поэт. Банделло Маттео (1480 — 1562) — миланский новеллист, современник Леонардо. Белый Андрей (Бугаев Борис Николаевич) (1880 — 1934) — поэт, прозаик, теоретик символизма. Беклин Арнольд (1827 — 1901) — швейцарский художник. Беллини Джованни (ок. 1430 — 1516) — венецианский живописец раннего Возрождения. Бембо Пьетро (1470 — 1547) — кардинал, итальянский гуманист, писатель и историк. Бенуа Александр Николаевич (1870 — 1960) — художник, историк искусства, художественный критик, организатор и идейный руководитель объединения "Мир искусства" и журнала под тем же названием. Блок Александр Александрович (1880 — 1921) — поэт. Боттичелли Сандро (1445 — 1510) — флорентийский живописец раннего Возрождения. Брант Себастиан (1458 — 1521) — немецкий поэт и ученый-юрист. Бруно Джордано (1548 — 1600) — итальянский философ-материалист. Брут Марк Юний (85 — 42 до н. э.) — римский сенатор, глава заговора против Юлия Цезаря и один из его убийц. Бурдель Эмиль-Антуан (1861 — 1929) — французский скульптор. Брюсов Валерий Яковлевич (1873 — 1924) — поэт, писатель, драматург, литературовед, переводчик. Вазари Джорджо (1511 — S574) — флорентийский живописец и архитектор, автор "Жизнеописаний наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих". Ван-Дейк Антонис (1599 — 1641) — фламандский художник. Веласкес Диего де Сильва (1599 — 1660) — испанский художник. Вергилий (70 — 19 до н. э.) — римский поэт. Вероккио Андреа дель (1435 — 1488) — итальянский скульптор и художник. Веронезе Паоло Калиари (1528 — 1588) — венецианский живописец. Витрувий (2-я пол. I в. до н. э.) — римский архитектор. Воейков Александр Федорович (1779 — 1839) — поэт, журналист. Воинов Всеволод Владимирович (1880 — 1945) — график, искусствовед. Волошин Максимилан Александрович (1878 — 1932) — поэт, художественный критик, живописец, акварелист. Вольтер (1694 — 1778) — французский философ. Врангель Николай Николаевич (1880 — 1915) — историк искусства. Гераклит (VI в. до н. э.) — древнегреческий философ. Герден Александр Иванович (1812 — 1870) — писатель, философ, публицист. Гнедич Николай Иванович (1784 — 1833) — поэт, переводчик "Илиады". Гоген Поль (1848 — 1903) — французский художник. Гоголь Николай Васильевич (1809 — 1852) — писатель. Голлербах Эрик Федорович (1895 — 1942) — искусствовед, литературовед, литератор. Гомер (ок. 800 до н. э.) — легендарный автор древнегреческих эпопей. Гонкуры, Эдмон (1822 — 1896) и Жюль (1830 — 1870) — французские писатели. Гончаров Андрей Дмитриевич (1903 — 1979) — график, живописец. Гончарова Наталья Сергеевна (1881 — 1962) — живописец, художник театра, график. Гораций Квинт (65 до н. э. — 8 до н. э.) — римский поэт. Грабарь Игорь Эммануилович (1871 — 1960) — академик живописи, искусствовед, художественный критик, музейный деятель. Гране Франсуа-Мариус (1773 — 1849) — французский живописец. Гребенка Евгений Павлович (1812 — 1848) — писатель. Грек Феофан (1330 — 1350 — между 1405 — 1415) — живописец Древней Руси. Григорович Дмитрий Васильевич (1822 — 1899) — писатель, секретарь Общества поощрения художеств. Гюго Виктор (1802 — 1885) — французский писатель. Давид Жак Луи (1748 — 1825) — французский живописец. Даль Владимир Иванович (1801 — 1872) — беллетрист, лексикограф. Данте Алигьери (1265 — 1321) — великий итальянский поэт, Дейнека Александр Александрович (1899 — 1969) — народный художник СССР, Герой Социалистического Труда. Делакруа Эжен (1798 — 1863) — французский художник. Диккенс Чарлз (1812 — 1870) — английский писатель. Дионисий (ок. 1440 — после 1503) — древнерусский живописец. Добиньи Шарль Франсуа (1817 — 1878) — французский живописец. Добролюбов Никрлай Александрович (1836 — 1861) революционный демократ, публицист, литературный критик. Доде Альфонс (1840 — 1897) — французский писатель. Дольче Лодовико (1508 — 1568) — венецианский писатель. Донателло (1386 — 1466) — флорентийский скульптор. Жуковский Василий Андреевич (1783 — 1852) — русский поэт романтического направления. Зандрарт Иоахим (1606 — 1688) — живописец, график, теоретик и историк искусства. Золя Эмиль (1840 — 1902) — французский писатель. Израэль Иозеф (1824 — 1911) — голландский живописец и график. Йордане Якоб (1593 — 1678) — фламандский живописец. Карамзин Николай Михайлович (1766 — 1826) — писатель и историк. Каратыгин Василий Андреевич (1802 — 1853) — актер-трагик. Кваренги Джакомо (1744 — 1817) — итальянский архитектор, работал в России с 1780 по 1817 год. Кент Рокуэлл (1882 — 1971) — американский живописец, график, писатель, общественный деятель. Кибрик Евгений Адольфович (1906 — 1978) — народный художник СССР. Кольцов Алексей Васильевич (1809 — 1842) — поэт. Кончаловский Петр Петрович (1876 — 1956) — советский живописец. Коро Камилл (1796 — 1875) — французский живописец. Коровин Константин Алексеевич (1861 — 1939) — русский живописец. Корреджо (ок. 1489 — ок. 1534) — североитальянский художник. Краевский Андрей Александрович (1810 — 1889) — издатель "Отечественных записок". Кругликова Елизавета Сергеевна (1865 — 1941) — график. Крылов Иван Андреевич (1768 — 1844) — поэт, баснописец. Ксенофонт (на рубеже V–IV вв. до н. э.) — древнегреческий историк. Куликов Иван Семенович (1875 — 1941) — академик живописи. Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797 — 1846) — декабрист, поэт, прозаик, литературный критик, издатель. Лафонтен Жан де (1621 — 1695) — французский поэт-баснописец. Ленбах Франц фон (1836 — 1904) — немецкий живописец. Лесков Николай Семенович (1831 — 1895) — писатель. Луначарский Анатолий Васильевич (1875 — 1933) — советский государственный и общественный деятель, писатель, литературный и художественный критик. Лютер Мартин (1483 — 1546) — вождь и вдохновитель немецкой Реформации. Майков Аполлон Николаевич (1821 — 1897) — поэт. Маккиавелли Никколо (1469 — 1527) — флорентийский политический деятель, историк. Малевич Казимир Северинович (1878 — 1935) — живописец, основоположник "супрематизма", работал в области производственного искусства. Манин Виталий Серафимович (р. 1929) — историк искусства. Мантенья Андреа (1431 — 1506) — се. вероитальянский живописец и гравер раннего Возрождения. Машков Илья Иванович (1881 — 1944) — живописец и педагог. Медичи Лоренцо (1449 — 1492) — правитель Флоренции, поэт. Милле Жан Франсуа (1814 — 1875) — французский живописец. Мишле Жюль (1798 — 1874) — французский историк. Мирандола — Джованни Пикоделла Мирандолла (1463 — 1494) — итальянский философ. Мицкевич Адам (1798 — 1855) — польский поэт. Мокрицкий Аполлон Николаевич (1810 — 1870) — живописец. Мопассан Ги де (1850 — 1893) — французский писатель. Мурильо Бартоломе Эстебан (1618 — 1682) — испанский живописец. Мюнцер Томас (1490 — 1525) — вождь крестьянского восстания в Германии 1524 — 1525 годов. Мясоедов Григорий Григорьевич (!834 — 1911) — художник, инициатор и один из руководителей Товарищества передвижных художественных выставок. Нестеров Михаил Васильевич (1862 — 1942) — русский и советский художник. Нисский Георгий Григорьевич (р. 1903) — живописец. Основоположник новой современной пейзажной живописи. Орканья (впервые упом. 1347 — 1368) — флорентийский живописец, скульптор и архитектор. Орье Альбер (1865 — 1892) — французский художественный критик. Паломино Антонио (1665 — 1726) — итальянский художник-монументалист, теоретик и историк искусства. Пастернак Леонид Осипович (1882 — 1945) — живописец, график. Пастернак Борис Леонидович (1890 — 1960) — поэт и переводчик. Пачеко Франсиско (1584 — 1654) — испанский художник и теоретик искусства. Перуджино (до 1448 — 1533) — умбрийский живописец раннего Возрождения. Петрарка Франческо (1304 — 1374) — ученый-гуманист, поэт, философ, дипломат и путешественник. Пименов Юрий Иванович (1903 — 1977) — народный художник СССР. Пифагор (ок. Е80 — ок. 500 до н. э.) — древнегреческий математик и философ. Платов Аркадий Александрович (1893 — 1972) — народный художник СССР. Платон (428 или 427 — 348 или 347 до н. э.) древнегреческий философ. Плиний Старший (23 — 79 н. э.) — римский естествоиспытатель. Плутарх (ок. 46 — ок. 127) — древнегреческий философ и писатель. Пуссен Никола (1594 — 1665) — французский художник. Рафаэль (1483 — 1520) — живописец и архитектор зрелого Возрождения. Рейсдаль Якоб (1628/9 — 1882) — голландский живописец и офортист. Рембрандт Харменс ван Рейн (1606 — 1669) — голландский живописец. Ренан Эрнест-Жозеф (1823 — 1892) — французский историк религии. Репин Илья Ефимович (1844 — 1930) — великий русский художник-демократ и новатор. Рерих Николай Константинович (1874 — 1947) — живописец, общественный деятель, философ, литератор, ученый, путешественник. Рибера Хосе (1591/? - 1652) — испанский живописец и офортист. Роден Огюст (1840 — 1917) — французский скульптор. Роллан Ромен (1866 — 1944) — французский писатель, музыковед, общественный деятель. Рылеев Кондратий Федорович (1795 — 1826) — один из основных деятелей Северного общества, поэт-декабрист. Рылов Аркадий Александрович (1870 — 1939) — живописец, график. Савонарола Джироламо (1452 — 1498) — итальянский проповедник, монах-доминиканец, религиозно-политический реформатор. Самохвалов Александр Николаевич (1894 — 1971) — живописец и рисовальщик. Саннадзаро Якопо (1455 — 1530) — неаполитанский поэт, автор пасторального романа "Аркадия". Свиньин Павел Петрович (1787 — 1839) — писатель, журналист, рисовальщик, путешественник, издатель. Семенова Екатерина Семеновна (1786 — 1849) — драматическая трагическая актриса. Сенека (4 до н. э. — 65 н. э.) — римский писатель и философ. Сервантес (1547 — 1616) — величайший прозаик Возрождения. Серебрякова Зинаида Евгеньевна (1884 — 1967) — живописец. Серов Валентин Александрович (1865 — 1911) — живописец. Скрябин Александр Николаевич (1872 — 1915) — композитор и пианист. Собко Николай Петрович (1851 — 1906) — историк русского искусства, библиограф, составитель "Словаря русских художников". Сократ (470/469 — 399 до н. э.) — древнегреческий философ. Стасов Владимир Васильевич (1824 — 1906) — художественный и музыкальный критик, историк искусства. Суворин Александр Сергеевич (1834 — 1912) — журналист, издатель "Нового времени". Тассо Торквато (1544 — 1595) — величайший поэт итальянского Возрождения периода его заката. Тепин Яков Алексеевич (1883 — 1953) — гравер, музейный работник, преподаватель рисования. Тинторетто Якопо (1518 — 1594) — венецианский живописец позднего Возрождения. Толстой Алексей Николаевич (1882 — 1945) — писатель. Томский Николай Васильевич (р. 1900) — Герой Социалистического Труда, народный художник СССР, президент Академии художеств СССР. Тургенев Иван Сергеевич (1818 — 1883) — писатель. Тыранов Алексей Васильевич (1808 — 1859) — живописец, литограф. Тьеполо Джованни Баггиста (1696 — 1770) — венецианский живописец и офортист. Уайльд Оскар (1854 — 1900) — английский писатель, поэт, драматург, критик. Ульрих фон Гуттен (1488 — 1523) — рыцарь, ученый, писатель-гуманист. Федотов Павел Андреевич (1815 — 1852) — художник. Флобер Постав (1821 — 1880) — французский писатель. Фридрих Каспар Давид (1774 — 1840) — немецкий живописец. Фромантен Эжен (1820 — 1876) — французский живописец и писатель. Хальс Франс (1581 — 1666) — голландский живописец и график. Чернецов Григорий Григорьевич (1802 — 1865) — живописец, рисовальщик. Чернышевский Николай Гаврилович (1828 — 1889) — революционный демократ, писатель, литературный критик, философ. Чимабуэ (ок. 1240 — ок. 1302) — итальянский художник. Шаванн Пюви де (1824 — 1898) — французский художник. Шаляпин Федор Иванович (1873 — 1938) — оперный певец (бас), с 1922 года жил и работал за границей. Шевченко Тарас Григорьевич (1814 — 1861) — поэт, писатель, художник. Шишкин Иван Иванович (1832 — 1898) — живописец. Штук Франц фон (1863 — 1928) — немецкий художник. Щедрин Сильвестр Феодосиевич (1791 — 1830) — живописец. Энгр Жан Огюст Доминик (1780 — 1867) — французский живописец и график. Эразм Роттердамский (1466 — 1536) — один из крупнейших гуманистов Европы. Эсхил (525 — 456 до н. э.) — древнегреческий трагик. Юон Константин Федорович (1875 — 1958) — народный художник СССР. Яблонская Татьяна Ниловна (р. 1917) — народный художник СССР. Яковлев Борис Николаевич (1890 — 1972) — народный художник РСФСР, Родоначальник советского индустриального пейзажа.
Последние комментарии
7 часов 7 минут назад
12 часов 52 минут назад
13 часов 59 минут назад
14 часов 57 минут назад
15 часов 11 минут назад
1 день 21 минут назад