Журнал «Полдень XXI век» 2005 № 1

Колонка дежурного по номеру Андрей Чертков
О том, какое место должна занимать оригинальная идея в фантастическом произведении, спорят уже давно. В 60-е годы такие авторы и теоретики фантастики как Генрих Альтов и Павел Амнуэль отстаивали примат идеи над всеми другими «кирпичиками», из которых строится хорошая фантастика. Отсюда, в частности, и выросли такие методики как ТРИЗ и РТВ. Братья Стругацкие, с другой стороны, в своих статьях обычно подчеркивали, что главное в фантастике — не столько оригинальная идея, сколько другие литературные составляющие — образы героев, сюжет, стиль, достоверность описываемого мира. Но при этом идеи, положенные в основу повестей самих АБС, были, как правило, отменно хороши и практически всегда — оригинальны. Известная поговорка про то, что идеи, мол, носятся в воздухе, на самом деле сильно лукавит. Может, они и носятся — но как? Стаями, как журавли в небе? Или идея подобна синице, которая, прежде чем попасть к нам в руки, перепрыгивает на подоконник, нацеливаясь на разбросанные крошки? Но тогда — кто эти крошки разбрасывает? Чем больше новых фантастических книг появляется на прилавках, тем громче становятся разговоры о нехватке свежих идей, даже о «кризисе» оных. Будет ли выход из этого «кризиса»? каким он станет? — вопросы, на которые пока никто не может дать ответа. Но, наверное, не случайно в последнее время так популярны сетевые конкурсы рассказов типа «Рваной грелки» или «Самиздата», в которых темы для придумывания новых идей и сюжетных поворотов заданы изначально. Бывает и с писателями известными, что оригинальную идею, могущую стать толчком для создания нового произведения, подсказывает им кто-то извне. С одним из примеров такого рода вы можете познакомиться на страницах этого номера «Полдня» — это повесть Александра Житинского «Спросите ваши души». Возможно, вам покажется небезынтересным сравнить это произведение с повестью Сергея Лукьяненко «Кредо», напечатанной в майском номере журнала «Если» за прошлый год. Смею заверить: оба писателя отталкивались от одной и той же первоначальной идеи (как она попала к ним — отдельная и довольно забавная история), тем не менее повести у них получились совершенно разные. Обе — хорошие. Но каждая — по-своему. Вот такие любопытные сюжеты подбрасывает нам порою сама жизнь.Истории, образы, фантазии
Александр Житинский Спросите ваши души
Повесть
 Андрею Черткову, натолкнувшего автора на замысел этой повести
Андрею Черткову, натолкнувшего автора на замысел этой повести
Глава 1. Как я стал Джином
Вифлеемская звезда светила в окно, трубы замерзли и холод сковал дом. В эту ночь я родился.На самом деле я родился тридцать три года назад в Лос-Анджелесе, где умер незадолго перед этим, 12 октября 1971 года, в возрасте тридцати шести лет. Мой отец был советским шпионом, а матушка — солисткой в русском балете на льду. Во время гастролей она осталась в Штатах, познакомившись с отцом. Отчасти благодаря этому отец и провалился. Это отдельная история, я ее когда-нибудь расскажу. А сейчас меня занимает совсем другое. Обычно в таких семьях рождаются неординарные дети. Но я самый обыкновенный Джин, по-русски — Женя. Америки я не помню, меня увезла оттуда матушка двух лет от роду, когда отца обменяли на американского разведчика. С родителями я давно не живу. Отец на пенсии, пишет мемуары, мама еще работает и воспитывает внуков — двух сыновей моей младшей сестры Полины, которая родилась уже в Советском Союзе.
Полтора года назад я получил новый объект — магазин «Музыкальные инструменты» на Васильевском. К этому времени я уже был опытным стрелком вневедомственной охраны, неплохо стрелял из «макарова» и поставил решительный крест на своем будущем. Охранники — это диссиденты нового времени. Они не успели попасть в закрома и торчат, как обалдуи, у закрытых дверей, охраняя собственность, которая им не принадлежит. Их молчаливый протест можно прочитать в глазах, зайдя в любой магазин или фирму, где они служат дополнением к офисной мебели и одновременно маленькой моделью горячей точки. Но никто не смотрит им в глаза. У стрелков ВОХРа есть время, чтобы все обдумать. Их сотни тысяч. Когда они до чего-то додумаются, будет поздно.
Магазин занимал три просторных полуподвальных зала и был набит машинами для извлечения звуков. Мне сразу там понравилось, где-то в дальнем зале играла волынка, покупателей было немного, свет просачивался сквозь стекла, заклеенные полупрозрачной зеленоватой пленкой, отчего помещение напоминало аквариум. Охранять это кладбище несыгранных нот было необременительно и приятно. Привел меня сюда хозяин магазина. Это был пожилой и потертый жизнью еврей, бывший второй альт филармонического оркестра. Фамилия его была Шнеерзон. Кажется, он начинал играть еще при Янсонсе. Свой первоначальный капитал, как я узнал позже, он сколотил на перепродаже компьютеров, которые привозил из зарубежных гастролей в советское время. Надо отдать ему должное — музыку он любил. Ассортимент в магазине был богатейший — вплоть до индийского ситара и непонятных трубок, извлечь из которых звук могли только специально обученные монголы. Ну и Сигма, понятное дело.
Да, ее звали Сигма. Дурацкое имя. Шнеерзон нас и познакомил. — Этот мальчик из интеллигентной семьи, — сказал он Сигме. — Я попросил его начальника дать ему постоянный пост в нашей лавке. Я знал его отца. Сигма невозмутимо кивнула. Вообще непонятно, зачем он ей это докладывал. Возрасту в ней было годков на двадцать с мышиным хвостиком, зато понтов на весь Лондонский симфонический оркестр, заехавший на гастроли в Урюпинск. Шнеерзон действительно поставил бутылку «Мартеля» моему начальнику Симагину, чтобы он не бросал меня с объекта на объект, а постоянно держал здесь. Напарником у меня был Игорь Косых, приятный такой парнишка, обучавшийся на флейте. Режим у нас был зверский — сутки через сутки, но зато и оплата двойная, посетителей немного, это очень мягко говоря — иной раз за день заходили человека 3–4, а ночью можно было спать в подсобке. С охранной сигнализацией Шнеерзон не поскупился, но все равно держал круглосуточную охрану. Понять его можно. Одни монгольские дудки стоили двадцать пять штук баксов, а раритетная скрипка Гварнери, хранившаяся в ящике из пуленепробиваемого стекла, цены вообще не имела. Шнеерзон берег ее для аукциона на черный день, но, судя по всему, черный день откладывался на неопределенное время. Кстати, фраза «Я знал его отца», оброненная Шнеерзоном, просто показывала, что они с моим папашей работали в одном ведомстве. Только папаша во внешней разведке, а мой нынешний шеф — во внутренней.
Так вот, о Сигме. Сигма была обыкновенной и единственной продавщицей в этом магазине. Нет, она была необыкновенной и единственной. Во-первых, она умела играть на всех без исключения инструментах, продаваемых магазином. Помню, шеф достал где-то по случаю за бесценок какие-то древние и необычайно ценные литавры. Он, как ребенок, прыгал по магазину и ударял этими литаврами друг об друга, производя дребезжащие звуки и распугивая покупателей. Сигма невозмутимо наблюдала за ним, потом сделала жест, обозначающий: «Дайте мне». Хозяин беспрекословно передал ей медные тарелки. Вообще, я не устаю удивляться той реальной власти, которую имеет Сигма в нашем магазине. Притом, что она даже не родственница Шнеерзона и вообще не еврейка, судя по внешности. Сигма взяла литавры своими узкими ладонями, сначала слегка дотронулась краешком одной тарелки до другой, отчего возник тончайший и нежнейший звук, похожий на натянутую серебряную проволоку, а потом вдруг резко соединила тарелки, произведя тот самый звон, который зовется малиновым. Шнеерзон утер слезу и сказал: — Си, ты гениальна. Как всегда. Купи себе мороженое. И положил перед ней на прилавок сотенную. Сигма не моргнув убрала сотенную в кошелек. Таким образом она зарабатывает нередко. Причем не только от Шнеерзона, но и от посетителей-музыкантов, знающих толк в звукоизвлечении. Чаще всего ей приходится играть на роялях, демонстрируя их звук. Шнеерзон при этом стоит, опершись на крышку, как оперный маэстро, глаза его сияют, всем своим видом он говорит: таки вы видели такие инструменты и такую игру? Когда Си спрашивают, где она училась, она пожимает плечами и загадочно улыбается. Но Шнеерзон под большим секретом и только своим (таких у него полгорода) уверяет, что у Сигмы нет никакого музыкального образования. Вообще никакого. Во-вторых, внешность ее весьма экстравагантна. Она высокая, смуглая, лицом напоминает то ли индианку, то ли филиппинку. Длинные черные волосы заплетены в десятки тонких африканских косичек-дредов. Природное изящество таково, что даже я, не слишком чувствительный к таким вещам, успеваю оценить излом руки в жесте, которым Си указывает на тот или иной инструмент: «Могу предложить это…» Бизнес Шнеерзона целиком держится на этой загадочной девушке. Хорошо, что старик это понимает. Я не знаю, сколько он платит Сигме, но думаю, что не меньше штуки. При том, что она явно нерусских корней, говорит по-русски чисто, без всякого акцента да еще с молодежным сленгом, которого неизвестно где нахваталась.
Поначалу Си (так ее зовут практически все, даже постоянные покупатели) обращала на меня внимания не больше, чем на железный стул, на котором я сидел при входе, — в камуфляжной форме с пистолетом на боку. Но все изменилось в одночасье. Однажды я зашел в небольшой зал магазина, где Шнеерзон продавал светомузыкальные эффекты. Как раз в тот момент Сигма показывала там действие установки каким-то парням из ночного клуба. Мигали стробоскопы, грохотала музыка, а Сигма извивалась в центре зала в длинной юбке. Она еще и танцует, как богиня. Внезапно она остановилась и уставилась на меня в синих вспышках фонарей. Глаза меня поразили: черные, глубокие, страшные. — Ты… что? — прошептал я, но слов все равно слышно не было. Она разом вырубила музыку и включила обычный свет. — Как тебя зовут? — тихо спросила Си. — Женя. Евгений… — я растерялся, я ведь работал уже две недели, могла бы и запомнить. — Клево… Джин! Ты Джин, — объявила она, глаза ее вспыхнули, она снова включила стробоскоп и завертелась в танце. Какой на фиг Джин! Я разозлился, но Си более не обращала на меня внимания.
Однако через несколько дней явился ее друг Костик, молодой человек в очках, типичный школьный отличник. Я его пару раз видел до того, он приходил к Сигме, и она играла для него на тубе, а в другой раз на электрогитаре с двумя грифами. При этом они очень смеялись. Дело было перед самым закрытием магазина, никого из покупателей не было, правда, причину столь бурного веселья я не понял. На этот раз Костик подсел ко мне, подтащив вращающуюся табуретку от рояля к моему стулу и, не переставая крутиться туда-сюда, повел со мною разговор. Этим вращением он меня раздражал. — Евгений, вы ведь в Америке родились? — спросил он. — Откуда вы знаете? — Я справлялся у Шнеерзона. — Зачем тогда спрашивать? — пожал я плечами. — Это имеет какое-то значение? — Все имеет значение. И место, и время… — он оттолкнулся ногой от пола и сделал полный оборот на своей табуретке. — Да перестаньте маячить! — не выдержал я. Он резко остановил вращение. Сигма в это время за прилавком как ни в чем не бывало наигрывала на блок-флейте «Ах, мой милый Августин». — Я хочу предложить вам испытание, — сказал Константин. — Какое еще испытание? — Мне это начинало уже не нравиться. — К сожалению, я не могу пока сказать. Потом вам будет разъяснено. Вы должны быть спокойны, ничего страшного или опасного для вас не произойдет. Нечто вроде сеанса гипноза. Но это не гипноз. Исключительно в интересах науки. — Где и когда? — спросил я. — Здесь, после закрытия магазина, — он указал на помещение со светомузыкой. — О’кей, — пожал я плечами.
К закрытию магазина неожиданно подошел директор соседнего с нами издательства Станислав Сергеевич. Издательство у него небольшое, типография еще меньше. Но все же работают человек пятнадцать: редакторы, печатницы, переплетчицы — в основном женщины среднего возраста. Мы довольно часто слышим из их окон хоровое пение, когда они празднуют дни рождения, государственные или престольные праздники, а также получку. Практически недели не обходится без пения русских романсов и блатных песен. Издательство, кстати, издает эзотерическую литературу. Директору, как я понял, по фигу, что издавать, но его жена тяготеет к йоге, нейролингвистическому программированию, читает Шри Ауэробиндо и тому подобную чушь. Но дело не в этом. Однажды под Новый год, когда пение эзотериков достигло особой силы одушевления, Сигма посоветовала Шнеерзону: — Вы бы, Моисей Львович, подарили им караоке, что ли? Слушать же абсолютно в лом. — Ага, как же. Подарили… — пробормотал Шнеерзон. Не знаю, как там дальше развивались события, но директор издательства именно тем вечером, когда меня готовили к испытанию, пришел покупать караоке своим сотрудницам к Женскому дню, который уже близился. Значит, Шнеерзон сумел-таки ему втюхать эту прекрасную машину с двумя тысячами русских песен. Шнеерзон закрыл магазин, и два директора прошли в зал светомузыки, где стояло это чудо. Мы потянулись туда же, предвкушая зрелище небывалого масштаба. — Ну-с, с чего начнем? — спросил Шнеерзон, включая аппарат. — Давайте с нашего, русского, Моисей Львович, — проникновенно произнес эзотерик. — Как скажете! — Шнеерзон что-то покрутил, полилась музыка, на экране возникли слова:
Вот кто-то с горочки спустился.
Наверно, милый мой идет.
На нем защитна гимнастерка,
Она с ума меня сведет…
На нем погоны золотые
И яркий орден на груди.
Зачем, зачем же повстречался
Ты мне на жизненном пути!
Ах, Семеновна, баба русская!..
Мы вернулись в магазин и приступили к испытанию, как назвал это Костик. Шнеерзон не ушел. Как оказалось, он был полностью в курсе дела. Но вдруг снова явился директор издательства с бутылкой коньяка. — Это дело надо обмыть! — сказал он. Шнеерзон тут же организовал столик в зале светомузыки. Столик он соорудил из электрического пианино стоимостью две тысячи баксов, правда, накрыл его газетой. И директора уселись в сторонке, потягивая коньяк и наблюдая за испытанием. Костик расположил меня в центре зала лицом ко входу. Свет погасил. Сигмы пока не было. Мерцал пульт светомузыки. В руках у Костика оказалась тонкая указка длиною в полметра. На самом кончике указки светилось красное пятнышко. Заиграла музыка непонятного происхождения. Типа той, что заунывно играет перед концертами «Аквариума» под аккомпанемент переливающихся друг в друга красок. — Расслабься… — шепнул Костик. Вдруг в зал вошла Си, сделала два шага ко мне и остановилась в метре. Она смотрела мне прямо в глаза. Я почувствовал какой-то странный восторг, смешанный с почти мистическим ужасом, — настолько страшными и неземными были ее глаза. Черные расширенные значки и радужная переливающаяся оболочка вокруг них — тонкий кружок, как протуберанцы на Солнце во время затмения. Да, забыл сказать: Си была абсолютно голая, не считая черного треугольничка, прикрывавшего лобок. Я успел заметить, как у директора Станислава Сергеевича медленно отвисает нижняя челюсть и коньяк тонкой струйкой выливается из наклоненной рюмки. А дальше я уже себе не принадлежал, хотя был в полном сознании и памяти.
 Костик, стоявший чуть сбоку и позади Сигмы, направил на меня указку. Из ее конца мне в грудь уперся тончайший красный лучик и принялся медленно сканировать вправо-влево, как бы ища нужную точку.
— Правее, — шепнула Сигма, не отрывая глаз от меня. — Стоп!
Лучик остановился, и в то же мгновенье я испытал… Но что же я испытал? Одним словом не скажешь. Счастье? Одухотворение? Любовь?
Все не то.
Благодарность!
Вот это ближе всего. Благодарность непонятно к кому и непонятно за что.
— Кто ты? — спросила Си. — Расскажи о себе.
Я послушно открыл рот и, ни чуточки не удивляясь происходящему, стал говорить следующий текст на английском языке:
— My name’s Gene Vincente. Well, actually really my name was Vincente Eugene Craddock, but when I started playing music I chose another name for myself. Right now, yeah, I’m as good as I used to be a couple of years ago, but still some guys come to listen to me. Well I’m not so hot as Elvis, you know… But anyway, everybody is nothing more than just himself, isn’t it?[1]
Ну, в школе я английский учил, как и все. Но не настолько знал его, чтобы с ходу выдать такой монолог. Да и не в английском дело, а в той странной, мягко говоря, информации, которую я тут озвучивал.
— Ты можешь спеть что-нибудь? — вкрадчиво проговорила Сигма, блеснув глазами.
— Yeah, that’s OK. This song made me a star in two weeks. I made it in the hospital when I was supposed to be a fucking Marine, and I was trying not to be…[2]
И я запел:
Костик, стоявший чуть сбоку и позади Сигмы, направил на меня указку. Из ее конца мне в грудь уперся тончайший красный лучик и принялся медленно сканировать вправо-влево, как бы ища нужную точку.
— Правее, — шепнула Сигма, не отрывая глаз от меня. — Стоп!
Лучик остановился, и в то же мгновенье я испытал… Но что же я испытал? Одним словом не скажешь. Счастье? Одухотворение? Любовь?
Все не то.
Благодарность!
Вот это ближе всего. Благодарность непонятно к кому и непонятно за что.
— Кто ты? — спросила Си. — Расскажи о себе.
Я послушно открыл рот и, ни чуточки не удивляясь происходящему, стал говорить следующий текст на английском языке:
— My name’s Gene Vincente. Well, actually really my name was Vincente Eugene Craddock, but when I started playing music I chose another name for myself. Right now, yeah, I’m as good as I used to be a couple of years ago, but still some guys come to listen to me. Well I’m not so hot as Elvis, you know… But anyway, everybody is nothing more than just himself, isn’t it?[1]
Ну, в школе я английский учил, как и все. Но не настолько знал его, чтобы с ходу выдать такой монолог. Да и не в английском дело, а в той странной, мягко говоря, информации, которую я тут озвучивал.
— Ты можешь спеть что-нибудь? — вкрадчиво проговорила Сигма, блеснув глазами.
— Yeah, that’s OK. This song made me a star in two weeks. I made it in the hospital when I was supposed to be a fucking Marine, and I was trying not to be…[2]
И я запел:
Well Be Bop A Lula she’s my baby
Be Bop A Lula I don’t mean maybe
Be Bop A Lula she’s my baby
Be Bop A Lula I don’t mean maybe
Be Bop A Lula she’s my baby doll,
my baby doll,
my baby doll…
Первым опомнился Станислав Сергеевич. Он влил в себя рюмку коньяка, покрутил головой, легонько похлопал себя ладонями по щекам и сказал: — Весело тут у вас!.. Ну, я пошел. Спасибо. И вышел на цыпочках. Шнеерзон прощально взмахнул ему вслед рюмкой и тоже выпил. — Пошли поговорим, — сказал мне Костик. — Куда? — Пива попьем, у тебя же смена кончилась. Действительно, мой сменщик Игорь Косых уже был тут. Он явился, как раз когда я допевал свой хит и так и остался стоять в дверях с озадаченно-идиотским выражением на лице. — Пошли, — сказал я. Я думал, что Сигма тоже пойдет с нами, но в соседний с магазином бар «Инкол» пошли мы вдвоем. Взяли по пиву, уселись за столик в углу, и Костик сказал: — Ну? Ты понял? — Что тут понимать? Гипноз, — сказал я. — И твой английский — гипноз? — Ну да. Я читал. Можно внушить хоть арабский. — Кстати, ты знаешь, кто такой Джин Винсент? — вдруг спросил он. — Без понятия. А что, есть такой чувак? — Был, — сказал Костик. — Он умер в Лос-Анджелесе 12 октября 1971 года. А ты когда родился? — 21 октября 1971 года. — Через девять дней, иными словами. И тоже в Лос-Анджелесе. Связи не улавливаешь? — Ага, как же. Улавливаю. А еще в Лос-Анджелесе отравилась Мэрилин Монро. Но несколько раньше. И что? — Ну, куда делась ее душа, нам еще предстоит выяснить, — совершенно серьезно сказал Костик, — а вот то, что душа рок-музыканта Джина Винсента на девятый день после его смерти переселилась в новорожденное тельце Женечки Граевского, — тут он ткнул в меня пальцем, — это, считай, уже доказанный факт. Ты — очередная инкарнация этой души. — Ты серьезно? Костик, ты учти, я в эту мутотень эзотерическую не верю ни на грош. Я вообще материалист. — Это твое личное дело, Джин, — сказал Костик и чокнулся со мною кружкой пива.
Короче говоря, просидели мы так с ним часа три и выпили по два литра пива. Костик рассказывал мне о феномене Сигмы, а я слушал, не зная верить этому или нет. Должно быть, он рассказывал не все. А я не всему верил. В результате в меня улеглась такая примерно информация. Сигма обладает паранормальными способностями (допустим!), и самая главная из них та, что она способна при определенных условиях видеть прошлые инкарнации человеческой души. То есть христианство побоку, работаем в сфере индийской философии и религии. Души никуда не деваются, не возносятся на небеса, а вечно обитают тут, переходя от человека к человеку, а иногда к зверю или растению и одушевляя их. В самой популярной форме это изложено в песне Высоцкого о том, «что мы, отдав коньки, не умираем насовсем». Ну, тоже допустим, хотя с огромным скрипом. По словам Костика, они с Сигмой учились в одном классе. Потом Костик пошел на биофизику в Университет, а Сигма никуда не поступила, поболталась в нескольких фирмах и вот осела у Шнеерзона. — Ну, и как выяснились эти… ее способности? — спросил я. — Еще в школе мы что-то такое странное в ней замечали. Часто угадывала разные вещи. Если придумывала прозвища, то они прилипали намертво. Одного парня прозвала Хорек, он так и остался Хорьком, хотя фамилия у него была Гусев. Си потом рассказывала, что душа этого Гусева раньше жила в хорьке. — Ну, положим, это все простое гонево, — сказал я. — Возможно. Но вот слушай про меня… — продолжал он. Это произошло около года назад, в магазине Шнеерзона. Костик монтировал там очередную световую гирлянду (он вообще во всякую электронику на раз врубается). Опять что-то мигало, переливалось, а Си от нечего делать принимала всякие позы. Потом вдруг внимательно посмотрела на Костю и говорит: — Ты кто? — Кот, — ответил он как-то механически. — Правильно, — кивнула она. — Рыжий кот с черными полосками. А как тебя зовут? И он почему-то сказал: «Шалопай». — …Ты понимаешь, это само собой выскочило, я даже успел подумать, что это за глупые шутки у меня сегодня, а она рассмеялась и сказала, что в прошлой жизни я был рыжим котом Шалопаем. Ну вот так пошутили — и хватит… — возбужденно продолжал Костик. А дальше было вот что. Где-то через месяц в семье Костика было торжество — юбилей дедушки, семьдесят пять лет ему исполнилось. И вся Костикова семья поехала в гости к этому дедушке на квартиру, где раньше они все вместе жили, двадцать лет назад, и где, собственно, и родился Костик. Уже через год после его рождения его родители получили свою квартиру и уехали оттуда. И вот за праздничным столом и за воспоминаниями о тех немыслимо далеких временах, о которых Костик, конечно, не помнил, его мама вдруг вздохнула: — А вот в этом кресле любил спать Шалопай… Костика как током ударило. Но он попытался не подать виду. — А кто это — Шалопай? — Кот у нас такой был, — сказал дед. — Ты его не видел. Он был старый, как я сейчас, и умер аккурат перед твоим рождением. — Рыжий? С черными полосками? — спросил Костик. — Ну да. На тигра смахивал. А ты откуда знаешь? — удивилась мама. — Я тогда так ревела, что чуть выкидыш не сделался…
Выходило, что душа Шалопая, притаившись где-то, ждала появления Костика целый месяц (он потом проверял даты), а потом, так сказать, впрыгнула в младенца. А почему какая-нибудь другая душа не сделала этого, пока Костик был в роддоме? Нет, слишком все это было похоже на бред, на очередную эзотерическую лабуду. — Ты не думай, до кота я был человеком, — сказал Костик хмуро. — Токарем первого разряда Филимоновым Аркадием Палычем. Он мне даже не родственник, ни хера о нем не знаю. Ну анекдот ведь! Токарь Филимонов — кот Шалопай — Костик Завьялов, биофизик и юзер Интернета. Неплохая эволюция Божественной души!
Я выслушал все эти байки бывшего кота с любопытством, но не более. Попутно Костик сообщил, кто еще проходил проверку на реинкарнацию. Предыдущей инкарнацией души Шнеерзона, родившегося в 1937 году, был один политзаключенный из Казахстана, сидевший в лагере вместе с отцом Шнеерзона (семья Шнеерзона в это время была там в ссылке). Все выглядело так, будто отец эту душу своего друга и послал маленькому Шнеерзону, сам же умер в лагере через несколько лет. Внучки Шнеерзона, которых неугомонный Моисей Львович приволок на исследование к Сигме, имели совершенно различные происхождения душ. Одна раньше жила в кактусе на подоконнике в квартире Шнеерзона, а другая прилетела откуда-то издалека, потому что раньше принадлежала татарскому сапожнику Фазилю, жителю Петербурга. Шнеерзон, страшно огорченный этими открывшимися данными, особенно мусульманином Фазилем, а не кактусом, что странно, максимально их засекретил и вообще объявил, что погрешность исследований Сигмы может быть очень велика. Собственно, на этом аттракционы и прекратились. Один Костик как биофизик продолжал работать с Сигмой, в частности, соорудил эту лазерную указку, помогавшую, по словам Костика, забраться поглубже во времени. У Костика обнаружились такие душевные предки, как купец Степан Киреев, индийская девушка Зари, индийский же слон и какой-то каменщик — строитель Тадж-Махала. Видимо, душа Костика медленно, но неуклонно мигрировала из Индии в Россию. И никакой закономерности. Слон, кот и индийская девушка в одном душевном роду — это как-то более чем странно. Пока я был самым знаменитым из испытуемых. Точнее, не я, а предыдущая инкарнация моей души. Сигма, кстати, как любитель музыки узнала Джина Винсента, когда он ей привиделся в свете мерцающих стробоскопов. Однако это открытие никак не отразилось на моей службе. Меня не повысили, и я по-прежнему через день торчал в магазине с пистолетом на боку. Впрочем, прочитал статью о Джине Винсенте и переписал на кассету его основные хиты. Как-никак, я теперь чувствовал с ним духовное родство. Костик же воодушевился и предлагал продолжать опыты втайне от Шнеерзона по вечерам. — Зачем? — спросил я. — Джин, мне обидно, что ты так туп. Впрочем, тяжелое американское наследство… Я хочу ухватить ее за хвост. — Кого? — Душу. Она считалась субстанцией нематериальной. А вот мы ее поймаем. А это, Джин, Нобелевская премия как минимум. Скорее всего, это квант неизвестной нам энергии. И то, что Си умеет этот квант видеть, вернее, как-то на него реагировать, — это большая удача для нас. — Для тебя, — сказала Си. — Си, не пройдет и года, как ты станешь мировой звездой, — сказал Костик. — Мне это надо? — сказала она.
Глава 2. На ловца бежит зверь
Шнеерзон допустил явную ошибку, когда, соблазненный коньяком, пригласил на испытания директора эзотерического издательства. Хотел похвастать, наверное. Вот, мол, какие у нас кадры! Станислав Сергеевич (кстати, в прошлом известный поэт на рабочую тему) расписал в своей фирме эксперимент в красках, в результате чего они тут же решили делать книжку про Сигму, реинкарнацях, свойствах души и прочую ботву. Другими словами, лепить из нашей милой Си образ Джуны Давиташвили или еще круче. И даже редактора назначили — Ингу Семеновну, которая первой и явилась к Сигме. Си в тот день была в дурном настроении. Обычно это у нее выражалось в том, что она играла на медных духовых. На этот раз она выбрала сакс-баритон и разгуливала по салону, выдувая из этого прибора классическую вещь «Маленький цветок». Эта композиция создана для сакса-тенора, на баритоне она звучит грубо, к тому же Си сознательно утрировала какие-то пассажи, так что получалась по существу злобная пародия на лирическую композицию. И тут явилась Инга Семеновна — дама лет сорока с копейками, у которой поверх черного свитера болтался увесистый православный крест. — Могу я видеть Сигму Луриевну? — спросила она у меня. Я чуть со стула не упал, услышав впервые отчество Сигмы. — Кого-о? — не слишком вежливо переспросил я. Редакторша заглянула в бумажку. — Сигму Луриевну Моноблок, — прочитала она. Я ухватился за стул обеими руками и показал подбородком на Сигму: — Вот она. При этом в голове у меня молнией проскочило короткое матерное слово. Редакторша подошла к Сигме, представилась и начала издалека подводить разговор к нужной теме. Что вот, мол, они ищут новые идеи, новых авторов и героев, их интересуют таинственные природные явления и не согласится ли Сигма Луриевна написать брошюрку о своем чудесном даре. А ей помогут. И литератор есть, и редактор… Сигма, опустив сакс, молча слушала. Потом изрекла всего одну фразу: — Да идите вы в жопу. И продолжала играть «Маленький цветок». Не стоит и говорить, что редакторшу с крестом на свитере будто ветром сдуло. Пока повергнутая в ужас редакторша рассказывала своим коллегам о приеме, который ей оказала Сигма Луриевна, я расскажу о происхождении столь экстравагантного имени нашей продавщицы. Об этом я узнал много позже, но поскольку образовалась пауза, тут будет к месту. Итак Сигма Луриевна Моноблок была без роду-племени, она была подкидышем. Ее нашли в возрасте примерно шести недель, завернутую в одеяльце с кружевной салфеточкой, на задворках родильного дома, где стоял флигель, используемый для хозяйственных нужд. Прямо на ступеньках флигеля она и лежала. Выхаживала ее врач Анна Яковлевна Лурие — и выходила всем на удивление. А в регистратуре этого роддома сидел один образованный придурок (его имени история не сохранила), в обязанности которого входило регистрировать подкидышей и давать им имена и фамилии. Придурок этот имел склонность к Древней Греции и вообще был клинический идиот. Ему нравилось давать подкидышам имена в виде букв греческого алфавита. Альфа, Бета, Гамма, Омикрон, Эпсилон. Хватало и на девочек, и на мальчиков. Так Сигма стала Сигмой, отчество, естественно, получила по фамилии выходившего ее врача Анны Яковлевны Лурие, а фамилию этот любитель словесности записал Моноблок, потому что тот флигель, на ступеньках которого нашли Сигму, в роддоме называли почему-то моноблоком. Когда ему говорили, что это как-то уж слишком кучеряво получается, он надменно возражал: — Почему фамилия Блок есть, а Моноблок — нет? А Блок, между прочем, был великим поэтом! Ну, против этого не попрешь, понятное дело. Но на этом приключения Сигмы со своим именем не кончились. Естественно, она попала в детский дом с этой придурковатой фамилией, а в три года ее удочерила чета супругов Дерюжкиных, которая переименовала Сигму в Эсмеральду. И она стала Эсмеральдой Васильевной Дерюжкиной, что, согласимся, звучит значительно роскошнее. Однако, жизнь Сигмы-Эсмеральды в семье Дерюжкиных как-то не складывалась, приемные родители лепили один образ, а Господь Бог имел в виду совсем другой. В результате Сигма, когда получала паспорт, приняла прежнюю, детдомовскую фамилию, а из дома Дерюжкиных ушла. Ко всеобщему облегчению. Можно было, конечно, при получении паспорта вообще все поменять и назваться хоть Афродитой Брониславовной Цеханович-Найман, но Сигма от природы была девушкой концептуальной, потому и осталась просто Сигмой Моноблок, а недовольных этим посылала туда, куда только что отправилась эзотерическая редакторша Инга. То есть в издательство. Из которого вскоре, пока вы слушали эту историю, прибежал сам рабочий поэт Станислав Сергеевич и начал уговаривать Сигму, суля ей славу и гонорары. Сигма его в зад не посылала, но продолжала нагло наигрывать «Маленький цветок» с интонациями, полными сарказма. Это был готовый цирковой номер. Станислав Савельевич, ужасно удрученный, ушел ни с чем, впрочем, пообещал разработать новые предложения. — Си, а вправду, что ты со всем этим собираешься делать? — спросил я, когда мы остались одни. — С чем? — Она отложила наконец саксофон и подошла ко мне. — Со своими тараканами. — Ха! Тараканами… Это глюки, пока только глюки. Доберемся до сути, тогда посмотрим. А сейчас рано. Души нельзя пугать, понимаешь? Это же тебе не хомячки. Посадил в клетку и наблюдаешь. Сравнение моей души с хомячком мне понравилось, и Си предложила мне снова вечером попробовать сеанс. Без Костика. Я согласился. Мне было любопытно. Вечером мы закрыли магазин и остались вдвоем. Эта ночная смена была моя. Я зашел в зал светомузыки и погасил там свет. Почему-то я волновался больше, чем в первый раз. Как вдруг по стенам заиграли разноцветные неяркие сполохи, зазвучала музыка, и в зал вступила Си — абсолютно голая, как и тогда, даже подобия трусиков на ней не было. Она подошла ко мне совсем близко, и я опять увидел ее бездонные черные зрачки. Я непроизвольно протянул руки к ней и обнял за талию. Она подалась ко мне и мы поцеловались. — Gene, what’s your girl’s name? — спросила она. — Betty, — прошептал я. — Does she looks like me? — Yeah, she’s exactly like you. — Sing me, Gene. Sing me our favourite.[3]И я снова запел «Лулу-боп-лулу». И мы с Сигмой стали танцевать в этой полутемной, играющей огнями комнате. Очень медленно. Си немного отодвинулась от меня и разглядывала мое лицо. — Вижу рыцаря на коне. Он со свитой. Ты был богат, а вот и твой замок… Это Франция… Нет, Шотландия. Твоя душа жила в Шотландии, и звали тебя… — медленно и загадочно шептала она… — сэр Пол Маккартни! — внезапно громко закончила Сигма и расхохоталась. — Поверил, да? Поверил? — Да ну тебя! — я был обижен. — Ой, прости, я неодета, — кокетливо произнесла Си и удалилась, чтобы вернуться через минуту в своем нормально одеянии — свитере и джинсах. Я по-прежнему дулся, сидел, отвернувшись. — Ну, прости, — она подошла сзади и принялась ерошить мне волосы. — Видишь, как просто дурить народ? А я хочу по-настоящему. — Так ведь пел я по-настоящему! Я Джин или не Джин?? — закричал я. — Здесь без обмана. Чисто. Ты Джин Винсент, основатель рокабилли. А рыцаря я не видела, потому что видела тебя и мне тебя хотелось… Когда хочется, у меня не получается. Прости. Проехали. — Ты предупреждай в следующий раз. А то я, понимаешь, готовлюсь увидеть себя в прошлом, а оказывается, нужно тебя трахать… — нарочито грубо сказал я. — Ну, до трахать тебе еще далеко, — заметила она деловито и повторила: — Проехали. Прихоть королевы бензоколонки. Во всяком случае, этот эпизод поднял ей настроение, чего не скажешь обо мне. Чтобы больше не возвращаться к этой теме, сразу скажу, что некая иллюзия личной жизни у меня имелась. При работе сутки через сутки это может быть только иллюзией. В качестве иллюзий выступали две девушки: одну я любил больше, но она приходила ко мне домой реже. Вторую я любил меньше, но приходил сам к ней чаще. У нее была отдельная квартира, а у меня всего лишь комната в коммуналке, полученная в результате размена родительской квартиры. Ни с той, ни с другой я не строил матримониальных планов. Один кратковременный и ужасный опыт в этом роде я произвел в двадцать два года, и пока мне его вполне хватало. Но этот поцелуй и танец сблизили нас, мы стали доверять друг другу. Я понял, что Си имеет насчет себя планы, и большие, но не хочет размениваться на пустяки вроде эзотерических брошюрок и шарлатанских объявлений в бесплатных газетах. Такие же планы имел Костик в виде Нобелевской премии. Он строил прибор, умеющий видеть души и их местоположение. Он его уже даже назвал: спироскоп. Правда, прибор пока ничего не видел. Я заметил, что Си, работая с покупателями, обязательно показывает им зал светомузыки в действии, и догадался, что там она проверяет покупателей на происхождение души. — Ну, никто интересный не попался? — как-то спросил я, когда она выводила оттуда очередную группу дискотечников. — Догадливый… — улыбнулась она. — Кандидаты наук, подполковники, есть один волнистый попугайчик. — Это который? — Вон тот, — указала она глазами на удаляющегося молодого человека, одетого ярче остальных, с цветным шарфом в полоску. А вот то, что Си употребляет перед этим марихуану, я догадался не сразу. Она курила ее в подсобке (собственно, странный запах, исходящий оттуда, и навел меня на эти мысли). — А иначе ничего не получится, — сказала она, когда я спросил ее прямо, зачем она это делает. Впрочем, интерес к опытам Сигмы постепенно нарастал и без наших усилий. Эзотерическое издательство продолжало обсуждать феномен, слухи распространялись между авторами и читателями, а поскольку процент неадекватных личностей среди этой публики достаточно велик, то неудивительно, что вскоре стали поступать заказы. Шнеерзон устроил совещание. Он вызвал Сигму, Костика и меня и выложил перед нами несколько заявлений. — Мне пишут! Вот! — он схватил листок. — «Пожалуйста, помогите определить, кем я был раньше. Моя мама считает, что каторжником. Вова Егоров». А? — он бросил взгляд на Сигму. — Доигрались! Все это я, старый дурак! Не пресек вовремя. Что будем делать? — Интересно же людям… Чего такого? — спросил Костик. — А вы подумали о лицензии на такого рода деятельность? О налогах? Да меня в бараний рог скрутят, если я при музыкальном магазине открою частную практику черной магии!! — кричал Шнеерзон. — И заработок упускать не хочется… — уже жалобно добавил он. — Это ведь могли бы быть такие деньги… После короткого мозгового штурма постановили следующее: 1. Вывесить расписание индивидуальной демонстрации светомузыки и таксу. Сеанс — 5 минут, количество сеансов в день — не больше шести. 2. Стоимость сеанса — 1000 руб. — Не много ли? — засомневался Костик. — Котя, вот увидишь, что вскоре это будет стоить сто баксов, — ласково произнес Шнеерзон. — Я знаю людей. С Сигмой шеф поделился по-братски: фифти-фифти, а нам обещал премии. Мы с Костиком единственные из персонала допускались на сеансы с подпиской о неразглашении результатов. Я должен был обеспечивать безопасность Си, а Костик испытывать и настраивать аппаратуру. — Си, только я тебя умоляю: работай одетой. Не хватало мне статьи за порнографию! — взмолился Шнеерзон. — Да вы знаете, что такое порнография?! — заорала Си. — Порнография, бля! Это легкая эротика! — Ну все равно, — испуганно замахал руками хозяин. Порешили, что Си будет выступать в легком трико типа гимнастического.
Через неделю запись на сеансы «черной магии» перевалила за сотню человек. Си работала каждый день перед закрытием магазина, давая по 6 сеансов — больше она не могла. Пять минут на сеанс, пять минут отдыха. И вот как это выглядело. В полутемном зале клиента сажали на высокий стул лицом ко входу. У стен по бокам, почти невидимые, располагались мы с Костиком. Костик включал светомузыку и в дверях, освещенная прямым лучом синего прожектора, появлялась Си. Она подходила к клиенту, делала несколько пассов и начинала задавать ему вопросы. Первый был — как его зовут, а дальше вопросы могли варьироваться. Нашей с Костиком задачей было хранить суровое молчание, что, замечу, было непросто, потому что, когда на вопрос «Как тебя зовут?» пожилая женщина отвечает «Туся», а на следующий «Кто ты?» заявляет, что она черная такса, то тут трудно сохранить самообладание. Впрочем, такие экскурсы душ в мир фауны и флоры были сравнительно редки. Чаще предки испытуемых оказывались вполне добропорядочными Сидоровым Карпом Игнатьевичем, или Майсурадзе Тенгизом, или Майей Точинской, потом рассказывали, что живут они в Питере, Омске или Кутаиси, сколько им лет, а в конце говорили, когда они умерли. Вот в этом месте было немного не по себе. — Меня экипаж переехал, да-да, параконный, как сейчас помню, я за мячиком побежал… Мамаша недоглядела за ребенком, — рассказывал довольно древний старик, девятнадцатого года рождения. Естественно, сеансы эти никак не протоколировались. Клиенты прекрасно помнили, что они о себе наговорили, так что, в случае чего, могли предъявлять претензии только себе. И все равно некоторые уходили обиженными, когда выясняли, что в прошлой жизни они были кроликом или луком репчатым. А одна красивая и молодая барышня, узнав, что ее бессмертная душа обитала в бабочке-моли в гардеробе на Большой Зеленина, расплакалась и убежала, не дожидаясь конца сеанса. Там ее и прихлопнули, на Большой Зеленина, двадцать три года назад. Ей бы радоваться, что ее душа обрела наконец такую совершенную и, прямо скажем, сексуальную форму, значительно более эффектную, чем какая-то моль, а она плачет! И вся эта рутинная, однако, приносящая барыши работа, продолжалась месяца два, пока не произошло следующее. На сеанс записалась тетка лет пятидесяти, брюнетка, кудрявая, с толстыми губами, по виду несколько скандальная, нервная. По профессии преподаватель черчения в каком-то колледже. Сразу было видно, что у нее проблемы в личной жизни. И заключаются эти проблемы в том, что личной жизни нет. Она терпеливо дождалась очереди, правда, заходила пару раз справляться, все ли идет по плану, и несколько волновалась. — Я от этой процедуры многого жду, — ни с того ни с сего интимно призналась она мне. Я же не видел в этой процедуре ни малейшего интереса. И сильно ошибся, как вскоре выяснилось. Когда настала ее очередь, тетка явилась накрашенная и завитая, при параде, ее усадили на стул (к этому времени мы уже знали, что зовут ее Калерия Павловна), вошла Си, стандартно настроилась, ввела клиентку в паранормальное состояние и проворковала: — Я хотела бы знать, кто вы? Как вас зовут? И тут Калерия Павловна бухнула: — Иосиф Виссарионович Джугашвили. Да, именно так она и сказала, ядрёнбатон. Си поперхнулась. Я даже понял, каким словом она поперхнулась. Его шепотом выговорил Костик, так что я услышал. Последовала пауза. Ну, не спрашивать же ее или его, где он живет, кем работает и когда умер? Что вообще можно спросить в такой ситуации? Си набрала побольше воздуха и спросила, глядя тетке Сталин в глаза: — Жалеете о содеянном? — О чем мне жалеть? — раздумчиво, с небольшим акцентом начала Калерия Павловна. Ей очень не хватало трубки в руках. — Ми знали, на что идем. И ми своего добились. А какой ценой — об этом пусть судят потомки. — Да уже осудили, будьте уверены, — сказала Сигма. — Ви думаете? — спокойно сказала тетка Сталин. — Расскажите, кто Кирова убил? — вдруг спросила Сигма. — Николаев его убил. Слушай, зачем детские вопросы задаешь? Об этом в «Истории ВКП(б)» четко написано, — сказала Калерия Павловна недовольно. Сигма явно растерялась, да и мы тоже. Она взглянула на часы и сказала: — Спасибо. К сожалению, наш сеанс окончен. И выскочила из зала. Калерия Павловна подобрала свою сумку и проследовала к выходу. Значительности в ней стало на порядок больше. А может, нам так показалось.
Когда мы вышли в магазин, Калерия Павловна как ни в чем не бывало расплачивалась со Шнеерзоном. Он ей выбил чек в кассе на тысячу рублей, и тетка Сталин удалилась, весьма довольная. — Я как-нибудь к вам зайду, — пообещала она. — Заходите, всегда вам рады, — улыбался вслед Шнеерзон. Как только за теткой Сталиным закрылась дверь, Костик подошел к Шнеерзону. — А вы знаете, кем она была в прошлой жизни? — небрежно спросил он. — Наверное, акулой. Есть в ней что-то хищное, — улыбнулся Шнеерзон. — Вы почти угадали. Она была Сталиным. — Кем? — Шнеерзон побледнел. — Иосифом Виссарионовичем. — Где Си?! — взвизгнул Шнеерзон и кинулся в подсобку, а мы побежали на склад. Си нигде не было. И тогда я, нарушая инструкцию, запрещавшую мне покидать пост, побежал в «Инкол». Си сидела за столиком и курила. Перед нею стоял почти допитый графинчик водки и рюмка. Он подняла на меня глаза. — Вот так, Джин. Доигралась… — Да что ты… Ну, подумаешь… — неуверенно сказал я. Я подсел к ней и обнял за плечи, а она положила голову на мое плечо и заплакала. — Бля, что же я наделала… — шептала она.
Глава 3. Мачик
Вот что было странно: мы все чувствовали, что произошло нечто непредсказуемое и опасное, но на самом деле — почему нам так казалось? Что особенного произошло? Ну, жила эта тетка Калерия Павловна целых пятьдесят лет с душой тирана, если Си не ошиблась, к слову сказать, или тетка не сумасшедшая. А вдруг чары Сигмы на нее не действуют, а паранойя налицо? — Да?! — возмутилась Сигма, когда я высказал такое предположение. — Это вы с Костиком только слышали ее ответы, а я же его видела! Усатого, во френче! С трубкой! Видела своими глазами! Было ощущение гигантского государственного недосмотра. Как же так: умер вождь и тиран, его положили в Мавзолей, потом оттуда вытащили, цацкались с ним — то возносили на щит, то низвергали, кучу бумаги извели… А в это время его душа спокойненько отсиживалась у какой-то неизвестной никому тетки, учительницы черчения? С одной стороны это доказывало полнейшую свободу души, как оно и должно быть. А с другой — оставалось какое-то чувство несправедливости. Как же так? За что боролись, так сказать? Получалась какая-то совершенно излишняя демократия в распределении душ. — А если бы он в вошь переселился? — высказал мечтательное предположение Костик. — Мог? — Выходит, что мог, — подтвердил я. — Так зависит от этой души что-нибудь или нет?! — вскричала Си. — Сталин-вошь! Это тогда должна быть какая-то чудовищная, совершенно выдающаяся вошь! — Не обязательно, — сказал Костик. — Только в сочетании с конкретной оболочкой. Возьми воду. Налей ее в клизму. И возьми Тихий океан. И там и там — вода… — Душа была неопознана. А теперь она опознана — вот в чем дело. И это может выйти нам боком., — сказал я. Между прочим, Шнеерзон тоже так считал. Он перепугался по самое не могу. С минуты на минуту ждал ФСБ. Сеансы демонстрации светомузыки прекратил. Вообще, непонятно с чего возникла вдруг нервозная обстановка. Все было бы ничего, если бы Калерия Павловна Джугашвили оказалась умной женщиной. Хотя бы как ее душевный предок. Но она не преминула объявить о своем духовном отце коллегам, те, естественно, сочли ее сумасшедшей, она сослалась на Сигму и… машина завертелась! К этому времени Сигма обследовала уже примерно две сотни клиентов, желающих узнать происхождение своей души. Так что свидетелей было навалом. А желающих высказаться по этому поводу в прессе еще больше. Уже через день примчалась корреспондентка «Московского комсомольца». — Где тут у вас Сталина прячут? — неудачно пошутила она, на что Сигма рявкнула: — Заткни хавало, сучка! Не лучшее начало интервью. Фраза, конечно же, попала в газету, где Сигма была обрисована мало того, что шарлатанкой, но и первостатейной хамкой. Шнеерзон кое-как смягчал ситуацию, говорил об экспериментах, ди-джеях, молодежных приколах — короче, нес несусветную чушь, лишь бы выгородить Сигму, то есть себя, конечно, в первую очередь. Еще через день в «Секретных материалах» вышел разворот с портретом этой дуры Калерии Павловны и аршинным заголовком: «ОНА БЫЛА СТАЛИНЫМ!» А еще через день к Шнеерзону явился-таки следователь прокуратуры и долго беседовал с ним в кабинете. Шнеерзон вышел оттуда с душою в пятке, однако Сигма не проверяла — в какой, ей было не до этого. — Си, пиши заявление, ничего не могу сделать, — сказал он Сигме. — И лучше скройся на время. Наверх пошло, — он воздел глаза к потолку. Ну да. Всплыло уже в столице, как и полагается всяческому дерьму. Уже какой-то депутат сделал заявление, а другой ему ответил. Уже требовали вмешательства Президента, как всегда. — Куда же я скроюсь? — растерянно спросила Сигма. Круглая сирота-подкидыш, умеющая читать чужие души. — Живи у меня, — вдруг сказал я. — Там тебя никто не знает. — А ты? — спросила она. — И я там же, — улыбнулся я. — Скажу, что ты моя невеста. Си вдруг потупилась и покраснела. — Ну… конечно… Вы ведь взрослые люди… — неуверенно сказал Шнеерзон. — Но мы ничего не знаем, договорились? — Ладно, вот я спироскоп закончу, они тогда попрыгают, — пообещал Костик. Итак, визиты первой и третьей власти состоялись. Я в этом вопросе путаюсь — кто же вторая власть? Никогда не знал. Оказалось, криминальный элемент. И тут нам крупно повезло. Совершенно случайно. Не успела Си уволиться и спрятаться у меня, как к нам заявились мафиози. Они подъехали на «мерседесе» и джипе. Из «мерседеса» вышел вразвалку молодой толстый грузин или армянин в длинном пальто и спустился к нам в полуподвал в сопровождении выскочившей из джипа охраны. — Кто тут есть? — спросил он, не повышая голоса, но все услышали. И тут я его узнал. Это был Мачик, как все его звали в школе боевых искусств, которую мы вместе посещали три года назад и даже работали в спарринге, хотя весовые категории у нас разные. То ли это было имя, то ли производное от «мачо», но в данном случае это не играет роли. — Мачик! Узнаешь? — воскликнул я. Он обернулся. Охранники приняли боевую стойку. — Жека! — Мачик сделал два шага ко мне и заключил в объятия. — Рад видеть, генацвале! Ты что здесь делаешь? — Работаю, как видишь. Мачик оценивающе осмотрел меня, наклонился к моему уху, сказал негромко: — Будешь в другом месте работать. Затем объявил подоспевшему и, как всегда, перепуганному Шнеерзону: — У вас друг мой работает, а я и не знал! Шнеерзон изобразил на лице фальшивую радость. — Это меняет дело… Вот что, — Мачик обернулся к своим парням. — Гиви останется тут, Ашот поедет с нами, а мы с Жекой поедем поужинаем на часок. Вы не возражаете, если Гиви подменит вашего охранника? Мы с ним давно не виделись, поговорить надо… — Как вам будет уго… удобно, — сказал Шнеерзон. Конечно, это было нарушение — покидать пост во время дежурства, но… я поехал. «Мерседес» привез нас в ресторан «Феллини», что на Малой Конюшенной. Там такие маленькие закуточки, оформленные в разных стилях. Мачик выбрал кабину, оформленную под ванную комнату, и сказал, чтобы сюда больше никого не подсаживали. — Слушаю-с, — официант изогнулся. А дальше мы провели два часа в этом заведении, вкушая разные чудесные блюда и напитки, и вели разговор. На общие воспоминания о школе боевых единоборств мы отвели пять минут, остальное было посвящено проблеме Сталина. Точнее, проблеме Сигмы. — Я с Чукотки только что. Ромка возил показывать свою новую юрту. Пятиэтажная юрта, представляешь? С лифтом! — рассказывал Мачик. — Он же чукча теперь. Ему положено в юрте жить, — Мачик рассмеялся. — Ромка — это… — Ну да, кореш мой… Прилетел, а тут такое дело. И я почуял деньги. Вот что он умел — это чуять деньги. Он чуял их — большие и маленькие, честные и криминальные, заработанные потом и кровью и свалившиеся с неба. Но чаще все же легкие или неожиданные, пришедшие в результате оригинальной идеи. В нашем случае было как раз это. Легкости идея не сулила, но неожиданностей в ней было до черта. — Ты мне для начала скажи: фуфло это или нет? Прикалывается девка или там правда что-то есть? — спросил Мачик. — Похоже, все чисто. Видит. Меня, знаешь, кем увидела? — Кем? — Джином Винсентом! — Отцом рокабилли?! — Мачик рассмеялся, довольный. — Погоди, мы из этого тоже сотворим что-нибудь. Не ожидал я от него такой музыкальной эрудиции. — Собственно, мне все равно: есть у нее эти способности или нет. Все равно придумано гениально. То, что вы пытались бабки срубить по-мелкому, это… ну понимаешь… — Мачик повертел в руках вилку. — Это вот этой вилкой перекидать воз сена. А тут мно-ого сена! Тут на несколько лимонов сена! — глаза его загорелись. — Как? Мы ведь тоже думали. — Они думали! — с чувством нескрываемого превосходства проговорил Мачик. — Они думали! Придурочная девка, старый еврей и его вышибала. Специалисты!.. Ладно, извини. Каждый своим делом должен заниматься. — Ты лучше объясни. — Ага, так тебе и скажи ноу-хау, — Мачик хитро прищурился. — Хотя профанам что говори, что нет — все равно ничего не сумеют извлечь из идеи. Вот, смотри, как можно, например… И он, не переставая поедать шашлык из осетрины, развернул проект. По его словам, нам выпала удача на миллион. Мы натолкнулись случайно на душу Сталина. И нам следовало не брать с этой тетки несчастную тысячу рублей, а дать ей сразу ну хоть сотню долларов аванса, заключить договор о неразглашении и передаче нам всех прав на ее душу года на три. То есть не на душу, конечно, а на ее продажу. Ну, тетка могла поерепениться, тут нужно было действовать тонко, может, добавить аванса и пообещать крупную сумму потом: тысяч пять или даже десять. Для нее это немыслимые деньги. И за что? Да ни за что! Никто эту ее душу вытягивать щипцами из нее не будет. Она лишь должна молчать, как рыба. — И ты знаешь, за сколько я бы продал душу Сталина в Грузии? — спросил Мачик. — Ты можешь представить эту цифру? — А кто бы тебе поверил? Ты же воздух продаешь! Бумажку! — Вот! — Мачик поднял толстый палец. — Вопрос правильный. Перед этим я раскрутил бы вашу Симку, сделал бы из нее бренд и эксклюзив. Потратил бы тысяч сто. Но — чтобы ни одна собака не сомневалась, что Симка умеет это делать, что конкурентов у нее нет и что она единственная выдает правильный сертификат на душу! — Сигма, а не Симка, — поправил я. — Э-э, какая разница?.. И этот сертификат она сейчас выдала бы какому-нибудь скромному миллионеру из Кутаиси. Какому-нибудь Мамикашвили или Малания. А Калерия эта молчала бы в тряпочку, хотя для верности ее надо было бы убрать… — Убрать нельзя, — сказал я. — Душа перелетит в другое место, потом ищи ее. — Да, я забыл. Ты прав. Ее беречь надо, эту идиотку… Ну, ты понял? И все были бы довольны — и Калерия, и Сигма, и Мамикашвили, и я, и даже вы с директором магазина как посредники. Собственно, сейчас еще не совсем поздно, но наследили, ой как наследили… Тысяч на двести больше потребуется. Ну, ты понял? — повторил он. Я понял. Нас брали в оборот. — Ну, ладно. Допустим, Сталина ты толкнешь. А где взять другие великие души? Нам же звезды нужны, — я пытался раззадорить Мачика, чтобы побольше выведать о его планах. — Дальше будет видно, — ответил Мачик. — Думать надо. Я же только вчера про эту Симку узнал. Но бизнес тут есть, носом чую. Мачик привез меня обратно в магазин, и по виду Шнеерзона я понял, что вырос в глазах шефа неимоверно. Вдобавок Мачик сказал шефу, что он назначает меня своим помощником, и как только появится Сигма (ему сказали, что она больна), то мы продолжим работу. То есть у Мачика и сомнений не было, что все развернется по его сценарию. Что-то меня удержало; я не сказал Мачику, где скрывается Сигма.Глава 4. Жених и невеста
Мои соседи восприняли появление Сигмы по-разному. У нас пятикомнатная квартира в старом петербургском доме, которую никак не могут расселить риэлтеры по причине повышенных запросов жильцов. Все, естественно, хотят отдельные квартиры, это понятно, но при этом все желают увеличить свою площадь, а комнаты в квартире со старым размахом — по тридцать-сорок метров. Получается, что за одну такую комнату нужно давать двухкомнатную квартиру, и вся смета расселения накрывается медным тазом. Так и живем в просторных комнатах с просторной кухней о трех газовых плитах и множеством тараканов. Старуха Морозова, что живет в начале коридора, а потому чаще других открывает двери, если звонят в общий звонок, в первый же день учинила допрос: кто такая да почему здесь? Допросом осталась довольна, хотя я все наврал, даже имя — чтобы долго не думать, пошел по неверному пути Мачика и обозвал Сигму Симой. Морозова спросила только: а как же Марина? Марина — одна из иллюзий моей личной жизни, о которой я уже упоминал. Я развел руками, хотя тоже проблема. Небольшая. — Бывает, — заключила бабка Морозова. — Скажи этой все как есть. Про кухню, про ванну скажи. Особенно про сортир. — Ага, — пообещал я. Соседи Полуэктовы — семья из трех человек с практически взрослой дочерью двадцати трех лет — никак не прореагировали на появление Сигмы, что ни о чем не говорит. Они у нас в квартире высшая каста, им как бы западло с остальными общаться. Только ввиду крайней необходимости. Но если она настает, от них можно ожидать больших сюрпризов. Тихий алкаш Коля: свой в доску, подмигнул мне, типа одобрил. Любая проблема с Колей решается путем маленькой. А проблемы еще меньше, чем маленькая. Ну и наконец молодожены Олеся и Остап — оба с Украины, эту комнату они снимают, а хозяина ее я никогда не видел. Работают они на стройке, остальное время занимаются любовью в своей комнате, причем довольно громко. Кохаются так, что посуда в шкафу звенит. Я с ними живу через стенку и уже изучил все их излюбленные «кохання». — А шо вы хотите? — это Олеся на кухне мадам Полуэктовой. — Мы законные муж и жинка. Не то, что некоторые, — при этом она бросала взгляд на меня. — Но можно же интеллигентнее, Олеся. А то прямо какая-то «свадьба в Малиновке»! — возражала мадам Полуэктова, старший библиограф научной библиотеки. — Как это? — искренне изумлялась Олеся. Я тоже разделял ее недоумение, поэтому, когда приходила Марина, это уже напоминало «бордель в ночь на Ивана Купалу», как однажды выразилась мадам Полуэктова, тогда же она и устроила сюрприз, пригласив участкового послушать «звуки любви». — А вы музычку включайте, — посоветовал им участковый. Поэтому дальше это происходило под Вивальди и Баха. Не лучшее сопровождение, но зато интеллигентное. Поэтому появление Сигмы наверняка вызвало у Полуэктовых мысль о необходимости чаще включать музыку. Однако все оказалось непросто. Я бы покривил душой, если бы сказал, что, приглашая Сигму жить у меня в одной со мною комнате, не подумал над этим обстоятельством. Подумал, конечно. И решил — как Бог даст. Приставать не буду, а ежели девушка изъявит желание, почему бы и не удовлетворить его. Я помнил тот танец с Сигмой под светомузыку, когда она надула меня с Полом Маккартни. Мысль о возможной близости отнюдь не повергала меня в смятение. Первый раз Сигма явилась с небольшим рюкзачком, в котором, как выяснилось, было все ее имущество. Проще говоря, одежонка, состоящая, как позже выяснилось, из небольшого стандартного набора: двое джинсов, три свитера, одно платье и что-то там по мелочам. Я был несколько удивлен: Сигма зарабатывала по нашим меркам не так мало, на что же она тратила деньги? Но вскоре я узнал, что у Сигмы приличная библиотека, много книг по искусству, которые она хранит у Костика в профессорской квартире его отца, где мы вскоре стали бывать. Вопрос о действительном статусе моей «невесты» решился в первый же вечер весьма просто. Когда пришла пора устраиваться на ночь, я предложил Сигме свою широкую тахту, на которой я обычно спал, сам же намеревался улечься на диване. Сигма решительно это отвергла, пришлось постелить ей на диване, а самому расположиться, как всегда. Готовясь к приему Сигмы, я сделал небольшую перестановку в комнате, поставив книжный шкаф боком к стене и отделив им тахту от дивана, то есть создал подобие двух независимых пространств. Мы улеглись, я пожелал Сигме спокойной ночи и выключил свет. С минуту стояла мертвая тишина. Конечно, я не спал. Но и заводить какие-то разговоры запретил себе категорически. Внезапно послышалось какое-то неясное шуршание, метнулась на фоне окон тень, и я почувствовал, как ко мне под одеяло скользнула рыбкой обнаженная Си. «Вот как все просто…» — с некоторым даже разочарованием подумал я. — Можно, я полежу с тобой? Мне одной страшно, — прошептала она. — Конечно… — я обнял ее и прижал с себе. Она была тонкая и гибкая, как лиана. — Джин, я тебя прошу, не делай со мной ничего. Я тебя очень прошу, — зашептала она. — Мне хорошо с тобой, я не боюсь. Но больше ничего не надо. Ты мне обещаешь? — Почему? — прошептал я обиженно. — Потому что я не люблю тебя. То есть я очень хорошо отношусь к тебе, ты мой друг. Но любить я не умею. У меня нет никого, ты не думай. И не было никогда. Потому что нужна любовь… А я не знаю, что это такое. — Может быть, она придет… Потом… — Может быть. Но не так. Не надо ничего, не дотрагивайся до меня. Я тебя очень хочу, но без любви не могу… — шептала она. «Тяжелый случай», — отметил я про себя, а мои руки уже сами гладили ее, и блаженство подкрадывалось к самому горлу. — Джин, я прошу… Пожалуйста. Я убрал руки. Спрятал их за спину. Сцепил там пальцами, как узник Освенцима. Прекрасную пытку я себе придумал. — Пошли меня в жопу, — пискнула Си. — А это мысль. Иди-как ты в жопу! — сказал я, повернулся к ней спиной и мы, касаясь друг друга лишь голыми попками, кое-как заснули. Утром, едва открыв глаза, я выскочил из кровати и натянул трусы, а потом начал соображать. Си высунула свое индейское личико из-под одеяла. — Доброе утро. Спасибо, — сказала она. — Я думала, ты не выдержишь. Я бы не выдержала. — Послушай, Си, — сказал я строго. — Давай договоримся. Либо ты будешь меня провоцировать, и тогда я тебя трахну сию минуту без всякого зазрения совести, либо мы об этом не говорим, если тебе действительно так нужно. У каждого свои тараканы. Я твоих тараканов уважаю, но давай об этом больше не будем. Она на секунду задумалась. — Нет, будет, как я сказала. Мы брат и сестра. Только позволяй мне иногда спать рядом с тобой. — О-ох… — вздохнул я. — Ладно. Я постараюсь привыкнуть. А вечером явился Костик с букетом цветов и бутылкой шампанского. Уж он-то был уверен, что у нас все взаправду и очень радовался, что Си наконец-то нашла мужика и лишилась девственности. Я думаю, они с Костиком что-то подобное уже проходили в свое время. Мы его не разубеждали. Получилось новоселье с помолвкой или наоборот. А когда к нам примкнули сосед Коля, буквально вынюхавший гулянку, да Олеся с Остапом, притащившие украинской горилки и белоснежное сало в полотенце, то получилось уже похоже на свадьбу, в просторечии «бытовая пьянка», что и было зафиксировано в протоколе участкового Медвежатникова, вызванного бдительными Полуэктовыми. Впрочем, большого скандала не получилось, мы были предупреждены, а Полуэктовы получили дружный отпор соседей, даже бабка Морозова, дернувшая с нами стопочку, кричала что-то про «обычай таков». Участковый пока не требовал оснований для проживания Си, но я понимал, что это дело не за горами. «Придется ее у себя регистрировать…» — подумал я. Ну, там посмотрим. Но самым главным в этом вечере был не скандал, не горилка и тосты, не лобызания с Олесей и Остапом под конец, а тот подарок, который принес нам Костик. Он принес работающую модель спироскопа! Она состояла из очков, довольно громоздких (Костик сказал, что миниатюризации он добьется, этим он пока не занимался), которые надевались как обычные очки, и соединенной с очками платы типа модемной, с батарейкой питания, которые размещались в кармане. Этот спироскоп позволял видеть расположение души в организме и ее очертания. Мы испробовали его сразу же, пока не собрались гости. Костик передал очки Сигме и показал на роговых дужках два сенсорных переключателя, посредством которых можно было подстраивать прибор. Сигма нацепила очки и взглянула на меня. — Пятно какое-то…. — Попробуй подрегулировать, — сказал Костик. Си стала нажимать сенсоры и вдруг воскликнула: — Ой! Класс! Джин, я тебя вижу! Она перевела взгляд на Костика. — И тебя вижу. Рыжий кот Шалопай! — Ладно, это мы уже знаем, — недовольно сказал Костик. И он тут же объяснил, что только Си, обладающая даром видения душ, сможет видеть картинку — то есть ту оболочку, в которой раньше заключалась душа. Остальные видят просто пятнышко. Следующим испытуемым был я. Я надел очки, глядя на Костика, понажимал кнопочки, при этом Костик стал виден нечетко, фактически одним силуэтом, зато в районе солнечного сплетения у него появилось небольшое светящееся оранжевым светом пятнышко, слегка напоминающее снежинку, но очень размытое. Вероятно, это и была душа Костика. Я перевел очки на Сигму и увидел ее силуэт. — Джин, не надо, — сказала вдруг она. — Почему? — Я уже разглядывал ее, но ничего не видел, кроме контура. Никакие настройки не помогали. — Прибор на Си не реагирует, — сказал Костик. — Глупости, — сказала она. — У меня просто нет души. Она криво улыбнулась и налила себе шампанского. Я так и не понял, где тут шутка, а где правда. Но тут ввалились гости, и мы стали рассматривать их через спироскоп. Мы объяснили, что это такой медицинский прибор, который позволяет видеть центры удовольствия в организме. Собственно, не очень-то и соврали, если вдуматься. Душа Остапа в спироскопе выглядела как маленький соленый огурец и располагалась в районе желудка. Душа Олеси привиделась мне красной и круглой, как помидор, но располагалась ниже пупка. У Коли обнаружилась маленькая зеленая звездочка в районе кадыка, которая к тому же мерцала. Впрочем, эти картинки были мои личные. Свойство спироскопа заключалось в том, что каждый видел чужую душу по-своему, ибо этот образ зависел и от его души. То есть прибор ни в коем случае не был объективным прибором. Как и душа не была материальным объектом. Костик потом признался, что душа Олеси выглядела не помидором, а цветком, но располагалась там же. А душу алкаша Коли он увидел в мозжечке. Сигма рассмотрела всех, шепнула мне: «Потом расскажу» — и мы стали выпивать. А потом мы включили музыку, дальше пришел участковый, Сигма рассматривала всех через спироскоп и чуть не лишилась его, кстати, потому что Полуэктовым это не понравилось и они потребовали конфисковать странный прибор, но оснований для этого было маловато. Наконец все ушли. Уходя, Костик обещал вскоре соорудить нечто чудесное, для чего даже Нобелевки будет мало. — Ты хороший, Джин, — сказала Сигма, обнимая меня — Я очень устала. Я уложил ее на тахту, укрыл одеялом и погасил верхний свет. А сам нацепил спироскоп и принялся ее рассматривать. Ни единого пятнышка не было видно в четко очерченном контуре ее фигуры. Я принялся носить на кухню грязную посуду. Когда я с чашками и блюдцами появился там, свет в кухне не горел. И я увидел сквозь спироскоп, который я забыл снять, каких-то светлячков, которые быстро перемещались в темноте. Я врубил свет. Кухня была полна тараканов. И в некоторых из них горел огонек души. Чьей? Человеческой? Тараканьей? Души были разноцветные — от ослепительно белых до черных, окаймленных горящей черточкой. Тараканы с легким шуршанием разбегались от яркого света, вскоре исчезли все. Я был потрясен. Я даже не стал мыть посуду, а вернулся в комнату и не раздеваясь улегся на диване. — Ты там будешь спать? — раздался сонный голос Си. — Да, — ответил я. — Это верное решение, — пробормотала она. — Си! — позвал я. — Угу… — Там… тараканы на кухне… и у них внутри светлячки, — я не мог выговорить слово «душа» применительно к тараканам. — А мадам Полуэктова раньше была глистом. Спи. Это нормально, — прошептала Си. — Мы ничем не лучше тараканов…Глава 5. Бизнес-план Мачика
Между тем Мачик ежедневно звонил в магазин и справлялся, не выздоровела ли Сигма. Он уже наведывался в ее общежитие и выяснил, что она отбыла в неизвестном направлении. Шнеерзон, предупрежденный нами, говорил, что знать ничего не знает. Мачик нервничал. На пятый день он заявился в фирму и сказал, что дальше терять времени нельзя. Предложил мне должность начальника секьюрити нового предприятия с окладом в пять раз больше, чем я получал у Шнеерзона, и назначил совещание назавтра. В совещании должны были участвовать, кроме него, Шнеерзон, Костик и я. И еще новый менеджер по продажам, некто Макс. Отступать дальше было некуда, нужно было решать. Мы с Сигмой пару раз затевали разговор о предложении Мачика, но я видел, насколько оно ей тягостно. Она что-то мямлила, уводила разговор на другую тему, короче, вела себя совершенно не по-деловому. Хотя я-то знал, насколько серьезно Си относится к своей уникальной способности. Но жить-то надо! Здесь, по крайней мере, светили какие-то деньги. Плюс известность. И я еще раз задал ей этот вопрос. Хочет ли она быть звездой черной и белой магии, стать знаменитой, работать с душами клиентов. — Джин, не ври, — сказала Сигма. — «Работать с душами» — это красиво звучит. Я с ними вхожу в контакт, с каждой. Это мне интересно, потому что войти в контакт с незнакомой душой — это тебе не перепихнуться по пьянке, извини… Вот это мне в ней особенно нравилось: «перепихнуться по пьянке», блин! Кто бы говорил. Девственница в двадцать два года! Я каждую ночь сплю с ней голой, сжав зубы. Перепихнуться по пьянке! — Ты ведь предлагаешь совсем не работу с душами… — продолжала она. — Я ничего не предлагаю. Мачик предлагает. — Ты сам не знаешь еще, что он предлагает. И я не знаю. Я и сама могу работать, мне Мачик не нужен… Ты очень хочешь, чтобы я согласилась? — спросила она. — Нет. Я боюсь за тебя. Мачик не простит. И мне не простит. Он может сделать что угодно, когда ему мешают. Си улыбнулась. Впервые я увидел у нее эту улыбку кобры, готовящейся к прыжку. — Я тоже кое-что могу, — сказала она. — О’кей, договорились. Делай, как знаешь, — сказал я. — Но я его предложение приму. Нам нужны деньги. Я действительно хотел остаться в этом проекте Мачика не только для денег, но и ради спортивного интереса, если можно так выразиться. Я полагал, что Мачик никак не свяжет меня с исчезновением Сигмы. Но я слишком хорошо думал о Шнеерзоне. Старик сдал меня уже на следующий день. Мачик приехал темнее тучи. Прошел в пустующий зал светомузыки, кивком головы показал, чтобы я следовал за ним. Там он закрыл дверь, уселся на стул верхом, скрестив руки на спинке, и долго изучающе смотрел на меня. — Слушай, так друзья делают, нет? — наконец начал он. — Ты мне сказать мог? Тебе девка дороже, чем друг? — Ну, не хочет она, не хочет! — вскричал я. — Э! Не об этом базар. Хочет она — не хочет, мне на это наплевать. Я с нею еще не говорил. Меня друг предал! Я тебя в свою команду взял, доверие тебе оказал!.. Знаешь, что я с такими делаю? Нет, не убиваю, я не зверь. Хотя, если крупно предал — убиваю. Просто говорю ребятам: поучите человека жить. И человек помнит. Долго помнит… — Извини, Мачик, — сказал я. — Первый и последний раз. А Симка твоя дура баба. Я же ей весь кислород перекрою, если она захочет себя как-то сама двигать. Не понимает она, нет? Признаться, я сам этого тоже пока не понимал. Разговор он закончил тем, что передал через меня приглашение Сигме на собеседование. — У тебя с нею серьезно? — спросил он напоследок. — Да как сказать… — я неопределенно повертел ладонями. — Э-э… Плохо твое дело, Жека. Это знать надо. Мне это надо знать. Я передал Сигме приглашение, и она отправилась к Мачику. Внешне это выглядело как совместный обед в ресторане «Палкинъ», как я потом узнал. Мачик умел совмещать приятное с полезным. Я нервничал. Мысленно выдвигал доводы «за» и «против», прикидывал, как Си сможет реализовать себя без помощи Мачика, гадал, что он ей предложит. В глубине души я хотел, чтобы они договорились. Я соглашатель. В конце концов, люди пишут романы, сочиняют песни, потом кто-то это издает, раскручивает, они становятся знамениты… Талант должен получать вознаграждение. Его должны обслуживать менеджеры, рекламщики, журналисты, Его должна боготворить толпа. Разве Сигма со своим уникальным даром не заслуживала популярности? Сигма вернулась от Мачика возбужденная не только вином. Глаза ее сияли. — Он предложил мне десять тысяч! — воскликнула она и завертелась по комнате в танце. — Рублей? — тупо спросил я. — Баксов!! — заорала Сигма. — В месяц! И контракт на пять лет! — За что? — осведомился я еще более тупо. — Вот! Это самое главное! За что?! Сигма рухнула на тахту и вдруг зарыдала, уткнувшись лицом в подушку. — Ты чего?… Ну… Си, не надо… Купишь автомобиль… Гитару… — успокаивал я ее, не понимая. Она только отрицательно мотала головой. Потом вытерла слезы уголком подушки, обернулась ко мне и начала рассказывать, за что ей предложили такие гигантские бабки. Бизнес-план Мачика состоял в сочетании официальной и неофициальной частей. Черного и белого бизнеса. Это дело обычное, этим почти все занимаются. С белой части платят налоги и имеют известность, черная дает необлагаемую налогами наличность. Официальная часть проекта состояла в раскрутке с помощью телевидения гигантского еженедельного супершоу в прямом эфире первого канала в прайм-тайм. Часа на полтора. Здесь Сигма в соответствующих декорациях и костюмах, обрамленная светомузыкой и эффектами, занималась бы чтением чужих душ — известных и неизвестных. Испытуемые рассказывали бы о своих прошлых жизнях, эти рассказы комментировали бы ученые-историки, психологи и так далее. Попутно рассказывались бы всякие байки о переселении душ. Примерно то же, чем мы занимались на любительском уровне в магазине Шнеерзона. Только с размахом. — Ну и что тут плохого? Мы это уже делали. И стригли на этом денежки. Правда, небольшие. Что тебе не нравится? — спросил я. — Ты слушай дальше. Понятно, что интерес к такого рода шоу подогревается участием в нем известных лиц. Артистов эстрады, бизнесменов, спортсменов, политиков. Никому не интересна информация о том, что безвестный Иван Иванович Иванов имел своим духовным прародителем еще более безвестного Семена Семеновича Петрова. Или даже обезьянку с Суматры. Ну, улыбнутся, когда он станет рассказывать, как прыгал там по деревьям, цепляясь за лианы. А вот если об этом же станет рассказывать Филипп Киркоров или Жириновский — совсем другое дело! — Ну так и что?.. Пускай приглашают, платят им деньги. А ты их станешь выводить на чистую воду, — все еще не понимал я. — Наивный ты, Джин… — грустно улыбнулась Си. — Платить-то они будут. — За что? — За то, чтобы иметь пристойную родословную по карме. Понятно, что Жириновский не пойдет на сеанс с непредсказуемым результатом. Чтобы узнать, что к нему залетела душа скунса, к примеру? Позор на весь мир. Или вдруг загипнотизированный Сигмой станет рассказывать перед камерой, как одна из его предыдущих инкарнаций торговала рабами? Ничего ведь не исключено! Политик должен думать о своем реноме и если уж не обладать безупречной репутацией, то хотя бы позаботиться о пристойном наборе инкарнаций, в котором хорошо бы иметь хоть одного великого человека. — И эти души они будут покупать. Так считает Мачик, — сказала Сигма. — А это называется подлог. Схема выглядела так. Помимо публичных шоу Сигма должна была содержать салон, где желающие за деньги получали бы свои кармические родословные. Совершенно приватно, но с получением соответствующего сертификата. Понятно, что ожидать, что туда станут часто наведываться обладатели душ Пушкина или Авраама Линкольна, не приходится. Случай с теткой Сталиным — это редчайшая удача. А для торговли нужны души великих в товарном количестве. Их временными фиктивными носителями станут приглашенные подставные лица, которые за умеренную плату вызубрят роль носителя великой души и получат соответствующий сертификат. А кроме того подпишут с Мачиком договор, в котором все права на эту душу отдают Мачику. Сведения об этой великой душе они почерпнут из популярной литературы типа книг Радзинского. А дальше эту душу Мачик будет предлагать бизнесмену или политику, который захочет ее иметь. Можно работать под заказ: сначала выяснять, кого хотел бы иметь духовным предком олигарх, а потом сводить его с фиктивным обладателем этой души. Оформляется сделка, подставное лицо дает подписку о неразглашении, а олигарх соглашается на публичный телесеанс, где он под взглядом Сигмы и объявит себя носителем души Наполеона Бонапарта. — Погоди! Зачем это подставное лицо? Лишний свидетель, да и деньги ему платить. Все равно растреплется! Почему сразу же не договариваться с олигархом или политиком: вы, мол, приходите на телешоу, мы вас объявляем Наполеоном, вы платите по повышенной таксе! И все дела. — Вот и я спросила то же самое, — сказала Сигма. — Мачик ответил, что я ничего не понимаю в маркетинге и в авторском праве. Он сказал, что мы торгуем реальными вещами, а не совершаем подложные сделки. Так это должно выглядеть. — Не понимаю, — сказал я. Реальной вещью был этот самый сертификат, пусть и подложный. Это и был товар. Этот документ вкупе с договором говорил олигарху, что мы этой душой обладаем, а вы можете ее купить. В случае же подложного объявления олигарха наследником Наполеона напрямую эта душа где-то болталась бесхозной и олигарх не был застрахован от появления истинного обладателя этой души. — Да, но этот обладатель действительно может явиться и заявить свои права! — воскликнул я. — Он может явиться только ко мне. И тогда Мачик его просто уберет. — Ты уверена, что одна во всем мире обладаешь этим даром? — спросил я. — Вообще-то да, — скромно ответила Сигма. — Но я отказалась. — От чего? — От всего. От контракта, от баксов, от подлогов… От всего.Глава 6. Раскрутка
Мачик недолго горевал об отказе. Его проект мало зависел от Сигмы и ее умения. Если клиент подставной, то и прорицатель может быть подставным. Чистая липа, спектакль. А Сигма лишь дала идею и обеспечила первую рекламу. Мавр сделал свое дело, короче. Правда, Мачик предупредил мавра через меня, что шутки с ним плохи. — Скажи своей Симке, что я с ней либеральничаю только ради тебя, — сказал он мне доверительно. — Иначе она просто бы исчезла. На всякий случай, чтобы не мешать делу. — Как это — исчезла? — не понял я. — Э-э… Много есть способов. Ты сразу плохое думаешь. Заснула дома, проснулась в Австралии. И так бывает. Имей это в виду. Поэтому уже через неделю, которая потребовалась менеджерам и самому Мачику на просмотр двух сотен девушек (кажется, это теперь называется кастинг), у нас появилась дублерша Сигмы, весьма на нее похожая внешне (это входило в условия), которая получила сценическое имя Серафима Саровская. Нет, я не шучу. Серафима Саровская. — Мачик, ты хоть знаешь, кто такой Серафим Саровский? — спросил я. — За дурака держишь? Дэдушка ее! — и Мачик помчался дальше. Вообще он носился как метеор, полы его длинного пальто развевались, охрана бегала за ним рысью. Потом уже девица Дарья, строгая девушка в очках, называемая пиар-менеджером, разъяснила мне смысл псевдонима. Мачик придумал его совсем не от балды, типа слышал звон, да не знает где он. Дело в том, что наши игры с душами — они совсем не в православной традиции. В православии душа умершего на девятый день покидает тело, а на сороковой возносится к небесам. И более на землю не возвращается, тем более не переходит в другое тело. Поэтому Мачик решил особо не напирать на карму и религиозные представления, но все же дать православную ассоциацию новому шоу. Не Брахмапутра какая-нибудь, а Серафима да еще однофамилица, а может, и дальняя родственница великого святого. Оно как-то роднее. Так что мы начали репетировать с Серафимой Саровской. Мачик купил телевизионный канал и прайм-тайм, пригласил режиссера и администратора, те в свою очередь создали группу. Отдельно организовался офис, где я заведовал безопасностью. Шнеерзон с невыразимой печалью в глазах наблюдал, как от него отплывает кусок его верного еврейского хлеба. Впрочем, Мачик дал ему отступного, хотя Шнеерзон не имел к идее Сигмы никакого отношения, разве что предоставлял помещение. В офисе Серафима Саровская, которую в прессе уже стали называть Мадемуазель СиСи, проводила индивидуальные сеансы без свидетелей. Проще говоря, там разыгрывался первый акт спектакля. Купленное подставное лицо обретало душу великого человека, становилось носителем души Пушкина или Чайковского (в зависимости от заказа), на что оформлялся отдельный документ, но имя владельца хранилось в глубокой тайне, ибо он должен был вскоре продать эту душу покупателю. Я все же не очень понимал, зачем Мачику такая схема. Объяснение Сигмы меня не очень удовлетворило. — Мачик, я не пойму, зачем тебе такие сложности? — спросил я его. — Ты можешь нашлепать сколько хочешь этих сертификатов без всяких сеансов и торговать ими. Просто приезжаешь к лоху и объявляешь: «Поздравляю вас! Вам выпала редкая удача! Наша Серафима, наша всемирно признанная Мадемуазель СС обнаружила, что ваша душа раньше была душой Джона Леннона! Не желаете ли приобрести сертификат?» — Ага, и он посылает тебя в жопу, — безмятежно парировал Мачик. — Зачем ему тратиться на сертификат? И даже если он захочет иметь документ, сколько он за него заплатит? Ну, тысячу баксов от силы. И доверия у него к этому документу будет не больше, чем к «письму счастья». А вот если к нему придут и скажут, что вот есть такой-сякой, бедный и несчастный чувак, который носит душу Альберта Эйнштейна или Людовика Четырнадцатого, а она ему на хер не нужна и он готов тайно продать… То лох спросит: «Сколько?» И тут уже цену назначаю я, и я организую аукцион между желающими… Потому что купить-то может любой. А свидетель предупрежден и дает расписку: при разглашении — смерть… Ты, кстати, тоже свидетель, — усмехнулся Мачик. — Усек? — Это я давно усек, — сказал я. — И Симке своей скажи. Голову откручу. Узнав о мадемуазель СиСи, Сигма сказала: — А я бы тоже пошла. Прикольно. Это же такой спектакль! — Ну так в чем же дело? — удивился я. — Если бы я не умела делать это на самом деле. Понимаешь? А я это умею. Это все равно как… Ну вот как если ты пишешь песни, хорошие песни, а это не нужно никому. Нужно три аккорда. Ты не сможешь такие песни писать. Если ты умеешь делать что-то хорошо, ты не сможешь делать это плохо по заказу! Впрочем, Сигме сейчас было не до этого. Мы с ней виделись редко. Я был по горло занят на работе, где, кроме секьюрити, Мачик навесил на меня кучу обязанностей по оформлению офиса и демонстрационного зала, где и должны были происходить таинства. А Си почти не выходила из дома, к ней часто приходил Костик, они что-то обсуждали, смотрели в спироскоп разные цветочки, насекомых, разглядывали людей через окно. Я находил в комнате обрезки каких-то прозрачных трубок толщиною в палец, потом к нам переселился компьютер Костика и практически сам Костик, который уходил от нас домой только ночевать. А мы с Сигмой ложились спать, но были настолько заняты каждый своими мыслями, что уже совершенно привычно засыпали, обняв друг друга за плечи, а утром награждали друг друга поцелуем. «И когда же это кончится?» — думал я с тоской, потому что обе мои девушки подали в отставку, узнав о том, что у меня поселилась барышня. Наблюдая за стилем работы Мачика, я им невольно восхищался. Кроме того, что он придумал Серафиму Саровскую, он вскоре понял, что нет смысла дезавуировать Сигму и создавать новый бренд. Он просто объявил, что это одна и та же девушка, тем более что они были похожи, даже клиенты, прошедшие через наш аттракцион, поверили этому. Наши ближайшие соседи — эзотерические издатели — конечно, заметили подмену, но какое им дело? Однако, сэкономив на создании нового бренда неплохую сумму, Мачик уперся в проблему тетки Сталин. Если Сигма — шарлатанка, то и Калерия Павловна к Сталину отношения не имеет. Но если наша Серафима — это та же Сигма, значит, Калерия говорила правду, объявив себя наследницей Иосифа Виссарионовича. Плохо то, что это попало в прессу. По-тихому с Калерией было уже не договориться. А Сталин был нужен позарез. Друзья Мачика в Грузии уже рыхлили почву под продажудуши Сталина какому-то грузинскому богатею. Я слишком поздно понял, какую комбинацию придумал Мачик. А пока мы пиарили Серафиму Саровскую в хвост и в гриву. Мачик договорился с монастырем. Имя святого обязывало, с церковью шутить было нельзя. И мы с Серафимой поехали в монастырь в Великий Новгород. Я сопровождал ее и Мачика. Ехали на джипе. Кроме нас, в машине была журналистка из «Совершенно секретно», которая готовила полосу о Серафиме. Мадемуазель СиСи оказалась очень толковой деловой девкой, профессионально относящейся к предложенной ей работе. Души, реинкарнация — все это шоу, которое нужно сделать суперпопулярным. Вот и все дела. Перед поездкой в Новгород она приняла крещение и прочла все что можно о Серафиме Саровском. Сигма искала смысла, Серафима — заработка и славы. Не понимаю, чего искал я. — Мачик, запиши меня в хореографическую группу при мюзик-холле, — сказала Серафима. — Танцевать будешь? — лениво поинтересовался Мачик. — Двигаться нужно профессионально. И пантомиму. Но это потом. — Хорошо, — сказал Мачик. Вообще, всю дорогу говорили о костюмах, о музыкальном и световом сопровождении сеансов, будто речь шла о мюзикле, а не о переселении человеческих душ. Настоятель отец Григорий встретил нас радушно, а когда Мачик вытащил из багажника джипа икону Николая Чудотворца шестнадцатого века и подарил ее монастырю, не забыв поцеловать батюшке руку, то дальше все пошло как по маслу. Мы осмотрели памятник Тысячелетию России, сопровождаемые женщиной-экскурсоводом, которая перечислила всех великих людей, изображенных скульптором Митрохиным в основании памятника, причем Мачик все имена записал в блокнот и я понял, почему: он уже готовил их души на продажу. Затем мы переехали в монастырь и побеседовали с отцом Григорием о Серафиме Саровском и о понятии души в православии. Серафима показала неплохую подготовку и под конец святой отец причастил ее и благословил на «духоподъемное дело», как он выразился. Журналистка строчила в блокнот не переставая и активно пользовалась диктофоном. Мы остались в Великом Новгороде на ночь с гостинице «Садко», чтобы присутствовать на утреннем богослужении. Это входило в программу. Вечером Мачик отправился отдыхать, журналистка заявила, что она тысячу раз была в Новгороде и хочет спать, а я пошел прогуляться с Серафимой по центру. Мы опять оказались внутри уютного Новгородского кремля и подошли к памятнику. Бронзовые государи и государевы мужи, поэты и музыканты, воины и строители России смотрели на нас с постамента. — А ты не боишься, что тебе придется присваивать их души — вот их конкретно души! — я ткнул пальцем в чугунные изваяния, — каким-то прохиндеям, олигархам и просто бандитам? — спросил я. Серафима улыбнулась. — Это не будут их души. Это будут бумажки. Такая игра, вроде лотереи «Золотой ключ». Кто-то выиграл душу генералиссимуса Суворова… Ты это вообще серьезно? — поинтересовалась она. — Вообще серьезно, — сказал я. — Тогда тебе нужно уходить из этого бизнеса. Ничего личного, прости. На следующее утро в храме я стоял как истукан, не в силах осенить себя крестом, хотя был крещен в детстве мамой и всегда, входя в церковь, делаю это. Мачик же крестился размашисто и с видимым удовольствием. Серафима и журналистка крестились сухо, по-деловому. Обратно ехали молча. Я приехал домой в скверном расположении духа. Меня встретили Си и Костик. — Джин, тетка Сталин умерла, — сказала мне Си. — Или ее убили, — добавил Костик.Глава 7. Спиросос
Сообщение о смерти Калерии Павловны появилось в нескольких газетах, пока мы ездили в монастырь. «Ну и Мачик… — подумал я. — Заодно и алиби себе обеспечил. Если это его рук дело». Газеты выдвигали сразу несколько версий. Тетка Сталин была найдена дома без признаков телесных повреждений и не ограблена. Предполагали острый сердечный приступ или же месть кого-то из родственников замученных Сталиным людей. Но это было маловероятно. Все газеты безусловно связывали смерть Калерии Павловны с недавним обнаружением ее духовного родства с «отцом народов». На Мачика как продюсера готовящегося шоу и на Мадемуазель СиСи особо не грешили, потому что не могли понять мотивов — зачем им это нужно. Мачик выступил в телеинтервью, скорбел. — Первый удачный опыт выявления реинкарнации! Первая крупная удача нашей ясновидящей Серафимы… Я потрясен. Наша группа берет похороны на себя. И на следующий день он поручил мне организовать эти похороны. — Роскоши не надо, но достойно, — сказал он, отсчитывая мне деньги. — Да, вот еще. Пусть ее похоронят на девятый день… — Обычно раньше хоронят, — возразил я. — На третий-четвертый. — Правил нет. Бывают обстоятельства. Так надо. Сделай. Пришлось мне придумывать дальнюю родственницу, которая пожелала приехать из Хабаровска, она не могла лететь самолетом, ехала на поезде… Короче, пришлось городить кучу вранья. Слава Богу, у Калерии практически не было родственников здесь, поэтому никто особенно не возражал. Мне все это начинало больше и больше не нравиться. От стыда я даже не рассказывал Сигме, как там идут дела, пока она сама не потребовала объяснений. — Джин, мы хотим все знать. У нас свои планы, ты должен нам помочь, — сказала она. «Мы» означало уже «мы с Костиком», что меня тоже неприятно кольнуло. И как только явился Костик, они с Сигмой продемонстрировали мне новое изобретение. Более всего это напоминало простейший фонендоскоп — длинная, но более толстая прозрачная трубка, к тому же сплошная, то есть не полая внутри. На одном ее конце было что-то вроде маленькой присоски, а на другом — обыкновенная пробирка, куда и входил конец трубки. При этом сама пробирка вставлялась в какой-то прибор с лампочками и кнопками настройки — продолговатый такой ящичек с отверстием для пробирки, который мог легко поместиться в кармане. — Что это? — спросил я. — Спиросос. Или душесос, если хочешь перевести на русский. Назначение — вынимать душу из объекта, высасывать ее без всякого вреда для объекта. Ну и вставлять душу в объект. — Куда высасывать? — спросил я. — В эту пробирку. Правда, души в пробирке сами по себе не живут. Им нужен живой организм. Там будет сидеть живой организм. — Какой? — тупо спросил я. — Допустим, таракан. Или муравей. Можно муху посадить. — Бред, — сказал я. — Хочешь, мы сейчас твою душу пересадим в таракана, а потом обратно! — загорелась Сигма. — Да идите вы на х…! — заорал я. — Чего ты так переживаешь, Джин? Это наука, — сказала Си терпеливо. — Ага! У вас наука, а у них искусство! Два сапога пара! А у меня «шалунья-девочка — душа»! Тараканы, бля! — Какая еще шалунья? — строго спросила Си. — Это не я. Это Блок, твой полуоднофамилец. Они дали мне остыть, а потом объяснили задачу. Они задумали выкрасть душу Сталина, тем более она Калерии Павловне теперь на фиг не нужна, с целью проведения экспериментов. Это должен сделать я с помощью душесоса как лицо, приближенное к телу. К гробу, так сказать. Я призвал на помощь все свое чувство юмора в этой далеко не комической ситуации. Все-таки мое любопытство меня погубит. — Давай инструкции! — сказал я. Короче говоря, в морг я ехал, вооруженный спироскопом и спирососом с огромным коричневым блестящим тараканом в пробирке спирососа. Этому таракану выпала почетная доля стать вместилищем души «отца народов» на какое-то время. То есть, по существу, стать Иосифом Виссарионовичем, а также отчасти и Калерией Павловной, не зря же она таскала эту душу в себе пятьдесят лет! Чтобы отвлечься от дурацких мыслей, я читал про себя на память «Тараканище».Вот и стал Таракан победителем,
И лесов, и полей повелителем.
Покорилися звери усатому,
Чтоб ему провалиться, проклятому!
Дома меня ждали с добычей. Я заметил, что у Си расширенные темные зрачки. Покурила, значит… Это мне совсем не нравилось, хотя я понимал, что она готовится к контакту с добытой мною душой. Я извлек пробирку, выложил на стол, и мы втроем уставились на таракана. Таракан был красив: большой, блестящий, светло-коричневый, он шевелил огромными усами, как мне показалось, с укоризной. Костик притащил стеклянную банку из-под баклажанной икры, и Си вытряхнула таракана туда. Он принялся не спеша бродить по банке, обследуя свое новое жилище. — Ну, что ты видишь? — обратились мы к Си. — Да двоится, блин! — с досадой отвечала Си. — То Калерия Павловна, то Сталин. Мало покурила. Вот сейчас Сталин. В мундире. Маленький такой… Смешно. Сталин в банке! — Си засмеялась, но тут же прикусила язык. — Простите, Иосиф, — сказала она. — Он же все слышит и понимает! — шепотом сказала она нам. — Только сказать ничего не может. То есть, вроде, там что-то говорит… Но это видимость. Я же вижу образ его души. Все равно смешно. Я представил диктатора в мундире, бродящего по стеклянному дну банки, по ее стенкам, ощупывающего эти стенки… О чем он сейчас думает? О своем друге Бухарине? Потом Сталин, по словам Си, превратился в Калерию, которая нервно забегала по банке, что-то кричала, возмущалась… Мы с Костиком видели все того же таракана, который, действительно, слегка возбудился и забегал шустрее. Си улеглась на диван и заснула, она сильно устала. — Так! Теперь его надо в коллектив, — сказал Костик. — Зачем? — Посмотрим на поведение. Как он там будет стремиться к власти. Мы нашли в кухне стеклянную плошку с крышкой типа сковороды для микроволновки и с полчаса ловили в кухне тараканов. Набрали штук тридцать. Затем мы пометили Сталина лаком для ногтей, который нашли в косметичке Си. Костик двумя точными движениями нанес ему на крылья по одной алой точке. Крылья стали похожи на погоны, а таракан на генералиссимуса. И мы вбросили генералиссимуса в народ. — Ну-ка дай спироскоп! — потребовал Костик. Он надел очки, минуту обозревал стеклянную кастрюлю с тараканами, затем объявил: — Десять с какими-то душами, не считая Иосифа. Остальные бездушны. — С душами, наверное, интеллигенты, — предположил я. — Ага! — сказал Костик с непередаваемым сарказмом. И тут в мою комнату без стука ворвалась мадам Полуэктова. И сразу же устремилась к столу, на котором стояла стеклянная сковорода. — Ага! Я так и думала! Кто вам позволил брать мою посуду? — закричала она и только тут заметила, чем полна эта посуда. — А-ааа! — заорала она в ужасе, замахала руками и выскочила из комнаты. — М-да, влипли, — сказал Костик. — Слушай, надо прятать подопытных животных. А то потравят ведь. Иосифа изведут в два счета, — сказал я. — Ну душе-то его ничего не будет. Бессмертна, сука. Переберется куда-нибудь, — сказал Костик. — Придется ему в подполье уходить. Опять, как до революции, — пробормотала проснувшаяся от крика Си.
Глава 8. Похороны
На девятый день со дня смерти состоялись похороны Калерии Павловны. Отпевали в храме Святого Князя Владимира, что на Петроградской стороне, вблизи Дворца спорта «Юбилейный». Уже с утра там были заметны приготовления: прямо в притворе храма соорудили деревянный настил с задником, затянутым серебристой тканью и увитым еловыми ветками. Менеджер по продажам Макс бегал по двору с листком бумаги и командовал кому что делать. Метрах в пятидесяти от подиума стоял пульт, похожий на те, что употребляются на рок-концертах. Судя по всему, готовилось изрядное шоу. Я выполнял свои обычные обязанности руководителя службы безопасности, расставляя охранников по периметру двора и у входа. Гроб с телом тетки Сталин с утра стоял открытым в церкви, к нему постепенно стягивался народ. Надо сказать, что предстоящее отпевание и погребение вызвали немалый ажиотаж в политической жизни Петербурга. Мачик тоже приложил к этому руку, он добивался максимальной шумихи. Был погожий весенний день, воробьи купались в пыли у церковной ограды, солнце золотило купола. К одиннадцати часам во двор церкви прошествовал организованный отряд пенсионерок-сталинисток, экипированных красными флагами, повязками и транспарантом «Сталин и сейчас живее всех живых!» Оставив транспарант и флаги вне храма, пенсионерки, крестясь, зашли внутрь и заняли позицию у гроба. Среди них выделялась одна — штурмового вида, с красным розанчиком на старомодной шляпке и ярко накрашенными красными губами. На вид ей было лет восемьдесят, но бодрости хватало на двоих сорокалетних.
Скоро возникла и оппозиция в лице человек пяти пикетчиков от демократических сил, занявших места у ворот церкви. Там были три хиповатые девушки с плакатиками «Нет сталинизму!», пожилая руководительница, по виду диссидентка со стажем, и неопределенного возраста и цвета невзрачный человечек в помятой шляпе.
В храме немедленно прознали про оппонентов. Розанчик вышла на крыльцо, осенила себя крестом и достала мобильник. Сказав в трубку несколько слов, старуха снова спряталась в храме, успев погрозить диссидентам кулаком.
Минут через пятнадцать к собору торопливой походкой приблизился седобородый старец с матюгальником и, устроившись метрах в пятнадцати от диссидентов, начал поливать их лозунгами и проклятиями через рупор.
К этому времени во дворе уже стояла машина телевидения, а рядом бродили оператор с молоденькой редактрисой, у которой в руке был микрофон с надписью «ОРТ».
Мачик сумел подкупить Первый канал.
Становилось весело. Старец кричал в матюгальник:
— Сталин — наша слава боевая! Сталин — нашей юности полет!
На что хиповатые девушки скандировали тонкими голосами:
— Ста-лин ац-той! Ста-лин ац-той!
Калерия Павловна, съежившись, лежала в гробу с бумажной ленточкой поперек лба.
И тут к храму подъехала процессия из четырех черных «мерседесов», возглавляемая лимузином-катафалком непомерной длины. Из «мерседесов» принялись выгружаться грузины — все в черном, напоминавшие грачей с картины Саврасова. Возглавлял их пожилой грузный человек с властными жестами — по виду не меньше князя. Четверо молодых людей были в костюмах джигитов, в камзолах с газырями и кинжалами и в смушковых шапках. Они сразу же встали в почетный караул возле гроба.
Были и женщины — старые и молодые, в черных кружевных платках, и дети — бледненькие грузинские княжны с огромными печальными глазами, и даже один младенец, которого торжественно вынесли в роскошной коляске из катафалка, водрузили на колеса и ввезли в церковь.
Мачик появился из своей «ауди», расцеловался с грузным стариком, и они оба вошли в церковь.
Отпевание началось.
Молодой батюшка с бородкой принялся что-то выпевать, ему вторил басом дородный дьякон, служка подкидывал в кадило что-то, вероятно, топливо.
На хорах запели певчие, в храме было не повернуться из-за обилия зевак и журналистов.
Тетке Сталин предрекали вечную память, но было непонятно — к кому конкретно относится этот долгосрочный прогноз: к вождю народов или к скромной учительнице черчения.
Наконец служба подошла к концу, свечи были погашены и положены в гроб, а сам гроб накрыт крышкой.
Абреки подняли его на плечи и двинулись к выходу. Толпа потянулась следом, крестясь.
На улице гроб водрузили на подиум перед экраном, и тут рядом с гробом появилась Серафима Саровская, одетая в длинный малиновый балахон из парчи, в кокошнике и с непонятным жезлом в руке.
Это был китч, достойный кисти Глазунова.
Камеры и микрофоны обратились к Серафиме. Толпа застыла.
А Серафима, указывая жезлом на закрытый гроб, начала заупокойно вещать:
— Наступил девятый день, как преставилась раба Божия Калерия, и сегодня ее душа расстается с телом…
Заиграла музыка из колонок. Кажется, это был Григ, «Песня Сольвейг».
— Какую новую обитель изберет эта бессмертная и великая душа? — задала риторический вопрос Серафима. — Кто обретет эту душу? Кого она поведет по жизни, как вела своего великого обладателя?
Чем-то она напоминала стилистически ведущую программы «Слабое звено». При этом явно гнала. Вкусу ни на грош. Впрочем, это и нужно для толпы.
Раздался дружный «ах!» Это на серебристом экране появилось розовое облачко с крылышками, которое медленно поднималось кверху, трепеща этими крылышками, как стрекоза.
Облачко, очевидно, символизировало душу и управлялось лазерным лучом с пульта.
— Сейчас, сейчас мы узнаем — куда направляется душа! — вскричала Серафима.
Я тихо выругался.
Розовое облачко, потрепетав крылышками, сместилось вбок, переползло с экрана на стоящих справа от подиума людей в черном и уперлось в детскую коляску с кистями и кружевами, в которой спал грузинский младенец.
— Душа нашла себе обитель! Душа нашла себе обитель! — совершенно базарным голосом объявила Серафима.
Пожилой грузинский князь подскочил к коляске, извлек оттуда спящего младенца и вскинул его над головой.
— Иосиф Второй Туманишвили! — гаркнул он, обращаясь к толпе.
Ребенок, конечно, заорал, напуганный внезапным объявлением его наследником Сталина.
Никому уже неинтересную Калерию Павловну погрузили в автобус и повезли в крематорий. Сопровождали ее три старухи и девушки-антисталинистки в знак протеста.
Дважды потерявшая душу — один раз тайно в морге и второй публично и фиктивно — тетка Сталин отбыла в вечность, оставив своим официальным, но фальшивым преемником младенца Иосифа Туманишвили, а неофициальным, но настоящим — таракана Иосифа, сидевшего в стеклянной банке у меня дома.
Мачик положил в карман полмиллиона долларов за удачную продажу. Геополитические последствия этой сделки еще предстояло выяснить.
Оставив транспарант и флаги вне храма, пенсионерки, крестясь, зашли внутрь и заняли позицию у гроба. Среди них выделялась одна — штурмового вида, с красным розанчиком на старомодной шляпке и ярко накрашенными красными губами. На вид ей было лет восемьдесят, но бодрости хватало на двоих сорокалетних.
Скоро возникла и оппозиция в лице человек пяти пикетчиков от демократических сил, занявших места у ворот церкви. Там были три хиповатые девушки с плакатиками «Нет сталинизму!», пожилая руководительница, по виду диссидентка со стажем, и неопределенного возраста и цвета невзрачный человечек в помятой шляпе.
В храме немедленно прознали про оппонентов. Розанчик вышла на крыльцо, осенила себя крестом и достала мобильник. Сказав в трубку несколько слов, старуха снова спряталась в храме, успев погрозить диссидентам кулаком.
Минут через пятнадцать к собору торопливой походкой приблизился седобородый старец с матюгальником и, устроившись метрах в пятнадцати от диссидентов, начал поливать их лозунгами и проклятиями через рупор.
К этому времени во дворе уже стояла машина телевидения, а рядом бродили оператор с молоденькой редактрисой, у которой в руке был микрофон с надписью «ОРТ».
Мачик сумел подкупить Первый канал.
Становилось весело. Старец кричал в матюгальник:
— Сталин — наша слава боевая! Сталин — нашей юности полет!
На что хиповатые девушки скандировали тонкими голосами:
— Ста-лин ац-той! Ста-лин ац-той!
Калерия Павловна, съежившись, лежала в гробу с бумажной ленточкой поперек лба.
И тут к храму подъехала процессия из четырех черных «мерседесов», возглавляемая лимузином-катафалком непомерной длины. Из «мерседесов» принялись выгружаться грузины — все в черном, напоминавшие грачей с картины Саврасова. Возглавлял их пожилой грузный человек с властными жестами — по виду не меньше князя. Четверо молодых людей были в костюмах джигитов, в камзолах с газырями и кинжалами и в смушковых шапках. Они сразу же встали в почетный караул возле гроба.
Были и женщины — старые и молодые, в черных кружевных платках, и дети — бледненькие грузинские княжны с огромными печальными глазами, и даже один младенец, которого торжественно вынесли в роскошной коляске из катафалка, водрузили на колеса и ввезли в церковь.
Мачик появился из своей «ауди», расцеловался с грузным стариком, и они оба вошли в церковь.
Отпевание началось.
Молодой батюшка с бородкой принялся что-то выпевать, ему вторил басом дородный дьякон, служка подкидывал в кадило что-то, вероятно, топливо.
На хорах запели певчие, в храме было не повернуться из-за обилия зевак и журналистов.
Тетке Сталин предрекали вечную память, но было непонятно — к кому конкретно относится этот долгосрочный прогноз: к вождю народов или к скромной учительнице черчения.
Наконец служба подошла к концу, свечи были погашены и положены в гроб, а сам гроб накрыт крышкой.
Абреки подняли его на плечи и двинулись к выходу. Толпа потянулась следом, крестясь.
На улице гроб водрузили на подиум перед экраном, и тут рядом с гробом появилась Серафима Саровская, одетая в длинный малиновый балахон из парчи, в кокошнике и с непонятным жезлом в руке.
Это был китч, достойный кисти Глазунова.
Камеры и микрофоны обратились к Серафиме. Толпа застыла.
А Серафима, указывая жезлом на закрытый гроб, начала заупокойно вещать:
— Наступил девятый день, как преставилась раба Божия Калерия, и сегодня ее душа расстается с телом…
Заиграла музыка из колонок. Кажется, это был Григ, «Песня Сольвейг».
— Какую новую обитель изберет эта бессмертная и великая душа? — задала риторический вопрос Серафима. — Кто обретет эту душу? Кого она поведет по жизни, как вела своего великого обладателя?
Чем-то она напоминала стилистически ведущую программы «Слабое звено». При этом явно гнала. Вкусу ни на грош. Впрочем, это и нужно для толпы.
Раздался дружный «ах!» Это на серебристом экране появилось розовое облачко с крылышками, которое медленно поднималось кверху, трепеща этими крылышками, как стрекоза.
Облачко, очевидно, символизировало душу и управлялось лазерным лучом с пульта.
— Сейчас, сейчас мы узнаем — куда направляется душа! — вскричала Серафима.
Я тихо выругался.
Розовое облачко, потрепетав крылышками, сместилось вбок, переползло с экрана на стоящих справа от подиума людей в черном и уперлось в детскую коляску с кистями и кружевами, в которой спал грузинский младенец.
— Душа нашла себе обитель! Душа нашла себе обитель! — совершенно базарным голосом объявила Серафима.
Пожилой грузинский князь подскочил к коляске, извлек оттуда спящего младенца и вскинул его над головой.
— Иосиф Второй Туманишвили! — гаркнул он, обращаясь к толпе.
Ребенок, конечно, заорал, напуганный внезапным объявлением его наследником Сталина.
Никому уже неинтересную Калерию Павловну погрузили в автобус и повезли в крематорий. Сопровождали ее три старухи и девушки-антисталинистки в знак протеста.
Дважды потерявшая душу — один раз тайно в морге и второй публично и фиктивно — тетка Сталин отбыла в вечность, оставив своим официальным, но фальшивым преемником младенца Иосифа Туманишвили, а неофициальным, но настоящим — таракана Иосифа, сидевшего в стеклянной банке у меня дома.
Мачик положил в карман полмиллиона долларов за удачную продажу. Геополитические последствия этой сделки еще предстояло выяснить.
Глава 9. Шоу
Машина завертелась. Переселение души генералиссимуса из мертвой тетки в грузинского младенца, показанное в репортаже Первой программы, стало неплохой рекламой для шоу нашей Мадемуазель СиСи, которую стали именно так именовать в прессе, ибо называть ее «Мадемуазель ЭсЭс» было как-то неловко. Шоу называлось «Спросите ваши души». Название придумал режиссер Лева Цейтлин — рыжеволосый смешливый человек с мешком безумных идей, которого вся эта затея страшно веселила. Сценаристов было трое, они придумывали роли и инкарнации. Первая передача состоялась в пятницу сразу после программы «Время». К ней были подготовлены пятеро душманов, как сразу же стали называть участников шоу, рассказывающих о своих инкарнациях. Сценаристы постарались на славу. Среди душманов оказались актеры, обладавшие ранее душами древних римлян, крестоносцев, героев войны, путешественников, актеров немого кино, а также имелся один бывший крокодил из Нила, миниатюрная собачка и даже тюльпан, выросший на могиле солдата. Когда я услышал на репетиции эту историю, как тюльпан переговаривается с душой умершего солдата, которая переселилась в высокий дуб неподалеку, то мне тут же захотелось найти сценариста и дать ему по морде. Но у меня были в этом шоу другие функции. Я отвечал за безопасность и прежде всего — экономическую. А это значило, что все участники шоу, начиная от душманов-актеров и кончая осветителями, должны были дать мне подписку о неразглашении и пройти процедуру устрашения. Заключалась она в том, что я разговаривал с сотрудником в присутствии двух громил из охраны Мачика и недвусмысленно намекал, что при малейшей утечке информации придется иметь дело с ними. Эта процедура плюс высокие зарплаты нашего штата удерживали людей от болтливости. Впрочем, Мачик не особенно боялся утечек. Он понимал, что любая скандальность — это реклама, а проверить все равно некому. Свобода слова — это прежде всего свобода дезинформации. Она привела к тому, что печатному слову и вообще всему публичному перестали верить. И все же нам надо было быть осторожными, чтобы не дискредитировать идею с самого начала.Первую передачу я смотрел на экране в записи, которую сделала Си, поскольку прямой эфир требовал моего присутствия в студии. По этому случаю я приобрел видеомагнитофон. Просмотр сопровождался едкими комментариями Сигмы. Она не была бы женщиной, если бы не затаила в душе глубокую ревность к Мадемуазель СиСи. — Смотри, смотри! Ну это же содрано у меня, вот эти движения. И руки так же… Кто ей рассказал? Она не могла это видеть! Это ты рассказал? — допытывалась Си, глядя на экран. Чушь какая! Сквозь магазин Шнеерзона прошло сотни три людей. Любой мог рассказать и показать, как Сигма вытягивала из него душу. — Ну, а кто придумал этот тюльпан на могиле? Там у вас вообще есть люди со вкусом? — спрашивала она. Все это так, но когда молодая актриса, которая раньше была этим тюльпаном, рассказывала про душу Неизвестного солдата, укрывшуюся в дубе, многие зрители в студии плакали. Камера показывала их крупным планом. Слезы были настоящие и зрители тоже. — Кстати, ты этим скажи. Если душа поселилась в цветке — это очень высокое кармическое состояние. Обратно вселиться в человека ей уже трудно. Ей легче в другой цветок или в камень. — Куда? — В камень. Костиков спироскоп видит души в камнях. Они там есть. Не во всех, конечно. Во многих драгоценных. В камне, что под Медным всадником, есть душа, я его смотрела. А в самом всаднике нет. У этого камня забавная история. Он был финским крестьянином, потом оленем, зайцем, елкой… Ну и дошел до камня. — Это любопытно, но для наших сценаристов нет никаких преград. Ты думаешь, они станут руководствоваться твоими советами? — сказал я. — Ну и мудаки, — ответила Сигма и отвернулась от телевизора. А там, на экране, под рассказы душманов оживал огромный экран, который Лева Цейтлин расположил во всю сцену студии. На нем возникали картины, соответствующие рассказу душмана. Рассказ про крокодила был иллюстрирован фильмом Би-Би-Си о нильских аллигаторах и подробным рассказом об их повадках. И про крестоносцев показали, и про древних римлян. Передача имела явный познавательный оттенок. В конце всем подставным актерам выписывали сертификаты на их инкарнации, а Мадемуазель СиСи призывала зрителей участвовать в передаче. Надо сказать, что она выглядела вполне артистично и неплохо справилась с задачей. Вскоре рейтинг передачи достиг приличного уровня, но Мачику этого было мало. Нужно было затмить всех, а для этого в каждой передаче должна была участвовать «звезда». В приватной студии срочно готовили «великие души», натаскивали актеров. Между прочим, мне было поручено проверять, насколько хорошо эти подпольные «душманы» владеют материалом. Обычно я давал им список литературы по той или иной душе, они его прорабатывали, потом сдавали мне экзамен. Все это была работа впрок, потому как заказов пока на души великих не наблюдалось. Публичные люди присматривались к этому новому виду рекламы и не спешили выкладывать денежки за чью-то незнакомую душу. Внезапно поступила заявка от одного известного музыканта, который еще лет десять назад был очень знаменит, а теперь стал терять популярность. Он не сам заказал нам великую душу, а передал через своего администратора, что хотел бы участвовать в публичном сеансе на предмет выявления своих инкарнаций. Вероятно, его уверенность в себе была так велика, что он не сомневался в великолепии своей родословной. Это было бы прекрасно, если бы сеансы проводила Сигма. Но наша Мадемуазель СиСи не умела читать души, а натаскивать популярного артиста на роль Моцарта было как-то неудобно. Он мог поднять скандал и к нему бы прислушались. Мачик думал два дня, потом сказал Серафиме: — Запускай. Пусть импровизирует. Посмотрим, на что он способен. Я знал, что ББ (так его уже давно называли в прессе) способен на многое. Почему-то казалось, что его устроит Моцарт в качестве его предтечи. На худой конец Шопен. Но когда великого ББ ввели в студию и Мадемуазель СиСи, осенив его пассами, задала свой коронный вопрос: «Кто вы? Как ваше имя?» — великий артист, секунду подумав, сказал своим завораживающим голосом: — Сиддхарта Гаутама… И улыбнулся загадочно и как всегда обворожительно. Блин! Он одним ударом получил в духовные прародители основателя великой религии, похерил бизнес-план Мачика и поднял свою популярность на немыслимую высоту. И как мы забыли, что он недавно принял буддизм! Об этом даже в газетах писали. Короче, ББ обвел Мачика вокруг пальца, как ребенка.
 Из этого выступления последовало несколько выводов.
Во-первых, передача стала идти в записи.
Во-вторых, к участию в ней стали допускаться не только душманы, но и простые зрители, чьими письмами мы были буквально завалены. Теперь на каждом сеансе между ними проводилась лотерея, в результате которой определяли пятерых участников следующей передачи, которые назовут свои инкарнации. Мачик понял, что осечки не будет. Поведение участников диктовалось обстоятельствами и их собственной фантазией. Конечно, предварительно с ними работали, чтобы исключить появление среди них потомка Пушкина или Ван Гога, которые были нам самим нужны и слишком известны, чтобы расходовать их души на простых смертных. К этой работе был привлечен и я.
Поразительно, сколько вокруг безумцев! Работая с этими соискателями, я понял, что почти любой человек, если его хорошо копнуть, оказывается безумным. В нашем случае и копать глубоко не приходилось.
Я любил разговаривать с молоденькими девушками.
— Скажите, а кто ваш идеал?
— Шакира! — говорит она, округляя свои и без того круглые глаза.
— Кто это?
— Ну как же вы не знаете! Это же знаменитая певица!
— Певица? Она поет в Ла Скала? — спрашиваю я невозмутимо.
— Какая Ла Скала? Это такая группа? Она солистка!
— Поп-звезда, что ли?
— Да! Да! — она рада, что мы нашли наконец общий язык.
— Это значит, что вы были бы не против обладать душою этой Шакиры?
Она млеет. Она не может даже мечтать о таком счастье.
— Но она ведь жива? Не так ли? — спрашиваю я.
— Жива! Жива, конечно!
— Значит, ее душа занята, увы, — говорю я скорбно.
— А кого вы можете предложить? — спрашивает она озадаченно.
И я понимаю, что она готова на все. Еще несколько фраз — и она соглашалась на душу Марии-Луизы Францисканер, которая пела в венском кабаре в 1937–39 годах.
Я тщательно расписывал эту замечательную австрийку с пивной фамилией, давая волю своему воображению, а заодно размышляя, почему мне не приплачивают за создание сценария передачи.
Труднее всего было с фанатами Пушкина. Обычно это бывали огнеупорные старички, знающие наизусть «Евгения Онегина» и читающие его к месту и не к месту. Им страшно хотелось завладеть душой Пушкина. Они не знали, что душа Пушкина оценена в нашем прайсе в кругленькую сумму и ждет заказчика.
Все же запросы у людей неимоверные!
Старичков я валил беспощадно, как строгий экзаменатор. Обычно они проваливались на вопросе, а что же их душа делала после 1837 года вплоть до их рождения где-то в двадцатые годы. Все же почти сотню лет надо было перебиваться. Тут в ход шли какие-то туманные генерал-аншефы, поэты средней руки и даже фрейлины двора Его Императорского Величества.
На что я холодно и твердо возражал:
— Простите, но нам доподлинно известно, что в этот период душа великого поэта находилась за границей, вынашивая планы мести шевалье Дантесу.
И фанат Пушкина был бессилен перед этой чудовищной ложью.
Короче говоря, нас засасывала рутина шоу-бизнеса, а ожидаемого наплыва претендентов на души гениев не наблюдалось.
Как вдруг поступил крупный заказ.
Один из олигархов в изгнании, живущий в Лондоне, через посредников пожелал участвовать в сеансе мадемуазель СиСи, причем сеанс по вполне понятным причинам должен был проходить в режиме телемоста. Заказ был на удивление скромен — не Александр Македонский, не Черчилль и даже не Петр Первый, известный реформатор.
Олигарх заказал душу Александра Ивановича Герцена.
Мы кинулись собирать материал и искать душмана. Мачик предложил неожиданный ход — душа Герцена должна была, по его мнению, находиться у юной и прекрасной девушки. Олигарх по слухам был небезразличен к молодым особам.
Была срочно найдена красивая студентка филфака, которая за очень неплохую плату в три тысячи долларов согласилась проработать «Былое и думы» и ряд других материалов и вступить с олигархом в контакт.
Звали ее Ася. Я познакомился с нею и изложил наши условия конфиденциальности.
— Да что же я — дура? Я же понимаю, что у вас подстава. Не маленькая, — сказала она.
— Вам придется в личной беседе рассказать клиенту о душе Герцена как можно полнее, — сказал я.
— Он сам не может прочитать мемуары?
— Дело не в этом. Возможно, он их даже читал. Но вам нужно создать полную иллюзию того, что вы все знаете про Александра Ивановича.
— А кто клиент? — спросила она.
Я назвал фамилию.
Ася подумала и сказала:
— Тридцать тысяч.
— Чего тридцать тысяч? — не понял я.
— Мой гонорар.
— Но позвольте… — я был потрясен ее наглостью.
— Как хотите. Вы просто не найдете никого, кто прочитал бы этот том, — она указала на «Былое и думы».
Мачик, узнав об этом, расхохотался и неожиданно легко согласился.
— Молодец девка! — похвалил он Асю. — Держи ее в поле зрения.
Через две недели состоялся разговор с Лондоном по видеотелефону. На одном конце провода перед камерой сидел олигарх, на другом — Ася и мы с Мачиком в сторонке.
Я оценил гениальность Мачика лишь только включили камеры. Олигарх совершенно не ожидал увидеть красивую барышню в роли обладателя души Герцена. Он со свойственным ему скептицизмом собирался основательно проверить, не подсовывают ли ему фуфло, просто так отдавать свои три миллиона олигарх не был намерен.
Но, увидев Асю, смешался.
— Вы… Как вас зовут? — спросил он.
— Сейчас Ася Дашкова, а когда-то — Александр Иванович, — спокойно ответила она.
— Хм, я все же буду звать вас Асей, если вы не возражаете, — в голосе олигарха появились игривые нотки.
Мачик хлопнул себя по колену, довольный. Он переиграл олигарха.
А дальше Ася с потрясающим профессионализмом и недюжинной фантазией поведала олигарху о Герцене столько подробностей, что хватило бы еще на одни «Былое и думы». Боже, что она рассказывала об Огареве! Какие детали издания «Колокола» приводила, вплоть до цен на бумагу!
Олигарх, судя по всему, тоже прочитал мемуары Герцена, так что их разговор временами напоминал воспоминания старых денди.
— Огарев обещал мне стихи к номеру, — рассказывала Ася, — и мы встретились на Риджент-стрит, в пабе…
— В том, что в одном квартале от Вестминстера? — спросил олигарх.
— Нет, в трех, к Гайд-парку.
— Там нет паба.
— Сейчас нет. А раньше был… — парировала Ася. — Но стихов он не принес, а принес счет за квартиру…
— Здесь очень дорогие квартиры, — посетовал олигарх.
— Я знаю, — кивнула Ася.
Мы с Мачиком слушали, временами забывая, что перед нами не скромная студентка-филолог, а сам Александр Иванович Герцен собственной персоной.
— Приезжайте в Лондон, вы здесь давно не были, — на прощанье сказал олигарх.
— Приглашайте, приеду, — согласилась Ася.
Контракт был подписан, и еще через неделю в режиме телемоста олигарх вещал Мадемуазель СиСи и всей России все то, что он узнал от Аси — и про встречу с Огаревым, и о пабе на Риджент-стрит, и про издание «Колокола» и ценах на бумагу. От себя он прибавил лишь несколько выпадов в адрес царского правительства и призывов к революции, за которыми легко читались его претензии к правительству нынешней России.
А студентка-филолог, получив честно заработанные тридцать тысяч баксов действительно поехала в Лондон, правда, по туристской путевке.
Сеанс с олигархом прорвал плотину. К нам хлынули политики всех мастей, которые поняли, что публичный сеанс не только может придать весу их персонам, но и дать возможность от имени великой души поносить нынешние власти.
Мы сразу стали знамениты и востребованы, как нынче говорится. Дня не проходило, чтобы Мадемуазель СиСи не появлялась в каком-нибудь популярном ток-шоу, где она довольно бойко рассуждала о душе, цитировала Пастернака и Блока, а прощаясь со зрителями неизменно говорила:
— Спросите ваши души!
И улыбалась просветленно и многозначительно.
Из этого выступления последовало несколько выводов.
Во-первых, передача стала идти в записи.
Во-вторых, к участию в ней стали допускаться не только душманы, но и простые зрители, чьими письмами мы были буквально завалены. Теперь на каждом сеансе между ними проводилась лотерея, в результате которой определяли пятерых участников следующей передачи, которые назовут свои инкарнации. Мачик понял, что осечки не будет. Поведение участников диктовалось обстоятельствами и их собственной фантазией. Конечно, предварительно с ними работали, чтобы исключить появление среди них потомка Пушкина или Ван Гога, которые были нам самим нужны и слишком известны, чтобы расходовать их души на простых смертных. К этой работе был привлечен и я.
Поразительно, сколько вокруг безумцев! Работая с этими соискателями, я понял, что почти любой человек, если его хорошо копнуть, оказывается безумным. В нашем случае и копать глубоко не приходилось.
Я любил разговаривать с молоденькими девушками.
— Скажите, а кто ваш идеал?
— Шакира! — говорит она, округляя свои и без того круглые глаза.
— Кто это?
— Ну как же вы не знаете! Это же знаменитая певица!
— Певица? Она поет в Ла Скала? — спрашиваю я невозмутимо.
— Какая Ла Скала? Это такая группа? Она солистка!
— Поп-звезда, что ли?
— Да! Да! — она рада, что мы нашли наконец общий язык.
— Это значит, что вы были бы не против обладать душою этой Шакиры?
Она млеет. Она не может даже мечтать о таком счастье.
— Но она ведь жива? Не так ли? — спрашиваю я.
— Жива! Жива, конечно!
— Значит, ее душа занята, увы, — говорю я скорбно.
— А кого вы можете предложить? — спрашивает она озадаченно.
И я понимаю, что она готова на все. Еще несколько фраз — и она соглашалась на душу Марии-Луизы Францисканер, которая пела в венском кабаре в 1937–39 годах.
Я тщательно расписывал эту замечательную австрийку с пивной фамилией, давая волю своему воображению, а заодно размышляя, почему мне не приплачивают за создание сценария передачи.
Труднее всего было с фанатами Пушкина. Обычно это бывали огнеупорные старички, знающие наизусть «Евгения Онегина» и читающие его к месту и не к месту. Им страшно хотелось завладеть душой Пушкина. Они не знали, что душа Пушкина оценена в нашем прайсе в кругленькую сумму и ждет заказчика.
Все же запросы у людей неимоверные!
Старичков я валил беспощадно, как строгий экзаменатор. Обычно они проваливались на вопросе, а что же их душа делала после 1837 года вплоть до их рождения где-то в двадцатые годы. Все же почти сотню лет надо было перебиваться. Тут в ход шли какие-то туманные генерал-аншефы, поэты средней руки и даже фрейлины двора Его Императорского Величества.
На что я холодно и твердо возражал:
— Простите, но нам доподлинно известно, что в этот период душа великого поэта находилась за границей, вынашивая планы мести шевалье Дантесу.
И фанат Пушкина был бессилен перед этой чудовищной ложью.
Короче говоря, нас засасывала рутина шоу-бизнеса, а ожидаемого наплыва претендентов на души гениев не наблюдалось.
Как вдруг поступил крупный заказ.
Один из олигархов в изгнании, живущий в Лондоне, через посредников пожелал участвовать в сеансе мадемуазель СиСи, причем сеанс по вполне понятным причинам должен был проходить в режиме телемоста. Заказ был на удивление скромен — не Александр Македонский, не Черчилль и даже не Петр Первый, известный реформатор.
Олигарх заказал душу Александра Ивановича Герцена.
Мы кинулись собирать материал и искать душмана. Мачик предложил неожиданный ход — душа Герцена должна была, по его мнению, находиться у юной и прекрасной девушки. Олигарх по слухам был небезразличен к молодым особам.
Была срочно найдена красивая студентка филфака, которая за очень неплохую плату в три тысячи долларов согласилась проработать «Былое и думы» и ряд других материалов и вступить с олигархом в контакт.
Звали ее Ася. Я познакомился с нею и изложил наши условия конфиденциальности.
— Да что же я — дура? Я же понимаю, что у вас подстава. Не маленькая, — сказала она.
— Вам придется в личной беседе рассказать клиенту о душе Герцена как можно полнее, — сказал я.
— Он сам не может прочитать мемуары?
— Дело не в этом. Возможно, он их даже читал. Но вам нужно создать полную иллюзию того, что вы все знаете про Александра Ивановича.
— А кто клиент? — спросила она.
Я назвал фамилию.
Ася подумала и сказала:
— Тридцать тысяч.
— Чего тридцать тысяч? — не понял я.
— Мой гонорар.
— Но позвольте… — я был потрясен ее наглостью.
— Как хотите. Вы просто не найдете никого, кто прочитал бы этот том, — она указала на «Былое и думы».
Мачик, узнав об этом, расхохотался и неожиданно легко согласился.
— Молодец девка! — похвалил он Асю. — Держи ее в поле зрения.
Через две недели состоялся разговор с Лондоном по видеотелефону. На одном конце провода перед камерой сидел олигарх, на другом — Ася и мы с Мачиком в сторонке.
Я оценил гениальность Мачика лишь только включили камеры. Олигарх совершенно не ожидал увидеть красивую барышню в роли обладателя души Герцена. Он со свойственным ему скептицизмом собирался основательно проверить, не подсовывают ли ему фуфло, просто так отдавать свои три миллиона олигарх не был намерен.
Но, увидев Асю, смешался.
— Вы… Как вас зовут? — спросил он.
— Сейчас Ася Дашкова, а когда-то — Александр Иванович, — спокойно ответила она.
— Хм, я все же буду звать вас Асей, если вы не возражаете, — в голосе олигарха появились игривые нотки.
Мачик хлопнул себя по колену, довольный. Он переиграл олигарха.
А дальше Ася с потрясающим профессионализмом и недюжинной фантазией поведала олигарху о Герцене столько подробностей, что хватило бы еще на одни «Былое и думы». Боже, что она рассказывала об Огареве! Какие детали издания «Колокола» приводила, вплоть до цен на бумагу!
Олигарх, судя по всему, тоже прочитал мемуары Герцена, так что их разговор временами напоминал воспоминания старых денди.
— Огарев обещал мне стихи к номеру, — рассказывала Ася, — и мы встретились на Риджент-стрит, в пабе…
— В том, что в одном квартале от Вестминстера? — спросил олигарх.
— Нет, в трех, к Гайд-парку.
— Там нет паба.
— Сейчас нет. А раньше был… — парировала Ася. — Но стихов он не принес, а принес счет за квартиру…
— Здесь очень дорогие квартиры, — посетовал олигарх.
— Я знаю, — кивнула Ася.
Мы с Мачиком слушали, временами забывая, что перед нами не скромная студентка-филолог, а сам Александр Иванович Герцен собственной персоной.
— Приезжайте в Лондон, вы здесь давно не были, — на прощанье сказал олигарх.
— Приглашайте, приеду, — согласилась Ася.
Контракт был подписан, и еще через неделю в режиме телемоста олигарх вещал Мадемуазель СиСи и всей России все то, что он узнал от Аси — и про встречу с Огаревым, и о пабе на Риджент-стрит, и про издание «Колокола» и ценах на бумагу. От себя он прибавил лишь несколько выпадов в адрес царского правительства и призывов к революции, за которыми легко читались его претензии к правительству нынешней России.
А студентка-филолог, получив честно заработанные тридцать тысяч баксов действительно поехала в Лондон, правда, по туристской путевке.
Сеанс с олигархом прорвал плотину. К нам хлынули политики всех мастей, которые поняли, что публичный сеанс не только может придать весу их персонам, но и дать возможность от имени великой души поносить нынешние власти.
Мы сразу стали знамениты и востребованы, как нынче говорится. Дня не проходило, чтобы Мадемуазель СиСи не появлялась в каком-нибудь популярном ток-шоу, где она довольно бойко рассуждала о душе, цитировала Пастернака и Блока, а прощаясь со зрителями неизменно говорила:
— Спросите ваши души!
И улыбалась просветленно и многозначительно.
Нечего и говорить, как это бесило Сигму. — Ты сама от этого отказалась, — сказал я ей, когда она после очередного ток-шоу наливала себе в рюмку коньяк. — Думаешь, я хочу быть на ее месте? Фигушки! Мне за души обидно. Лезут в них всякие, ковыряются… Ненавижу. Мы с Мачиком и Лева Цейтлин тоже удостаивались внимания журналистов. Мачик обычно излагал статистические данные. Уже несколько десятков знаменитых душ было обнаружено и закреплено за владельцами. И что удивительно — все эти души принадлежали либо знаменитым ныне людям, либо очень богатым. Это само собою наводило на мысль о преемственности славы, талантов, способностей. Получалось, что какое бы тело ни избрала душа, это тело непременно добивалось успеха. И в этом, конечно, была своя логика. Исключением пока была лишь мертвая тетка Сталин. Вспоминая о ней, Мачик разводил руками и говорил, что нет правил без исключений. Хотя мы-то с Сигмой и Костиком знали, в каких ординарных телах обитают подчас души, которые принадлежали знаменитостям. Сигма уже самостоятельно обнаружила душу Маяковского, которая мирно таилась в грузном теле гаишника, обычно дежурившего на перекрестке неподалеку от нашего дома. Гаишник был как гаишник, срубал себе рубли с водителей и не думал о мировой славе. В нашем активе были также души изобретателя радио Попова, бегуна Владимира Куца и большого сукина сына Николая Ежова, наркома внутренних дел. Душа Ежова нынче обитала в пенсионерке Саватеевой, которая вечно сидела на лавочке перед нашим подъездом и злобно комментировала происходящие вокруг события. — И чего собак заводят? Лают и срут, — говорила Саватеева, завидев собачку. Между тем, некоторые собачки являлись вместилищами душ балерин и учительниц русского языка и литературы, что, согласимся, гораздо лучше, чем палач и губитель Ежов. Но, по Мачику, все было наоборот. Капитал души не растрачивался, это создавало в обществе мнение, что все устроено справедливо. И ты олигарх не потому, что наворовал кучу добра, а потому, что в тебе роет землю носом душа Герцена.
До меня журналисты добирались не так часто, и по их вопросам я понимал, что меня считают чуть ли не «серым кардиналом» проекта. Вероятно, отсеянные мною безумные фанаты Пушкина и безмозглые девицы создали слух, что непосредственным отбором кандидатов на передачу занимаюсь я. На самом же деле я работал только с «самотеком», душманами занимались Лева Цейтлин и его ассистенты. — Душа — очень тонкий инструмент, — объяснял я интервьюерам. — Мы не должны допускать, чтобы сеанс слишком сильно подействовал на кандидата. Ведь недаром есть понятие душевной болезни. Моя задача состоит в том, чтобы распознать среди кандидатов неустойчивые психически натуры и исключить возможность душевной травмы… — Так ты, стало быть, психотерапевт? — насмешливо спросила Сигма, прочитав мое интервью в газете. — По сути да, — кивнул я. — Пожадничал твой Мачик нанять профессионала… — Просто не хотел лишних посвященных в наше фуфло, — объяснил я. — О’кей. Но учти, что душа — не инструмент. Это ты — инструмент для нее. Я чувствовал, что Си все больше отдаляется от меня, благодаря нашей программе «Спросите ваши души». И хотя мы по-прежнему спали в одной постели, как брат с сестрой, мы потихоньку становились чужими, и я боялся, что можем стать врагами. Особенно ясно это стало, когда Си вдруг купила попугая-какаду расцветки итальянского флага и научила его орать скрипучим голосом по утрам: — Спр-рросите ваши души! Спр-рросите ваши души! Это было невыносимо.
Глава 10. Опыты с тараканами
Настала пора рассказать, чем же занимались Сигма с Костиком, пока я не покладая рук трудился в проекте Мачика. Они тоже не теряли времени даром. По вечерам, возвращаясь с работы вымотанным, я замечал какие-то новшества в тараканьем хозяйстве или же Сигма, если у нее было настроение, рассказывала мне о том, что им удалось узнать или сделать. Они познавали души с помощью дара Сигмы, оснащенного спироскопом и спирососом.Нас особенно интересовал таракан Иосиф, к нему в банку заглядывали регулярно и отмечали происходящие там события. Тараканов в банке было около сотни. Из них одушевленных — десятка полтора, не больше. Я всегда мог их различить, поглядев в банку сквозь спироскоп. Вскоре мы с Костиком пометили их белыми пятнышками на спине. Иерархия в банке была четкая. Таракан Иосиф обычно сидел у стенки, окруженный группкой из пяти тараканов, которых мы прозвали Политбюро и среди которых одушевленных не было. Далее был круг бойцовых тараканов, которые вечно дрались из-за пищи и просто так от скуки. Среди них уже попадались одушевленные, был даже один бывший католический священник, два пирата и бандерша публичного дома. Именно они первыми набрасывались на пищу, оттаскивали лакомые кусочки в Политбюро и шефу, остальное делили между собой, но съесть всего не могли и остатки подбирали рядовые тараканы. Время от времени вся колония приходила в сильнейшее возбуждение, таракан Иосиф взбирался на стенку, но невысоко — сантиметров на пять — и там шевелил своими черными усами, а внизу бесновались приспешники. Обычно это заканчивалось убийством одного-двух тараканов, причем какой-либо закономерности нам установить не удалось. Погибали и тараканы из народа, и охрана, и даже члены Политбюро. Причин этих зверств мы тоже не могли доискаться. Когда погибал таракан с душой, мы старались выловить его душу спирососом и загнать в другого таракана. Интересно, что если это был член Политбюро, то, поимев душу, даже весьма сомнительную в виде бродяги с Кузнечного рынка, он обычно недолго удерживался в Политбюро. Его либо разрывали на куски, либо оттесняли на периферию банки. Иосиф ел мало, его руководящие действия почти не прослеживались, он только шевелил усами, вероятно, подавая какие-то сигналы. Природа его власти была непонятна, хотя власть чувствовалась несомненно. В другой банке Сигма держала тараканов исключительно с душами растений. Она собирала их спирососом в Ботаническом саду. Сигма утверждала, что эти души весьма развиты, тонки и поэтичны. Руководителя этой банки мы обнаружить не смогли, там все происходило на редкость демократично. Однако убивали и там, как это ни прискорбно! Время от времени мы находили останки демократического одушевленного таракана, причем обычно около них сидели окаменевшие его соратники, предаваясь скорби. Остальные делали вид, что ничего особенного не произошло. Типа попал под поезд. Хотя мы видели, что он умер насильственной смертью — всюду валялись обломки крыльев икуски усов. Однажды в воскресенье, пользуясь отсутствием Сигмы, которая отправилась в Ботанический сад с пробиркой, полной тараканов, и спирососом, я пересадил Иосифа из коммунистической банки в демократическую. Просто взял его пинцетом поперек туловища со звездами на крыльях и кинул в банку к демократам. И сел наблюдать. В обеих банках сначала возникло замешательство. У коммунистов первыми взволновались члены Политбюро, которые, трепеща усами, кинулись обследовать место, где только что сидел Иосиф. Вероятно, у них возникла совершенно справедливая мысль, что он вознесся. Вскоре я заметил, что один из членов Политбюро подолгу задерживается на месте лежанки Иосифа и даже пробует там заснуть. Это не понравилось другому таракану из руководства, и он с соратниками буквально за усы стащил самозванца с руководящего места и сам его занял. А того кинули на растерзание охране. В народе же ничего особенного не произошло. В банке с демократами появление Иосифа вызвало небольшую панику, какие-то храбрые тараканы полезли на стенку, чтобы оттуда призвать сообщество к борьбе, но Иосиф дотронулся своими длинными усами до нескольких тараканов, те мгновенно образовали кольцо вокруг него, а дальше в течение всего двух часов в банке демократов установилась иерархия, подобная банке с коммунистами. Пламенные борцы на стенках были стащены за ноги и казнены. Я подождал, пока утихнут революции, и произвел обратную операцию. Вернул Иосифа в его банку. Через час я имел в этой банке гору трупов, Иосифа на прежнем месте и полностью обновленный состав Политбюро. А у демократов приспешники Иосифа выдвинули нового вождя, но мирным путем, и строй там на демократический обратно не изменился. Из чего я сделал вывод, что авторитарный строй устойчивее демократического. Кстати, в банке коммунистов в Политбюро появились одушевленные тараканы. Все же какой-то прогресс.
 Тут как раз вернулась из Ботанического сада Сигма.
Когда она вошла, похожая на ученого-энтомолога, в комбинезоне с кучей карманов, из которых торчали пробирки, заткнутые специальными пробочками с отверстием для доступа воздуха, с трубочками спирососа, свисавшими из сумочки на боку, попугай крикнул фельдфебельским голосом:
— Спросите ваши души!!
Я ей рассказал о своих опытах, но она была равнодушна к социуму тараканов, ее интересовали индивидуальности.
— Ты можешь строить социологические модели, наблюдая за тараканами, — предложил я.
Мне как-то хотелось пристроить ее к общественно-полезным занятиям.
— У меня есть дела поинтереснее, — сказала она. — Скоро они узнают!
Я понял, что «они» — это мы с Мачиком и всей честной компанией.
То есть, нечестной.
В смысле нечестной.
— Посмотри, — она вытащила пробирку из кармана. В пробирке сидел таракан, такой же, как и все.
— Когда-то он был Тимирязевым, — сказала она.
Таракан Тимирязев глянул на меня из пробирки, как мне показалось, надменно.
— Удача… — пробормотал я. — И что ты с ним будешь делать?
— Есть планы, — неопределенно проговорила Сигма. — Я должна сначала закончить теорию.
— Чего-о?? — удивился я.
— Теорию души. Я уже почти все знаю. Вот послушай.
Сигма уселась по-турецки на тахту и принялась рассказывать мне свою теорию души.
По словам Сигмы, Господь Бог, сотворив человека и всю живность, одухотворил их и наградил душой. Все, что тогда имелось в наличии, получило душу, а душа означала ни больше ни меньше как возможность свободного творчества.
Да, всего лишь так. Возможность творить свободно. И прежде всего свою собственную жизнь. Поскольку людей тогда было немного, Бог расселил души во всем, что было — вплоть до каждой травинки.
Это и называлось Раем, когда у всех была душа.
А потом душ стало на всех не хватать, сейчас в мире большой дефицит душ. Время от времени, когда Господу Богу это надоедает, он уменьшает количество особей на Земле, пользуясь войнами, эпидемиями, массовыми репрессиями и разного рода стихийными бедствиями…
— Слушай, ты это серьезно? Про Бога и вообще… — не выдержал я.
— Дурак! Ты это можешь объяснить по-другому? Не хочешь слушать — не надо! — рассердилась Сигма.
— Хочу, хочу… Прости.
А дальше началась свободная циркуляция душ — рождения и смерти, переход душ от одних живых существ к другим. Люди размножались, и Господь Бог понял, что помимо души им нужно еще что-то, чтобы направлять ее движение. Душа была слишком спонтанна.
И Бог создал талант и стал давать его каждому человеку при рождении. Но, в отличие от души, талант смертен. Он может умереть вместе с человеком, а иногда и раньше. Талант есть у всех, даже у людей, лишенных души. Но каков этот талант, человек не знает. Дело души — вытащить его наружу.
То есть там очень серьезное взаимодействие. Душа выявляет талант, а он управляет ею. Конечно, не полностью, душа сохраняет вольность, но общий вектор движения задает талант.
— А как же родители? Воспитание? — вставил я.
— Да, это тоже, — кивнула Си. — Наследственность и воспитание влияют. И вот когда эти четыре фактора находятся в гармонии и помогают друг другу, получается удивительный результат. Получается гений.
— Пушкин! — опять встрял я.
— Ну чего вы носитесь с Пушкиным? Чего? Да, Пушкин — гений, но зачем ломать стулья? Если хочешь знать, талант поэта, певца, художника — не главный в иерархии талантов. То есть, не самый редкий.
— А какой же?
— Талант жить, — сказала Сигма.
— То есть устраиваться?
— Джин, ты сегодня очень глуп, — сказала Сигма. — Поэтому я занятие прекращаю.
— Ну, Сигмочка! Ласточка! — взмолился я.
— Я такая же ласточка, как ты кардинал Ришелье, — сказала она. — Иди мой посуду.
Я вспомнил, что сегодня моя очередь мыть посуду, и поплелся на кухню, где застал мадам Полуэктову в компании двух румяных теток с ведрами и шлангами. Если бы не размеры этих шлангов, я бы подумал, что они тоже занимаются ловлей душ.
Но они занимались совсем другим. Они уничтожали тараканов. И вызвала их мадам Полуэктова.
— Вот хорошо, что вы пришли, Евгений, — сказала Полуэктова. — У вас тоже нужно продезинфицировать. Вся квартира должна быть обработана.
— Зачем?
— У вас ведь тоже есть тараканы!
— Есть, — кивнул я, вспомнив Иосифа. — Но они… нам нужны.
— Как это? Не спорьте, вот предписание ЖРЭУ, — и она потрясла в воздухе какой-то бумажкой.
— Ну, мы начинаем! — бодро сказала одна из теток и направила шланг на стену.
Из шланга полился поток мутной жидкости.
Я бросился обратно в нашу комнату.
— Си, тараканов выводят!
Си мгновенно подхватилась и стала собирать нашу тараканью лабораторию. Она и не подумала идти качать права и заявлять о неприкосновенности жилища, потому что к тому времени отношения с Полуэктовыми достигли полной враждебности. Дело уже не ограничивалось участковым, мадам Полуэктова подала на меня в суд, требуя лишить права на жилплощадь. Между прочим, в ее исковом заявлении фигуроровали и тараканы.
«…А также занимается искусственным разведением тараканов», — так она описывала наши опыты. Если бы она знала правду!
Си собрала наши стеклянные банки, обтянутые сверху марлей, в большую сумку, переложив их полотенцами, чтобы они не брякали, засунула в карманы спиротехнику и выпорхнула из квартиры, сообщив мне:
— Я буду в Ботаническом саду!
А я остался воевать с тараканами. То есть, прошу прощения, с тетками.
Несмотря на мои протесты, тетки вторглись ко мне и залили комнату вонючей жидкостью, так что я едва успел схватить клетку с попугаем и тоже сбежать в Ботанический сад.
Между прочим, попугай Мамалюк (имя дала Сигма) при покупке был проверен на наличие души и таковой не обнаружил. Сигма тщательно подбирала ему душу, обследуя разные растения, и остановилась на душе старого дуба, который в разные времена был мамонтом, татарским сборщиком податей Мамалаем и актером Мамонтом Дальским. То есть прослеживалась какая-то тенденция в имени.
Сигма сидела на скамейке в укромном уголке сада и, нацепив на нос спироскоп, разглядывала цветочки. Все банки с тараканами грелись на солнышке. В банке с тараканом Иосифом, вероятно, происходил съезд партии, потому что все тараканы выстроились в правильное каре и в такт взмахивали усами.
Я поставил клетку с Мамалюком на дорожку и сел рядом с Сигмой.
— Ничего страшного, проветрим комнату, — сказал я.
Сигма повернулась ко мне, не снимая спироскопа.
— Джин, у тебя душа куда-то съехала, — сказала она.
— Куда это она съехала? — недовольно спросил я.
— Ну, там где-то, в животе, — пояснила она.
Это мне не понравилось.
— Скажи лучше, как нам быть с соседкой…
— Я уже придумала, — сказала Сигма. — Увидишь.
Тут как раз вернулась из Ботанического сада Сигма.
Когда она вошла, похожая на ученого-энтомолога, в комбинезоне с кучей карманов, из которых торчали пробирки, заткнутые специальными пробочками с отверстием для доступа воздуха, с трубочками спирососа, свисавшими из сумочки на боку, попугай крикнул фельдфебельским голосом:
— Спросите ваши души!!
Я ей рассказал о своих опытах, но она была равнодушна к социуму тараканов, ее интересовали индивидуальности.
— Ты можешь строить социологические модели, наблюдая за тараканами, — предложил я.
Мне как-то хотелось пристроить ее к общественно-полезным занятиям.
— У меня есть дела поинтереснее, — сказала она. — Скоро они узнают!
Я понял, что «они» — это мы с Мачиком и всей честной компанией.
То есть, нечестной.
В смысле нечестной.
— Посмотри, — она вытащила пробирку из кармана. В пробирке сидел таракан, такой же, как и все.
— Когда-то он был Тимирязевым, — сказала она.
Таракан Тимирязев глянул на меня из пробирки, как мне показалось, надменно.
— Удача… — пробормотал я. — И что ты с ним будешь делать?
— Есть планы, — неопределенно проговорила Сигма. — Я должна сначала закончить теорию.
— Чего-о?? — удивился я.
— Теорию души. Я уже почти все знаю. Вот послушай.
Сигма уселась по-турецки на тахту и принялась рассказывать мне свою теорию души.
По словам Сигмы, Господь Бог, сотворив человека и всю живность, одухотворил их и наградил душой. Все, что тогда имелось в наличии, получило душу, а душа означала ни больше ни меньше как возможность свободного творчества.
Да, всего лишь так. Возможность творить свободно. И прежде всего свою собственную жизнь. Поскольку людей тогда было немного, Бог расселил души во всем, что было — вплоть до каждой травинки.
Это и называлось Раем, когда у всех была душа.
А потом душ стало на всех не хватать, сейчас в мире большой дефицит душ. Время от времени, когда Господу Богу это надоедает, он уменьшает количество особей на Земле, пользуясь войнами, эпидемиями, массовыми репрессиями и разного рода стихийными бедствиями…
— Слушай, ты это серьезно? Про Бога и вообще… — не выдержал я.
— Дурак! Ты это можешь объяснить по-другому? Не хочешь слушать — не надо! — рассердилась Сигма.
— Хочу, хочу… Прости.
А дальше началась свободная циркуляция душ — рождения и смерти, переход душ от одних живых существ к другим. Люди размножались, и Господь Бог понял, что помимо души им нужно еще что-то, чтобы направлять ее движение. Душа была слишком спонтанна.
И Бог создал талант и стал давать его каждому человеку при рождении. Но, в отличие от души, талант смертен. Он может умереть вместе с человеком, а иногда и раньше. Талант есть у всех, даже у людей, лишенных души. Но каков этот талант, человек не знает. Дело души — вытащить его наружу.
То есть там очень серьезное взаимодействие. Душа выявляет талант, а он управляет ею. Конечно, не полностью, душа сохраняет вольность, но общий вектор движения задает талант.
— А как же родители? Воспитание? — вставил я.
— Да, это тоже, — кивнула Си. — Наследственность и воспитание влияют. И вот когда эти четыре фактора находятся в гармонии и помогают друг другу, получается удивительный результат. Получается гений.
— Пушкин! — опять встрял я.
— Ну чего вы носитесь с Пушкиным? Чего? Да, Пушкин — гений, но зачем ломать стулья? Если хочешь знать, талант поэта, певца, художника — не главный в иерархии талантов. То есть, не самый редкий.
— А какой же?
— Талант жить, — сказала Сигма.
— То есть устраиваться?
— Джин, ты сегодня очень глуп, — сказала Сигма. — Поэтому я занятие прекращаю.
— Ну, Сигмочка! Ласточка! — взмолился я.
— Я такая же ласточка, как ты кардинал Ришелье, — сказала она. — Иди мой посуду.
Я вспомнил, что сегодня моя очередь мыть посуду, и поплелся на кухню, где застал мадам Полуэктову в компании двух румяных теток с ведрами и шлангами. Если бы не размеры этих шлангов, я бы подумал, что они тоже занимаются ловлей душ.
Но они занимались совсем другим. Они уничтожали тараканов. И вызвала их мадам Полуэктова.
— Вот хорошо, что вы пришли, Евгений, — сказала Полуэктова. — У вас тоже нужно продезинфицировать. Вся квартира должна быть обработана.
— Зачем?
— У вас ведь тоже есть тараканы!
— Есть, — кивнул я, вспомнив Иосифа. — Но они… нам нужны.
— Как это? Не спорьте, вот предписание ЖРЭУ, — и она потрясла в воздухе какой-то бумажкой.
— Ну, мы начинаем! — бодро сказала одна из теток и направила шланг на стену.
Из шланга полился поток мутной жидкости.
Я бросился обратно в нашу комнату.
— Си, тараканов выводят!
Си мгновенно подхватилась и стала собирать нашу тараканью лабораторию. Она и не подумала идти качать права и заявлять о неприкосновенности жилища, потому что к тому времени отношения с Полуэктовыми достигли полной враждебности. Дело уже не ограничивалось участковым, мадам Полуэктова подала на меня в суд, требуя лишить права на жилплощадь. Между прочим, в ее исковом заявлении фигуроровали и тараканы.
«…А также занимается искусственным разведением тараканов», — так она описывала наши опыты. Если бы она знала правду!
Си собрала наши стеклянные банки, обтянутые сверху марлей, в большую сумку, переложив их полотенцами, чтобы они не брякали, засунула в карманы спиротехнику и выпорхнула из квартиры, сообщив мне:
— Я буду в Ботаническом саду!
А я остался воевать с тараканами. То есть, прошу прощения, с тетками.
Несмотря на мои протесты, тетки вторглись ко мне и залили комнату вонючей жидкостью, так что я едва успел схватить клетку с попугаем и тоже сбежать в Ботанический сад.
Между прочим, попугай Мамалюк (имя дала Сигма) при покупке был проверен на наличие души и таковой не обнаружил. Сигма тщательно подбирала ему душу, обследуя разные растения, и остановилась на душе старого дуба, который в разные времена был мамонтом, татарским сборщиком податей Мамалаем и актером Мамонтом Дальским. То есть прослеживалась какая-то тенденция в имени.
Сигма сидела на скамейке в укромном уголке сада и, нацепив на нос спироскоп, разглядывала цветочки. Все банки с тараканами грелись на солнышке. В банке с тараканом Иосифом, вероятно, происходил съезд партии, потому что все тараканы выстроились в правильное каре и в такт взмахивали усами.
Я поставил клетку с Мамалюком на дорожку и сел рядом с Сигмой.
— Ничего страшного, проветрим комнату, — сказал я.
Сигма повернулась ко мне, не снимая спироскопа.
— Джин, у тебя душа куда-то съехала, — сказала она.
— Куда это она съехала? — недовольно спросил я.
— Ну, там где-то, в животе, — пояснила она.
Это мне не понравилось.
— Скажи лучше, как нам быть с соседкой…
— Я уже придумала, — сказала Сигма. — Увидишь.
И я действительно увидел. Через три дня Полуэктова забрала свое исковое заявление и сообщила мне об этом. К этому времени мы хорошо проветрили комнату и водрузили банки на место, но новых тараканов брать было негде — тетки поработали на славу. Всякая другая мелкая живность подходила плохо: мухи и божьи коровки летали, муравьи были слишком мелки, а пауков фиг найдешь. Получалось, что тараканы были идеальным местом для помещения душ. Это наводило на размышления. Однако не успели мы как следует поразмыслить — откуда же брать материал для опытов, как Полуэктова принесла нам полный полиэтиленовый мешок тараканов. — Я была на даче, — сообщила она. — Берите, Симочка! Я знаю, что они вам нужны! Си поблагодарила. Мы вытряхнули тараканов в новую банку. — Что случилось? — спросил я Сигму. — Я сменила ей душу. Теперь в ней живет Тимирязев, — ответила Си с таким олимпийским спокойствием, будто речь шла о смене прокладок.
Глава 11. Младореформаторы
Успех с заменой души окрылил Сигму и придал сил Костику. Дело в том, что автор двух великих изобретений — спироскопа и спирососа — не только не получил денег и славы за свои изобретения, но и не имел даже морального удовлетворения. Ну, его очки видят, где в человеке душа. Ну, его присоска может вытягивать эту душу и водружать на новое место. А что в этом толку? Всякий ученый, да и не только ученый, всякий творец, скажем так, работающий бескорыстно и увлеченно ради самой идеи, рано или поздно, когда достигнут результат, жаждет известности и как следствия этой известности — каких-то материальных благ. Можно продать рукопись, как говаривал поэт. Можно и нужно. Сигма добровольно отказалась от денег и славы. Костик пока не обнародовал в ученом обществе свои приборы. Но какой-то стимул был нужен и им. Это не могло остаться пустой забавой — пересаживать души в тараканов и определять их родословную. И вот они обрели идею. Исправить род человеческий. Ни больше, ни меньше. Я говорю «они» о своих друзьях, потому что был по горло занят другой работой, за которую мне платили неплохие деньги. На эти деньги, между прочим, вся наша компания жила, потому что Костик и Сигма нигде не работали, а занимались лишь наукой. Я был в курсе событий благодаря их рассказам. Энтузиазм, охвативший их, мне пока не передался. Я предпочитал наблюдать, что будет. Сигма выдвинула теорию, согласно которой исправлять человеческую природу должны души, которые она собирала с цветков, как пчелка. Там, как правило, скапливались монашки, медицинские сестры, библиотекари, архивисты, продавцы мороженого, собиратели марок и прочий безобидный и славный человеческий в прошлом материал, который за свою жизнь не обидел и мухи. И Си решила дать им новую жизнь, пересадив их души в нелучших, скажем так, представителей рода человеческого. Идея была полна благородства и сулила земной парадиз. Костик и Сигма понимали, что сами они в глобальном масштабе ничего не исправят. Слишком много работы. Но эксперименты начали. Первым делом Сигма внедрила в старуху Саватееву душу балерины Мариинки Щепочкиной, танцевавшей в кордебалете еще до войны. Изъятую у старухи душу наркома Ежова, само собой, пересадили в банку к Иосифу, который встретил своего бывшего опричника с некоторым недоумением. Как, он опять здесь? И таракана Ежова разорвали на куски. Мы едва успели перехватить его бессмертную душу и заточить ее в кусок фановой трубы, который потом утопили в Невке. Пока она там проржавеет, пройдет много времени. Однако надо было что-то делать с Иосифом. Таракан как вместилище столь опасной души был очень ненадежен. Поэтому, посовещавшись, мы решили похоронить душу Сталина в камне. Мы втроем, усадив Иосифа в пробирку, повезли его на Карельский перешеек, на станцию Лосево, и там в лесу, найдя огромный валун высотою метра в три, поместили душу Сталина туда. Костик собственноручно извлек ее из таракана спирососом и, приложив присоску к валуну, отправил душу тирана на долгий отдых. Сигма спироскопом проконтролировала: душа сидела в камне. И сидеть ей там предстояло много тысяч лет. До очередного обледенения Земли. Что делать с тараканом, от которого остались от Иосифа лишь крылышки со звездочками генералиссимуса, мы решали долго. Везти назад к коммунистам? Убить? Выпустить на волю? Убить — предлагал Костик. Сигма хотела выпустить. Но я уговорил их отвезти бывшего Иосифа обратно. — У вас свои эксперименты, у меня свои, — сказал я. — Не мешайте науке. Возвращенный к коммунистам Иосиф неожиданно для всех ушел в народ, стал тусоваться там и каким-то образом избавился от звездочек на погонах. То есть, на крылышках. Наверное, ему их отъели приятели. Политбюро отнеслось к этому благодушно. На месте Иосифа стал возлежать таракан с душою начальника пожарной охраны города Минусинска в двадцатые годы Кузьмы Никаноровича Додонова. И ничего не изменилось, что говорит о чудесной устойчивости коммунистов к переменам. Но наблюдать за Иосифом — это были мои заботы, а Сигма с Костиком собирали души праведников и пачками меняли их на грешные души современников. Подвел гаишник с душой Маяковского. Он нарушил стройную теорию. Ему по очереди внедряли души ученого-биолога Ведищева, парфюмера, бабочки-капустницы, солдата срочной службы, убитого толпой товарищей, — и никакого толку. Гаишник продолжал драть рубли с автомобилистов. Причем без квитанций, по-черному. — Влияние среды, — с умным видом пояснила Сигма. — Иногда душа бессильна. Я подумал, что душа еще много где у нас бессильна, но промолчал. Приятно было смотреть на моих друзей вечерами, когда они сортировали тараканов — чистых сюда, нечистых — туда. Бракованные души, между прочим, отобранные у порочных современников, пристраивались в недвижимость: в парапеты, чугунные решетки, столбы. Чтобы подольше их там подержать. А освобожденные души-цветки раздавались преступникам и подследственным. Сигма и Костик регулярно бывали в судах со своим спирососом, и им часто удавалось облагородить подсудимых перед тем, как те заслушивали свой приговор. На приговор их перерождение, естественно, не влияло. Костик был особенно возбужден. У него буквально поехала крыша. Он начал строить планы замены душ у властей — от самого низа доверху. Планы были малореальны, потому что менять души нужно было практически у всех, а доступ к телу реципиентов чаще всего бывал затруднен. Я как профессиональный охранник это хорошо понимал. — Костик, не парься, — сказал я. — Тебе не добраться даже до председателя партии. Не говоря о… Костик тем не менее не унимался, любовно отбирал тараканов в правительство и даже сочинил стихи, взяв за основу популярное когда-то стихотворение поэта Межирова:На Земле, где страданьям не видно конца,
Где дерьма неизбывного невпроворот,
Лишь одно нас спасет перед ликом Творца:
— Тараканы, вперед! Тараканы, вперед!
И когда от разврата устанет душа
И погрязнет в грехе мой несчастный народ,
Я возьму спиросос и скажу не спеша:
— Тараканы, вперед! Тараканы, вперед!
Смотреть на Сигму с Костиком, когда они рассовывали тараканов по пробиркам, собираясь на очередной сбор душ, было одно удовольствие. Последнее время они работали на кладбищах, там много было бесхозных душ, застрявших в деревьях и кустарниках. Их пересаживали в тараканов, а затем вживляли в отбросы общества, криминальные структуры, прессу. Мешала работе труднодоступность некоторых лиц, которым очень хотелось бы впарить душу таракана, поскольку своя у них оставляла желать много лучшего. И тогда Костик в порыве вдохновения изобрел спиромёт, который, в отличие от спирососа, не требовал прямого контакта с реципиентом при вживлении в него души, а мог работать на расстоянии. Проще говоря, встреливать души куда надо с расстояния метров в 15–20. При этом душа, которая там до того сидела, выталкивалась новоприбывшей и залетала в освободившегося таракана. Прибор был гениальный. Как если бы, стреляя из пистолета, ты убивал не только противника, но и себя тоже. Я однажды присутствовал на такой операции. Перед этим Сигма и Костик наловили на Богословском кладбище дюжины полторы душ и намеревались с их помощью обезвредить организованную преступную группировку. Группировка эта обычно собиралась в новом районе, в ресторане «Прибой», переделанном из общепитовской стекляшки. Души в наличии имелись такие: два милиционера, отличники боевой и политической подготовки, погибшие, кстати, от рук этой же банды, пяток ветеранов труда, районный прокурор, невинный младенец и еще ряд честных тружеников. Все они были заботливо рассажены в тараканов, распатронены, так сказать, и мы со спирометом показались в расположении противника часов в десять вечера. Кутеж был в разгаре. Банда занимала половину ресторана, примыкающую к эстраде, на которой в поте лица лабал оркестрик, на переиферии же теснились случайные посетители. Мы заняли столик и заказали бутылку вина и легкую закуску. — Вон тот, видишь, в рубашке навыпуск, — указала Сигма, — судя по всему, главарь. Стреляй, я прикрою. — Кем стрелять? — шепотом спросил Костик. — Ментом. — Может, лучше младенцем? — Нет, ментом. Младенец ему как слону дробина. Костик прицелился из-за плеча Сигмы и выстрелил душою в неприятного быковатого типа лет пятидесяти, пьяного уже в дым, с прилипшей ко лбу прядью волос и сигаретой, свисающей с губы. Тип слегка вздрогнул и удивленно огляделся. Видимо, смена души произвела некоторое впечатление на его организм. Оно было не слишком приятным, потому что главарь потянулся к фужеру с водкой и выпил залпом. После чего произнес короткую фразу или слово, которое мы не расслышали. — Давай следующего, — сказала Сигма. Костик зарядил спиромет и метким выстрелом уложил еще одну душу в следующего бандита. — А баб ихних не трогать? — спросил Костик. — У нас на баб душ не хватит, — деловито сказала Сигма. — Смотри, сколько их. Мы выпили за удачную стрельбу, и Костик продолжил расстрел группировки. Души летали по ресторану со свистом, как пули, будто дело происходило на Диком Западе. Через десять минут все было кончено. Около двадцати дюжих «быков» с бритыми затылками отдали нам души, получив взамен то, что нужно обществу. Главарь уже вполне пришел в себя и приказал оркестру: — Сормовскую лирическую! И оркестр грянул «На Волге широкой…» Обновленные бандиты запели. То ли тоска по утраченной честной жизни, то ли боль новой души, попавшей в тело, обремененное всеми статьями Уголовного кодекса, придали чувства их голосам, но песня звучала на редкость проникновенно. — Вот. Уже на людей похожи, — удовлетворенно сказала Сигма. Бандитские девки, на которых не хватило душ, сидели пригорюнившись. Допев, братки расцеловались и разошлись по домам. Официанты, обеспокоенно перешептываясь, принялись убирать столы. На следующий вечер мы узнали в новостях, что органами правопорядка проведена очередная блистательная операция, в результате которой значительная часть организованной преступной группировки явилась с повинной. — Почему не все? — строго спросила Сигма у телевизора. — Кто-то из ветеранов оказался нестойким, — предположил я. — Перевербовался. Все было бы хорошо, и эксперимент можно было бы считать успешным, но в тех же новостях сообщили о странной закономерности, которую стали наблюдать недавно на Троицком мосту. Там в один и тот же столб за неделю врезались три автомобиля. В одном случае погибли люди. Таких совпадений прежде не бывало. Столб этот стоит уже десятки лет. — Так это же столб, в который мы переселили душу гаишника! — сказал Костик. И правда. Это был тот самый столб. Получалось, что обиженная душа гаишника каким-то образом мстила автомобилистам. Но чем же она их притягивала? Или просто делала столб невидимым? Как бы там ни было, мы на следующее же утро помчались заменять душу столбу. Несчастный гаишник-Маяковский, точнее, его душа была вновь отдана таракану из коммунистической банки. Это событие слегка поколебало теорию, но ненадолго. Младореформаторы, как я шутя называл теперь Сигму с Костиком, принялись всерьез думать о душевном облагораживании Государственной Думы. Она была немного доступней, чем другие государственные органы. И правда, чего мелочиться! Я с удовольствием занялся бы с ними отстрелом душ депутатов, но новая проблема заставила меня забыть обо всем.
Глава 12. Претендент на наше всё
Собственно, проблема была старая. Мы распродавали душевный золотой запас нации, и это не могло не тревожить меня. То, что мы делали это фиктивно, то есть не перемещая великие души в современных претендентов, а лишь публично объявляя последних наследниками знаменитостей, отнюдь не успокаивало меня. Скорее, наоборот. В общественном сознании происходила постепенная девальвация героев и гениев, носителями их пламенных душ оказывались толстосумы, политики и всяческие жулики крупного масштаба. Мы торговали и зарубежными душами, но спрос на них был меньше. Душу Микеланджело Буонаротти за полтора миллиона купил известный скульптор, уставивший столицы мира монументами, в форме которых лежала идея чурчхелы. Душа Элвиса Пресли досталась солисту ансамбля «Красные обезьяны», что нисколько не помогло ни солисту, ни обезьянам. Уже давно были запроданы души Петра Великого и Александра Невского, Ломоносова и Менделеева, Льва Толстого, Блока, Есенина, Мандельштама. Душу Льва Толстого купил известный исторический романист Просвирин, точнее, его издатели, что дало им право на обложках романов писать крупными буквами: «Новая инкарнация Льва Николаевича Толстого». И ниже помельче: «Николай Просвирин». Вообще, упоминания в прессе о реинкарнации того или иного деятеля начинали меня бесить. Газету невозможно было раскрыть, чтобы не наткнуться на очередное глупейшее рассуждение о том, как душа графа Витте помогла нынешнему министру Тютькину решить сложнейшую экономическую проблему. Душу Мандельштама увез в Израиль поэт средней руки Ицхак Лопушанский. Выкупали ее несколько фирм-спонсоров, просто чтобы иметь в Израиле душу великого соплеменника. Душу Суворова подарила тренеру национальной сборной по футболу компания «Мегафон». Это не помогло сборной, но подняло акции «Мегафона». И лишь одна душа до сей поры оставалось не оскверненной чужим прикосновением. Это душа нашего великого поэта, на которую я упросил Мачика поставить в нашем прайсе чудовищную цену в сто миллионов долларов. Александр Сергеевич стоил сто миллионов. И я полагал, что никто не раскошелится на такую сумму. Но вот такой претендент нашелся. Мачик сообщил мне, что заявку на душу солнца русской поэзии сделал Семен Кошиц, мультимиллионер и олигарх, недавно выведенный из тени журналом «Форбс». Сеня Кошиц, как его стали ласково называть в прессе, был из породы ранних комсомольских вождей, чья юность совпала с расцветом кооперативов и комсомольско-молодежных фирм, где их создатели заколачивали первые свои тысячи. В период приватизации Сеня мотался по всей стране с чемоданами ваучеров, в результате чего оказался владельцем нескольких металлургических комбинатов, ну и, конечно, нефти. Ему удалось купить автономную область, по площади превышающую Германию и Францию вместе взятые, и Сеня стал качать из нее нефть. Каждый рабочий день приносил ему миллион долларов. При этом Сеня не лез на рожон, не пытался проникнуть в Думу или стать губернатором Аляски, он просто наливался деньгами, пока журналу «Форбс» не понадобилось зачем-то вывести его на чистую воду, и тут обнаружилось, что капитал Сени уступает лишь капиталу Билла Гейтса, что немало удивило и самого Сеню и, конечно, Гейтса. Фигурально раскулаченный олигарх пустился во все тяжкие и стал скупать, помимо заводов, еще и разные безделушки: Мариинский театр, порт Приморск, горную цепь в Карпатах, флотилию пассажирских лайнеров и весь чемпионат США по футболу. Это не считая яхт и вилл, которых у него было в каждой стране по штуке. Его скромная физиономия с виноватой симпатичной улыбкой не сходила с первых полос желтой прессы, хотя женщин Сеня не покупал. У него была одна-единственная жена Люда Скворцова, его бывшая одноклассница, которой Сеня был верен и которую единственно слушался и боялся с тех самых пор, как отличница Скворцова натаскивала троечника Кошица по математике. У Сени была лишь одна слабость. Он писал стихи и пытался прославиться под псевдонимом Семен Огневой. Томики с золотым обрезом и золотым же тиснением его имени и фамилии стояли во всех книжных магазинах. Сеня издавал их огромными тиражами. Однако поэтическую славу трудно купить. На него работали несколько подкупленных критиков, но дешевле было бы покупать поэтов и издавать их стихи под своим именем. Однако Семен имел гордость. И вот он решил купить душу Пушкина. Пусть знают! И самое страшное, его не остановила цена в сто миллионов.Мачик призвал меня и спросил: — Кто будет представлять Пушкина? — Мачик, может, отговорим его? Пусть возьмет Пастернака. Прекрасный поэт. — Пушкина хочет, — непререкаемо изрек Мачик. — Пастернак дешевле в сто раз! Придумал, Пастернака! — Попросим опять Асю, — вздохнул я. Гонорар душману определили тоже огромный — в сто тысяч. Однако Ася, которая удачно сплавила душу Герцена в Лондон, неожиданно заупрямилась, когда я вызвал ее на собеседование. — Мне жизнь дороже, — сказала она. — За Пушкина убьют. — Да кто узнает?! — Не считайте меня дурой. У вас вон сколько народу работает. Донесут… И потом, Евгений, вы его стихи читали? А я читала. — Ну это довод, согласен… — пробормотал я. Короче, Ася отказалась, из чего следовало, что между душами Герцена и Пушкина есть некая принципиальная разница. Претендентов на то, чтобы разыгрывать перед Кошицем спектакль обладания душой великого поэта, не было. И тут совершенно неожиданно Мачик предложил: — Попроси свою Симку. Пусть заработает хоть что-то на своем бзике. Вечером, дождавшись, когда Сигма вернется с кладбища с пробирками, полными тараканьих душ, я предложил ей: — Слушай, Си… Может, ты попробуешь как-то отговорить этого Сеню от его затеи? Мачик сам тебе предложил. А если не получится, заработаешь сто килобаксов. В любом случае, выигрыш. Или уговори его на другого поэта. Я думал, что Си пошлет меня сразу, слишком велико у нее было отвращение к нашему проекту, но она подумала и согласилась. Я сказал Мачику, что Си согласна. — Пускай придет. Разговор есть, — сказал Мачик. И вот они опять встретились — продюсер проекта «Спросите ваши души» и настоящая мадемуазель Си, которая умела видеть. Я очень волновался, когда она направилась в кабинет Мачика в нашем офисе. Я боялся, что Си его пошлет. Однако все прошло гладко. Мачик просил ее рассказать Кошицу побольше пикантностей в треугольнике Пушкин — Натали — Дантес, всяких подробностей, неизвестных науке, чтобы передача стала сенсационной. И Си обещала, как ни странно. — Толковая девка, — сказал мне потом Мачик. На следующий день Лева Цейтлин со съемочной группой отправился в Михайловское снимать видеоряд для пушкинской передачи. Я долго допытывался у Си, как она собирается строить беседу с Кошицем, но она только говорила: «Отстань» и читала мемуары того времени. Кроме того, она попросила меня принести ей все сборники стихов поэта Огневого. Таковых оказалось семь штук.
Массовое сочинительство стихов — это особый род российского помешательства, дитя прекраснодушия и тяги к безделью. Обычно оно начинается с потрясения тем фактом, что поставленные друг за другом две фразы могут звучать складно и выглядеть умно. Зачастую умнее автора. Или хотя бы загадочно. Потрясение продолжается, когда новоявленный стихотворец узнает, что простенькое описание природы типа «Люблю грозу в начале мая», оказывается, является классикой, а его автор — гениальным поэтом. Это выглядит так доступно и так заманчиво, что юный (а иногда и не очень) кандидат в гении начинает марать бумагу и вываливать строчки в Интернет, ища признания, сочувствия и любви. Обычно он их находит у таких же помешанных в обмен на сочувствие и любовь к ним, смешанные с ревностью и даже завистью, если есть чему завидовать. Эта форма помешательства безобидна и даже приятна, потому что позволяет убивать массу времени без вреда для окружающих. Тяжелые случаи встречаются, когда стихотворец почему-либо утверждается в мысли, что он действительно великий поэт. И жаждет массового признания. Но косное человечество глухо к его стихам, оно брезгливо отворачивается от него и лишь небольшая кучка почитателей, а она есть даже у самого отпетого графомана, поет ему гимны и славит в веках. Семен Кошиц, похоже, уже находился в этой неприглядной стадии, поскольку его богатство позволяло ему иметь достаточно широкий круг почитателей, порядка нескольких сотен, которые подкармливались различными благами, чаще всего просто личным знакомством с одним из богатейших людей планеты, но он жаждал массовой любви. Такой, какая досталась солнцу нашей поэзии совершенно бесплатно. И он захотел обогреть себя этим солнцем. Но пока Кошиц обогревал себя на Мальдивах, откуда прилетел на собственном самолете, как только мы сообщили ему, что обладатель души Александра Сергеевича, то есть Сигма, готова к переговорам. Сеня прибыл в Питер и поселился в гостинице «Рэдиссон-Астория», где раньше был «Сайгон». Переговоры с Сигмой он решил провести в ресторане «Невский Палас» на том же Невском. В назначенный день Сигма отправилась в ресторан, прихватив в сумочке спироскоп. Я всегда поражался ее умению из ничего создать себе имидж. Грошовые тряпки выглядели на ней купленными в салонах Версачи. Вот и сейчас она надела длинную юбку и легкий топик на лямочках, открывающий снизу ее безупречнвй пупок. Прическу соорудила строгую, узлом, открыв лоб. Все было в деловом стиле с легким налетом фривольности, на что указывал открытый пупок. Я ждал ее, поминутно взглядывая на часы. Она вернулась только к вечеру, переговоры длились четыре с половиной часа. — Он пригласил меня в номер. Потом, — сразу же похвасталась Сигма. Я почувствовал укол ревности. — Зачем это? — Не волнуйся, только затем, чтобы подписать мне чек, — она помахала в воздухе листком. — Тысяча баксов. — За что?? — вскричал я. — Это мне на подарок за приятную беседу. Он извинялся, что лично не сможет его купить, его ждут дела в Лос-Анджелесе. Я тихо выругался. — А душу ему будем продавать? Он не отказался от этой мысли? — Нет, — сказала Сигма. — Все состоится. — И кем же он назовется? — Александром Сергеевичем. Прости, Джин, я сделала все, что смогла. Но он очень упрямый. — А сейчас кто у него в инкарнациях? Не смотрела? — поинтересовался я. — Ничего интересного. Лавочник из Могилева, финдиректор цирка из Курска… Люди небогатые и неталантливые. — А у него какой талант? — Делать деньги. Ты не представляешь. За время нашего разговора три раза звонил телефон, предлагали сделки. Я поняла, что он сделал триста миллионов за три часа. — Ну ладно. Ты хоть получишь свой гонорар. А Пушкина все равно жалко отдавать… — сказал я. — Кошиц будет на передаче под псевдонимом. Его нужно называть Семен Огневой, — предупредила Сигма. — Да хоть кем. Нам, татарам… — невесело отшутился я.
В назначенное время передача состоялась. Сеня прилетел из Лос-Анджелеса, где он, по сведениям прессы, приобрел одну из голливудских кинокомпаний, и приехал на запись в студию на «мерседесе» в сопровождении охраны. Зрители заняли свои места, мы с Сигмой тоже затесались к зрителям, Мадемуазель СиСи вышла на подиум в блестящем вечернем платье и началась наша обычная роскошная туфта, которая на этот раз была дополнена безудержной рекламой книг поэта Огневого. И наконец сам поэт был вызван в студию под звуки фанфар. Я первый раз увидел его живьем. Он был неказист — небольшого роста, уже с залысинами, хотя ему еще не было сорока, с той самой знаменитой виноватой улыбочкой, как бы говорящей: «Это ничего, что у меня семь миллиардов долларов, я все равно простой парень, такой же, как вы…» Светомузыку и пассы СиСи я пропускаю. Это заняло 10 минут. И наконец СиСи задала свой коронный вопрос после того, как прошла заставка «Спросите ваши души»: — Семен, назовите свое прошлое имя. Кто вы? И направила на него указку лазерного луча. Огневой улыбнулся еще виноватее, сделал паузу и произнес: — Александр Сергеевич… Грибоедов. Я увидел, как Мачик, стоявший рядом с телеоператором, горестно воздел руки к небу. СиСи чуть в обморок не упала. Сценарий весь был построен на Пушкине. Ладно, видеоряд о Грибоедове потом Лева подснимет. Но откуда он взялся, этот Грибоедов? Что о нем говорить?! СиСи обернулась к зрителям. — Поэт Семен Огневой назвал свою предыдущую инкарнацию!.. Одну из них… Это замечательный русский… э-э… писатель и драматург Александр Сергеевич Грибоедов, написавший бессмертную комедию «Горе от ума»! — Он поэт! — запротестовал Огневой. — То есть я! Я поэт! — Да, да! Поэт! — воскликнула СиСи. И вдруг Огневой совершенно не к месту стал читать из «Горя от ума»:
Не образумлюсь… виноват,
И слушаю, не понимаю,
Как будто всё еще мне объяснить хотят,
Растерян мыслями… чего-то ожидаю.
Слепец! я в ком искал награду всех трудов!
Спешил!.. летел! дрожал! вот счастье, думал, близко.
Пред кем я давиче так страстно и так низко
Был расточитель нежных слов!..
— Как ты это сделала? — спросил я ее дома. — Очень просто. Я два часа читала ему вслух его стихи. Он совсем размяк. А я говорила, что эти стихи будут растащены на цитаты, как у Грибоедова. «Вернулся я с Канар на мой Арбат и понял, что кругом я виноват…» Он чуть не заплакал. А я говорила, что Грибоедов соизмерим с Пушкиным, абсолютный гений, просто мало успел написать… «Подумайте, Семен, Пушкин очень затаскан и, по существу, попсов… А Грибоедов нет. Судьба тоже трагическая, персы его разрубили на куски…» — Но он же разговаривал с тобой, как с владелицей души Пушкина! — вспомнил я. — Откуда у тебя вторая душа? Ты же сертификат на Пушкина имеешь! — А вот это для него уже не имело значения. Он про сертификат и не вспомнил. Он знал, что его надувают… Джин, он ведь абсолютно неверующий! Какая там душа! Для него существуют только деньги. Кстати, последний вопрос начинал приобретать для нас серьезное значение. Как выяснилось, нельзя работать с душой, не учитывая мнения Бога.
Глава 13. Божий промысел
Вообще говоря, мы были довольно самонадеянны, пускаясь в это предприятие. Тут я имею в виду обе его части — и бескорыстную, научно-альтруистическую, которую взяли на себя Сигма с Костиком, и коммерческую и практически фиктивную, которую осуществляли Мачик и его команда. Там не работали с душами, они им были неподвластны, но имели дело с понятием души, а это почти одно и то же. Когда говорят «я выну из тебя душу», то совсем не подразумевают Костиков спиросос, но от этого человеку не легче. Его достают так, что мало не покажется. Я же сидел на двух стульях. Душою (именно душою!) я был с моими друзьями, я сочувствовал их планам, но физически я работал на Мачика и получал от него немалые деньги. Последней акцией с Кошицем в орбиту Мачика оказалась втянута и Сигма, по сути она получила-таки гонорар в сто тысяч долларов за свое уникальное умение, натолкнувшее Мачика на коммерческий проект. И это слегка уязвляло сознание Сигмы, отравляя радость от полученной и огромной для нее суммы. Все мы, ежедневно и ежечасно общаясь с душами или понятиями о них, находились ли они в цветках, тараканах или прохожих на улице, негласно подразумевали, что Господь Бог, создав эти души и отпустив их в мир с миром, забыл о них и дал нам полное право обращаться с ними, как мы захотим. Иными словами, лезть в них со своими варварскими материалистическими инструментами. Гениальные Костиковы приборы и светомузыкальные эффекты нашего шоу, видеокамеры и телемосты — все это было тем самым инструментарием, с которым мы вторглись в область, далекую от материализма, стремясь достигнуть каких-то вполне реальных результатов. Мачик хотел денег, Сигма хотела облагородить человечество. Неизвестно, что хуже, кстати говоря. Это выяснилось не сразу. Поначалу прямые результаты замены душ вызвали у исследователей такой энтузиазм, что я испугался за них. Сигма определенно почувствовала себя матерью Терезой, а Костик святым великомучеником, который отдает свой талант на благо людям, ничего не имея взамен — ни денег, ни славы. Но это продолжалось недолго. Уже следующий проект по улучшению человеческой породы с треском провалился. Мне удалось через знакомых телевизионщиков выйти на известный еженедельник с обещанием сенсационного материала о Государственной Думе, если двум молодым людям устроят туда журналистскую аккредитацию. Это было сделано, мне поверили на слово. Я уже был довольно влиятельной фигурой благодаря телешоу «Спросите ваши души». Я сказал, что материал будет о депутатских душах, если они есть, конечно. И вот Сигма с Костиком получили аккредитацию на места для прессы на хорах Госдумы и принялись ломать голову, как пронести туда спиромет, чтобы не вызвать подозрения охраны. Пришлось Сигме на полученные за Грибоедова деньги покупать здоровенный японский «Nicon» с телеобъективом, а Костику всаживать спиромет внутрь трубы, отчего, кстати, дальность действия спиромета и его прицельность только повысились. Тараканы содержались в отсеке для карты памяти. И вот они отправились в Думу, имея список депутатов — лидеров фракций — и тараканий запас мирных негосударственных душ, которых следовало вживить в депутатов под видом фотосъемки. Операция прошла на редкость удачно. Без всяких затруднений удалось заменить души семерым крупнейшим политикам, которые то и дело мелькают на телеэкране. Их прежние души были доставлены домой в тараканах и подвергнуты исследованию. Ничего особенно интересного там не оказалось за исключением того, что души депутатов были какие-то юркие, меняющие местоположение внутри тараканов. Они словно бы искали выхода. И не напрасно. Утром мы обнаружили все бывших депутатов Государственной Думы дохлыми. То есть, тараканов, конечно. А их души бесследно улетучились. В самой же Думе не произошло ничего, что указывало бы на обретение депутатами новых душ. Более того, опять произошла драка с участием лидера одной из партий. Его наконец удалось нокаутировать, он был унесен из Думы прямо на телевидение, где устроил в студии дебош, требуя обидчика к ответу. Однако через пару дней страну потрясли семь политических убийств, совершенных в один день, буквально в одно и то же время, и убитыми оказались начальники охраны тех депутатов, которым мы заменили души. Их как бы наказали за допущенную оплошность. Кто это сделал — сами депутаты или вырвавшиеся на свободу души — мы не знали. И тут мы стали догадываться, что душа — это не просто безобидный эфир, вдохновленный в человека, а неведомая нам таинственная сила, обладающая энергией и властью. Вдобавок стали приходить сообщения о самоубийствах в тюрьмах. Был зарегистрирован гигантский скачок по сравнению с обычной статистикой. Во всех случаях, когда называли фамилии самоубийц, ими оказывались наши подопытные, которым мы вживляли праведные души. Это очень насторожило Сигму, а Костика буквально потрясло. Дело в том, что он из религиозной семьи. Его бабушка верующая, и она сумела вложить в Костика начала православной религии. Костика крестили, он принялпричастие. Его занятия душами поначалу не вызывали в нем сомнений, слишком силен был научный интерес, но потихоньку этические моменты все более беспокоили его. Костик пошел к батюшке на исповедь — и тут мы его потеряли. Он вернулся из церкви другим человеком. Даже внешне изменилось многое. Раньше Костик был нервным, импульсивным, подвижным, от этого он казался меньше ростом, вообще как-то мельче. Сейчас к нам пришел молодой человек с пробивающейся русой бородкой (он тут же начал отпускать бороду), спокойный, отрешенный от мирских дел и тем более тараканов. Костик двигался как в замедленном кино — плавно. И говорил так же. — Друзья мои, — начал он, и мы сразу поняли, что дело плохо. — Я больше не могу быть с вами. Мы делаем неправедное дело. Это не души, друзья мои. Настоящие христианские души пребывают на Земле лишь временно. Их место на небесах рядом с Господом. Я знаю это теперь… Он все же оставил Сигме все три прибора. Некая исследовательская струнка еще в нем жила. Но он был уже убежден, что эти приборы видят, вытягивают и встреливают в тело нечто иное, чем душа. — Что же это? — спросила Сигма. — Не знаю… Субстанция памяти… Не знаю, да и знать не хочу, — безмятежно ответил Костик. Он бросил Университет и подал документы в Духовную академию при Лавре. Однако Сигму не так просто было переубедить. Она-то твердо знала, что она видит в живых и неживых телах — их души. Но она поняла, что просто так управлять ими опасно. У них есть свои понятия о том, что и как надо делать. В этом и состоял Божий промысел, выраженный поэтом в известной строчке «Душа обязана трудиться…» Трудиться, значит, действовать. И действовать по своему разумению. Парадокс заключался в том, что сама Сигма душою не обладала. Зато обладала невиданным талантом. Взаимоотношения таланта и души — вещь очень тонкая. Зачастую непонятно, что принадлежит душе, а что таланту. Их часто путают. Человека с широкой душой называют талантливым, а таланту приписывают душевность. Между тем душа имеет дело с окружающим миром, талант работает с материалом. Со словом, красками, звуками, даже бытие талант может рассматривать как материал. Душа же воспринимает все краски и звуки мира и изменяется согласно им, в гармонии с ними или в диссонансе. Талант изменяет мир, душа — никогда. Между прочим, это все я узнал от Сигмы. Ее случай был вообще уникальным. Ее талант в качестве материала рассматривал саму душу. Способность видеть ее, работать с ней была подобна абсолютному слуху музыканта. Может быть, потому душа не приживалась в ней. Она сама могла бы пересадить себе душу после того, как обзавелась спирососом, но не делала этого. Однажды мы поговорили об этом, когда Сигма в шутку сказала, что мне с душой жить все же легче, чем ей. — Так подбери себе. Долго ли? — сказал я. — Это не джинсы, — парировала Сигма. — Ну оставайся так. В общем, незаметно. — Мне заметно. Я не умею любить и мне никого не жаль, — сказала она. Вот тут она попала в точку. Жалость просыпается иногда внезапно, как от толчка, при взгляде на ребенка или старуху, на собаку или лошадь. Жалость — это напоминание о смерти в минуту счастья, это горчинка, делающая вкус жизни полноценным. И от нее до любви всего один шаг. Сигма не могла его сделать, и никто не в силах был ей помочь. Кстати, талант любить есть у каждого, но проснуться он может только у человека с душой. Она это тоже знала. Она не знала только, в чем состоит Божий промысел относительно нее. После того как она получила свой гонорар за Грибоедова-Кошица, Сигма стала искать квартиру для покупки, но делала это не очень активно, пару раз по ее вине срывались совсем неплохие варианты двухкомнатных, пока она не призналась мне, что уезжать от меня не хочет. — Я к тебе привыкла, Джин. У меня больше никого нет, — сказала она. У меня тоже практически никого не было. За все это время я лишь однажды навестил свою старую подругу, но ничего хорошего из этого не вышло. Нельзя сидеть на двух стульях, даже если один стул картонный. Тогда тем более нельзя. Отношения с Сигмой оставались вполне родственными, однако на семью это было мало похоже. Что делать? Не выгонять же ее. Но и переезд вместе с нею в новую квартиру тоже выглядел абсурдно. Однако внезапная новость отодвинула от меня все текущие проблемы.Глава 14. Мама
Позвонила сестра и сказала, что мать попала на Песочную. Питерцам не надо объяснять, что это означало. На Песочной располагается крупнейшая онкологическая клиника. Выяснилось, что мать долго не обращала внимания на боли, терпела, не ходила по врачам и теперь неизвестно, в какой стадии находится болезнь. Предстояла операция. Для всей семьи, включая отца, это было полной неожиданностью. Она никогда не жаловалась. Впрочем, это касалось не только болезни. Мать не жаловалась ни на что и никогда. Она была в своем роде удивительным человеком. По своим данным она легко могла бы стать чемпионкой страны или даже Олимпиады в фигурном катании, но у нее совершенно отсутствовало честолюбие. Она не хотела быть известной, избегала соревнований и рано ушла из спорта. Тренеры, поначалу бравшиеся за ее подготовку с большими надеждами, быстро понимали, что случай не тот. Тренерам тоже нужна была известность, которую они обретали через учеников. А моя мама словно нарочно убегала от нее. Ее номер в балете на льду был весьма хорош, но отсутствие чемпионских титулов не сделало ее примой. Она шла по жизни сторонкой, словно стесняясь, пока не совершила в двадцать семь лет неожиданный поступок, оставшись во время гастролей в Америке. Ничего политического в этом не было. Мама встретилась с отцом, которому тогда было уже за сорок. Он в течение десяти лет был резидентом советской разведки в этом районе, имел небольшой бизнес в автосервисе, чистое американское прошлое, которое ему сочинили на Лубянке, был нелюдим и холост. И вдруг, увидев маму в русском балете, влюбился, три вечера подряд бросал на лед букеты, в последнем была записка по-русски: «Я жду Вас сегодня в холле гостиницы в 7 часов вечера. Николай». Конечно, профессиональный разведчик, использующий легенду коренного американца, не должен был обнаруживать знание им русского языка. Но отец понимал, что записка, написанная по-английски, вряд ли будет понята да и полюбившаяся ему солистка балета не пойдет на свидание к американцу. И он рискнул. Это был первый шаг к провалу. Они встретились, и мама стала невозвращенкой. Отец, судя по всему, получил служебный выговор, но самое неприятное было в том, что его личностью заинтересовалась американская контрразведка, просто так, на всякий случай. И в скором времени подслушивающими устройствами в доме, подсунутыми туда американцами, было зафиксировано, что супружеская пара использует для общения русский язык, причем Николай говорит без акцента. Ну а дальше родился я, а отец неминуемо приближался к провалу. Кольцо вокруг него сжималось и вскоре он был арестован. Маму тоже допрашивали, но дела не возбудили. Она была выслана вместе со мною через два года, когда отца наконец удалось обменять на американского разведчика. Вернувшись на родину, мама стала тренером по фигурному катанию и занималась с маленькими детьми вплоть до последнего времени. Потом она передавала их другим тренерам. Многие из ее воспитанников впоследствии становились чемпионами, но слава доставалась не ей, а тем, кто тренировал их сейчас. Маму это совершенно не волновало. Она будто сторонилась всякой популярности и часто жалела тех, кто неожиданно оказывался на вершине славы. — Бедный мальчик, — говорила она, посмотрев какое-нибудь награждение на Олимпиаде. — Он же не готов к этому. Они его погубят… Часто ее предсказания сбывались. — Кто же, по-твоему, готов к славе? — спросил я однажды. — Только тот, кто по-настоящему не думает о ней. По-настоящему, — подчеркнула мама. — А это очень непросто. Когда тебе начинают говорить, что ты звезда или гений — этому очень легко поверить. Но верить этому нельзя! — А честолюбие? Желание победы? Успеха? — не сдавался я. — Победить себя важнее, чем соперников, — сказала мама. Я шел к ней по грустным коридорам огромной больницы. Навстречу мне попадались больные в блеклых одеждах — каких-то халатах, пижамах с выцветшими инвентарными номерами. И лица их были такие же, как их халаты, — помятые, блеклые, угасающие. В их глазах я видел глубоко запрятанный страх. Я словно слышал шепот их встревоженных душ, готовящихся покинуть эти ненадежные усталые тела, свои износившиеся пристанища, чтобы найти себе новые обители. Этих душ мы довольно нагляделись, пачками отправляли их туда и сюда, всаживали в стаи тараканов, обращались с ними довольно бесцеремонно, ни разу, в сущности, не пожалев их. За что? За необходимость расставания с теми, кого они одухотворяли, кого награждали желаниями, чувствами, красками жизни, чтобы в какой-то момент отлететь, упорхнуть от них навсегда. Это ведь трагедия — быть бессмертными. Мама сильно похудела за тот месяц, что я ее не видел. Я понял, что надо готовиться к худшему. Глаза ввалились, остро обозначились скулы. Она, как это ни удивительно, стала выглядеть моложе, но это была странная, болезненная моложавость. Лишь страха не увидел я в ее взгляде. Она была сосредоточенна и спокойна. Она все уже про себя понимала. Я попытался ее развеселить, рассказывая о незадачливых претендентах на души великих, о наших уловках и подставках, она улыбалась и даже посмеивалась, а потом сказала тихо: — Женя, уходи оттуда. — Это заработок, мама… И это… довольно любопытно. Меня знают, берут интервью. — Вот это и ужасно. Нельзя зарабатывать на душах. — Но это же все фантастика! Никаких душ нет! Мы придумали цирковой номер! — оправдывался я. — Души есть. И ты это прекрасно знаешь. Ну да, конечно. Я их видел в тараканах. Но не говорить же об этом маме. Скрытую, действительную часть работы с душами она не знала, она лишь читала газеты об аттракционе «Спросите ваши души». — Ступай, Женя, — сказала она наконец. — Я устала. Больно… Прощай, мой мальчик, и больше не приходи. — Но мама… — Я сказала, — она прикрыла глаза. Уходя, я встретился с лечащим врачом. — Прогноз неблагоприятный, — сухо, с каким-то даже удовольствием, произнес он. — Болезнь слишком запущена. «Болезнь слишком запущена», — повторял я по дороге. Слишком запущена… И уже не понимал, у кого она запущена — у меня или у матери.Я заехал к отцу и рассказал о встрече с мамой. Отец мой — нелюдим, молчальник, угрюмый отшельник — лишь смотрел в угол не мигая. У него никого не было, кроме матери, даже нас с сестрой он не подпускал к себе никогда. — Как несправедливо… — проскрипел он. — Я должен был уйти раньше. Дома меня встретил лишь попугай Мамалюк со своим приветствием. Не успел он его прокричать, как в дальнем конце коридора, словно эхо, кто-то повторил нараспев: — Спросите ваши души… Так просят подаяние. Я еще не успел закрыть дверь в нашу комнату и вернулся в коридор, чтобы разглядеть там в полутьме соседку Полуэктову, которая шла по коридору, воздев обе руки к потолку, и повторяла: — Спросите ваши души… Спросите ваши души… Она была в таком же халате, как те больничные, а руки у нее были белые-белые и тонкие. И совсем опрокинутое лицо. Из своей комнаты выглянула бабка Морозова и подмигнула мне: — Тронулась милочка. А я говорила… И скрылась.
Глава 15. Скандал
Сигма вернулась в тот день поздно вечером, не сказав, где она была. Но настроение у нее было мрачное. Да и мне было не очень весело. Так мы и сидели по углам, стараясь чем-то себя отвлечь, пока мне не вздумалось спросить: — Ты про Полуэктову в курсе? Сигма подскочила, как ужаленная, и с ходу принялась орать: — Чего вы ко мне прицепились с этой Полуэктовой?! Я тут при чем?! Мало ли у кого крыша едет! У меня тоже крыша едет, может быть! — Да кто прицепился? — Кто, кто! Костик сначала, теперь ты. Непротивленец, блин! Приходит мне проповеди читать. Отстаньте все! — Да пожалуйста… Мы оба надулись и больше не разговаривали. Спать Сигма легла на своей половине. Она уже давненько не спала со мной в одной постели. Я заснул, но вскоре проснулся, почувствовав ее прикосновение. Сигма была рядом. Она прижималась ко мне, ее бил озноб. — Мне страшно, Джин, — шептала она. — Они здесь летают… Их много… — Кто? — не понял я. — Души… Много душ… Они как вороны… Я обнял ее, пытаясь согреть. Так мы и уснули в обнимку. Но приключения на этом не кончились. Посреди ночи я проснулся от каких-то непонятных звуков. Сигмы рядом не было, из-за шкафа, отгораживающего ее половину, выбивался свет. Я тихо поднялся, подошел к шкафу и выглянул из-за него. Сигма в ночной сорочке, стоя на коленях на голом полу, сосредоточенно занималась следующим делом. Она держала в одной руке банку с тараканами (это была банка демократических тараканов), а в другой — свой тапок. Второй тапок был на ней. Она вытряхивала из банки тараканов порциями по пять-шесть штук и, пока они разбегались по полу, успевала тапком всех их раздавить. После чего выпускала следующих. Она была так увлечена своим занятием, что не заметила меня. С минуту я оторопело наблюдал за нею, чувствуя, что во мне поднимается протест против этого зверского избиения тараканов, трупами которых был буквально усеян пол. Все же это были мои питомцы — славные демократы, построившие маленькое авторитарное общество с моею помощью. Они гибли под тапком молча и бессмысленно. Нынешний их правитель еще держался за стенки банки, но ему оставалось недолго ждать. Сигма трясла банку все ожесточеннее. — Зачем ты это делаешь? — наконец спросил я. — Я выпускаю души. Не мешай, — ответила она, даже не повернувшись ко мне. — Но это же… мои тараканы, — я не нашел сказать ничего лучше. — Во-первых, тараканы общие, Джин! — Сигма, воспользовавшись тем, что я проснулся и ей уже не нужно давить тараканов тихо, громко прихлопнула тапком очередного таракана, так что мне стало почти физически больно. — А во-вторых, они паразиты и отморозки. И душам нечего в них делать. Они от этого портятся. — Кто? Тараканы? — Души! Ты не знаешь, а я знаю. И она лишила жизни еще одного таракана, уже почти убежавшего под шкаф. — Ты садистка, — сказал я. — Оставь мне хоть парочку. — Каких тебе? — деловито спросила Сигма, заглядывая в банку. — Тут еще остались детский писатель, капитан дальнего плавания, зубной врач и несколько продавцов и барменов. — Оставь детского писателя… Ну и девушку из барменов. — О’кей! — Сигма вытряхнула лишних, включая вождя, который был капитаном дальнего плавания в прошлом, и они в ужасе побежали к спасительному шкафу, надеясь укрыться под ним. Но Сигма перебила их тапком быстро и ритмично, будто играла на ксилофоне. Души вылетали из тараканов легко и непринужденно, как бабочки из коконов. В банке остались лишь два помилованных мною таракана. — Теперь эти, — сказала она, придвигая к себе банку с коммунистами. — Ты совершенно зря убиваешь их таким зверским способом, — заметил я. — На кухне осталась бутылка с дихлофосом после тех теток. — Это мысль, — сказала Сигма и отправилась в кухню прямо в ночной рубашке. Честно скажу, когда Сигма брызнула в банку с тараканами-коммунистами дихлофос, я почувствовал себя доктором Геббельсом. Вряд ли мой способ был более гуманен, чем убийство тапком, хотя применять термин «гуманизм» к тараканам вроде бы странно. Но нет! В них же хранились человечьи души! Я успокаивал себя тем, что с душами ничего не случится. Найдут себе новое пристанище, уж во всяком случае лучше тараканьего! Но смотреть на массово погибающих в банке тараканов было больно. Через минуту все было кончено. — Блин! — воскликнул я, вспомнив о бывшей душе гаишника, которую мы у него изъяли. — Что мы наделали! Там же был Маяковский! — Хер с ним, с Маяковским! — кровожадно прорычала Сигма. И пока тараканы плавали в дихлофосе ножками вверх, их души вырывались на просторы из нашей открытой форточки, точно фанаты «Зенита» после победы любимой команды — размахивая флагами и скандируя речевку «Души прекрасные порывы!» И этот порыв был прекрасен. Десятки освобожденных узников.Таким образом облагораживание человечества в промышленных масштабах было прекращено. Но буквально на следующий день меня ждало новое потрясение. Мачик призвал меня в кабинет, усадил за стол для совещаний и молча раскрыл передо мною «Независимую газету». Я увидел там на весь разворот интервью с Сигмой, естественно, с ее портретом и огромным заголовком: «Ясновидящая Сигма против Мадемуазель СиСи». — Читал? — спросил Мачик. — Первый раз вижу… — пробормотал я. — Ну, читай, — разрешил он тоном, не предвещавщим ничего хорошего. Я принялся читать, холодея. Почему она мне не сказала? Вкратце суть была в следующем. Журналистка Антонина Подзаборная (по-видимому, псевдоним) провела журналистское расследование, нашла людей, с которыми работала Сигма, скопировала наши тогдашние сертификаты и ей каким-то образом удалось встретиться с Сигмой. Собственно, она глухо упоминала об одном «добровольном помощнике, бывшем участнике опытов, впоследствии разочаровавшемся в переселении душ», который и навел ее на Сигму. Так и было написано. Разочаровался, мол, в переселении душ. А во вращении Земли вокруг Солнца он не разочаровался? Несомненно, это был Костик. И дальше следовало само интервью, в котором Сигма камня на камне не оставила от Мадемуазель СиСи и нашего аттракциона, объявив его модным, но полным фуфлом. Особо детально был расписан сеанс с Огневым-Кошицем, который сама Сигма и готовила. Я дочитал. — Что скажешь? — мрачно ссорил Мачик. — Я не знал ничего… — Ну, я эту б…дь вы…бу! — грозно пообещал Мачик. — Она девушка, — зачем-то сказал я. — Значит, так. Ты остаешься работать. Ты мне нужен. Но ты мне уже не друг со всеми вытекающими. Не сумел приструнить бабу!.. А она… Пусть пеняет на себя. Честно скажу, за ее шкуру я не дам сейчас и десяти центов. Иди! Я пошел к дверям. — И вот еще что. Скажи ей, пусть завтра принесет сто штук баксов, которые получила за Грибоедова, — сказал Мачик. — А баксы за что?! — Она его обманула. И нас обманула! — Так сделка же состоялась! И Пушкина сберегли! — вскричал я. Мачик подумал. — Это правда. Хер с ней. Правда, ей они теперь не понадобятся.
Я позвонил Сигме на мобильный и сказал, чтобы она сидела дома и никуда не высовывалась. Даже не подходила к окну. Она поняла. Она вообще понятливая. Когда я возвращался домой, я увидел у нашего дома на противоположной стороне улицы припаркованный джип, в котором сидели известные мне пацаны из охраны Мачика. Они даже не скрывались и помахали мне для приветствия. Я понял, что дело плохо. Что они замыслили? Дома Сигма сидела у окна и смотрела на этот джип так, чтобы с улицы ее не было видно. — Зачем ты это сделала? — спросил я. — Чтобы знали! — Ну и глупо. Такие вещи надо готовить. Сказала бы мне, мы бы сменили квартиру. А теперь не высунуться. — А если попробовать? — предложила она. — Не советую. Вряд ли они будут стрелять прямо на улице. Скорее, запихнут в машину и увезут в лес… Глаза Сигмы округлились. — В лес?! Зачем?! — Блин! Си, ты думаешь, они хотят тебя пожурить? Они тебя убьют! Понимаешь, убьют! — закричал я. — Убьют?! За что?! — она действительно думала, что ее легко накажут — и всё. Весь вечер мы обдумывали, что теперь делать под пение мадам Полуэктовой, сопровождаемое криками попугая. Я чувствовал, что у меня тоже начинает ехать крыша. Однако на следующий день ситуация ухудшилась. В дело вступил поэт Огневой, которому родство душ с Грибоедовым так и не помогло добиться признания. И теперь он метал громы и молнии, обвиняя Мачика и компанию в жульничестве. Он настаивал, что его загипнотизировали и заставили под гипнозом назвать Грибоедова в качестве одной из предыдущих инкарнаций. Это было уже серьезно, учитывая миллиарды Кошица. Мачик мог убрать Сигму. Кошиц мог убрать всю нашу команду, стоило ему только мигнуть. Но ему, видимо, это было не нужно, а хотелось лишний раз пропиарить Огневого в прессе. Джип дежурил под окном. Полуэктова и попугай соревновались в произнесении фразы «Спасите наши души». Ночью, услышав пение соседки в кухне, я тихонечко приоткрыл дверь, вооруженный спирометом, и всадил ей в сердце душу одного из двух тараканов, оставленных мне для экспериментов. Я наградил Полуэктову душой Мани Величко, барменши в кафе «Ласковый гном», которая отдала Богу (а точнее, нам) душу полтора года назад в результате банального дорожного происшествия. Душа же профессора Тимирязева вернулась к моему таракану. Как только я это сделал, Полуэктова обернулась ко мне и игриво спросила: — Вам капуччино или эспрессо? — Эспрессо, — буркнул я, выходя из комнаты. Полуэктова мгновенно изготовила эспрессо и подала мне в чашечке с блюдечком. Я понял, что дело сделано. Она больше не будет петь про души, а станет обслуживать квартиру напитками. Успех окрылил меня. Я решил попробовать решить таким путем и проблему с Сигмой. У меня имелись в наличии два таракана. Тимирязев и детский писатель. Я усадил их в одну банку и поставил ее на стол. Тараканы внимательно смотрели на меня. Очевидно, недавние зверства произвели глубокое впечатление на бывшего профессора и бывшего детского писателя. Оба, несомненно, были в прошлом гуманистами. Тимирязев, как известно, занимался растениями, а детский писатель писал про зверьков и птичек, про природу, леса и поля. Оба были совершенно некровожадны. Я не сомневался, что они меня слышат и понимают. — Друзья мои! — начал я, глядя в их тараканьи лица. — Я прошу прощения за допущенные ошибки, приведшие к истреблению ваших товарищей и коллег. Но сейчас я прошу помочь нам, причем сделать это совершенно добровольно. Я прошу кого-нибудь из вас дать согласие на обмен души с одним человеком. Человек этот неплохой по сути, с широкой душой (тут я подумал, что широкая душа Мачика может и не поместиться в таракане), он очень богат и обладает могучим здоровьем. Жить в нем будет вполне комфортно. У него есть и определенные недостатки, конкурентная борьба в шоу-бизнесе ожесточила его… Бывшие профессор и писатель внимательно слушали меня, шевеля усами. — …и он стал бандитом! — горько заключил я. — Ваша задача — помочь ему встать на правильный путь. Тот из вас, кто возьмет его душу, может сделать неплохую карьеру в вашем обществе. («Которое мы перебили!» — некстати подумал я.) Я сказал вам все, ничего не утаивая. Решайте! Тараканы принялись обмениваться мнениями, ощупывая друг друга усами. Наконец Тимирязев отполз в сторону, а писатель поднял оба уса вверх, как бы сигнализируя, что он готов на подвиги. Я зарядил писателем спиромет и отправился на рандеву с Мачиком. Точнее, на его расстрел, поскольку дуэлью это было назвать трудно. Я позвонил секретарше и сказал, что хочу к шефу на прием. Она доложила, и Мачик немедленно меня вызвал. Очевидно, он предполагал, что я принесу ему какие-то условия сдачи Сигмы. Я вошел в кабинет с фотоаппаратом «Canon», который болтался у меня на животе. Длинная труба телеобъектива со спрятавшимся внутри детским писателем, была наставлена на Мачика. — Ты… чего? Фотографировать будешь? Зачем? — недоуменно спросил Мачик. — Мачик, я не хотел бы делать это тайком, я хочу, чтобы ты знал. Наше дело провалилось, мы занимаемся обманом и в этом обмане покусились на самое святое, что есть в человеке — на его душу! — Э! Э! — закричал Мачик. — Зачем говоришь, как газета?! Чего пришел? — Я пришел дать тебе душу, — сказал я с некоторым пафосом, как Стенька Разин, который приходил давать волю крестьянам. Кстати, волю я ему тоже хотел дать. Мачик потянулся к кнопке вызова охраны. Видимо, он решил, что я сбрендил. Мы нажали кнопки одновременно. Я — кнопку спуска, он — вызова охраны. Душа писателя пулей устремилась к Мачику, который едва успел раскрыть рот, выбила оттуда нынешнюю Мачикову душу, которая мигом юркнула в спиромет, — и дело было сделано. Ворвавшаяся охрана уже крутила мне руки и прижимала носом к ковру Мачикова кабинета. — Стоп! Отпустите его… — раздался голос Мачика. Меня подняли и освободили мне руки. Первым делом я заглянул в объектив спиромета и увидел там моего агента-таракана, в котором неистовствала заключенная в нем душа Мачика. Он буквально лез на стенки узкой трубы между двумя линзами, выражение его тараканьего лица, или точнее, морды, было самое зверское. — Что за самодеятельность, друзья? — обратился Мачик к охране. — Я лишь хотел, чтобы нам принесли чаю… И яблочного соку, — добавил он. Я подумал, что душа писателя давно не наслаждалась яблочным соком. Охранники, пятясь, покинули кабинет. — Так на чем мы остановились? — спросил Мачик, поеживаясь. Новая душа обживала его грузное тело. — На нашей программе «Спросите ваши души», — сказал я. — Да-да… — задумчиво сказал Мачик. — Надо ее улучшать, надо. Народ просит… Что, если мы будем исследовать души зайчиков, лисичек, слоников?.. Вообще сделаем передачу детской! Это мысль, Жека! — Ну-у… можно… — протянул я, не ожидая таких оперативных действий души. — Зови ко мне Леву, — приказал Мачик. — Будем думать. — Мачик, ты бы снял пост у нашего дома, — попросил я. — Сигма нервничает. — Нет вопросов, — сказал Мачик и поднял трубку. Он дал распоряжение охране, потом повесил трубку и спросил: — А Симка не захочет работать с птичками? Выясни у нее. — Она уже работала… немного… — сказал я, вспомнив Мамалюка. — Вот и чудесно. А то, понимаешь, всякие олигархи-графоманы претензии нам предъявляют. Зайчики будут молчать. Вот эта фраза — «Зайчики будут молчать» — меня несколько насторожила. Я подумал, что писатель, всю жизнь писавший о зверьках, относится к ним свысока, покровительственно. Оставив Мачика и Леву Цейтлина думать о новом облике передачи, я поспешил к Сигме. Джипа у нашего дома уже не было. Я взбежал на наш этаж, быстро прошел по коридору и вошел в комнату. Сигмы я не увидел. Неужели она куда-то ушла? Я взял банку с сидевшим там одиноко Тимирязевым и выпустил таракана с душою Мачика туда. Затем я заглянул за шкаф и увидел там сидящую на тахте Сигму в какой-то безжизненной позе. Я подошел к ней и заглянул в глаза. Они были полны печали. — Что случилось, Си? — спросил я. — Звонила твоя сестра… — сказала она.
Глава 16. Сердолик
Мамину незнаменитую душу отпевали в том же Владимирском соборе, что и тетку Сталин. Неожиданно для меня на отпевание пришло множество ее воспитанников, среди которых я увидел известных сейчас и в прошлом чемпионов фигурного катания. Не было только прессы, и слава Богу. Мама осталась верна себе и тут. Свою скромную, наполненную трудами и думами жизнь она завершила столь же достойно и несуетливо. Быть как все внешне и сохранять при этом оригинальность души — это великое искусство, потому что оригинальность души стремятся побыстрее продать и при этом ее теряют. Мамина душа улетела искать себе новое место, и мы с Сигмой ни разу не обмолвились даже о том, чтобы взглянуть на нее нашими приборами, не говоря о принципиальной возможности пристроить душу в теплое местечко. Мы понимали, что это неуместно. На девятый день мы пришли к отцу — сестра и я, чтобы помянуть маму. Сестра была с мужем и детьми, я же попросил разрешения привести с собою Сигму. Отец разрешил. И вот когда за столом мы принялись вспоминать разные случаи из нашей семейной жизни уже здесь, на родине, — рождение моей сестры, ее школьные годы, мои попытки устроиться в новых обстоятельствах, все мельчайшие и понятные только нам ниточки бытия, из которых сплелась наша жизнь, в центре которой всегда была мама, — я впервые увидел на глазах Сигмы слезы. Девочка-подкидыш была лишена всего этого. Она смотрела прямо, не мигая, глаза полны были слез, она боялась их расплескать. Потом она встала и вышла из комнаты. Сестра шепнула мне: — Годится. Молодец. — Да я ее не на смотрины привел! — возмутился я. — Тебе кажется, — сказала сестра. Перед тем как разойтись, отец повел нас с сестрой в комнату мамы и предложил взять на память о ней что мы захотим из ее вещей. Сестра взяла мамин крестик, а я выбрал камешек, который я помнил с тех пор, как осознал себя. Это был сердолик неправильной формы величиною с фасоль, он всегда лежал в специальной коробочке на бархате. Иногда мама открывала ее и любовалась, рассказывая нам с сестрой о том, как она его нашла и как этот камешек спас им с отцом жизнь. Это было в Америке, в штате Монтана, куда мама с отцом поехали в свадебное путешествие. Она нашла его на прогулке в горах, а на следующее утро потеряла в гостинице. Он куда-то запропастился. И мать с отцом искали его, пропустив автобус, на котором должны были уехать. Сердолик нашелся, едва автобус ушел. Этот автобус, на котором они должны были уехать, упал в пропасть, все пассажиры погибли. С тех пор сердолик стал маминым амулетом, или оберегом, если по-русски.Когда я вернулся на работу после почти двухнедельного отсутствия, я обнаружил там гигантскую свару. Серафима Саровская конфликтовала с Мачиком, не желая разделять его обнаружившуюся любовь к душам зайчиков и медвежат, Лева Цейтлин ходил вялый, телевизионщики тоже приуныли, вдобавок их сильно раздражал реквизит в виде клеток с кроликами, собачками и кошечками, которых готовили к передаче. Как вдруг Мачик в порыве вдохновения заявил, что нам совершенно ни к чему работать с душами зверьков, тем более что неизвестно — есть ли у них души. — Это неочевидно, — сказал Мачик. — Говорить они все равно не умеют, надо их озвучивать… Нужно просто рассказать детям, как они живут, их повадки… — Ага, «Ребятам о зверятах»… — уныло прокомментировал Лева. — Да! Ребятам о зверятах! — воскликнул Мачик. — Почему нет? Короче говоря, он уволил Мадемуазель СиСи, вызвав взрыв вопросов и комментариев в прессе, а Цейтлин ушел сам. Передача благополучно развалилась, клетки со зверями исчезли, теперь сам Мачик вел свою передачу и был, по-всей видимости, доволен. Деньги его не интересовали. Денег у него был вагон. Не так много, как у Кошица, но вполне достаточно, чтобы позволить себе невинное хобби. Душа детского писателя торжествовала. Зато душа Мачика продолжала неистовствовать в таракане. Я допустил оплошность, посадив Мачика в банку с Тимирязевым, потому что Мачик уже к утру убил профессора, отпустив его душу на волю. Причем сделал это с какой-то восточной жестокостью — отгрыз ему голову. — Зачем ты это сделал, Мачик? — спросил я. Таракан посмотрел на меня столь выразительно, что я поблагодарил Бога за то, что не заточил душу Мачика в зверя покрупнее. Однако, через некоторое время выяснилось, что заточение души — дело не столь однозначное. Сигму по-прежнему преследовали кошмары, я всерьез стал опасаться за ее душевное здоровье. Ночью ей снились души, с которыми она работала — и тетка Сталин, и души братков, и души тех праведников, которыми мы хотели облагородить тела депутатов Государственной Думы. И эти страхи и кошмары были небеспочвенны. Обнаружилось это так. Мы решили поместить душу Мачика в надежное место, потому что таракан буквально излучал ненависть. Мы посадили его в спиросос и отправились в Лосево, к заветному камню, где хранилась душа тетки Сталин, чтобы по соседству пристроить Мачика. И каков же был наш ужас, когда мы не увидели в спироскопе никакой души в этом старом валуне! Там ничего не было! Душа диктатора сумела сбежать. Нечего и говорить, что мы не стали пересаживать душу Мачика в камень, а отправились назад и принялись проверять — все ли пересаженные нами души на месте. Иными словами, мы устроили гигантскую инвентаризацию, — где могли, конечно, и обнаружили, что души, заточенные нами в неживую материю, почти все сбежали. Не было также некоторых душ, помещенных в растения, да и среди человеческих тел случались накладки. Душа передовой доярки, помещенная в депутата Шандыбина, бесследно испарилась, а на ее месте сидела неизвестная нам душа старшего сержанта Драчева, погибшего от рук новобранца, который не снес дедовщины. Вдобавок по пути обратно в электричке от нас сбежал таракан Мачик. Эти неприятные открытия сильно насторожили меня, а Сигму буквально поставили на грань помешательства. Души не желали расставаться со своею свободой и находили различные лазейки, чтобы покинуть неугодные им вместилища. И чего от них можно было ожидать — неизвестно. Когда мы рассказали об этом зашедшему в гости Костику, он воспринял все очень серьезно и сказал: — Я буду молиться за вас. Сигма теперь засыпала только рядом со мной, взяв мою ладонь в свою, при этом часто взрагивала и стонала во сне. Ее осаждали видения душ, которых она лишила покоя. Успокаивающие таблетки не помогали. Я пробовал орудовать спирососом, пытаясь поймать витавшие над нею души, и иногда мне это удавалось. Однако это мало помогало. Непойманных душ было больше.
…Однажды я проснулся от крика и от того, что Сигма во сне сжала мою ладонь до боли. — Не надо… Нет! Нет!! А-а… — кричала она. Я разбудил ее, сильно встряхнув. Она проснулась, дико озираясь, потом стала шептать: — Джин, он здесь! Я вижу его! Он хочет меня убить! Спаси меня! Ее била лихорадка. — Кто? Кто? — допытывался я. Она только трясла головой, не в силах ответить. Потом снова закричала, изгибаясь, как от боли. И тогда я спрыгнул с кровати, схватил мамин оберег и сунул ей в ладонь. Не знаю, почему я так сделал. По наитию. Сигма еще пару раз дернулась и затихла. Лицо разгладилось, стало спокойным. Она уснула, сжимая в кулаке камешек цвета крови. Утром она не помнила ничего — кто к ней приходил и чем грозил. Может быть, это был Сталин, но может, и Мачик. Я собственноручно, пользуясь лишь маленькими круглогубцами и кусачками, изготовил легкую серебряную оправу из старого кулона и заключил туда сердолик, который и повесил на грудь Сигме. — Спаси и сохрани, — сказал я, целуя ее.
Потревоженные нами души больше не беспокоили Сигму. Она засыпала с красной капелькой на груди, по-прежнему держа мою ладонь в своей, и я любовался ею. Оказывается, она была очень хороша, когда ничто ее не беспокоило и она могла улыбаться. А через три ночи у нас наконец случилась любовь. Я проснулся от ее прикосновений — горячих и нежных. Она искала меня губами, мы поцеловались, сплетенные и нагие, и дальше я не умею описывать, что произошло. Это было как у всех любящих впервые, при этом у нас было чувство, что мы прожили вместе уже целую жизнь. И камешек цвета крови все время был между нами, вился на серебряной цепочке, плясал в такт нашим движениям, светился в темноте, оберегая души от чужого вторжения. Сердолик — камень любви и верности, посмертный подарок мамы, — наконец соединил нас и сделал мужем и женой.
Утром Си проснулась и изумленно проговорила: — Хорошо-то как было! И снова потянулась ко мне. И мы не вылезали из постели до вечера. А еще через несколько дней, вечером, уплетая за обе щеки сыр и салат, который я соорудил, и запивая все это вином, Си сообщила: — Я больше их не вижу! — Кого? Кто приходил ночью? — спросил я. — Нет. Вообще. Никаких душ. Ни у кого. Я проверяла спироскопом. Как ты думаешь, может быть, фиг с ними? — Ну конечно, фиг с ними, — сказал я.
Эпилог
Да, Сигма полностью потеряла дар видеть чужие души. Этот талант умер навсегда, и мы не жалеем об этом. Зато музыкальный талант ее сохранился, и она по-прежнему умеет играть на всех музыкальных инструментах, даже на тех, которые видит впервые. Теперь она работает в детском саду музыкальным воспитателем. Многие родители потом отдают ее воспитанников в музыкальную школу. Я бросил свое охранное предприятие у Мачика, который по-прежнему ведет передачу про зверей, сильно похудел, стал вегетарианцем и много жертвует из своих капиталов на благотворительность. Серафима Саровская открыла «Академию черной и белой магии» и процветает. Она написала книгу, к ней записываются на прием, и она читает инкарнации клиентов. Мачик говорит, что эти легенды для клиентов сочиняет прежняя команда сценаристов. А я теперь делаю украшения. Это кулоны, серьги и браслеты с полудрагоценными камнями. Тот первый камешек, который я оправил, дал начало моему новому делу. Костик закончил Духовную академию и получил небольшой приход во Всеволожском районе под Петербургом. Он бывает у нас и по-прежнему пишет стихи. Недавно прочитал нам вот такое:И все-таки, когда моя душа,
Как говорят, покинет это тело,
Спасительной свободою дыша,
Она не будет знать предела.
Неправда, что всему один конец.
Душа моя — фонарик путеводный
Среди теней, которыми Творец
Не дорожит во тьме холодной.
Неотличим от прочих только тут,
Незримый свет храню я под секретом.
Но если все ослепнут и уйдут,
Кто уследит за этим светом?
Михаил Кондратьев Добро, зло и выгода
Взрослая сказка
 Немалое село — с две сотни изб да клетей наберется. Половина крыш топорным тесом хвастает. Опять же: амбары новые, огороды — все подворья застроены. Знать, зажиточных хозяйств вдосталь. И впрямь, что ли, желтопуз-переросток рядом вьется?
А в округе что? Луга добрые, пышные — скотине приволье. На сто верст в любой бок отойди — травы солнцем пожгло, а здесь уродило. Река излучины гнет, село обтекая. Вислогубым утесом глядится в нее каменный кряж.
Все, как та заполошная пеструха поведала. Вот и думай: Горынич какой недобитый пещеру себе сыскал али Грозила узкоокая в омуте поселилась.
Латник залез рукой под бармицу, сдвинул шелом и почесал затылок. «Покон витязный» ясно требует: борони красу женскую и честь девичью. Птица же, в пути встреченная, весть пропела недобрую — будто портят здесь девок почем зря, а те сраму не имут, защиты не требуют.
Год назад еще молва пошла, будто здесь люд пропадать стал, да все одни бабы. Но потом перетолки стихли. Затаились? Ведь всем ведомо, что змий, пусть и удачу несет, шибко до девственниц охоч. Чует он их исправно, да раз-другой за месяц к себе требует. Неужто селяне решили и змия удержать, и девок не терять? Поганых щедрот ради честь девичью ругают?!
Глянем, что к чему.
Он тронул коня.
Немалое село — с две сотни изб да клетей наберется. Половина крыш топорным тесом хвастает. Опять же: амбары новые, огороды — все подворья застроены. Знать, зажиточных хозяйств вдосталь. И впрямь, что ли, желтопуз-переросток рядом вьется?
А в округе что? Луга добрые, пышные — скотине приволье. На сто верст в любой бок отойди — травы солнцем пожгло, а здесь уродило. Река излучины гнет, село обтекая. Вислогубым утесом глядится в нее каменный кряж.
Все, как та заполошная пеструха поведала. Вот и думай: Горынич какой недобитый пещеру себе сыскал али Грозила узкоокая в омуте поселилась.
Латник залез рукой под бармицу, сдвинул шелом и почесал затылок. «Покон витязный» ясно требует: борони красу женскую и честь девичью. Птица же, в пути встреченная, весть пропела недобрую — будто портят здесь девок почем зря, а те сраму не имут, защиты не требуют.
Год назад еще молва пошла, будто здесь люд пропадать стал, да все одни бабы. Но потом перетолки стихли. Затаились? Ведь всем ведомо, что змий, пусть и удачу несет, шибко до девственниц охоч. Чует он их исправно, да раз-другой за месяц к себе требует. Неужто селяне решили и змия удержать, и девок не терять? Поганых щедрот ради честь девичью ругают?!
Глянем, что к чему.
Он тронул коня.
Может, и не так думал вставший на дорожном холме витязь — ручаться не буду. Но прибыл он сюда, клюв даю, за драконьими головами. Не из-за того ли, что юдоль нескромная подвигает, а потому, что сказ мой занозой в сердце сел. Кречета при нем не было — не стал друга в свалку тянуть. Я мягко спустилась на булатную доску плеча (лапы врастопырку — скользко!) и завела разговор: — Великих побед тебе, храбрый богатырь. Вздрогнул он под зерцалом аль нет — не понять. Но голову повернул неспешно, и во взгляде степенном ни искорки чувства не мелькнуло. — От великих побед реки крови льются. Мне и малых достанет, коли славные будут. Вот так выговорил. Видно, не рад встрече. — Кто же будешь ты, пичуга неведомая? Прошлый раз не успел спросить — кречет тебя спужал. Перепелка? Мелковата вроде. — Бегунка я. А как тебя величать? — Зови меня Мечиславом. — Ты дракона идешь воевать? — Разве в селе желтолицые поселились? Али мы за китай-стеной очутились? Не за драконом еду, а за змием Горыничем. Чует сердечко мое, доведется рвать отсюда крылья несолоно хлебавши. Моим словам он не внемлет, как пить дать. Однако попробую. Может, он не больно мудролобый. — Твои доспехи броневые делают тебя неуязвимым. Но и нерасторопным тоже. Смог бы ты добраться до села, коли б не лошадь твоя ломовитая? — Говори, чего хочешь? Нечего зазря клюв чесать. — Многих видела я, кто на змия вышел да вкусил пораженье. Помочь тебе хочу совладать с ним. Не одним мечом булатным биться надо, а и хитростью. Я умолкла, дожидая, пока он запросит продолжения. Но витязь молчал. Медленно топтала растресканный тракт лошадь, неторопливо приближалось село. Устала ждать. — Станешь змия снаружи рубить — до седьмой головы не дойдешь, меч затупится. Как почуешь, что тяжко — бросай сечу да разговоры веди. Коли убедишь его проглотить тебя живьем — изнутри исполосуешь. Я уж тебе присоветую, что наплести. Он меня врасплох подловил. Ехал увальнем — лишний раз шелохнуться лень, а тут — раз! — и я у него в кулаке. Целиком поместилась. Ручища! — А тебе какая в том выгода? — спросил он. — Обидел он меня, — я еле выговорила. — Не сжимай. Раздавишь… — Эвон как? Обидел, значит. Вот что, птица. Я тебя живьем проглочу, а ты, коли на волю захочешь, проклюй мне пузо. Идет? Он разинул рот и сунул внутрь мою голову. Спужалась я, подняла писк, хлеще цыпленка голодного. Думала, сожрет с потрохами. По счастью,пронесло По стыду, в обоих толкованьях. Не стал он меня есть. Отнял руку ото рта, посмотрел брезгливо, отерся об коня и сказал на прощание: — Что, дура, боязно? Лети, попугай кого другого. Я не попугай! Я Бегунка, говорило уже. Ну, тогда беги, ухмыльнулсяон однобоко и швырнул меня вдоль дороги.
Я за камнем примостилась. Совсем рядом сижу: вес услышу-увижу, а сама неприметной останусь. Ох, красен латник! На зерцале солнышко играет — ни пятна ржавого, ни тусклинки завалящей. Не колонтарь, и даже не бахтерец — с теми змий уже дело имел. Такой доспех пуда на четыре потянет. К шелому личина пристегнута, шея бармицей прикрыта, руки в перчатках. В деснице — меч справный, булатный. Наруч на шуйце шипами да крючьями щетинится. Под доспех, знамо дело, фуфайка пододета али кафтан. Жарко в походе? Зато в бою ладно. Вот коню его тяжко придется. Тот хоть прикрыт кольчугой, а ноги все одно наружу торчат, где их денешь? — С чем пожаловал? — проревел Аз. Я все головы его поименно знаю, нипочем не перепутаю. Аз — старшой. — Негоже мне с тобой речи вести. Принимай бой. — Твое веленье — мое хотенье. Аз еще не договорил, как Буки и Добро метнулись коню в ноги. Есть, Како и Люди пошли ошую; Веди, Глаголь и Живете — одесную. Остальные ждали: теснота — помеха. Да и не обученную ратному делу четверку стеречь надо, чтоб дров не наломали. Всем телом вздрогнул Горынич, застонал многоголосо. Буки под конем лег. Пустая шея вяло влачилась к телу. Добро получил копытом в глаз и прянул назад. Есть носом в шипы ткнулся — вскинулся, ор поднял. С пользой: меч под ним просвистел, самым краем кадык затронув, и пошел дальше, точнехонько… Снова рев! Еще одна шея — без Како — бессило пала ниц. Опять! Зело, Земля и Иже ринулись на подмогу. Следом за ними, сменяя отлетевшую к скале Живете, рванулся Мыслете, но уже ни к чему. Зело и Земля двойным ударом сломили коню ноги. Всадник пошатнулся, заваливаясь набок, но отмахивался прицельно — Зело покатил кувырком к Живете. Земля смело боднул Мечислава снизу, запрокидывая вверх тормашками и подымая в воздух. Люди прихватил витязя за ногу, Глаголь выбил меч. Сеча кончилась. Аз неспешно придвинулся к повисшему нетопырем витязю. — Дорого ты нам обошлась, устрица самоходная. А мы даже имени твоего не узнали. — Ни к чему мне с тварью подлой знакомство заводить, — прогудел тот из-под задратой бармицы. Ай да боец! Смертушка — вот она, пастью за ногу держит, и все одно робости в нем ни на грош. Дерзок, будто он змия одолел, а не иначе. Видно, взаправду поконный витязь попался. — Твое право, — Аз легонечко зубами шелом прихватил, стянуть попробовал. Не вышло. Тогда откусил голову и проглотил имеете с шеломом. Люди замычал. Безголовый латник вольной ногой по губе ему врезал, едва шпорой кровь не пустив. — Эка невидаль — дернулся разок. Ешь давай. Да смотри, шею откинь — поколешься. И скорлупу сплевывай! Хватит нам одного шелома: снова пучить будет. Эй, кто в запасе стоял — прихватите шеи: ослабнем ведь, пока зарубцуются. Худо дело. Я не стала дожидать, пока он меня узрит. Полетела за подмогой.
В селе мне мно-огое ведомо. И кто на что горазд, и у кого какие мысли. Змий-то здесь уже, почитай, третий год пасется. Так что времени я зря не теряла. Просвистела над улицами, приметила, где Добрян с Бобыней ошиваются, а после к кузне направилась, Ивана искать. Демьян, кузнец местный, Ваньку присмотрел еще в отрочестве. И не погнушался умом его скудным — взял за силушку себе в подмастерья. Все надеялся — сноровка сметке подсобит и сменой достойной отольется. Провозился с ним, аж пока Ванька Иваном не стал да не вымахал с каланчу ростом. Остолопом. Хоть и доброе сердце у Демьяна, а ремесло все ж на первом месте. Взял он себе другого подмастерья, Козьму, а Иван с тех пор все возле кузни вьется. Селяне жестокосердые дурнем его называют, а он в ответ лишь лыбится. — Здоров будь, Иван — крестьянский сын, — начала я. — И тебе здравия, птица беглая. Он все думает, что я из сказки явилась. Дитя дитем. — Дело есть к тебе важное. Один ты его сможешь осилить. — Молви, — говорит, а сам грудь раздул, аж ребра затрещали. — Витязь, который змия бороть отправился, пал. Но перед кончиною ухитрился славный муж сей подкосить Горыничу здоровье. Малая толика осталась, чтоб вовеки избавить село от грабежей. Сколько скотины в пасти его прожорливые зазря уходит! — Но ведь я не ратник? — изумился Иван. — Так что? Куяк справный есть у тебя. И меч, слыхала, тоже есть. — Есть, да ведь они из болотной руды выделаны. На ополчение сойдут, но супротив змия — ни в какую. — А они тебе лишь для вида и надобны. Вот послушай: змий ныне голоден да слаб, Мечислав голов ему порубал немерено. Как завидит тебя в куяке да с мечом, в битву не пойдет — побоится. А и ты ему предложишь невиданное. Скажешь — мол, осерчал ты на люд злоязыкий за насмешки, потому желаешь ему поскорее оправиться да селян уму-разуму поучить. И потребуй, чтоб заглотнул он тебя целиком. А сам припрячь на спине клинок узкий. Как внутрях очутишься — руби напропалую, и будет тебе слава первого драконоборца. Знаю, охоч Иван до сказок. Все мнится ему как-нибудь царевичем проснуться. Или, на худой конец, кузнецом. Но все одно с опаской отнесся. — А как я его убаю? — спрашивает. — Не тужись, легко выйдет. Говорю ведь, он с голоду не кумекает ничего. — Ас какой стати ему меня глотать? — Так ведь головы у него отрублены. Новые взрастить — либо кровь беспорочная нужна, либо живая голова человечья. А девственниц всех вы загодя перепортили… Да ты не сумлевайся. Сам ведь знаешь, — я на всяк случай приготовилась деру дать, — дурнем тебя кличут. А ты вспомни по былинам да сказам: кто в них героем становится? Слова те последним доконом ему стали. — Иван-дурак, крестьянский сын, — промолвил он заворожено. — Твои руки — твоя доля, — сказала я на прощание и полетела к Добе и Бобе.
Вот ведь как бывает судьба людей узлом вяжет. Добрян — человек беззлобный, с младых лет ни одного комара не прихлопнул. Бобыня же — чвань редкая, селян ниже горохов овечьих ставит и в ответ презреньем ихним также сверх меры одарен. Не сойтись бы им ни в жисть, кабы не змий. Разного они от него захотели: один — доброты правящей, другой — правления доброго, но оба сельскому сходу поперек стали. Селяне их в отместку по-собачьему прозвали: Доба и Боба. А те еще большей доверою к Горыничу воспылали. На сей крюк я их и насадила. — Обыскалась я вас с благой вестью, — сказала, садясь на землю. — Так не тяни, — отозвался Бобыня. — Довелось Горыничу столкнуться с мужем славным, зерно сомненья в нем обронившим. Малой толики не хватает, чтоб сломить хребет животному в нем сопротивленью. Помогите — и предстанет пред вами мудрый и благочестивый зверь. Будет княжить праведно, от врагов боронить, советы давать. Подниметесь вы над соседями, за собой их потянете, и снизойдет благо великое на Русь. Боба и Доба переглянулись. Лица ослиные, глаза куриные. Я вздохнула. Высокий слог, наизусть заклювренный, уши насквозь проскочил. Придется на перстах раскладывать. — Значит, так. Змия витязь порубил… — Добрян охнул, — … но не вусмерть, — поспешила добавить я. — Ежели есть у вас к нему интерес, нынче и отправляйтесь. Он сговорчив стал — глядишь, выгорит чего. А мне недосуг. Полечу за травами редкими, — и упорхнула. Доба с Бобою знают меня как подругу змиеву, о его благе пекущуюся. В беседах наших я Горынича всегда рисовала несчастным, благородным изгоем. Мудрым, справедливым, но не верящим людям, из зависти много раз его обижавшим. Вот, мол, и про дев поеденных на него поклеп возвели, и про норов горячий. Потому, поразмыслив немного, решат они, что стоит счастья попытать. Как миленький на утес прибегут.
Я слетала оглядеться, не занесло ли в края наши иных ратников. Мечислава-то я приветила да направила, но вдруг кто сам дойдет, языками слухов приведенный? Чисто в округе. Помчала к змию. Еще издали увидала, как Боба-Доба к нему бегут. А что же Иван? Неужто спужался? Я внимательно пригляделась. Побывал-таки здесь Иван — лишь две шеи пустыми остались. Мягкого гнезда тебе, кузнец не сложившийся. Ну же, поглядим, как новая встреча пройдет. Доба сажен двадесять не добежал — сперва шагом пошел, а там и вовсе стал. Боба же прямиком в ноги бухнулся: — Челом бью, Горынич, и к мудрости твоей взываю! Гляжу — змий замялся. Видно, решил — Бобыня со страху умом тронулся. — Что творит-то он? — спросил у Аза новорожденный Буки. — Челом оземь бьется. — Убиться хочет? — Уважить. Ты лучше приляг, рано тебе еще думы думать. Буки послушно уполз на спину — дремать. — С каким делом неотложным ты к моей мудрости пожаловал? Никогда я за Азом болтливости лишней не примечала. Что на него нашло? — Хочу править твоим именем над селом нашим. Удостой меня чести — научи, как жить надобно. Я же слово твое к людям понесу. — Посерёдником стать хочешь? Между мною и сельчанами? Боба кивнул. — Что ж, не пожадничаю — обучу жизни своей. Становись-ка передо мной прямо, да очи зажмурь. Вот оно что! Недолгой была моя беседа с Мечиславом, да запомнилась. Змий-то витязю славному голову отъел — Буки нового нарастил. А ведь сказывал он мне как-то, что коварны головы мужески: чужой памятью разум туманят, новым знанием искушают. Да и бабские тоже. Много лучше девичьи: у тех память короткая — голова пустой вырастает, без чужого заемного опыту. Только жадно село на девственниц, а четыре шеи мертвые таскать никак нельзя: долго болеть станет змий, силы истощатся. А ему уходить надо. Неровен час — кованая рать нагрянет, за латника мстить. Вот и будет сам не свой, пока Мечиславова черная шутливость иссякнет. — Звать тебя как? — спросил Аз. Приметила я, что губа у него рассечена. Неужто с Иваном биться пришлось? — Бобыня. — А сопутника твоего? — Добрян. Добрян! — окликнул Аз. — Смотри в оба глаза на науку мою, — и в тот же миг перекусил Бобу пополам. Закричал Доба, упал наземь, задрожал осиновым листом. Аз глотнул половинку Бобынину и спрашивает: — Чего разорался? — Злой ты! Злой! Я думал, добрый! — Вот те раз. С чего я злой стал? — Ты Бобыню убил. — И что? — Как что? Злой ты! — Тьфу, заладил. А добрый бы как сделал? Я сижу молчком, наблюдаю. Добрян успокоился чуток, поразмыслил и выдал: — Добрый змий людей не ест. Скотиной питается али зверем диким. А коль нет их — траву щиплет, репу копает. Скорежило Аза от слов таких. Да и другие головы, что в беседу не встревали, тут же стали отплевываться, будто их верблюжьей болячкой прихватило. — Где же ты такого видел? Уж не на выгоне ли коровьем? — Нет. Легенды слыхал иноземные. О драконах, правда, но они такие, как ты. Только добрые. И любят их за то. — Легенды? — Аз прищурился. — А скажи мне, умник, драконы — твари здоровые? — Иные — как гора. — А летать умеют? — Стрижом по небу носятся. — Высоко и быстро? — Да. — А видел ли ты, чтоб корова летала? Хоть бы низко и медленно? Понурился Добрян. Аз же дальше заговорил. — Говоришь ты — злой я. Почему? Потому лишь, что мне тоже хочется есть, пить, жить? А скажи, кура от тебя просит добра, когда ей голову рубишь? А корова русляная? Два ведра молока в день дает — вы ей рады. А как досуха сдоится — под нож ведете. Она требует старости заботливой? А дерево? Ты избу построил — спросил у сосны, нравится ей бревном быть? А волк кусачий? Так что, люди тоже злы? Аз перевел дух и продолжил: — Думал ты — добрый я. В чем добро увидел? В том, что земли при мне родят щедро, кобылы в ожереб тройней ходят, дождь идет, когда надо? Так не моя заслуга — само складывается, естество озаботилось. Я для вас — как та корова, да вот кусач по-волчьи. А клыки мои выдернуть не по силам вам: всех костьми положу, сам же — уйду. Ничего не ответил Добрян. Да и я призадумалась. Слыхала я, капк мужики на сходе говорили: напал руслян на село — не гони прежде времени, набивай закрома впрок. Так что, выходит, они и впрямь его за корову держат? Аз немного помедлил и сказал-отрубил: — Долю мою не вам выбирать. Занимайтесь своим бытьем. Я без ваших указов решу, где мне добро, а где зло. Ковырнул Добрян землю лаптем и спросил, не подымая глаз: — Ладно, голоден ты. Но пошто глумился над Бобынею? Жизни своей научить сулил? Тут уж я до конца уверилась, что в змие Мечислав живет. Потому как ухмыльнулся Аз лишь одной стороной пасти. — Кривдой попрекаешь? Ты, когда бежал сюда, меня разглядеть успел? — Успел. — Сколько шей насчитал безголовых? — Две. — Сызнова сочти. Добрян зыркнул опасливо. Удивился. Задумался. А потом — я глазам не поверила — улыбнулся, подошел к змию ближе: — Коли тебе надобно — ешь! Оторопел Горынич. Шеи выстроил одну к одной, застыл частоколом. Наконец, шевельнулся Аз: — Иди, Добрян, в село. Сыт я тобой по горло. Растерялась я. Да и Доба поначалу не понял. Но судьбу вдругорядь решил не пытать — повернулся, пошел было, да встал. Постоял, воротился и спрашивает: — Расскажи на дорогу еще одно. — Экий ты наглец. Ну, спрашивай. — Слыхал я, что не ешь ты дев наших. Так пошто они тебе? И почему назад не вертаются? — Так и быть, поведаю. Чтоб голову взрастить, нужна мне кровь лунная, мужиком не порченая. От одной девы — одна голова выходит. После вольны они идти, куда хотят. Да вот в селе родном жизни не будет. Не будет ведь? Замуж ее не возьмут, на сеновал не потянут — шутка ли, змиева невеста. Так? А ежели вдруг напасть какая приключится — ее ведь первую камнями забьют, за ведьмачество. Вот и уходят они в иное село, а то и в город дальний. А есть… Когда скот из села не ведут — косулями обхожусь. Зайцы опять же, по крайности — суслики. Да я лучше лягушек наемся, все вкуснее выйдет, чем люди. Поведал? Теперь иди! Только скрылся селянин за мшистою глыбой, я вскочила Азу на нос: — Ты что, рехнулся? Не время харчами перебирать! — Не стану я его есть. Все одно сгодился — небылицу разнесет. — Не о том думаешь! Пред тобой долгий путь расстилается, а с пустой шеей — какой ты летун? Аз насупился: — Галопом помчу. Спать стану по очереди. Дороги ты наперед разведаешь, так что справимся. Тут к нам Добро с посинелым глазом приблизился: — ь Аз, доесть бы надо, — он кивнул в сторону Бобыниных ног. — Так ешь. Припал к земле Добро, зачавкал. Я же вновь к Азу приступила: — Растолкуй мне, что за напасть? — Умений боюсь Добряниных. — Иных глотал — не боялся. — Нечего было. Сама подумай: что страшного в Мечиславе? Одни прелести: как ратный строй держать, как схороны делать, иного много полезного. В Иване? Глуповат он — ну так выучим, не впервой. В Бобыне? Спеси да чвани мне своей хватает, чужую и не замечу. А вот Добрян… Не хочу я над каждой тварью слезы лить коркодиловы. Вдруг и впрямь на репу потянет? Не-ет. Не хочу. А шея зарубцуется, не впервой. Денек-другой подержим… — У! У-у-у! — забеспокоился Рцы. — Да не ухай ты, филин! — одернул его Аз. — Знаю, что сам не удержишь. Сменяться будем. Змей и впрямь в бегу многожильный оказался. Оно и понятно: пока одни головы вдыхают, другие выдыхают. Отчего ж не бежать во всю прыть, коли нипочем не захекаешься? Притомил он меня. Полдня в небе висела, дорогу высматривала. Напоследок поднялась высоко-высоко, огляделась — тишь да гладь кругом — камнем вниз пошла, да на Аза уселась. Тот от бега отвлекся — и давай со мной болтать. — Здорово мы Добряну про девственниц наплели? Как думаешь, поверил? — Поверит еще. Своим расскажет, те — дальше, и пойдет… На другой день уже объявятся люди, что видали этих Фросек, Пелагей, Маричек в дальних селах. Поди проверь — правду ли говорят? А костей от них ты не оставлял. — Да они ж молодые — легко жуются. Полезно опять же. Э-эх! — Аз расстроенно дернул носом. — Опять дорога к Черноморью отложилась! Пока теперь головы младые уму-разуму научишь. А потом еще новые дорастить надо. — А не хочешь сразу все добавить? Ученье бойко пойдет… — Бойко-то бойко, да только вдруг они перетянут глупостью своей? Когда много голов неразумных — как обуздать их? Лучше потихоньку, да наверняка. — А скажи мне, Аз, до какого числа раститься будешь? — Так говорено ж, и не раз. Черноморский-то змий из вод тридесять три рожи высунет. Вон сколько заимел — по главе на букву, коими слова зачинаются. Как вровень с ним стану — так и схлестнуться пора придет. — А коль больше голов сделать — легче справиться будет? Глянул Аз так, будто я великую глупость сказала. — Да ты что, не поймешь, к чему тридесять три главы? Се ж мудрости мира откроет: все слова, что люди придумали, даже те, что забыть успели, станут мне ведомы. Кто сподобился во своей земле до нужного поголовья дорасти, того словарем кличут. Когда же лишнюю отрастишь — неземного знания коснешься, — он встряхнулся, да так, что я едва не сверзилась. Прежний старшой наш сказывал, будто есть где-то в желтолицей стране тысящеглавый дракон. Хотел он словарем стать, да со счету сбился, лишку нарастил. Ни с кем теперь не заговаривает, никого не слышит, потому как мыслью витает высоко в небе — там, где звезды светят. Он теперь не от мира сего. И когда б не заступничество монахов, давно б с голоду помер. И как такое уразуметь можно? Поди разбери замороки змиевы. Ох, не зря мамка велела: как двадесять голов наукам обучатся — пора витязя искать. Не приведи лихо, помудреет Горынич в одночасье — враз раскусит замыслы мои. И меня с ними заодно. — Победишь ли в равной битве? — А не все ли одно? Ежели проиграю — жена моя навечно в полоне останется. Ежели не пойду биться — то же самое. Но без нее мне не жить долго. Радушием и терпением завсегда она простому люду мила была. К нам совета спросить ходили, почитали за мудрость. Без нее я стал груб и несдержан, зверем диким оборачиваюсь. Вот и ходят меня бороть, кому не лень. Да и нет больше мочи разлуку терпеть. Коли сложится все, как задумано, — вызволю ее, пойдем в иные земли жить. Там за сыр в масле девственниц табунами пригонят. А с русичами бороться невмоготу стало, уж больно они за долю вольную цепляются, — он в раздумьях поцокал языком. — Может, змиенышей заведем, в покое живя. — Ты ж не помнишь жены своей? — Зато знаю, как было. И я знаю. Ту легенду мне мамка донесла. Давным-давно жили Горыничи любо-мирно, больших хлопот не доставляя, всемудрости не алкая. И сдружились они со змием из Черного моря, да сестрой его. Та на Горынича глаз положила, да наивна оказалась — стала в жены набиваться: ты, мол, прежнюю сопружницу брату моему уступи, и будем все при семьях да счастливы. Рассмеялся Горынич, отверг предложение. Уж неведомо никому, что сестрица брату нашептала, да затаили они обиду лютую. Немного времени прошло, и собрались они вчетвером слетать в земли дальние: коркодилов-родичей проведать. Кто зачин дал — и так понятно. А как прибыли к рукотворным холмам каменным — в ту же ночь отгрыз черномор все головы Горыничу. Старшого с собою забрал, в закутке Руси припрятал и жить заставил — на потеху, чтоб страдал от мук бессильных. Полонили они с сестрой жену Горыничеву, а тело его подыхать оставили. И не углядел никто росточка малого, что в подмышке младой головою пробился. Вырос наново старшой Горынич, только знания все потерял. Тут его моя родня и приметила. Обучили, чему могли, подружили, а как он на Русь вертаться решил — с ним отправились. Долго с места на место блукали, все ужиться и нигде не могли. Вот и наткнулись как-то на живую голову. Она корни пустила, разрослась великаном; но тело прежнее узнала, и все как есть доложила. С той поры Горынич мщением бредит. Эх, где-то мамка теперь моя?! Все самой делать приходится. Пять годков, почитай, прошло, как под Муромом мы попались. Отыскала мамка богатыря, навела на кряж, где Горынич жил, — головы прореживать. Да, видать, и ей не простой витязь попался. Как пошел без устатку мечом махать — насилу Горынич последние головы унес: по воздуху уйти не смог — в реку прыгнул. Я тогда птенцом была, с перепугу до самой воды рядом летела, все охала да причитала. А змий перед нырком вдохнул глубоко, воздуха запасая, — заодно и меня втянул. Еле успела к языку прицепиться. Долго плыли мы под водой, а как вынырнули — не видали больше семьи моей.
— Слышь, Тари… — Не зови меня так, просила же! — Ладно, ладно, не буду. Скажи хоть, почему? — Чужое имя, нерусское. Я и языка того не ведаю — здесь родилась, здесь живу… и помру, чай, тоже здесь. Вот и зови Таней. А хочешь — бегункой кличь, не обижусь. — Бегунку для неведомок оставим, Таня. Ты как, не сильно притомилась? — Что, в зубах поскубстись? — Не мешало бы. Мне-то и после можно, а вот Люди — тот зерцало жевал. Да и Земля коня наспех драл, с кольчугой вместе. А Добро с Веди ногами лакомились: один — от Бобыни, другой — от того, что клинок на спину повесил… — Аз лизнул порезанную губу. — Иван, — подсказала я. — Да, от Ивана. — Зови Веди. С него начну — чтоб по порядку. Глядь, а тот и сам объявился, зова дожидать не стал. — В подслухах был? — нахмурился Аз. — Вы ж гахчиикаишь — шо гухаи на токовище! — возмутился Веди. — Разевай рот, — скомандовала я. — Да смотри, языком не шевели, а то клюну. Делов-то — костяшка мелкая застряла. Благо, не железа кус. Мамка говаривала, что ей бабка сказывала, будто предки ее жалились: мол, с коркодиловыми зубами прожить легше было: растут они вкривь и вкось, потому мяса в них застряет немерено. Но мы и здесь приловчились. Управясь с костяшкой, я почистила резцы и полезла глянуть на коренные. Кладовые были полнехоньки! И выдолбанные — по три дня на каждое, аж клюв притупился — дупла, и развернутые мной щелки промеж зубов — все мясом забито. Пусть Горынич хоть седмицу теперь не ест — я все одно голоду кукиш скручу. У Добра тоже дупла есть заготовленные, и у Земли одно. А вот у Люди долбить надо. Ежели и семью заводить собралась, да такую, как у мамки была, — надо о еде загодя позаботиться. Чай, не в Египете живу: тут холода лютые бывают, ни травинки, ни листика не остается. А как Горынич оклемается, здоровья наберется да речи заведет о приросте поголовья и о битве скорой с черноморским супостатом — полечу искать нового латника. Пусть мозгов ему поубавит. Так, глядишь, вместе века и провекуем. В сытости и согласии.
Андрей Павлухин Передвиньтесь, пожалуйста
Рассказ
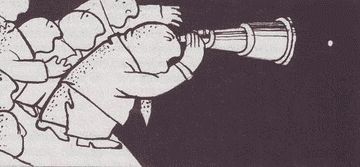 Контакт произошел в среду.
А в четверг уже вся планета знала, чего они хотят. И что предлагают взамен. Тогда же я встретился с братом.
— Перемещение… — задумчиво повторил я. — Куда?
— А какая разница? — Брат возбужденно расхаживал у окна, за которым сгущались осенние сумерки. — Галактика велика. А звезды одинаково недостижимы для нас в любой ее части.
Конечно, он прав. У моего братишки хорошо работают мозги. Именно поэтому я его редко вижу. Наша семья — обычная средняя семья рядового постсоветского инженера. Мать — программист. Я — оператор на пейджинговой станции. В принципе, ничего особенного. А вот мой братишка выбился в люди. Он колесит по миру: с конференции на симпозиум, с симпозиума на выставку, с выставки на какую-нибудь акцию… От него только и слышишь: Ницца, Денвер, Париж, Токио, Пекин… Даже если он дома — часами сидит за компом, не вылезает из интернета. А теперь его включили в состав специальной комиссии при ООН, которая рассматривает предложение чужих. Мой брат — специалист по новым технологиям. Крупнейший в мире.
— Они сказали — «убрать с трассы», — брат наконец-то сел в кресло. — «Передвинуть». Аналитики считают — не дальше сферы в десяток парсеков.
Логично. С нашей, земной, точки зрения. С нашими, земными, представлениями о расстояниях.
Контакт был быстрым и будничным. Корабля чужих никто не видел, никто не знал, где он находится и есть ли веообще. Никто даже не догадывался, как чужие попали на Землю. Они объявились в штаб-квартире ООН, приняв облик людей, продемонстрировали какие-то фокусы, сразу убедившие руководство, что они — именно те, за кого себя выдают. И начали переговоры. Оказалось, что человечество давно изучено, классифицировано, включено в состав Разумной формации (на одном из нижних уровней, разумеется), обладает своими правами и обязанностями. Поэтому никто без нашего согласия не имеет права нас передвигать. А надо: через Солнечную систему проходит вектор миграционной трассы. Они честно попытались объяснить, что такое «миграционная трасса». Поток, движение. Пространственная струна, по которой «мигрирует» около полусотни рас, в другую вселенную. А Земля мешает. Чужие предложили сместить Солнечную систему («со всеми небесными телами») в другую область космоса. Сохранность всех орбит гарантируется. Плюс — удаление за пределы системы объектов, представляющих опасность. Астероидов, комет. Конечно, этого мало. Земле положена компенсация. Инопланетные технологии. Доступные пониманию и разрешенные для использования на нашем уровне развития. Все. Вопрос о том, куда и как нас переместят, никого больше не волновал.
Тут все уперлось в политику. Чужие хотели иметь дело только с ООН. Многим странам это не понравилось. Возник кризис. Тогда был создан Координационный совет, в который вошли главы всех земных государств. И спецкомиссия по оценке компенсации.
— Представляешь, — сказал брат. — Космолеты для перемещения по системе, подробные инструкции по их постройке и эксплуатации, адаптированные и переведенные на основные земные языки.
— А звездолеты? — спросил я.
— Нельзя. Слишком рано для нас.
Я взглянул в окно — на глубокое по-осеннему небо, с яркими, недостижимыми огоньками.
Брат продолжал перечислять:
— Полная расшифровка человеческого генома. Принципы безопасного управления климатом. Генераторы нуль-гравитации. Сверхлегкие материалы намного прочнее титана. Новый вид энергии — я так и не понял, откуда она берется, это по части энергетиков. Компьютер-молекула, превосходящий по быстродействию и мощности все, что мы знаем… Список можно продолжать.
Я задумчиво кивнул.
— Это шанс для Земли, — он все больше воодушевлялся. — Нам повезло, что мы оказались на векторе трассы. Это все понимают. Думаю, Координационный совет проголосует за перемещение абсолютным большинством. Это прыжок в будущее. Подаренные нам десятки и сотни лет. Понимаешь?
Я понимаю.
Контакт произошел в среду.
А в четверг уже вся планета знала, чего они хотят. И что предлагают взамен. Тогда же я встретился с братом.
— Перемещение… — задумчиво повторил я. — Куда?
— А какая разница? — Брат возбужденно расхаживал у окна, за которым сгущались осенние сумерки. — Галактика велика. А звезды одинаково недостижимы для нас в любой ее части.
Конечно, он прав. У моего братишки хорошо работают мозги. Именно поэтому я его редко вижу. Наша семья — обычная средняя семья рядового постсоветского инженера. Мать — программист. Я — оператор на пейджинговой станции. В принципе, ничего особенного. А вот мой братишка выбился в люди. Он колесит по миру: с конференции на симпозиум, с симпозиума на выставку, с выставки на какую-нибудь акцию… От него только и слышишь: Ницца, Денвер, Париж, Токио, Пекин… Даже если он дома — часами сидит за компом, не вылезает из интернета. А теперь его включили в состав специальной комиссии при ООН, которая рассматривает предложение чужих. Мой брат — специалист по новым технологиям. Крупнейший в мире.
— Они сказали — «убрать с трассы», — брат наконец-то сел в кресло. — «Передвинуть». Аналитики считают — не дальше сферы в десяток парсеков.
Логично. С нашей, земной, точки зрения. С нашими, земными, представлениями о расстояниях.
Контакт был быстрым и будничным. Корабля чужих никто не видел, никто не знал, где он находится и есть ли веообще. Никто даже не догадывался, как чужие попали на Землю. Они объявились в штаб-квартире ООН, приняв облик людей, продемонстрировали какие-то фокусы, сразу убедившие руководство, что они — именно те, за кого себя выдают. И начали переговоры. Оказалось, что человечество давно изучено, классифицировано, включено в состав Разумной формации (на одном из нижних уровней, разумеется), обладает своими правами и обязанностями. Поэтому никто без нашего согласия не имеет права нас передвигать. А надо: через Солнечную систему проходит вектор миграционной трассы. Они честно попытались объяснить, что такое «миграционная трасса». Поток, движение. Пространственная струна, по которой «мигрирует» около полусотни рас, в другую вселенную. А Земля мешает. Чужие предложили сместить Солнечную систему («со всеми небесными телами») в другую область космоса. Сохранность всех орбит гарантируется. Плюс — удаление за пределы системы объектов, представляющих опасность. Астероидов, комет. Конечно, этого мало. Земле положена компенсация. Инопланетные технологии. Доступные пониманию и разрешенные для использования на нашем уровне развития. Все. Вопрос о том, куда и как нас переместят, никого больше не волновал.
Тут все уперлось в политику. Чужие хотели иметь дело только с ООН. Многим странам это не понравилось. Возник кризис. Тогда был создан Координационный совет, в который вошли главы всех земных государств. И спецкомиссия по оценке компенсации.
— Представляешь, — сказал брат. — Космолеты для перемещения по системе, подробные инструкции по их постройке и эксплуатации, адаптированные и переведенные на основные земные языки.
— А звездолеты? — спросил я.
— Нельзя. Слишком рано для нас.
Я взглянул в окно — на глубокое по-осеннему небо, с яркими, недостижимыми огоньками.
Брат продолжал перечислять:
— Полная расшифровка человеческого генома. Принципы безопасного управления климатом. Генераторы нуль-гравитации. Сверхлегкие материалы намного прочнее титана. Новый вид энергии — я так и не понял, откуда она берется, это по части энергетиков. Компьютер-молекула, превосходящий по быстродействию и мощности все, что мы знаем… Список можно продолжать.
Я задумчиво кивнул.
— Это шанс для Земли, — он все больше воодушевлялся. — Нам повезло, что мы оказались на векторе трассы. Это все понимают. Думаю, Координационный совет проголосует за перемещение абсолютным большинством. Это прыжок в будущее. Подаренные нам десятки и сотни лет. Понимаешь?
Я понимаю.
* * *
Через неделю мы встретились снова. Бум восхищения подарками уже прошел. Совет действительно проголосовал «за». Нас сдвинули. Никто ничего не почувствовал, просто небеса слегка смазались, а потом стали другими. — Твари, — сказал брат, хлопнув дверью. — Кто? — не понял я. — Чужие. Он был весь на нервах. Сел в кресло, достал сигарету, закурил. — Что они сказали? Он стряхнул пепел прямо на ковер. — Надо было пригласить оценщиков. Оказывается, есть такие типы — оценщики пространств. И мы имеем на них право. Да и сами могли отказаться. Но кто же знал, что нас сдвинут СЮДА? Теперь поздно: сделка состоялась, Мы получили обещанное. Какие претензии? Да и звездолетов у нас нет. Он докурил сигарету. Встал. — Нас выбросили, братишка, как мусор. Я не ответил. Посмотрел в окно — на чистое, без единой звезды небо. Межгалактическое пространство. Астрономы утверждают, что в обычный любительский телескоп можно рассмотреть крохотную искорку — солнце наших соседей. В сорока парсеках от Земли. Таких же неудачников…Мерси Шелли
Рассказы

Саламандра
Я лечу, я лечу, я лечу к нему, наконец-то! Столько времени копила кредиты, что чуть не передумала. Но дождалась ведь, не сдалась — и вот он, билетик на самый скоростной рейс. Такая невзрачная пластиковая карточка, а в ней — вся моя жизнь, все мое будущее. Даже не верится, что так скоро я обниму его — по-настоящему, по-настоящему! Он, конечно, опять посмеется и скажет, что разницы никакой, мы же каждый день встречаемся через Сеть, а эмпатрон создает полный эффект присутствия, можно даже почувствовать, как его ресницы щекочут мне щеку. Но я почему-то уверена, что по-настоящему должно быть лучше. Он ведь такой нежный, нужно только долететь, дотянуться… Его руки, я хочу его руки! Не могу успокоиться даже сейчас, хотя билетик уже в кармане. Ага, вот и кабинка эмпатрона. Ладно, всего на минутку, только скажу ему, когда прилетаю, — и все, и все!* * *
Уууух… И как еще у мамы язык поворачивается называть сетевые браки всякими ужасными словами! «Суррогат»… Да знала бы она, как Андреас на меня действует, даже через самый простой общественный эмпатрон! Сегодня мы и любовью не занимались, я только его увидела — и сразу живот заболел. Сказала ему, он как всегда посмеялся — говорит, наверное, съела что-то но то, прими таблетку. Вечно он так, сразу все опускает на. Чем ню Типичный землянин! Но мне это даже нравится, мы так здорово дополняем друг друг; — он со своей ученостью, я со своим сумасбродством… Да, в общем, какая разница. Главное, что он меня встретит! Бегу обратно и космопорт. Прощай, дневничок.* * *
Живот до сих пор болит. Может, это и правда из-за йогурта? До вылета два с половиной часа. Потом еще в полете… Нет, время в полете не считается, там же анабиоз! Так что всего два с половиной часа — и я уже на Земле! Как это здорово придумано, что тебя усыпляют на время полета! Андреас говорит, это из-за перегрузок, в анабиозе их легче переносить, в том и преимущество скоростного, а иначе пришлось бы лететь два года. Ничего он не понимает, землянин! Анабиоз — это чтобы время в пути пролетело незаметно. Два часа с половиной — и я уже с ним. Здорово придумано! Хотя насчет живота он, наверное, прав. Не надо было есть в этом молочном кафе. Интересно, где у них тут туалет?* * *
Мама!!! Я не хочу, нет! Что ему надо, почему я?! Это какая-то ошибка, я ни в чем не виновата! А-а-а-а!* * *
Надо успокоиться, надо успокоиться, надо успокоиться!!! Он больше ничего не делает, видишь, больше ничего не делает! Просто держит меня за горло, другой рукой приставил к голове что-то холодное и острое. Но пока ничего не делает, ничего страшного… Вот только эта ужасная вонь, дышит прямо мне в лицо горелой резиной. Не могу, меня сейчас стошнит! Нет, даже стошнить не могу — только чуть согнулась, эта холодная штука еще больнее уперлась в голову за ухом. Ай! Он сорвал мои серьги и бросил в унитаз, теперь никакой связи. А я даже и не подумала, что можно через нейрофон кого-нибудь вызвать на помощь… Дура, дура!* * *
Ну все, все, не реви. Он сказал, что не сделает мне ничего плохого. Уже два раза. Если я буду его слушаться. Надо его слушаться. Но у него такие страшные глаза! Наверное, он все равно меня убьет. Мама, мамочка, где ты?! Ты даже не знаешь, что тут со мной происходит! Только потом, может быть, прочитаешь мой ментодневник… Дневник, вот что. Записывать все, что происходит. Чип останется в голове, даже если… нет, нет, не хочу, и думать об этом не хочу! Все, все, успокоиться и записывать. Может быть, кому-то это пригодится, даже если меня… нет-нет, все будет хорошо, это какая-то ошибка, хватит реветь! Успокоилась оттого, что случайно поглядела в зеркало. Совсем на себя не похожа, словно кино какое-то. Если бы только не было других ощущений… У него противные, скользкие, но очень крепкие руки. Зеленая кожа и страшные выпученные глаза. Штука, которая мне за ухо упирается, похожа на пистолет. А может, и не пистолет, я их только в кино видела. Ага, начала записывать более связно. Что еще? Может, про себя что-то? Если дневник будет читать кто-то чужой. Там вообще-то есть данные владельца… ну да, наполовину вымышленные, я же обычно сразу в Сеть транслирую. Кто-то бегает за дверью в коридоре. Он им что-то кричит… Все, теперь ясно, что записать. Меня зовут Сэлл, мне 21. Я живу с мамой в Айстауне, на Европе. Сектор 7, купол 11, блок 800–264. Сегодня я должна была сесть на скоростной рейс № 3517А по маршруту Юпитер — Европа — Земля. Вместо этого я… я захвачена в заложницы в туалете космопорта. Сейчас 13:20 по местному времени. Он обещает меня убить и требует представителей телевидения. Кажется, он сумасшедший.* * *
Его зовут Шин. Он говорит, что он не сумасшедший. Неужели прочитал мой дневник? С виду у него никаких имплантов, ровная лысая голова. Только какая-то обгорелая, как и руки. Попросила его отпустить меня. Сама не знаю почему, стала рассказывать про Андреаса, и как копила на билет, и как боялась, что… Он перебил меня и спросил, на чем я лечу. Сказала, что на скоростном. Он сказал, что я идиотка. Какой-то человек в защитном шлеме просунулся в дверь и снова спрашивал, что надо моему захватчику. Дуло пистолета уже не так давит. Только когда зацепилось за мамины бусы у меня на шее, он его опять за ухо переставил. Но не больно.* * *
Он говорит, что на скоростных не перевозят людей. Их усыпляют, а потом «телепортируют». А в корабле вместо них везут на Землю наших местных ледяных червей, которых невозможно «телепортировать», потому что у них что-то там с низкой температурой. Ледяные черви стоят очень дорого и водятся только на Европе, это я знаю. Но остального так и не поняла. Полгода назад в новостях рассказывали про разработки этой самой «телепортации». Что-то вроде мгновенного перемещения с планеты на планету. Кажется, их объявили шарлатанством и запретили. Но если это работает — что в этом плохого? Он снова назвал меня идиоткой. Но он не злой, я уже поняла.* * *
Он говорит, что при телепортации людей просто убивают. Сначала сканируют, потом через Сеть пересылают данные и делают копию в наноконструкторе на Земле. А оригинал, который сканировали на Европе, сжигают в криогенной камере. Получается как будто мгновенное перемещение. Но на самом деле там, на Земле, оказывается совсем другой человек. Совсем другое сознание. Это не укладывается у меня в голове! Если там, на Земле, оказывается моя точная копия… то есть, получается, я сама… Нет, не понимаю. А вот Андреас наверняка сразу понял бы.* * *
Кажется, ему надоело объяснять. Смотрит на меня как на полную дуру. Но кое-что все-таки прояснилось. Все эти странности с его кожей — специально рассчитанная мутация позволяет работать при высоких температурах. Он был спасателем на Марсе. А на Европу его пригласили, чтобы усовершенствовать противопожарную систему в криогенных камерах скоростных кораблей. Но чем дольше он с ними работал, тем более подозрительной казалась ему эта система — с какой стати в камере для анабиоза могут быть столь частые возгорания? Тем не менее, он доделал свою работу и как раз сегодня собирался вернуться на Марс… на скоростном.* * *
У него совсем испортилось настроение. На новые вопросы отвечает неохотно, уходит в себя. Нет, он никого не убивал, только ранил при самообороне. Нет, никакого пожара не было. Ожоги? Да как раз оттуда и ожоги, из криогенной камеры! Почему-то не удалось им его усыпить, слишком его переделала эта профессиональная мутация. И сжечь после сканирования его не удалось. Когда начало жечь, он за несколько секунд успел включить свою противопожарную систему. Прямо оттуда ее и включил, лежа внутри анабиозной камеры — благо с ее устройством он хорошо знаком по работе. А потом, когда выбрался из нее, — глядит, на него уже оружие навели и предлагают не суетиться. Там у них специальные охранники, как раз для таких сбоев. У охранника он и отобрал пистолет. Сначала хотел просто убежать из космопорта, но всё выходы уже перекрыли. Только и осталось, что коридор, ведущий в туалет… с юной идиоткой внутри. Это про меня, да.* * *
Просидели молча минут десять. Только сейчас поняла: если все это — правда, меня, скорее всего, тоже убьют.* * *
За дверью какая-то возня. Они кричат, что прилетели телевизионщики, как он просил. Мы с ним смотрим друг другу в глаза. Да, я тоже не верю.* * *
Дверь распахивается. Я понимаю, что это происходит очень быстро, но ощущение такое, будто все вокруг из жевательной резинки. На пороге появляется второй Шин, точно такой же. Он кричит: «Все и порядке!», улыбается — и тут же оказывается рядом с нами. В воздухе что-то мелькает, дуло пистолета чиркает мне по шее и рвет нитку бус. Красные шарики прыгают по мраморному полу, а первый Шин уже лежит и не шевелится. Его близнец сгребает меня зеленой рукой и швыряет в чьи-то руки за дверью. Темно…* * *
Ох, ну надо же так перенервничать! Никогда раньше обмороков не было. Хорошо хоть, у них везде камеры стоят. Говорят, меня скрутило сразу, как я в туалет вошла. А я даже и не помню, как туда входила! Но медики у них в космопорте что надо, сразу видно. Пара витаминных уколов — и как новенькая. И главное, даже не опоздала на рейс! Еще целых сорок минут до вылета. А вот была бы история, если бы такой дорогой билет прогорел! Тогда бы я, наверное, в такой обморок хлопнулась, что парой уколов не обошлось бы… Полистала дневник. Последняя запись: «Хотя насчет живота он, наверное, прав. Не надо было есть в этом молочном кафе. Интересно, где у них тут туалет?» Смешно! Опять не послушалась Андреаса, упрямая дурочка. Ну ничего, через сорок минут я буду с ним — и всегда-всегда буду слушаться!* * *
Еще полчаса. Сижу как на иголках, перебираю в кармане шарики маминых бус. Говорят, они порвались, когда я в туалете на пол хлопнулась. До чего же добрые люди — собрали все бусины и мне в карман положили! Одной только не хватает. Наверное, закатилась где-то там в туалете. Ладно, хватит и шестнадцати, не такая у меня толстая шея. Хотя жалко все равно. Мамин подарок, все-таки. Мама у меня немножко параноик, когда дело касается всяких записывающих устройств. Оно и понятно: в ее времена чипы памяти то и дело сбоили. Но сейчас-то все иначе, и мой дневник никогда не сбоит. Я даже никогда и не пользовалась теми логами, которые в бусы копируются из дневника каждые тридцать секунд. Просто они красивые, вот и ношу. Может, все-таки сходить да поискать эту бусину? Еще целых двадцать восемь минут…* * *
Я ушла от Андреаса. Ничего не могу с собой поделать. Целых две недели все было прекрасно. Его руки, и губы, и он весь, такой теплый, такой настоящий. И его замечательный дом, и друзья, и море… Даже ничего не писала в дневник все эти дни, так было хорошо. Но какая-то смутная мысль то и дело выскакивала в голове — и подтачивала, подтачивала, как ледяной червяк. Словно я забыла о чем-то важном. И еще каждый раз, когда натыкалась в кармане на бусину, найденную тогда в туалете за раковиной, — сразу начинал болеть живот. В конце концов не выдержала. Открыла в дневнике мамину любимую опцию, беспроводное подключение к дополнительной памяти. И прочитала, что в бусине записано. Последний лог, который в самом дневнике почему-то не сохранился. Скопировала его на место и перечитала все снова. Раз десять, не меньше. Никакой это был не обморок. Не знаю, что теперь делать. Весь день хожу по этому огромному теплому городу, кручу в пальцах эту холодную бусину, пытаюсь хоть за что-нибудь зацепиться взглядом. Бесполезно. Мне больше не нравится Земля. Мне не нравится Андреас. А ноги уже который раз сами собой выводят к космопорту. Я хочу домой. И еще хочу найти того, второго… Шина. Сама не знаю зачем.Наска
Чоа-хум, чоа-хум… Камни, камни, камни. Взять — бросить, взять — бросить. День и ночь, день и ночь, и еще один день под палящим Оком Великого Духа. Чоа-хум, чоа-хум… Слушай шамана, иди за шаманом. Бери камни, где скажет шаман, отбрасывай в сторону, снова бери. Если делать, как учит шаман, Великий Дух сменит гнев на милость и даст нам воду. Чоа-хум, чоа-хум… Но сколько же можно? Руки стерты до крови, в глазах рябит от камней, а воды все нет. Наверно, шаман ошибся. Теперь тянет время, пытается нас отвлечь. Такое бывает, старые воины говорили. Когда вождем был Большой Пеликан, старый шаман точно так же водил все племя на Ритуал Камней. День и ночь, день и ночь, и еще один день по пустыне. Но вода не пришла, и Большой Пеликан убил шамана. Старые воины помнят то время, время смелых мужчин. Большой Пеликан повел их войной на людей Белой Обезьяны. Наши прогнали врагов и захватили источник. Но в этой войне погиб мой отец, потому что вождь слишком поздно принял решение. Очень трудно драться после того, как три дня разбрасывал камни! Почему новый вождь не слушает старших? Почему не убьет шамана, который ошибся? Чоа-хум, чоа-хум… Это песня войны, а не песня камней! Мы должны сражаться за воду, мы должны отомстить за погибших! А еще, говорят, у людей Белой Обезьяны много красивых женщин. Мы могли бы взять их себе! Чоа-хум, чоа-хум… Убить шамана, убить шамана. Идти на войну, отомстить за отца!* * *
Чоа-хум, чоа-хум… Сегодня они поют совсем вяло. Вот-вот взбунтуются. «Ты будешь великим вождем, Малый Пеликан, — говорят они, — но ты еще молод и плохо знаешь жизнь. Нельзя доверять шаману, который не может договориться с Великим Духом». Но я не хочу повторять ошибку отца! Когда он убил старого шамана, вода была совсем рядом. Отец я его торопливые воины не довели Ритуал Камней до конца — но это сделали люди им из племени Двухголовой Змеи. Их воин, попавший к нам в плен, смеялся над нами, рассказывая об этом. Они отыскали Священный Путь, который расчистило от камней наше племя по указаниям старого шамана. Люди из племени Двухголовой Змеи продолжили Ритуал всего на четыре шага вперед — и тут же Великий Дух дал им воду. Зато у нас пересох источник, отбитый у племени Белой Обезьяны. Так покарал нас Великий Дух! Нужно снова умилостивить его, говорит наш новый шаман. Правда, этот шаман еще моложе меня… Вчера я спросил его, почему же Великий Дух не видит нашего знака уже третий день. А он мне начал рассказывать, будто Дух живет не на небе, а под землей. Как хорошо, что никто не услышал, кроме меня! А то бы его убили еще вчера. Даже детям известно, что Великий Дух наблюдает за нами с неба. Поэтому мы, как и наши предки, делаем из камней эти знаки: Священного Зверя, чтобы Дух узнал наше племя, и Священный Путь, чтобы Дух мог спуститься на землю и дать нам воду. Как бы он увидел нашу работу, если бы жил под землей? Очень, очень странные вещиговорит молодой шаман. Неужели бывалые воины правы? Даже Хромой Кондор, отдавший мне в жены младшую дочь, сегодня глядит на меня с упреком. Он тоже считает, что нужно убить шамана, а воду отнять у соседних племен. Чоа-хум, чоа-хум… Делать выбор, пора делать выбор. Так не хочется потерять уважение племени. Но не хочется повторять ошибку отца…* * *
Чоа-хум, чоа-хум, чоа-хум… Влево, вправо и снова вправо. Грубый ритм этого напева всегда помогал мне настроиться. Но сегодня в их голосах слишком явно слышится ненависть, и от этого слишком сильно дрожит узловатый корень хинного дерева у меня в руках. У отца получалось гораздо лучше, он чувствовал влагу носом, без всякого корня. Но даже он никогда не мог точно сказать, в каком месте подземные воды подходят так близко к поверхности, чтобы можно было до них добраться. День за днем ходил по пустыне, указывая остальным, где разбрасывать камни. А твердую глину, что под камнями, уже не разроешь так просто — значит, надо двигаться дальше, надо снова вынюхивать этот коварный подземный ручей. И опять убеждать все племя, что Священный Путь, который они расчистили, еще слишком короток, и пока Великий Дух не увидел его с небес, все должны продолжать Ритуал. До чего же глупый предлог! Но иначе их не заставишь, ничего другого они не способны понять, кроме страха перед Великим Духом. Я пытался вчера намекнуть Малому Пеликану, что небо тут ни при чем, что вода у нас под ногами, нужно только найти, где она выходит наружу… Вождь в ответ посмотрел на меня, как на ту старуху, которую закидали камнями на прошлой стоянке, потому что ее укусил паук и она слишком громко кричала. То же самое ждет и меня. Все измучены жаждой, и в конце концов сорвут свою злость на мне. Так когда-то погиб и отец. Это слышно в их голосах… но я не должен об этом думать! Я найду ее! Нужно только расслабиться, отогнать все мысли, все страхи и асе мечты II почувствовать, куда отклоняется корень в моих руках. Чоа-хум, мои хум, чоа-хум… Да, вот так, и еще чуть влево. Слушать только себя, как учил отец.* * *
Ой, милый, что это за звук? Ну при чем тут птица! Я вот про это говорю: «Чоа-хум! Чоа-хум!» Слышишь? Да я и сама знаю, что горелка. Я спрашиваю, почему она стала так громко? Может, там что-то сломалось? Погляди, какое пламя! Ты уверен, что эта тряпка не загорится? Не тряпка? А что? Ну ладно, если термоустойчивый… Ай! Предупреждать же надо! Я чуть ноготь не сломала от этой встряски! Ты уверен, что мы не пере… Уже летим?! Ой, мамочки! О-хо-хо, держи меня! Как быстро земля удаляется! А мы не пере… Ну все, все, молчу. Ого, смотри, мы уже выше холма! Обалдеть! Ты так здорово это придумал с воздушным шаром, милый! Извини, что я так много гнусила. Просто меня еще мама достает… Нет, ты тут ни при чем, она со всеми такая. С тех пор, как мне стукнуло 15, она постоянно пишет мне эти сумасшедшие письма, которые всегда начинаются словами «Опять между нами встал мужчина». Вот и теперь то же самое. Вчера она сорок минут меня точила по телефону — мол, что за глупость он выдумал, свадебное путешествие на родину предков, да еще на воздушном шаре, да еще в такое место… И тут она, прикинь, начинает прямо из энциклопедии цитировать таким замогильным тоном: «Перу — одна из самых бедных… Наска — одно из самых засушливых…» Вот умора! Но я ведь ее не послушалась, видишь! Видишь, как я тебя люблю! Где?! Ага, вижу! Ух ты, какая огромная! Да ну, какой же это пеликан, это больше на крокодила похоже. А рядом, смотри — полоса какая-то, словно дорога. И вон там тоже… Дай скорее фотоаппарат! Я читала, что эти линии инопланетяне нарисовали. У них тут что-то вроде космодрома было. Почему нет доказательств? А всякие там эпосы, летописи — про огонь с неба, про… У других? А у этих что? Нет, не понимаю. Делают же раскопки, находят… Что, вообще никаких? Выходит, эти индейцы были такие темные, что даже писать не умели? Как же они додумались сделать такие огромные картинки из камней, которые только с неба видно? Я уж скорее в инопланетян поверю. А людям тут и жить невозможно: такая жара и… Кстати, передай мне воду. Ну где, в рюкзаке конечно! Как это нет? А ты почему не положил? Да, вынимала, ну и что? Ты же говорил, что сам соберешь рюкзак, пока я в душ схожу! Нет, это была другая бутылка, она уже кончилась, а вторую я поставила в холодильник. Ты не додумался туда заглянуть? Нет, не могла, потому что ты сказал, что сам все соберешь! Из-за МОЕЙ ошибки?! Да я только в одном ошиблась — когда согласилась полететь черт знает куда с таким идиотом! А ведь мама меня предупреждала, предупреждала!Владимир Гугнин Переход на зимнее время
Рассказ
 Всем
Всем
1.
Подобной выходки от своего мужа Юля не ожидала. Она никак не могла предположить, что Санек в своем незавидном положении способен на такое свинство. А завидовать, действительно, было нечему. Дожив до тридцати одного года, он так и не встал, как говорится, «на ноги»: материально не окреп, стабильного заработка не обрел, нужными связями не оброс, высшего образования не получил. Правда, не ожирел и не постарел, не разучился шутить и, что немаловажно, не перестал нравиться женщинам. Причем самого разного возраста, от восемнадцати до пятидесяти. Все эти особенности делали его жизнь наполненной и свободной, но всячески препятствовали серьезному трудоустройству. Ему, угловатому и рассеянному, ужиться среди собранных и деловых было очень непросто. Потому и скакал он с работы на работу, еле уворачиваясь от пинков и затягивающих уздечек хладнокровных работодателей. И, наконец, доскакался до того, что попал в тупик, замкнувший его со всех четырех сторон. И все бы ничего, ведь не бывает худа без добра, если бы не Санькина семья из двух лиц, которым требовалось ежедневное питание, периодическое обновление одежды и обуви, лекарства, игрушки, книжки и многое другое. А все, что семье требовалось, полностью зависело от наличия в кармане Саньки мерзких бумажек с цифрами и водяными знаками. Здоровенным клещом, высасывающим из человека все человеческое, виделась ему необходимость зарабатывать деньги. Так уж получилось, что Санек в один прекрасный день совсем расхотел и разучился работать. Впрочем, все к этому и шло. Сначала ему перестали нравиться однообразные будни офисной работы, потом надоела разъездная работа, потом более-менее свободная деятельность творческого сотрудника, а потом ему вообще надоел всякий труд. Скучно стало ходить ему на работу. И ведь не лентяй он был! Просто ему ничего не нравилось, точнее сказать перестало нравиться. Но Санек верил, что попадись ему путевое занятие, он бы, наверно, всю душу и силу в него вложил. Однако в тридцать с копейками он с удовольствием лишь читал, рассуждал и бренчал на электрической гитаре. Раз или два в неделю он выступал со своим неприкаянным ансамблем в клубе. Как правило, бесплатно. Санькину музыку ценили лишь несколько друзей, малолетний сын и, по настроению, жена. Невзирая на то, что Санька находился уже не в том возрасте, когда музыканты начинают путь к признанию и славе, он все еще чего-то ждал, на что-то надеялся. Эта трогательно-трепетная верность мечте вызывала у его друзей жалость и сочувствие. Поэтому никто из них не решался высказать трезвое мнение насчет музыкальной деятельности Санька. Упражняться на гитаре он мог часами, изводя жену и тратя киловатты электроэнергии. Но когда минул пятый или шестой месяц Санькиной безработицы, голос гитары вдруг затих, и инструмент был отправлен на шкаф. Юля сразу поняла — Санька занялся делом. Она не ошиблась. Санька действительно занялся делом. С жаром и азартом. Он приступил к своей новой работе в тусклый октябрьский денек, когда Юля уехала к родителям, а Гришка ушел резвиться в детский сад. За увлекательной и интересной работой Санек не заметил, как пролетели часы и на улице стемнело. — Чем это ты тут занимаешься? — прервал его занятие Юлин голос. Санек повернул голову и растерянно улыбнулся. Юля вернулась с двумя кошелками, набитыми продуктами, которые были куплены на деньги ее мамы. Когда она перешагнула порог, в нос ей ударил резкий запах ацетона. В квартире было темно. Юра сидел за письменным столом спиной к двери и чем-то там увлеченно занимался, слегка вздрагивая локтями, будто писал. Гришка, отпустив край Юлиного плаща, кинулся к отцу. — Пап! Вот это да! Что это такое?! — Скоро увидишь, — загадочно ответил Санька. — Ух ты! Пап, ну скажи, ну скажи, что это, а?! — Всему свое время, сынок. Скоро узнаешь. К столу подошла Юля. Санька пристально посмотрел на нее снизу вверх, надеясь сразу и наверняка понять, что она думает о его занятии, но жена спрятала свое лицо за холодную непроницаемую маску. — Ты ничего не понимаешь! — решительно заявил Санька. — Да уж куда мне, — ответила Юля и быстро вышла из комнаты. — Началось! — крикнул ей вслед Санек и громко выдохнул. — А ничего и не кончалось! — донеслось из кухни. Своим поступком Санька серьезно ранил Юлю, и она окончательно решила, что у ее мужа нет ни грамма совести. Эта выходка стала той самой последней каплей, в ее очень долго наполнявшейся чаше терпения. И тогда Юля поняла, что настал момент принимать решение. При этом никакие советчики, никакие подружки и тетушки не смогут ей подсказать, как следует поступить в данном случае. В течении всего вечера Юля не произнесла ни слова. Санек тоже был нем, как рыба. И только Гришка, не сводящий своих круглых глаз с отцовского чудодействия, изредка нарушал тишину возгласами: — Ух ты! Ничего себе! «Ну, конечно, — думала Юля, натирая железной мочалкой совершенно чистую сковородку. — У какого мальчишки не вызовет восторг подобная забава?! Ведь он не понимает, что это пустяк и блажь. Блажь его самовлюбленного папочки, такого же ребенка, как он сам. Впрочем, это уже не просто блажь, а настоящая подлость. Вместо того чтобы дать денег на продукты, он…» Не договорив про себя фразу, Юля кинула на пол щетку и бросилась в комнату, откуда доносились восторженные Гришкины реплики. Там она схватила недоделанную конструкцию и со всей силы шмякнула ее об пол. Мелкие и крупные детали брызгами разлетелись в разные стороны. Гришка тотчас, скривив рот, взвыл, а Санек, чуть посидев, опустился на четвереньки и начал невозмутимо собирать обломки. — Ты — плохая, мама! Ты — плохая! Я пожалуюсь на тебя зайцу и медведю, — ревел Гришка. — Да ладно тебе, сынок. Сейчас все починим, — успокаивал ребенка Санька и складывал пластмассовые куски в коробочку.Потом Юля долго тряслась в ванне, захлебываясь слезами, накопленными за много лет. Она не смогла выстоять до конца и опять сдалась, потеряв последнюю возможность начать жизнь заново. Юля оказалась слабее своего слабого, но любимого мужа.
Когда Гришку уложили спать, Санька перешел со всем своим хозяйством на кухню и продолжил работу, которую решил закончить до утра. Юля села рядом. «Жизнь против нас, — думала она, наблюдая за его манипуляциями. — Чтобы любить, нужен дом. Чтобы был дом, надо много работать и знакомиться с крепкими людьми. А для этого необходимо выглядеть так, какой тебя хотят видеть эти самые крепкие люди, то есть быть стройной и улыбаться во все оставшиеся тридцать зубов. Но я никогда не смогу быть такой. Мы с Санькой не захотели вскочить в свой вагон, и поезд пронесся мимо. Ту-ту!» Юля закрыла глаза и представила, как она, Санька и Гришка стоят на глухом полустанке и машут руками мелькающим в вагонных окнах пассажирам. Странно, но эта воображаемая картина ее успокоила и как-то внутренне согрела. Потом на кухню пришла свекровь и принялась жарить рыбу. Санька переместился в ванну, а Юля ушла в комнату и прилегла на кровать. Ей не хотелось спать, но свободных мест в квартире, кроме темной комнаты и туалета, больше не осталось. Поэтому она лежала с открытыми глазами и под сопение, всхлипывание и посмеивание Гришки думала о тесноте жизни. Юля с горечью в сердце призналась себе, что пространство становится все уже, а время летит все быстрее. И от этого нельзя ни убежать, ни спрятаться. Если когда-то давно один день ее жизни тянулся целое столетие, а расстояния и размеры окружающего мира имели фантастические размеры, то сейчас все стало крохотным, мелким и суетливым. А невидимый метроном, отбивающий дни в темпе неспешного полонеза, теперь замолотил в темпе бешеной тарантеллы. «Неужели все прошло, — вздрогнула Юля. — Неужели уже не выбраться? А как же Саша? Он же такой необычный и смешной. А Гришка? Ведь с ними вместе не так уж тесно. И все-таки… и все-таки…» Незаметно для себя Юля крепко заснула, а Санек так и просидел всю ночь, сгорбившись над своей поделкой, как ювелир над важным заказом.
— Мама! Мама! Посмотри, что папа сделал! Юля открыла глаза. Утро было неожиданно ясным. В окна били очень яркие, весенние солнечные лучи. Жмурясь от ослепляющего света, она решила, что если среди октябрьской туманности вдруг засияло солнце, значит, в природе произошел какой-то сбой. «Так ведь так оно и есть! — решила Юля. — Часы-то перевели сегодня ночью на час назад! Вот и результат». В одной ночной рубашке Юля засеменила на кухню, чтобы увидеть результат Санькиной работы. — Быстрее, мама, быстрее! — прыгал перед ней Гришка. — Ты только посмотри! Как ни старалась Юля сохранить на своем лице серьезное, строгое выражение лица, у нее все равно ничего не вышло. То, что она увидела в руках у мужа, заставило ее в одну секунду простить вчерашнюю обиду и внутренне покаяться в своей жестокости. Измученное от перенапряжения и бессонницы лицо Сани улыбалось в парусах старинного корабля. — Ты видела?! — дернул Гришка за ее рукав, — Сейчас пойдем спускать его на воду! «Ну к чему, к чему это? — спрашивала себя Юля, разглядывая поочередно то парусник, то мужа. — И что это значит? Ведь это же противоречит здравому смыслу! Я же опять оказалась в дурочках, а он как ни в чем не бывало стоит — рот до ушей! Кто он — идиот или святой?»
Поскольку торжественный спуск галеона откладывать не хотелось, они вышли на улицу, даже не попив чаю, наспех накинув на себя первое, что попало под руку. В лесу, неподалеку от дома, протекал веселый ручеек. Санек предложил спустить парусник в его воды. Гришка с восторгом одобрил эту идею. Юля сдержанно пожала плечами. В то утро странноватую компанию с миниатюрным парусником почти никто не заметил. Жители микрорайона еще не совсем проснулись. На них обратили внимание лишь сосед, лифтовый попутчик, да одна задумчивая бабуля, глазевшая из окна, уставленного геранью. Никогда ей еще не приходилось видеть такого лучистого счастья, какое сияло на лицах этой семейки. «Бывает же, — подумала старушка. — Ишь ты!» Добравшись до места, они чуть-чуть постояли, прислушиваясь к шуму воды. — Ну, Гришка, давай, — сказал Санек и слегка хлопнул сына по спине. Мальчик подошел к берегу и важно опустил судно на воду. — Привяжи его пока веревкой, — приказал Саня и стал выдвигать к корме деревянный мостик. — Ветер попутный. Юго-Западный. Пожалуй, можно выходить. Санек, придерживая за руки Юлю и Гришку, перевел их на палубу. — Ну, что, сынок, кажется, все готово. Можно отчаливать. Не боишься? Гришка посмотрел вдаль и испуганным, чуть дрожащим голосом ответил: — Не, па, не боюсь! — Ну и ладно, тогда заряжай пушки, чтобы дать прощальный залп. Гришка, взвизгнув, рванулся выполнять указание. — Неужели мы уплываем? — тихо спросила Юля. — А куда? — Далеко. Пора уже. Да ты не волнуйся. Ведь мы же вместе. Надоело здесь. Ну, что там у тебя, сынок? — Все готово, па! — Значит, концы в воду и вперед, в открытое море! Орудия заряжены? — Заряжены, па! — Тогда — огонь! И осторожнее с запалом, сынок! — Ладно, па! Гришка поднес смоляную оглоблю к орудиям и шарахнул из всех десяти установленных по правому борту пушек. На берегу поднялась туча рассерженных ворон и, каркая, расселась по деревьям. Галеон, покачиваясь на легкой волне, уходил в морскую даль.
 Многоэтажки района быстро уменьшались. Огромный рынок с его фурами, контейнерами и легковушками-букашками превращался в непонятное серое нагромождение. Вскоре все оставшиеся позади очертания материка стянулись в непрерывную береговую линию, из которой выпирал лишь еле заметный бугор — лыжная насыпная гора. Но довольно скоро и эта выпуклость стала невидимой. А потом и полоска берега ушла за горизонт. Корабль шел на всех парусах.
Многоэтажки района быстро уменьшались. Огромный рынок с его фурами, контейнерами и легковушками-букашками превращался в непонятное серое нагромождение. Вскоре все оставшиеся позади очертания материка стянулись в непрерывную береговую линию, из которой выпирал лишь еле заметный бугор — лыжная насыпная гора. Но довольно скоро и эта выпуклость стала невидимой. А потом и полоска берега ушла за горизонт. Корабль шел на всех парусах.
2.
Витя почувствовал, что начинает звереть от такого подлого неуважения к себе. «Если, — решил он, — эта сука не приедет и на следующем автобусе, я не пущу ее в дом!» На следующем автобусе она не приехала. Витя поставил пластинку на проигрыватель и заметался по комнате. Он маялся, как ребенок, которого мама не забрала из детского сада вовремя. «Нашла мальчика!» — возмущалась внутри него гордость. «Ну, когда же ты приедешь?!» — всхлипывало одиночество. Прошло еще несколько автобусов, а Марины все не было. И когда Витина гордость уже почти растворилась в паническом отчаянии, в квартиру вдруг ворвалась трель дверного звонка. «Наконец-то!» — крикнул про себя Витя и бросился в прихожую, чувствуя необыкновенное облегчение. Ну да, это была она, Марина, в своем демисезонном черном пальто с капюшоном. На плечах ее искрились капельки растаявшего снега. — Что, на улице снегопад? — холодно спросил Витя, отвесив формальный поцелуй. — Так… моросит, — не менее холодно ответила Марина. — Ты чего так поздно-то? — Витя старался, чтобы в его голосе звучало как можно больше металла. — А ты что, спешишь куда-то? — издевательски улыбнулась Марина. — Я-то не спешу. Но, знаешь, если мы договорились на семь, значит надо приезжать в семь, а не полдевятого. — Здравствуй, Марина, — выглянула из-за приоткрывшейся двери Витина мама. — Здравствуйте, — почти не размыкая губ, ответила Марина и быстрым шагом пронеслась в маленькую комнатушку. Витя проследовал за ней. — Ну что? Как дела? Как в институте? — выжал он из себя стандартные вопросы. — Нормально. Слушай, можно я позвоню? — Кому? Опять Даше? Марина, не отвечая, стала накручивать диск старого аппарата. — И когда ты этот телефон дурацкий выкинешь? — Извини, на новый с автоматическим определителем номера и памятью на сто двадцать номеров у меня нет денег, — Витя драматически развел руками. — А если тебя этот телефон не устраивает, купи другой сама или попроси купить свою маму! А то вы только претензии предъявлять горазды, а все самое трудное на других свалить готовы! После высказанного на душе у Вити полегчало. — Подожди ты! — шикнула на него Марина. — Не слышно ни хрена! Все гудишь и гудишь, как шмель. Алле, Даша?! Привет! Это я! Лицо Марины вмиг просветлело, стало простым и веселым, даже глаза заиграли. — Слушай, Дашь, ты сегодня деньги за общагу сдавала? Нет?! И Марина нырнула с головой в бесконечный разговор парочки четверокурсниц, состоящих в положении постоянных girl-frend, или, по-старинке, гражданских жен. До ушей Вити доносились обрывки сплетен, в которых фигурировали совершенно незнакомые ему имена, какие-то Ксюши, Кирюши, Марии Петровны, Кристины и Алексы, куча ничего не говорящих имен и фамилий. «Какой интерес, — думал Витя, слушая эти словоизлияния, то и дело прерываемые хохотом, — разговаривать о какой-то чепухе. Неужели в институте не наговорились?» От нечего делать Витя включил телевизор. — Сделай потише, — тут же шикнула Марина. — Не видишь, что ли, я разговариваю. — Вижу, вижу, — проворчал Витя и послушно повернул ручку громкости до нулевой отметки. — Так тебя устраивает? Марина выпустила из своих глаз короткую молнию и продолжила пересмешку со своей закадычной Дашей. Витя развалился на полу, стал разглядывать свою подругу. «Красивая она или некрасивая? — думал он. — Люблю я ее или не люблю? С одной стороны, совсем некрасивая: глаза небольшие, скуластое лицо, кривые зубы… С другой — красивая: правильная фигура, длинные ноги, правда, на спине какие-то рубцы… от ветрянки, что ли? Да и грудь мелковата относительно бедер. Зато сзади, ниже поясницы и до конца просто великолепна, на пятерочку. Да и спереди тоже неплохо. Но что я чувствую к ней? Кажется, люблю. Но почему тогда я вижу в ней столько изъянов, которые меня иногда раздражают даже? Трудно сказать что-то определенное. Поживем-увидим. Пока нам, вроде, вместе хорошо, а там уж как-нибудь». — А можно я теперь маме позвоню? — спросила Марина и, не дожидаясь ответа, поблагодарила: — Спасибо. — Еще на час, — буркнул Витя. — Между прочим, телефонный разговор с другим городом денег стоит. — Не жидись, — недовольно отмахнулась. — Я быстро. Алле, мам! Привет! Как ты?! Ее лицо снова просветлело. «И все-таки, — продолжил рассуждения Витя, — она для меня обуза. Ну да, самая настоящая обуза! Ведь еще пять лет, и молодость тю-тю! Идут самые лучшие годы жизни, которые никогда не вернуть. А она мне связывает руки. Другие уже по пятнадцать баб сменили, а я все с одной и той же. И бросить не могу — жалко и страшно. А вдруг один останусь — тоска сожрет. Да нет, зря я так. Все-таки она — ничего. С нее вот мужики глаз не сводят. Ну, не красавица, так ведь и не страшная! В моем положении ведь как — либо иногородняя красавица, либо страшная москвичка. А она из Московской области, так сказать, полукрасивая полумосквичка. Но с другой стороны, лицо ее у меня уже в печенках сидит. Хочется сменить картинку, а расставаться страшно. Вот если бы попробовать завязать новое знакомство, не расставаясь с Мариной… Но ведь это такая головная боль! Такая морока! И волнительно очень, да и подло как-то, совесть замучает. Но какой же выход?» — Ну что, Витек, — Марина наконец положила телефонную трубку. — Давай жрать, что ли.За столом Марина в сотый раз посетовала на то, что Витина мама готовит без души. Поэтому еда в их доме всегда безвкусная и противная. — Однако ты ешь, — тут же огрызнулся Витя, — и не давишься. Марина не ответила, но лицо ее слегка скривилось. Витя решил развлечь свою девушку. — Сегодня ездил по делам в одну контору, — сообщил он, — и видел там та-а-а-а-кую тетку! У-у-у, закачаешься! Представь: лет девятнадцать, ноги от ушей, личико — модельное, такая вся в сарафанчике, а под сарафанчиком — ничего. Лето, знаешь ли, жарко. Она согнулась через стол, чтобы посмотреть мои бумаги, и тут я все, что у нее под платьицем, и увидел! Прикинь! Все, до самых трусов! Лицо Марины скривилось еще больше. — Ну, ты чего? — засуетился Витя. — Это же шутка. Я ведь тебя люблю, а не кого-то. — Включи телевизор, что ли, — ледяным голосом попросила Марина. Витя вдруг почувствовал, что он Марине совершенно ни к чему, что он — совершенно лишний в ее жизни, и она приходит ночевать к нему либо по инерции, либо из-за каких-то своих корыстных интересов. На экране телевизора появилась любимая Маринина рок-группа. — Ой, мои сладенькие! — мгновенно ожила она. — Смотри на гитарке какой мальчик играет, а! Ну, иди ко мне, я — твоя! Марина развалилась на стуле, выпятив грудь и широко расставив ноги. — Иди, иди! — манила она телевизионную фигуру, вульгарно улыбаясь. — Возьми меня! Вите тоже нравилась эта группа. Правда, нравилась музыкой, а не внешним видом. Он не обиделся на подружку, а даже, наоборот, про себя похвалил ее за экстравагантное поведение и отличное чувство вкуса. Эти качества, к Витиному огорчению, проявлялись очень редко.
После ужина началась традиционная вечерняя тягомотина. Разговаривать особенно было не о чем, а спать еще не хотелось. Марина расположилась на кушетке и принялась листать глянцевый журнал с фотографиями довольных, дорого одетых и ярко накрашенных женщин. Глядя на них, Марина не могла понять, что она делает здесь, в халупе с засаленными обоями, в компании с заторможенным, необеспеченным, неряшливым парнем. Ее подружек-однокурсниц давно катают на машинах толковые ребята, а она сама катается в переполненном, забитом народом автобусе на окраину, к этому лоху, чтобы получить от него полчаса ласки, и то только после (смешно сказать!) долгих уговоров! «Нет, ну это просто какой-то бред! — возмущалась про себя Марина. — Я еще должна его уговаривать, соблазнять, да пошел он! Пора, пора завязывать с этим человеком! Ну, да, когда-то он был, вернее, казался мне другим, умным и добрым. Но ведь я была совсем маленькой и глупой! Жила иллюзиями… Всеобщая любовь, мир, Кастанеда, цветы, бисер, Дорз, Ницше, Хаксли… и тут появляется он — такой большой… умный… необычный… и так быстро утягивает в кровать…Он же первый и последний мужчина, увидевший меня голой! Но мне-то уже не семнадцать лет, а ему не двадцать два. Мы изменились, мир изменился. Хотя, нет, наверно, он не изменился. Фактически он остался в прошлом. Но если вдруг он очнется, устроится на нормальную работу, прекратит заниматься глупостями и станет толковым парнем, вот тогда мы заживем душа в душу. Ведь он неплохой человек, очень неплохой, просто никак не повзрослеет. Эх, Витек, Витек…» Становилось все скучнее. — Слушай, может, напьемся, — предложила Марина. — Да как-то не вовремя, — пожал плечами Витя. — «Не вовремя-я-я»! — передразнила Марина. — У тебя вечно все не вовремя! — Ну, давай, — нехотя согласился Витя. — Только у меня с деньгами напряг. — Как всегда, — усмехнулась Марина. — Зато у меня есть. И сними ты, наконец, свои поганые треники! Ты же не старый папик, лысый и с пузом, а молодой человек. Смотри — коленки твоих дырявых тренировочных вниз свисают. Посмотри на себя в зеркало! — Ты сама посмотри на себя в зеркало! — взорвался Витя. — Что у тебя за старушечий пучок на башке?! Что у тебя за чопорный свитер?! Что у тебя за пошлые браслеты из бисера?! Ты же давно не хиппи. У тебя в башке одни деньги шелестят! Думаешь только, как бы теплое местечко занять, чтобы поменьше работать, да побольше получать! Да таких, как ты, тысячи в Москве, одинаковых, тупых самок с равнодушными накрашенными глазами! Сама посмотри на себя в зеркало! Что ты из себя представляешь-то?! Ноль без палочки! Маменькина дочка! На чужом горбу в рай въехать хочешь! Ну-ну! Лучше вспомни, как я с тобой возился, сколько раз помогал, выручал, а теперь ты меня ни во что не ставишь. Кто тебе мозги пропесочил? В общаге, небось? Какие-нибудь цепкие лимитчицы, да? Марина вскочила и, набросив на плечо сумку, кинулась в коридор. — Ну и пошла к черту, — бросил ей вслед Витя, но не очень громко, чтобы мама не услышала. — Буду я еще перед тобой на задних лапках скакать!
Марина ушла. Но не прошло и пяти минут, как Витя бросился ее догонять. — Ну куда ты? — крикнул он, схватив Марину за плечо около остановки. — Да ладно тебе. Ну, полаялись и будет. Хорошо. Я перегнул палку, согласен, но ведь ты тоже хороша. Пойдем обратно, а? Марина остановилась и устремила свой взгляд в никуда. Витя принялся судорожно целовать ее лицо. Из глаз Марины тут же хлынули ручьи слез. — Да ладно тебе, — пытался успокоить ее Витя, — все будет хорошо. Слышишь? Все будет хорошо. В ответ Марина лишь качала головой.
Где-то часа через полтора после скандала они легли на узенькую Витину кушетку и принялись смачно язвить в адрес красоток из глянцевого журнала. На письменном столе стояли полупустая водочная бутылка и открытая банка соленых огурцов, презент заботливой Марининой мамы. Обоим было легко и весело. А поскольку такие светлые моменты в их совместном житье-бытье уже почти прекратились, каждый старался уловить как можно больше счастливых ощущений.
Ночью Марина вылезла из кровати, подошла к окну и стала смотреть вдаль. — Гора… — задумчиво шепнула она. — Вроде Москва, и вдруг гора, будто мы не в Москве, а в Туапсе. Надо же… — Ложись спать. — Витя приподнялся над подушкой. — Это насыпная гора для лыжников. Они с нее зимой катаются. — А над горой луна. А в небе звезды, как в сказке, — говорила Марина, любуясь заоконной картиной. — Полезли завтра на гору, а?! — Полезли, — ответил Витек, зевая, — и на гору полезли и еще куда-нибудь… Давай спать… Хорошо, что завтра можно встать на час позже…
Когда они спускались в лифте, на пятом этаже в кабину вошли Витины соседи — молодая семья: отец, мать и маленький ребенок. Витя был не знаком с ними, но в лицо знал всех троих, поэтому не мог не поздороваться. Мальчик держал в своих руках модель изящного парусника так, как держат хрупкое сокровище, одновременно опасаясь выронить и раздавить его. На лицах все троих сиял восторг. Вите вдруг очень захотелось поговорить с ними, но он не знал, с чего начать. Да и как-то нелепо было ни с того, ни с сего, после семилетнего обоюдного молчания затевать беседу. Так и доехали до первого этажа, не проронив ни слова, а потом разошлись в разные стороны. По дороге они купили пива, чтобы на горке веселее было. Шли молча, думая каждый о своем. Витя вспоминал, как однажды Марина слезами удержала его, когда он собрался ее бросить. Это было давно. Почти три года назад. «Если бы, — размышлял Витя, — я тогда от нее ушел, моя жизнь, пожалуй, сложилась бы более удачно. Но что-то не дало мне это сделать. Что? Жалость? Страх одиночества? А может, любовь? Нет, наверно, не любовь. А есть ли она вообще, эта самая любовь? Ну зачем, зачем она тогда устроила мне истерику. И долго нам еще мучиться вместе?» «Он — трамплин, — думала Марина. — Ну да, самый настоящий трамплин. А что такого? Когда-то он вписался в образ, который я, сопливая дурочка, создала в своем воображении, пользовался мной по полной программе, потом я пользовалась им — все справедливо. Я побыла его куклой, а он послужил мне трамплином. Теперь осталось только с него прыгнуть в большую и интересную жизнь».
Восхождение было нелегким. Издали выглядевшая невысокой, насыпная гора на самом деле оказалась труднодоступной. Чтобы достичь вершины Марине и Вите пришлось карабкаться по щебню, смешанному с грязью, иногда помогая себе руками. Но вместе с тем подъем их был настолько увлекательным, что Марина не заметила, как сломала ноготь. Сверху микрорайон был неузнаваем: миниатюрные коробочки домов выглядели как-то непривычно тоскливо. Зато лес, раскинувшийся неподалеку, завораживал глаз своей зеленой гладью. Они сели на большой пень, непонятно почему торчащий из вершины насыпной горы, и стали молча, прихлебывая пиво, смотреть вниз. Сильный ветер качал подвески горнолыжного фуникулера. — Смотри, НЛО! — неожиданно крикнул Витя и больно шлепнул Марину по плечу. — Ты что, сдурел, что ли? — Марина сморщилась, потирая ушибленное место. — Да вон же! Вон! Вот это да! Марина прищурилась и увидела зависший около одной коробочки небольшой серебристый диск. «Ну, кто еще, — подумала она, — кроме Вити, способен увидеть летающую тарелку среди бела дня. Хотя, скорее всего, это никакая и не тарелка, а так, оптический обман…» — Нет, ну ты видела?! — махал руками Витек. — И, как назло, ни фотоаппарата, ни видеокамеры, ничего! «А у тебя всегда так, — ответила про себя Марина. — Вечно чего-то не хватает!» Тарелка поднялась над домом и, немного повисев на месте, бесследно исчезла, словно растворилась в воздухе. — Вот если бы, — начал мечтать Витя, — я бы ее сфотографировал, мне бы за этот снимок хорошо заплатили. Да… не повезло… — Слушай, уймись, а? — попросила Марина. — Хватит об этом. Пошли вниз. Мне в общагу пора. — Да погоди ты! Смотри как здесь хорошо! Хочешь я тебя покачаю? Лицо Витька стало по-детски озорным. Марина почувствовала, что этот никчемный лох начинает ее снова очаровывать. Скрывшись на пару секунд, он вернулся с длинной широкой доской. — Смотри, какие я сейчас качели сделаю! Витя положил доску на пень, уселся на один ее конец, а на второй пригласил сесть Марину. — Ну, ты дурак или как? — Марина покрутила пальцем у виска, но на качели все-таки села. «Иногда можно, — подумала она, — позволить себе поидиотничать, тем более по пивку. Ведь расслабляться тоже надо». — Ну, как, хорошо тебе?! — хохотал Витя, поднимаясь и опускаясь на доске. — А хочешь полететь, как в цирке? — Это еще как? — спросила Марина, осознавая, что сейчас готова принять любое его предложение. — А вот так. Становись на край доски. Марина выполнила его просьбу. Витя, заговорщицки улыбаясь, влез на возвышающийся холмик и, всплеснув руками, прыгнул на доску. Марина легко взлетела и с криком понеслась к облакам. Пролетев по дуге над Европой и Атлантическим океаном, она упала прямо за банкетный стол в ослепительном нью-йоркском клубе.
— Are you o'key, my pretty? — спросил сидящий рядом Маринин муж, импозантный мужчина с густой волной седых волос. — Все нормально, все o'key, — успокоила его Марина и залпом опустошила стакан. — Маринка, что с тобой? — раздался голос красавицы Ленок, бывшей студентки Орловского пединститута, а ныне жены семидесятилетнего владельца автомобильной компании. — На тебе лица нет. Бледная, как смерть. — Да так… Ерунда… — отмахнулась Марина. — Привиделось, будто я в прошлое попала, на шесть лет назад. И вроде как между тем днем, в котором я сейчас побывала, и этим party со мной ничего не происходило. Представляешь? — Маринка… — Ленок округлила глаза, — тебе надо к психоаналитику. У меня есть на примете первоклассный спец. Вот телефончик. Марина взяла карточку и оглянулась по сторонам. Зал утопал в безграничном удовольствии. Рядом с ней сверкал ослепительной улыбкой загорелый миллионер-муж. «Невероятно, — подумала Марина, — Как я здесь очутилась? А что с Витей? Что с ним случилось? Как он сейчас?» А с Витей ничего особенного не произошло. Постояв несколько минут на горе с разинутым ртом, он спустился на землю, погулял, почитал, купил бутылку водки и под соленые огурцы ее уговорил. Потом, невзирая на иступленный стук соседского молотка, заснул. А утром следующего дня началась очередная серия его жизни.
3.
В старости у Зои Матвеевны появилась странная привычка — переодеваться по десять раз на дню. Наряды у нее, конечно, были не ахти — заношенные до дыр, шитые-перешитые платья и юбки, но зато их было очень много — целых два шкафа. Обычно по утрам она надевала свое первое домашнее платье, которое было сшито из трех разнородных компонентов: байковой водолазки покойного мужа, пухового платка и юбки, добытой на развале гуманитарной помощи. В этом платье баба Зоя расхаживала с восьми до одиннадцати, то есть от первого до второго чая. Второе домашнее платье, тоже собранное из лоскутов, она надевала перед бразильским сериалом. Смотреть телевизор и слушать радио садилась в розовом кимоно из секонд-хэнда. Бразильский бесконечный телефильм затягивал Зою своим простодушием и яркими красками. Все персонажи в нем были, как на ладони: жгучий негодяй, отпетый и подлый, коварный и, разумеется, очень красивый; несчастная обманутая красавица-девушка, с постоянно перекошенным от слез лицом, и честный, благородный бесстрашный красавец. Начался сериал много лет назад, еще при жизни супруга Зои Матвеевны, но судя по всему финал был еще не близок. Баба Зоя, волнуясь, что не успеет узнать конец истории, проклинала телевизионщиков за их манеру разбивать фильм на крохотные двадцатиминутные серии. После бразильской мелодрамы наступало время прослушивания радио. Зоя Матвеевна всегда внимала одной и той же передаче — ежедневной программе общества «Милосердие». Ей почему-то очень нравилось, как приятные мужской и женский голоса из динамика обещают старикам за право наследования квартиры разные золотые горы — медицинский уход, прибавку к пенсии, цветной телевизор. Баба Зоя прекрасно понимала, что оформить наследственную на общество «Милосердие» она все равно никогда не сможет, так как в ее квартире прописана дочь, но перечень благ, льющийся из репродуктора, был для нее чем-то вроде приятной музыки. Где-то около часа баба Зоя облачалась в свое прогулочное платье, а затем, в зависимости от того, какая погода стояла на дворе, закутывалась либо в плащ, либо в искусственную шубу. Гуляла она обычно вокруг дома. Случалось, доползала до магазина, где покупала нехитрую снедь, большая часть которой впоследствии портилась в холодильнике. Так уж повелось, что день Зои Матвеевны измерялся периодами от одного телефонного звонка дочери до другого. Разговаривали они обычно четыре раза в сутки, и, как правило, беседы эти всегда заканчивались скандалом. Несмотря на свой преклонный возраст, 80 лет, у Зои Матвеевны энергии было еще много. Правда, сил мало. Переругивания с дочерью были для нее единственной возможностью выплеснуть избыточную энергию, встряхнуться и разнообразить свою жизнь, последние дни которой стремительно убегали. После прогулки и скудного обеда (не потому скудного, что бабе Зое не хватало продуктов, а потому, что чувство аппетита покинуло ее еще во времена приватизации) она садилась на старый диванчик и, сложив руки между колен, замирала. Ни о чем не думая, она могла просидеть целый час. Пробыв в оцепенении сколько требовалось, Зоя Матвеевна вновь оживала, звонила дочери, а потом принималась за чтение бесплатных газет, которыми каждое утро забивали ее почтовый ящик. Для бабы Зои самым ценным в этих бестолковых бумажках, конечно, была телевизионная программа. Интересны были также статьи о народной медицине, заметки о распродажах и разных выгодных акциях, а также материалы об анормальных и аномальных явлениях. «Хоть бы одним глазком взглянуть, — мечтала Зоя Матвеевна, прочитав очередную сенсационную статью, — а там и помирать можно». Она верила в них сильнее, чем в Бога. После чтения баба Зоя принималась поливать и лелеять свою герань. Розовые, красные, белые и даже фиолетовые венчики любимого растения радовали ее глаз круглый год. Чтобы герань была еще ярче и сочнее, Зоя Михайловна поливала ее кровью оттаявшего мяса. Перед вечерним чаем баба Зоя всегда подводила часы, которых в ее квартире было предостаточно, и делала дежурный звонок дочери. Дом, куда она звонила, кипучая жизнь распирала по швам. В тесноте двухкомнатной квартиры жили-поживали бабы-Зоина дочь с мужем, внук с женой и правнук. Жили они все тяжело, с надрывом: очень мало места было в том доме для них пятерых. Порой бабе Зое становилось совестно за свое упорное нежелание уступить квартиру молодым. Но совесть беспокоила ее недолго. Воспоминания о том, как она сама жила в молодости, иногда ночуя в подъездах и на чердаках, легко глушили ее совесть. Когда-то давно демобилизованный солдат привез ее в огромный незнакомый город вместе с добытой по случаю железной кроватью и трофейным патефоном. Но свекровь отказалась пускать молодую провинциалку на порог своего дома, и теперь баба Зоя считала, что пережитые ею годы, наполненные страданиями, дают ей право на нынешнее привилегированное положение в просторной двухкомнатной квартире. И все бы ничего, да вот беда: молодые совсем с ней порвали. Не то что в гости не приходят, не позвонят даже! Хотя Зоя Матвеевна прекрасно понимала, что ни о каких теплых отношениях между ней и семьей внука и речи быть не может до тех пор, пока она одна обитает в отдельной квартире, а молодые втроем ютятся в небольшой комнате. Баба Зоя, может быть, и пошла на уступку, если бы не жена внука — своенравная, вспыльчивая девка, такая же, как она сама, баба Зоя, в молодости. Сделать эту строптивую молодуху хозяйкой дома, в котором она прожила тридцать с лишним лет, баба Зоя, понятное дело, считала невозможным. А посему вот уже четыре года Зоя Матвеевна существовала одна, почти не ведая той жизни, которую вели молодые. Протекающие краны, разбитая раковина, вздутый, вылетающий паркет, закопченный потолок — вся эта разруха ничего не значила по сравнению с невыносимыми приступами одиночества. Так уж получилось, что Зоя Матвеевна последняя осталась в живых из тех, кто вселился в этот дом, когда он был новостройкой. За треть века из дома ушли все, кто когда-то знал Зою Матвеевну без седых волос, уступив свои квадратные метры новым, совсем другим суетливым людям. Из них баба Зоя никому не была интересна, как, собственно, и ей никто. Однажды Зоя Матвеевна потерялась во времени: забыла перевести в нужный день часы и целое утро жила, обгоняя все государство на шестьдесят минут. Когда она, включив телевизор, не увидела на экране знакомых лиц негодяя и обманутой плаксивой красавицы, баба Зоя решила, что, наконец, сошла с ума. «Вот и настал момент, — сказала она себе, — дожили». Но долго переживать мнимую утрату рассудка Зое Матвеевне не пришлось, так как на ее глазах стало происходить нечто невероятное. Медленно, как подъемная кабина работников-высотников, выплыла из-за стоящей на подоконнике разноцветной герани блестящая плоскость их тарелки. От радости и восторга Зоя Матвеевна даже не смогла удивиться. Она быстро ушла в комнату, чтобы надеть свое парадное шелковое платье, а когда вернулась, серебристый диск и ее окно уже соединял выдвижной трап. Все происходило именно так, как она себе неоднократно представляла: медленно разъехались створки двери, и в проеме показалась хитроватая зеленая мордочка. Пупырчатое, как огурец, существо, ростом не выше бабы-Зоиного живота, с выпученными глазами и улитковыми наростами на голове, шустро перебежали по трапу и спрыгнуло с подоконника на пол. За ним второе, ничем не отличимое от первого, потом третье, четвертое… Вскоре зеленые человечки заполнили всю кухню. Они хаотично метались по помещению, хватая все, что попадалось в их четырехпалые лягушачьи руки. Зоя Матвеевна, глядя на это представление, лишь качала головой и всплескивала руками. Гуманоиды с интересом рассматривали посуду, газеты, пустые бутылки, брошюры о народной медицине. Потом они разбежались по комнатам. Им все было интересно. Пока гости носились по квартире, баба Зоя заварила чайку, собрала нехитрое угощение и пригласила гуманоидов за стол. Зеленые существа быстро расселись и с большим, как показалось бабе Зое, удовольствием приступили к чаепитию. Болтая кривыми ножками, они делились впечатлениями на своем квакающем языке. Зоя Матвеевна же сидела во главе стола и суетливо предлагала гостям то одно, то другое. После чая Зоя Матвеевна включила бразильский сериал, и все увлеченно уставились в телеэкран. В моменты особо сильного накала страстей зеленые существа подпрыгивали, махали руками и даже закрывали глаза. Гости Зои Матвеевны оказались очень сострадательнымисозданиями. Когда серия закончилась, гуманоиды взяли Зою Матвеевну за руки и подвели к трапу. Один из них что-то квакнул и показал длинным чешуйчатым пальцем на тарелку. «Приглашают, — решила баба Зоя. — Ну что ж, отказываться не буду». Она поставила около окна табуретку и, кряхтя, перебралась с нее на подоконник. Маленькие человечки заботливо поддерживали ее со всех сторон. На трапе у Зои Матвеевны закружилась голова, и она чуть было не рухнула вниз с пятиэтажной высоты. Но гуманоиды ловко подхватили ее и довели до входа в тарелку. Перед тем как створки двери сомкнулись, баба Зоя посмотрела на окна своей квартиры и помахала им рукой. — До свидания, — тихо произнесла она, — наверно, я уже больше не вернусь. Двери закрылись. Зою Матвеевну усадили в мягкое кресло около большого иллюминатора. Один из человечков нажал на нужную кнопку и тарелка, закружившись, устремилась вверх. — Полетела, — шепнула себе Зоя Матвеевна. По мере того как тарелка набирала скорость, вид за стеклом иллюминатора терял свои конкретные очертания и вскоре превратился в сплошную разноцветную кашу. Бабе Зое стало нехорошо. Она зажмурилась и провалилась в черную дыру беспамятства. Когда в голове Зои Матвеевны снова ожили мысли, тарелка уже не неслась неведомо куда, а медленно парила над южным, утопающим в зелени городком. Все в этом городке было знакомо бабе Зое — каждая улочка, каждый домик. Она жестом попросила гуманоидов опуститься пониже и прижалась лицом к иллюминатору. Внизу ходили люди, одетые по моде полувековой давности: девушки в платьях с раздутыми юбками, мужчины в широких штанах, шнурованных сверху тишотках и тюбетейках. Повсюду мелькали перепоясанные кожаными портупеями офицерские френчи. Лицо сурового вождя внимательно следило за суетой городка с сотни украшенных цветами портретов. Похоже, в городке был праздник. Тарелка опустилась еще ниже и зависла прямо над танцевальной площадкой. Сердце Зои Матвеевны заколотилось в ритме доносящегося пасадобля: там внизу, в небольшом военном оркестре сидел со своей трубой ее бравый жених. Он белозубо улыбался и рассказывал что-то смешное своему приятелю, другому оркестранту. Музыкантов окружала вереница девушек с пылающими глазами, среди которых баба Зоя заметила своих сестер и подружек. Непонятно как в летающую тарелку проник вязкий запах южного лета. Зоя Матвеевна направилась к выходу из тарелки, но зеленые человечки преградили ей путь. Вздохнув, она снова уселась в свое кресло у иллюминатора. А внизу опять грянул оркестр. Только теперь зазвучал не пасадобль, а запрещенное танго, которое никто толком не умел танцевать. Баба Зоя снова приросла к окошку. «Как жаль, — подумала она, — что меня никто не видит, как жаль…» Зоя Матвеевна покачала рукой, приветствуя всех своих старых друзей и подружек. Потом тарелка вновь стала подниматься. Городок все уменьшался и уменьшался, пока не пропал в лоскутной мешанине земной поверхности. А вскоре и сама Земля утонула в черноте космоса. А Зоя Матвеевна осталась одна среди бесконечного звездного скопления, наполненная теплом и спокойствием.Алексей Лукьянов Старый друг господина Свантессона
Рассказ
 Светлой памяти Астрид Линдгрен
Кто бы мог подумать, что в детстве господин Свантессон болел аутизмом?
Собственно, он и сам об этом не знал, просто мама и папа по настоянию врачей направили послушного Сванте в лечебницу, где он провел три недели. Странно, что от аутизма лечат так быстро. Однако у Сванте была легкая форма этой страшной болезни, при которой человек живет целиком в себе и не реагирует на окружающий мир. Очень легкая, почти незаметная. Даже папа и мама ни за что бы не догадались об этой болезни, но на приеме у врача это вдруг выяснилось благодаря каким-то новым тестам — и Сванте вовремя направили в стационар.
После лечения Малыш ничуть не изменился, продолжал жить, как и жил, и вскоре вся семья Свантессонов забыла о скрытой угрозе здоровью Малыша, тем более, что врачи свели ее на нет.
Сванте незаметно для себя вырос, и обнаружил, что Боссе уже давно женился во второй раз и живет на какой-то барже вместе со своей женой и сыном от первого брака, которого зовут Ульрих. Первая жена Боссе не выдержала спортивного ритма, в котором он жил, и ушла к другому, более размеренному типу. Но сына Боссе оставил за собой, тем более что новая жена у Боссе была золото.
А Бетан вышла замуж за иностранца, англичанина, и уехала с ним вместе в Лондон. Но чаще всего они жили в Африке, потому что Эрик, муж Бетан, был каким-то исследователем. Бетан тоже училась на этнографа, и присылала родителям интересные фотографии и письма. Марки доставались Сванте.
Со временем, когда Сванте закончил школу, он тоже увлекся этнографией, но только родной, скандинавской, и еще немного — финно-угорской, и стал в ней специалистом не меньшим, чем муж Бетан по бушменам, пигмеям, зулусам и прочим суахили.
И если Боссе и Бетан болели «Битлами», Дженис Джоплин и Джимми Хендриксом, то Сванте вполне спокойно пережил все увлечения своих ровесников и был домоседом. Он часто сидел у окна, наглухо закрытого зимой и распахнутого настежь летом, чесал за ухом старичка Бимбо, и либо читал, либо писал за своим большим письменным столом, который купил сам за те деньги, которые заработал как-то летом у бабушки в деревне, под Эскильстуной, на сборе яблок.
Впрочем, работал Сванте не только в деревне, но и в Вестергетланде, на кожевенном производстве, в фирме «Иенсен и Густавсоны». Старый дядя Юлиус значительно переменился после женитьбы на тете Хильде, и теперь Свантесоны нет-нет, а навещали своих родственников, хотя прежде у папы с дядей Юлиусом были отношения не совсем безоблачные.
Тетя Хильда, несмотря на свои сорок с большим гаком лет умудрилась таки родить дяде Юлиусу наследников в количестве трех штук разом, и теперь Эдмунд, Эдуард и Эдгар (старшие Эды, как их называл Сванте потом, когда закончил университет) занимали чету Иенсенов настолько, что воспитывать окружающих ни у дяди Юлиуса, ни у тети Хильды просто не оставалось сил. Времени, пожалуй, тоже.
Сванте унаследовал квартиру родителей, когда те уехали жить в деревню, после смерти бабушки. У папы тогда уже была солидная пенсия, да и сбережения какие-никакие имелись. Папа всегда мечтал жить за городом, служба и городская жизнь изрядно его издергали, и прожить остаток жизни в деревне, ухаживая за садом, были ему как бальзам на сердце. А мама была рада, что папа наконец-то перестанет бывать в разъездах, и тоже с удовольствием покинула Стокгольм, тем более, что Эскильстуна была ее родиной.
А Сванте остался.
Ему исполнилось тридцать, он женился на своей студентке Урсуле, у них родился сын Ян, потом дочь Сусанна, и прошло еще десять лет, прежде чем выяснилось, что у Сванте в детстве был аутизм.
Свою бывшую детскую комнату господин Свантессон превратил в кабинет, а комнаты брата и сестры стали детскими, для Яна и Сусанны. А все прочее осталось без изменений, разве что сменился телевизор, холодильник и плита, да еще появился компьютер.
Все шло своим чередом, Яну уже исполнилось девять, а Сусанне — пять, и Урсула стала поговаривать и о третьем ребенке, и ничего не предвещало непредвиденных событий, как в одно совершенно обычное майское утро эти события внезапно влетели в открытое окно кабинета господина Свантессона.
Ян был в школе, Урсула с Сусанной отправились погулять в Королевский парк, а Сванте остался дома. Окно было, как всегда, распахнуто… странно, но самый продуктивный период работы у профессора Свантессона был именно с мая по август месяц, пока окно оставалось открытым… и Сванте писал вдохновенно очередное исследование, на этот раз о кобольдах, как вдруг послышался звук плохо работающего вентилятора, и в комнату ворвалось нечто несуразное.
Сванте подскочил и прижался спиной к стене. Посреди комнаты стоял толстый карлик, босой, в страшно изжеванной фланелевой синей робе. Лицом был пухл, веснушчат, голова обрита наголо. Он недобро оглядывался по сторонам, не узнавая помещение, затем взгляд карлика сфокусировался на профессоре.
— Только не говори, что у вас ничего нет в смысле набить брюхо, — угрюмо сказал пришелец.
С высоты своего роста Сванте обратил внимание, что за спиной странного карлика торчит небольшой пропеллер с широкими лопастями.
— Вы кто? — спросил Сванте.
— Ты не ответил! — карлик сделал два шага навстречу. Половицы под ним угрожающе скрипнули.
— Я могу вас накормить, но прежде ответьте, кто вы такой, — Сванте решил, что с этим парнем надо быть потверже.
Незнакомец еще раз огляделся.
— И давно ты тут обосновался? — спросил он. — Где хозяева?
— Я всегда здесь жил, но это к делу не относится, — первый шок у профессора прошел, и он подумал, что, пожалуй, сумеет и в одиночку справиться с незваным гостем. — Последний раз спрашиваю, кто вы такой, или я вызываю полицию.
— Черта с два, — усмехнулся гость. — Никакой полиции я больше не дамся.
— Вы — беглый преступник? — осенило Сванте.
— Если летать — это преступление, то пожалуй, — согласился толстяк. Он еще внимательнее взглянул на Сванте, и искорка узнавания мелькнула у него в глазах: — Малыш? Это ты, несносный мальчишка?!
— Кто вы? — Сванте немного испугался. Мало кто из близких помнил, что профессора Свантессона в детстве звали Малышом, а уж незнакомые люди об этом никак не могли знать.
— Я — красивый, умный, в меру упитанный мужчина в полном расцвете сил! — скромно, но с пафосом охарактеризовал себя гость. — Если ты меня не помнишь, то я так не играю.
— Кто вы?! — робко переспросил Сванте.
— Карлсон я, который живет на крыше, — рявкнул гость. — Тащи пожрать, не то…
— Какой Карлсон? — и профессор осел на пол.
Привел его в чувство холодный душ. Сванте открыл глаза и вновь закрыл — над ним стоял все тот же толстый карлик и поливал его из пластикового ковшика холодной водой.
— Типичный случай голодного обморока, — бубнил успокаивающе толстяк, — у вас так и не научились готовить по-человечески. Хотя компот твоей маме очень удался.
— Мама умерла два года назад, — простонал Сванте.
— Для покойницы она очень неплохо готовит, хотя теперь мне понятно, почему у вас всего так мало. Твоя мама и при жизни была довольно прижимистой особой, а уж теперь…
— Еще раз так скажешь о моей матери, и я тебя отделаю, как бог черепаху, — Сванте открыл глаза.
Губы толстяка дрогнули, лицо сморщилось от обиды как печеное яблоко.
— Всегда, всегда ты относился ко мне без должного пиетета! — плаксивым голосом произнес карлик. — Пожалуйста, я улечу.
В это время в дверь позвонили. Сванте вскочил на ноги и побежал открывать, совсем позабыл о том, что он мокрый.
За дверью стоял пожилой, если не сказать — старый — господин в элегантном, хотя и достаточно поношенном плаще и фетровой шляпе. Господи, как в такую погоду можно ходить в теплой одежде?
— Вы… хм… господин Свантессон? — спросил этот пожилой мужчина у Сванте.
— Совершенно верно, чем обязан?
— Я ваш лечащий врач, Альфред Петерс. Вы меня помните?
— Вообще я не помню, когда в последний раз болел, и к тому же наш семейный врач не Петерс, а Хакиннен.
Мужчина тихо добродушно рассмеялся.
— Нет, вы не поняли. Я тридцать лет назад лечил вас от аутизма, не помните?
— От аутизма? — брови Сванте стремительно взлетели вверх. — Я никогда…
— Ой, простите, — смутился гость. — Я, наверное, не туда попал, ошибся… Хотя и фамилия, и адрес совпадают. Вот история болезни, взгляните, — и он протянул Сванте больничную карту, старую, но удивительно хорошо сохранившуюся. — Что у вас с головой, вы мокрый!
— Да… за компьютером сижу с самого утра, внезапно стало дурно, сунул голову под кран, как в детстве, — соврал профессор Свантессон, сам не зная почему. Он раскрыл историю болезни… да, это был именно он, и в тот год, когда Малыша-Сванте отправили на стационар, ему было девять лет.
— Я ничего не помню про аутизм, — шепотом сказал Сванте. — И разве он лечится?
— Вы позволите войти? — спросил доктор.
— Извините, не могу. Пока вы не объясните, в чем дело. Я совершенно не помню, чтобы попадал в какой-то стационар, хотя память у меня прекрасная.
Доктор Петерс опешил от такого напора, но очень скоро пришел в себя.
— Простите, пожалуйста, — еще раз извинился он. — Я просто навещаю своих старых пациентов. Тридцать лет назад была опробована методика ранней диагностики аутизма, и вы чисто случайно оказались одним из наших потенциальных клиентов. И у вас аутизм не был развит, и пребывал в каком-то странном полуактивном состоянии. Это была реакция на отсутствие должного внимания со стороны родных, вы стали выдумывать себе мнимых друзей… словом, стали уходить в свой внутренний мир. Но двадцать четыре дня стационара не дали вам порвать контакт с окружающим миром. Вы не дадите мне стакан воды, а то душно?..
Сванте впустил Петерса в квартиру и проводил на кухню, где усадил за стол и дал попить. На кухне он обнаружил пустую кастрюлю из-под супа в мойке и значительно опустевший стеклянный кувшин с компотом, стоящий на холодильнике. На полу валялись хлебные крошки и кожура от колбасы.
— О, господи, простите, у нас беспорядок, — забегал профессор по кухне. — Сын, видимо, заскочил из школы… я, когда работаю, ничего вокруг не слышу.
— Не беспокойтесь, — махнул рукой Петерс. — Я уже ухожу. Спасибо.
Он действительно очень быстро ушел, прихватив с собой историю болезни Сванте.
Закрыв дверь за Петерсом, профессор долго тер подбородок, пытаясь понять, откуда вдруг вывалился этот странный доктор и… карлик!
Взволнованный, Сванте вбежал в свою комнату, но там никого уже не обнаружил. Лишь в компьютере бегущая строка говорила: «Привет, Малыш!»
Едва успев прибраться на кухне и в кабинете, Сванте вновь нырнул в свою работу, но углубиться ему так и не удалось: странные визиты весьма смутили профессора. В том, что они взаимосвязаны, господин Свантессон не сомневался, но вот какова их подоплека?
Оба визитера знали Сванте в детстве. Причем один из них, карлик, представившийся только фамилией… странный он все же, очень странный… Карлсон, кажется, знал Сванте достаточно близко. Но почему тогда ничего не вспоминается? Точно так же и с Петерсом этим. Ни болезни, ни больницы в памяти не отложилось, хотя помнил себя Сванте чуть ли не с трех лет.
Он нервно набрал телефон Хакиннена, и когда тот снял трубку, сказал:
— Добрый день, Густав, это Свантессон.
— Здравствуйте, Сванте, — пропел на том конце провода доктор. — У вас что-то случилось?
— Нет, я проконсультироваться. Вы мою историю болезни помните?
— Что за вопрос… — обиделся Густав.
— Нет, я имею в виду болезни детские. Они там упоминаются?
— Да. Но я не понимаю, в чем…
— Скажите, Густав, — перебил Сванте доктора, — там что-нибудь есть про аутизм?
На некоторое время Хакиннен замолчал, анализируя слова пациента. Потом сказал:
— Откровенно говоря, такая запись есть. Но, поверьте мне, это полная чушь, и от чего уж вас там, в этом стационаре, лечили — понятия не имею. Да и где этот стационар имел место быть — тоже не ясно. Поймите, аутизм либо есть, либо нет, нельзя быть немножко беременной или слегка умершим. А уж о лечении и речи быть не может. Больные аутизмом не психи, но и не от мира сего. С ними можно наладить какой-то контакт, но это будет односторонняя связь, точнее, сам аутик на контакт не идет никогда. Только какие-то реакции на уровне условного рефлекса. Так что люди, поставившие вам такой диагноз — полные профаны от медицины. Хотя, признаюсь, и я не светоч психиатрии, и всех особенностей не знаю. Скорей всего, с ваших родителей пытались выколотить какую-то сумму, или вами прикрывали какие-то махинации в медицинской сфере.
— Какие могут быть махинации?
— Наркотики, например.
— Спасибо, — поблагодарил Сванте и положил трубку, не прощаясь.
Все прояснялось. Точнее, все запутывалось.
Однако свести всю полученную информацию к общему знаменателю прямо сейчас не удалось — вернулись Ян и Урсула с Сусанной. Пришлось держать ответ за съеденный суп, выпитый почти полностью компот и варварски наломанный хлеб. Суп, по версии Сванте, съели брат и племянник, которые на некоторое время остались холостяками (жена Боссе отправилась на Готланд, в Висбю, к заболевшему отцу, и задержалась там на неделю), и сегодня утром завтрак у них сгорел, а обед не предвиделся, поскольку оба решили провести день в порту. Компот Сванте тоже спихнул на Боссе с Ульрихом. С хлебом вину признал за собой — крошил голубям прямо из окна.
Урсула покачала головой, Ян и Сусанна открыли рты — таких фокусов от папы они не ожидали. Впрочем, все быстро успокоилось, Урсула приготовила молочный суп и гренки, Сусанна в меру сил помогала маме, а Ян уселся у себя в комнате читать.
Под вечер, сидя у телевизора и попивая какао, Сванте удалось расслабиться. Урсула быстро забыла странный инцидент на кухне, сидела рядышком на диване и держала мужа за руку.
— Ты очень расстроился? — спросила она.
— Из-за чего?
— Из-за того, что я рассердилась.
— Нет, не очень. В конце концов, я сам виноват — аппетиты Боссе и его сына прекрасно мне известны, мог и подстраховаться. А с хлебом тоже как-то неловко получилось. Не помню, чтобы я когда-нибудь крошил птицам хлеб.
Они обнялись и просидели так часов до девяти. Потом Урсула уложила спать Сусанну, наказала Яну не читать лежа в постели, и отправилась спать. Она знала, что Сванте будет сидеть перед открытым окном до двух ночи, не меньше.
Профессор Свантессон сел перед монитором, просмотрел наброски монографии о кобольдах — и уставился в небо над Стокгольмом. В голову лезли совершенно посторонние мысли.
Петерс или не доктор, или не совсем доктор. Во всяком случае, самого пребывания в больнице, а оно наверняка было, Сванте не помнил, но оно документально зафиксировано. При этом совершенно ясно, что никакого аутизма у Малыша… у Сванте не было.
Но почему мама и папа так легко согласились с таким диагнозом? Спросить бы у Боссе, но на его барже нет телефона. Можно и прогуляться, погодка позволяет.
Черта с два! Так, кажется, сказал толстяк Карлсон. (Бегущая строка, как бы в ответ на рассуждения профессора, поприветствовала: «Привет, Малыш!») Почти весь июнь Малыш-Сванте провел с дядей Юлиусом и фрекен Бок, которая потом стала тетей Хильдой, а Боссе все лето провел в каком-то спортивном лагере. Бетан до июля жила у бабушки в деревне.
Значит, надо позвонить папе.
— Слушаю, — сильно простуженным голосом сказал папа, когда Сванте дозвонился.
— Здравствуй, папа. Прости, что поздно.
— Малыш! — папа явно обрадовался. — Сванте, мальчик, как живешь?
— Папа, ты не будешь против, если мы навестим тебя в июне?
— А почему не раньше? — папа закашлялся. — Я вас всегда жду.
— Ну, сначала приедет Боссе с семьей, а после него — мы.
— Тогда другое дело, — голос папы потеплел. — У тебя что-то случилось? Ты никогда так поздно не звонил.
— Нет, папа, все в порядке, просто тут возник один щекотливый вопрос.
— Ты тоже завел другую женщину? — посуровел папа. Он не одобрял современных скоростных браков, и считал, что жена дается на всю жизнь. Даже развод Боссе, случившийся, в общем, не по его вине, он встретил очень отрицательно.
— Нет, папа, я тоже старомоден. Меня интересует вот что… — Сванте помедлил. — Вы с мамой действительно думали, что у меня был аутизм?
Молчание с другой стороны было очень долгим.
— Почему ты спрашиваешь? — спросил папа наконец.
— Потому что сегодня узнал, что был болен неизлечимой болезнью и счастливым образом выкарабкался. Некто доктор Петерс навестил меня.
— Больше никто тебя не навещал? — после столь же долгого молчания спросил папа.
Точнее, даже не спросил, а заставил подтвердить свое предположение интонационно.
— Нет… — протянул Сванте.
— Малыш, ты вел себя странно, когда мы вернулись с мамой из путешествия. Тетя Хильда и дядя Юлиус замечали, что ты слишком часто проводишь время уединенно в своей комнате, у открытого окна, а по ночам разговариваешь сам с собой. Мы не могли рисковать, ты был всеобщим любимцем, — папа старался говорить мягко, но голос его звенел, как клинок. — Нам сказали, что у тебя аутизм, нам ничего не оставалось делать, как поверить, что это лечится. И это действительно прошло, разве что любовь к раскрытому окну так и не удалось изжить.
Сванте слушал папу, и его никак не оставляло ощущение, словно папа говорит все это не для Сванте, а для кого-то постороннего. Как будто их подслушивают.
— Да ладно, папа, я ведь только спросил, я просто не мог вспомнить, что было что-то подобное, — принял Сванте навязанную папой игру. — Извини, что поздно позвонил.
— Ничего, сынок, я все равно не спал. Приезжайте поскорее. И не спи с открытым окном, майские сквозняки очень опасны.
Отбой.
Чем дольше в лес — тем больше дров. Вся эта история начинала напоминать профессору плохие американские боевики, где главный герой теряет память, и должен вспомнить все, пока его не укокошили секретные спецслужбы.
Могли ли Малышу прочистить мозги?
Вполне. Если это были государственные спецслужбы, то надавить на родителей они могли легко и просто. Да на папу и давить не пришлось бы — он ведь военный, хотя и не секретный, а обычный клерк в министерстве. Интересы государства для него значили столько же, сколько и интересы семьи, если не больше. Другое дело, как Малыш, девятилетний мальчик Сванте Свантессон, мог угрожать этим интересам.
И почему окно? Что такого было в окне? И почему папа посоветовал его закрыть?
Сегодняшний, точнее, уже вчерашний карлик в синей арестантской робе. Он влетел через окно. Как?
Самым логичным объяснением был пропеллер на спине. Пропеллер с широкими лопастями.
Откуда-то сверху донеслись задушевные звуки губной гармошки. Точнее, не задушевные, а задушенные какие-то. Спустя минуту они смолкли, чтобы внезапно очень ясно зазвучать под раскрытым окном профессора.
— Кто здесь? — громким шепотом спросил Сванте.
— О, это дикое, ужасное, весьма моторизованное и при этом обаятельное и симпатичное привидение, — раздался глубокий таинственный голос. — Лучшее в мире, смею вас заверить!
В свете луны на фоне оконного проема показалась лысая голова.
— Привет, Малыш! — весело сказал беглый арестант, полностью влетая в комнату, на этот раз с еле слышным гулом двигателя. — Стоит мне отлучиться на несколько мгновений, как ты стремительно начинаешь прибавлять в росте и возрасте. Хорошо еще, что ты не упитанный, а то нам бы было весьма тесно в одной комнате, двум красивым, умным мужчинам в полном расцвете лет, если они оба окажутся еще и в меру упитанными.
— Это вы цитируете что-то? — спросил Сванте. Он слышал от своего коллеги из России выражение «толстый и красивый парниша», хотя совершенно не понимал, в чем юмор этой идиомы. Видимо, этот толстяк понимал русские шутки.
— Да, цитирую. Угадай с трех раз, кого именно? — и Карлсон хитро подмигнул Малышу.
— Мы знакомы?
В этот момент в дверь постучали. Невозможный летающий карлик мгновенно скрылся за окном. Дверь распахнулась.
— Па, ты с кем-то разговаривал? — спросил Ян. Он стоял, опершись на косяк.
— Да так, с кобольдами своими, — нашелся Сванте. — Спокойной ночи.
— Спокойной ночи, — ответил Ян и ушел к себе.
«А ведь ему сейчас столько же», — подумал Сванте.
— Гей-гоп! — снова, как чертик из табакерки, выскочил из окна Карлсон. — Неужели домомучительница вышла замуж не за противного дядьку Юлиуса, а за маленького худенького Малыша?
— С чего ты взял? — удивился Сванте. — Она уже давно…
— Что, и она умерла? — ужаснулся Карлсон. — Признайся, это ты угробил некрасивую старую жену, или все таки она однажды плеснула в свой соус слишком много лисьего яду? Вокруг тебя женщины мрут, как мухи!
«Откуда он знает фрекен Бок и дядюшку? Откуда я его знаю, причем знаю хорошо?» — Сванте нагревался от всех этих вопросов, а толстяк все летал по комнате и разглядывал дипломы профессора Свантессона.
— Так, — вдруг громко произнес Карлсон. — А сейчас начнется…
Жуткий рев и вспышки огласили полуночный Вазастан. Входные двери Свантессонов упали внутрь квартиры вместе с дверным блоком, черный ход на кухне тоже взорвался. Сквозь грохот ботинок Сванте, на мгновение ослепленный светом софитов, направленных прямо в окно кабинета, услышал испуганные крики Яна и Урсулы, а так же захлебывающийся рев Сусанны.
— Ни с места! — послышалась команда. — Операция внутренней разведки!
Голос Сванте узнал — он принадлежал доктору Петерсу.
Комната мгновенно наполнилась здоровыми парнями в военной форме, вооруженных короткоствольными автоматами. Все они были в масках. Один маску снял, и теперь Сванте окончательно убедился, что командует парадом Петерс.
— Доброй ночи, профессор, — поздоровался он. — Извините, но провести операцию по захвату опасного преступника можно было только у вас.
— Почему? — спросил Карлсон. — Малыш, ты помнишь Филле и Рулле?
— Помню, — почему-то соврал профессор. На самом деле эти имена что-то ему говорили, но что?..
— Увести его, — распорядился Петерс. Лицо его после слов Сванте почему-то удивленно вытянулось.
Однако выполнить приказ крепкие парни не смогли. Откуда-то сверху донесся стрекот легких вертолетов, в дверях возникла жуткая давка и шум, на улице загудели пожарные сирены, и через минуту в комнате народу сделалось в три раза больше. Откуда-то появились телекамеры, диктофоны, фотоаппараты и прочая журналистская дребедень.
— Кто допустил?! — заорал в бешенстве Петерс, но его парней продолжали теснить ряды журналистов. Кое-кто проникал в окно по пожарной лестнице.
— Это я называю укрощением при помощи демократической прессы и телевидения, — скромно потупившись сообщил Карлсон. Он летал под потолком, горделиво выставляя пропеллер за спиной, что неслышно жужжал и неведомым образом держал толстяка в воздухе. Каким образом он выделывал всяческие кренделя и бочки — вообще было непонятно.
На полковника Петерса посыпались вопросы о цели ночной операции в Вазастане, согласовано ли все с мэром, с правительством, известно ли королю об этой силовой акции. У Карлсона спрашивали, как его содержали в секретных лабораториях. Не пытали ли его. Выводили ли на прогулку, и в каких условиях эти прогулки проходили.
— Что происходит? — попытался перекричать всю эту стихийную пресс-конференцию Сванте.
— Читай, — Карлсон вынул из-за пазухи старую газету и швырнул профессору.
«Тайна раскрыта! Это не спутник-шпион…»
Малыш не вспомнил, что с ним случилось тридцать лет назад в больнице, и была ли больница вообще. Он не вспомнил ничего, кроме Карлсона.
— Карлсон! — завопил он так громко, что все замолчали.
— Привет, Малыш!
— Привет, Карлсон!
Их снимок был помещен на обложках всех журналов, на первых полосах всех газет мира. Их встреча была лучшей сказкой со времен графа Монте-Кристо. На снимке плачущий и совершенно счастливый Сванте обнимает лысого самодовольного человечка, лицо которого не украшает ни одна морщина, и хитрый прищур глаз не скрывает искры озорства в глазах.
Светлой памяти Астрид Линдгрен
Кто бы мог подумать, что в детстве господин Свантессон болел аутизмом?
Собственно, он и сам об этом не знал, просто мама и папа по настоянию врачей направили послушного Сванте в лечебницу, где он провел три недели. Странно, что от аутизма лечат так быстро. Однако у Сванте была легкая форма этой страшной болезни, при которой человек живет целиком в себе и не реагирует на окружающий мир. Очень легкая, почти незаметная. Даже папа и мама ни за что бы не догадались об этой болезни, но на приеме у врача это вдруг выяснилось благодаря каким-то новым тестам — и Сванте вовремя направили в стационар.
После лечения Малыш ничуть не изменился, продолжал жить, как и жил, и вскоре вся семья Свантессонов забыла о скрытой угрозе здоровью Малыша, тем более, что врачи свели ее на нет.
Сванте незаметно для себя вырос, и обнаружил, что Боссе уже давно женился во второй раз и живет на какой-то барже вместе со своей женой и сыном от первого брака, которого зовут Ульрих. Первая жена Боссе не выдержала спортивного ритма, в котором он жил, и ушла к другому, более размеренному типу. Но сына Боссе оставил за собой, тем более что новая жена у Боссе была золото.
А Бетан вышла замуж за иностранца, англичанина, и уехала с ним вместе в Лондон. Но чаще всего они жили в Африке, потому что Эрик, муж Бетан, был каким-то исследователем. Бетан тоже училась на этнографа, и присылала родителям интересные фотографии и письма. Марки доставались Сванте.
Со временем, когда Сванте закончил школу, он тоже увлекся этнографией, но только родной, скандинавской, и еще немного — финно-угорской, и стал в ней специалистом не меньшим, чем муж Бетан по бушменам, пигмеям, зулусам и прочим суахили.
И если Боссе и Бетан болели «Битлами», Дженис Джоплин и Джимми Хендриксом, то Сванте вполне спокойно пережил все увлечения своих ровесников и был домоседом. Он часто сидел у окна, наглухо закрытого зимой и распахнутого настежь летом, чесал за ухом старичка Бимбо, и либо читал, либо писал за своим большим письменным столом, который купил сам за те деньги, которые заработал как-то летом у бабушки в деревне, под Эскильстуной, на сборе яблок.
Впрочем, работал Сванте не только в деревне, но и в Вестергетланде, на кожевенном производстве, в фирме «Иенсен и Густавсоны». Старый дядя Юлиус значительно переменился после женитьбы на тете Хильде, и теперь Свантесоны нет-нет, а навещали своих родственников, хотя прежде у папы с дядей Юлиусом были отношения не совсем безоблачные.
Тетя Хильда, несмотря на свои сорок с большим гаком лет умудрилась таки родить дяде Юлиусу наследников в количестве трех штук разом, и теперь Эдмунд, Эдуард и Эдгар (старшие Эды, как их называл Сванте потом, когда закончил университет) занимали чету Иенсенов настолько, что воспитывать окружающих ни у дяди Юлиуса, ни у тети Хильды просто не оставалось сил. Времени, пожалуй, тоже.
Сванте унаследовал квартиру родителей, когда те уехали жить в деревню, после смерти бабушки. У папы тогда уже была солидная пенсия, да и сбережения какие-никакие имелись. Папа всегда мечтал жить за городом, служба и городская жизнь изрядно его издергали, и прожить остаток жизни в деревне, ухаживая за садом, были ему как бальзам на сердце. А мама была рада, что папа наконец-то перестанет бывать в разъездах, и тоже с удовольствием покинула Стокгольм, тем более, что Эскильстуна была ее родиной.
А Сванте остался.
Ему исполнилось тридцать, он женился на своей студентке Урсуле, у них родился сын Ян, потом дочь Сусанна, и прошло еще десять лет, прежде чем выяснилось, что у Сванте в детстве был аутизм.
Свою бывшую детскую комнату господин Свантессон превратил в кабинет, а комнаты брата и сестры стали детскими, для Яна и Сусанны. А все прочее осталось без изменений, разве что сменился телевизор, холодильник и плита, да еще появился компьютер.
Все шло своим чередом, Яну уже исполнилось девять, а Сусанне — пять, и Урсула стала поговаривать и о третьем ребенке, и ничего не предвещало непредвиденных событий, как в одно совершенно обычное майское утро эти события внезапно влетели в открытое окно кабинета господина Свантессона.
Ян был в школе, Урсула с Сусанной отправились погулять в Королевский парк, а Сванте остался дома. Окно было, как всегда, распахнуто… странно, но самый продуктивный период работы у профессора Свантессона был именно с мая по август месяц, пока окно оставалось открытым… и Сванте писал вдохновенно очередное исследование, на этот раз о кобольдах, как вдруг послышался звук плохо работающего вентилятора, и в комнату ворвалось нечто несуразное.
Сванте подскочил и прижался спиной к стене. Посреди комнаты стоял толстый карлик, босой, в страшно изжеванной фланелевой синей робе. Лицом был пухл, веснушчат, голова обрита наголо. Он недобро оглядывался по сторонам, не узнавая помещение, затем взгляд карлика сфокусировался на профессоре.
— Только не говори, что у вас ничего нет в смысле набить брюхо, — угрюмо сказал пришелец.
С высоты своего роста Сванте обратил внимание, что за спиной странного карлика торчит небольшой пропеллер с широкими лопастями.
— Вы кто? — спросил Сванте.
— Ты не ответил! — карлик сделал два шага навстречу. Половицы под ним угрожающе скрипнули.
— Я могу вас накормить, но прежде ответьте, кто вы такой, — Сванте решил, что с этим парнем надо быть потверже.
Незнакомец еще раз огляделся.
— И давно ты тут обосновался? — спросил он. — Где хозяева?
— Я всегда здесь жил, но это к делу не относится, — первый шок у профессора прошел, и он подумал, что, пожалуй, сумеет и в одиночку справиться с незваным гостем. — Последний раз спрашиваю, кто вы такой, или я вызываю полицию.
— Черта с два, — усмехнулся гость. — Никакой полиции я больше не дамся.
— Вы — беглый преступник? — осенило Сванте.
— Если летать — это преступление, то пожалуй, — согласился толстяк. Он еще внимательнее взглянул на Сванте, и искорка узнавания мелькнула у него в глазах: — Малыш? Это ты, несносный мальчишка?!
— Кто вы? — Сванте немного испугался. Мало кто из близких помнил, что профессора Свантессона в детстве звали Малышом, а уж незнакомые люди об этом никак не могли знать.
— Я — красивый, умный, в меру упитанный мужчина в полном расцвете сил! — скромно, но с пафосом охарактеризовал себя гость. — Если ты меня не помнишь, то я так не играю.
— Кто вы?! — робко переспросил Сванте.
— Карлсон я, который живет на крыше, — рявкнул гость. — Тащи пожрать, не то…
— Какой Карлсон? — и профессор осел на пол.
Привел его в чувство холодный душ. Сванте открыл глаза и вновь закрыл — над ним стоял все тот же толстый карлик и поливал его из пластикового ковшика холодной водой.
— Типичный случай голодного обморока, — бубнил успокаивающе толстяк, — у вас так и не научились готовить по-человечески. Хотя компот твоей маме очень удался.
— Мама умерла два года назад, — простонал Сванте.
— Для покойницы она очень неплохо готовит, хотя теперь мне понятно, почему у вас всего так мало. Твоя мама и при жизни была довольно прижимистой особой, а уж теперь…
— Еще раз так скажешь о моей матери, и я тебя отделаю, как бог черепаху, — Сванте открыл глаза.
Губы толстяка дрогнули, лицо сморщилось от обиды как печеное яблоко.
— Всегда, всегда ты относился ко мне без должного пиетета! — плаксивым голосом произнес карлик. — Пожалуйста, я улечу.
В это время в дверь позвонили. Сванте вскочил на ноги и побежал открывать, совсем позабыл о том, что он мокрый.
За дверью стоял пожилой, если не сказать — старый — господин в элегантном, хотя и достаточно поношенном плаще и фетровой шляпе. Господи, как в такую погоду можно ходить в теплой одежде?
— Вы… хм… господин Свантессон? — спросил этот пожилой мужчина у Сванте.
— Совершенно верно, чем обязан?
— Я ваш лечащий врач, Альфред Петерс. Вы меня помните?
— Вообще я не помню, когда в последний раз болел, и к тому же наш семейный врач не Петерс, а Хакиннен.
Мужчина тихо добродушно рассмеялся.
— Нет, вы не поняли. Я тридцать лет назад лечил вас от аутизма, не помните?
— От аутизма? — брови Сванте стремительно взлетели вверх. — Я никогда…
— Ой, простите, — смутился гость. — Я, наверное, не туда попал, ошибся… Хотя и фамилия, и адрес совпадают. Вот история болезни, взгляните, — и он протянул Сванте больничную карту, старую, но удивительно хорошо сохранившуюся. — Что у вас с головой, вы мокрый!
— Да… за компьютером сижу с самого утра, внезапно стало дурно, сунул голову под кран, как в детстве, — соврал профессор Свантессон, сам не зная почему. Он раскрыл историю болезни… да, это был именно он, и в тот год, когда Малыша-Сванте отправили на стационар, ему было девять лет.
— Я ничего не помню про аутизм, — шепотом сказал Сванте. — И разве он лечится?
— Вы позволите войти? — спросил доктор.
— Извините, не могу. Пока вы не объясните, в чем дело. Я совершенно не помню, чтобы попадал в какой-то стационар, хотя память у меня прекрасная.
Доктор Петерс опешил от такого напора, но очень скоро пришел в себя.
— Простите, пожалуйста, — еще раз извинился он. — Я просто навещаю своих старых пациентов. Тридцать лет назад была опробована методика ранней диагностики аутизма, и вы чисто случайно оказались одним из наших потенциальных клиентов. И у вас аутизм не был развит, и пребывал в каком-то странном полуактивном состоянии. Это была реакция на отсутствие должного внимания со стороны родных, вы стали выдумывать себе мнимых друзей… словом, стали уходить в свой внутренний мир. Но двадцать четыре дня стационара не дали вам порвать контакт с окружающим миром. Вы не дадите мне стакан воды, а то душно?..
Сванте впустил Петерса в квартиру и проводил на кухню, где усадил за стол и дал попить. На кухне он обнаружил пустую кастрюлю из-под супа в мойке и значительно опустевший стеклянный кувшин с компотом, стоящий на холодильнике. На полу валялись хлебные крошки и кожура от колбасы.
— О, господи, простите, у нас беспорядок, — забегал профессор по кухне. — Сын, видимо, заскочил из школы… я, когда работаю, ничего вокруг не слышу.
— Не беспокойтесь, — махнул рукой Петерс. — Я уже ухожу. Спасибо.
Он действительно очень быстро ушел, прихватив с собой историю болезни Сванте.
Закрыв дверь за Петерсом, профессор долго тер подбородок, пытаясь понять, откуда вдруг вывалился этот странный доктор и… карлик!
Взволнованный, Сванте вбежал в свою комнату, но там никого уже не обнаружил. Лишь в компьютере бегущая строка говорила: «Привет, Малыш!»
Едва успев прибраться на кухне и в кабинете, Сванте вновь нырнул в свою работу, но углубиться ему так и не удалось: странные визиты весьма смутили профессора. В том, что они взаимосвязаны, господин Свантессон не сомневался, но вот какова их подоплека?
Оба визитера знали Сванте в детстве. Причем один из них, карлик, представившийся только фамилией… странный он все же, очень странный… Карлсон, кажется, знал Сванте достаточно близко. Но почему тогда ничего не вспоминается? Точно так же и с Петерсом этим. Ни болезни, ни больницы в памяти не отложилось, хотя помнил себя Сванте чуть ли не с трех лет.
Он нервно набрал телефон Хакиннена, и когда тот снял трубку, сказал:
— Добрый день, Густав, это Свантессон.
— Здравствуйте, Сванте, — пропел на том конце провода доктор. — У вас что-то случилось?
— Нет, я проконсультироваться. Вы мою историю болезни помните?
— Что за вопрос… — обиделся Густав.
— Нет, я имею в виду болезни детские. Они там упоминаются?
— Да. Но я не понимаю, в чем…
— Скажите, Густав, — перебил Сванте доктора, — там что-нибудь есть про аутизм?
На некоторое время Хакиннен замолчал, анализируя слова пациента. Потом сказал:
— Откровенно говоря, такая запись есть. Но, поверьте мне, это полная чушь, и от чего уж вас там, в этом стационаре, лечили — понятия не имею. Да и где этот стационар имел место быть — тоже не ясно. Поймите, аутизм либо есть, либо нет, нельзя быть немножко беременной или слегка умершим. А уж о лечении и речи быть не может. Больные аутизмом не психи, но и не от мира сего. С ними можно наладить какой-то контакт, но это будет односторонняя связь, точнее, сам аутик на контакт не идет никогда. Только какие-то реакции на уровне условного рефлекса. Так что люди, поставившие вам такой диагноз — полные профаны от медицины. Хотя, признаюсь, и я не светоч психиатрии, и всех особенностей не знаю. Скорей всего, с ваших родителей пытались выколотить какую-то сумму, или вами прикрывали какие-то махинации в медицинской сфере.
— Какие могут быть махинации?
— Наркотики, например.
— Спасибо, — поблагодарил Сванте и положил трубку, не прощаясь.
Все прояснялось. Точнее, все запутывалось.
Однако свести всю полученную информацию к общему знаменателю прямо сейчас не удалось — вернулись Ян и Урсула с Сусанной. Пришлось держать ответ за съеденный суп, выпитый почти полностью компот и варварски наломанный хлеб. Суп, по версии Сванте, съели брат и племянник, которые на некоторое время остались холостяками (жена Боссе отправилась на Готланд, в Висбю, к заболевшему отцу, и задержалась там на неделю), и сегодня утром завтрак у них сгорел, а обед не предвиделся, поскольку оба решили провести день в порту. Компот Сванте тоже спихнул на Боссе с Ульрихом. С хлебом вину признал за собой — крошил голубям прямо из окна.
Урсула покачала головой, Ян и Сусанна открыли рты — таких фокусов от папы они не ожидали. Впрочем, все быстро успокоилось, Урсула приготовила молочный суп и гренки, Сусанна в меру сил помогала маме, а Ян уселся у себя в комнате читать.
Под вечер, сидя у телевизора и попивая какао, Сванте удалось расслабиться. Урсула быстро забыла странный инцидент на кухне, сидела рядышком на диване и держала мужа за руку.
— Ты очень расстроился? — спросила она.
— Из-за чего?
— Из-за того, что я рассердилась.
— Нет, не очень. В конце концов, я сам виноват — аппетиты Боссе и его сына прекрасно мне известны, мог и подстраховаться. А с хлебом тоже как-то неловко получилось. Не помню, чтобы я когда-нибудь крошил птицам хлеб.
Они обнялись и просидели так часов до девяти. Потом Урсула уложила спать Сусанну, наказала Яну не читать лежа в постели, и отправилась спать. Она знала, что Сванте будет сидеть перед открытым окном до двух ночи, не меньше.
Профессор Свантессон сел перед монитором, просмотрел наброски монографии о кобольдах — и уставился в небо над Стокгольмом. В голову лезли совершенно посторонние мысли.
Петерс или не доктор, или не совсем доктор. Во всяком случае, самого пребывания в больнице, а оно наверняка было, Сванте не помнил, но оно документально зафиксировано. При этом совершенно ясно, что никакого аутизма у Малыша… у Сванте не было.
Но почему мама и папа так легко согласились с таким диагнозом? Спросить бы у Боссе, но на его барже нет телефона. Можно и прогуляться, погодка позволяет.
Черта с два! Так, кажется, сказал толстяк Карлсон. (Бегущая строка, как бы в ответ на рассуждения профессора, поприветствовала: «Привет, Малыш!») Почти весь июнь Малыш-Сванте провел с дядей Юлиусом и фрекен Бок, которая потом стала тетей Хильдой, а Боссе все лето провел в каком-то спортивном лагере. Бетан до июля жила у бабушки в деревне.
Значит, надо позвонить папе.
— Слушаю, — сильно простуженным голосом сказал папа, когда Сванте дозвонился.
— Здравствуй, папа. Прости, что поздно.
— Малыш! — папа явно обрадовался. — Сванте, мальчик, как живешь?
— Папа, ты не будешь против, если мы навестим тебя в июне?
— А почему не раньше? — папа закашлялся. — Я вас всегда жду.
— Ну, сначала приедет Боссе с семьей, а после него — мы.
— Тогда другое дело, — голос папы потеплел. — У тебя что-то случилось? Ты никогда так поздно не звонил.
— Нет, папа, все в порядке, просто тут возник один щекотливый вопрос.
— Ты тоже завел другую женщину? — посуровел папа. Он не одобрял современных скоростных браков, и считал, что жена дается на всю жизнь. Даже развод Боссе, случившийся, в общем, не по его вине, он встретил очень отрицательно.
— Нет, папа, я тоже старомоден. Меня интересует вот что… — Сванте помедлил. — Вы с мамой действительно думали, что у меня был аутизм?
Молчание с другой стороны было очень долгим.
— Почему ты спрашиваешь? — спросил папа наконец.
— Потому что сегодня узнал, что был болен неизлечимой болезнью и счастливым образом выкарабкался. Некто доктор Петерс навестил меня.
— Больше никто тебя не навещал? — после столь же долгого молчания спросил папа.
Точнее, даже не спросил, а заставил подтвердить свое предположение интонационно.
— Нет… — протянул Сванте.
— Малыш, ты вел себя странно, когда мы вернулись с мамой из путешествия. Тетя Хильда и дядя Юлиус замечали, что ты слишком часто проводишь время уединенно в своей комнате, у открытого окна, а по ночам разговариваешь сам с собой. Мы не могли рисковать, ты был всеобщим любимцем, — папа старался говорить мягко, но голос его звенел, как клинок. — Нам сказали, что у тебя аутизм, нам ничего не оставалось делать, как поверить, что это лечится. И это действительно прошло, разве что любовь к раскрытому окну так и не удалось изжить.
Сванте слушал папу, и его никак не оставляло ощущение, словно папа говорит все это не для Сванте, а для кого-то постороннего. Как будто их подслушивают.
— Да ладно, папа, я ведь только спросил, я просто не мог вспомнить, что было что-то подобное, — принял Сванте навязанную папой игру. — Извини, что поздно позвонил.
— Ничего, сынок, я все равно не спал. Приезжайте поскорее. И не спи с открытым окном, майские сквозняки очень опасны.
Отбой.
Чем дольше в лес — тем больше дров. Вся эта история начинала напоминать профессору плохие американские боевики, где главный герой теряет память, и должен вспомнить все, пока его не укокошили секретные спецслужбы.
Могли ли Малышу прочистить мозги?
Вполне. Если это были государственные спецслужбы, то надавить на родителей они могли легко и просто. Да на папу и давить не пришлось бы — он ведь военный, хотя и не секретный, а обычный клерк в министерстве. Интересы государства для него значили столько же, сколько и интересы семьи, если не больше. Другое дело, как Малыш, девятилетний мальчик Сванте Свантессон, мог угрожать этим интересам.
И почему окно? Что такого было в окне? И почему папа посоветовал его закрыть?
Сегодняшний, точнее, уже вчерашний карлик в синей арестантской робе. Он влетел через окно. Как?
Самым логичным объяснением был пропеллер на спине. Пропеллер с широкими лопастями.
Откуда-то сверху донеслись задушевные звуки губной гармошки. Точнее, не задушевные, а задушенные какие-то. Спустя минуту они смолкли, чтобы внезапно очень ясно зазвучать под раскрытым окном профессора.
— Кто здесь? — громким шепотом спросил Сванте.
— О, это дикое, ужасное, весьма моторизованное и при этом обаятельное и симпатичное привидение, — раздался глубокий таинственный голос. — Лучшее в мире, смею вас заверить!
В свете луны на фоне оконного проема показалась лысая голова.
— Привет, Малыш! — весело сказал беглый арестант, полностью влетая в комнату, на этот раз с еле слышным гулом двигателя. — Стоит мне отлучиться на несколько мгновений, как ты стремительно начинаешь прибавлять в росте и возрасте. Хорошо еще, что ты не упитанный, а то нам бы было весьма тесно в одной комнате, двум красивым, умным мужчинам в полном расцвете лет, если они оба окажутся еще и в меру упитанными.
— Это вы цитируете что-то? — спросил Сванте. Он слышал от своего коллеги из России выражение «толстый и красивый парниша», хотя совершенно не понимал, в чем юмор этой идиомы. Видимо, этот толстяк понимал русские шутки.
— Да, цитирую. Угадай с трех раз, кого именно? — и Карлсон хитро подмигнул Малышу.
— Мы знакомы?
В этот момент в дверь постучали. Невозможный летающий карлик мгновенно скрылся за окном. Дверь распахнулась.
— Па, ты с кем-то разговаривал? — спросил Ян. Он стоял, опершись на косяк.
— Да так, с кобольдами своими, — нашелся Сванте. — Спокойной ночи.
— Спокойной ночи, — ответил Ян и ушел к себе.
«А ведь ему сейчас столько же», — подумал Сванте.
— Гей-гоп! — снова, как чертик из табакерки, выскочил из окна Карлсон. — Неужели домомучительница вышла замуж не за противного дядьку Юлиуса, а за маленького худенького Малыша?
— С чего ты взял? — удивился Сванте. — Она уже давно…
— Что, и она умерла? — ужаснулся Карлсон. — Признайся, это ты угробил некрасивую старую жену, или все таки она однажды плеснула в свой соус слишком много лисьего яду? Вокруг тебя женщины мрут, как мухи!
«Откуда он знает фрекен Бок и дядюшку? Откуда я его знаю, причем знаю хорошо?» — Сванте нагревался от всех этих вопросов, а толстяк все летал по комнате и разглядывал дипломы профессора Свантессона.
— Так, — вдруг громко произнес Карлсон. — А сейчас начнется…
Жуткий рев и вспышки огласили полуночный Вазастан. Входные двери Свантессонов упали внутрь квартиры вместе с дверным блоком, черный ход на кухне тоже взорвался. Сквозь грохот ботинок Сванте, на мгновение ослепленный светом софитов, направленных прямо в окно кабинета, услышал испуганные крики Яна и Урсулы, а так же захлебывающийся рев Сусанны.
— Ни с места! — послышалась команда. — Операция внутренней разведки!
Голос Сванте узнал — он принадлежал доктору Петерсу.
Комната мгновенно наполнилась здоровыми парнями в военной форме, вооруженных короткоствольными автоматами. Все они были в масках. Один маску снял, и теперь Сванте окончательно убедился, что командует парадом Петерс.
— Доброй ночи, профессор, — поздоровался он. — Извините, но провести операцию по захвату опасного преступника можно было только у вас.
— Почему? — спросил Карлсон. — Малыш, ты помнишь Филле и Рулле?
— Помню, — почему-то соврал профессор. На самом деле эти имена что-то ему говорили, но что?..
— Увести его, — распорядился Петерс. Лицо его после слов Сванте почему-то удивленно вытянулось.
Однако выполнить приказ крепкие парни не смогли. Откуда-то сверху донесся стрекот легких вертолетов, в дверях возникла жуткая давка и шум, на улице загудели пожарные сирены, и через минуту в комнате народу сделалось в три раза больше. Откуда-то появились телекамеры, диктофоны, фотоаппараты и прочая журналистская дребедень.
— Кто допустил?! — заорал в бешенстве Петерс, но его парней продолжали теснить ряды журналистов. Кое-кто проникал в окно по пожарной лестнице.
— Это я называю укрощением при помощи демократической прессы и телевидения, — скромно потупившись сообщил Карлсон. Он летал под потолком, горделиво выставляя пропеллер за спиной, что неслышно жужжал и неведомым образом держал толстяка в воздухе. Каким образом он выделывал всяческие кренделя и бочки — вообще было непонятно.
На полковника Петерса посыпались вопросы о цели ночной операции в Вазастане, согласовано ли все с мэром, с правительством, известно ли королю об этой силовой акции. У Карлсона спрашивали, как его содержали в секретных лабораториях. Не пытали ли его. Выводили ли на прогулку, и в каких условиях эти прогулки проходили.
— Что происходит? — попытался перекричать всю эту стихийную пресс-конференцию Сванте.
— Читай, — Карлсон вынул из-за пазухи старую газету и швырнул профессору.
«Тайна раскрыта! Это не спутник-шпион…»
Малыш не вспомнил, что с ним случилось тридцать лет назад в больнице, и была ли больница вообще. Он не вспомнил ничего, кроме Карлсона.
— Карлсон! — завопил он так громко, что все замолчали.
— Привет, Малыш!
— Привет, Карлсон!
Их снимок был помещен на обложках всех журналов, на первых полосах всех газет мира. Их встреча была лучшей сказкой со времен графа Монте-Кристо. На снимке плачущий и совершенно счастливый Сванте обнимает лысого самодовольного человечка, лицо которого не украшает ни одна морщина, и хитрый прищур глаз не скрывает искры озорства в глазах.
Владимир Данихнов Милосердие
Рассказ

1
Жарко, очень жарко, а еще — душно, как в парилке! Именно поэтому высовываюсь из окна и любуюсь на проходящих девушек. Смотрю, как цокают по асфальту каблучками, как вытирают нежными ладошками пот со своих лобиков. Девушки — они разные. Вон неформалка потопала, в кроссовках дырявых и бандане черной, плотной, — у нее мозги не кипят, интересно? А вон модница в изящном брючном костюмчике, в руках сотовый суперсовременный, во взгляде решимость — сегодня по списку именно Федя на мерсе, а не Вася со своим бумером черным, глянцевым. — Эй, милая, жарко-то как! — кричу радостно со своей колокольни, машу моднице рукой, посылаю поцелуи воздушные. Не обращает внимания, идет себе дальше, только в трубку что-то щебечет. Нет, со своей колокольни, с девятиэтажки глупой, серой, выцветшей — до мадонны с сотовым не достучаться, не докричаться, не допрыгнуть. Хотя допрыгнуть можно, можно допрыгнуть, только вряд ли она это оценит, ну разве что «скорую» вызовет, хотя на фиг «скорая» в такой ситуации? Седьмой этаж, внизу асфальт да плитка твердая, для прыжков с высоты не предназначенная. Тут надо сразу автобус с черной полоской на боку заказывать, и — поехали-поехали, для вас, мил человек, уже местечко зарезервировано на кладбище, уютное такое, три метра в глубину, темно и абсолютно не страшно. Потому не страшно, что вам уже, любезный, по барабану всё — умерли вы, умерли по глупости, поддавшись сиюминутной слабости, ощутив так некстати одиночество своё беспросветное. Следующая жертва шьет по тротуару, студенточка молодая, худенькая, симпотная. В руках тубус, в глазах — жажда знаний. В общагу спешит? Неплохие у них там, в общаге, развлечения — водочка паленая, дешевая, травка зеленая, полезная, матерью-природой студентам даренная. — Девушка! — зову, еще больше высовываясь наружу, спасаясь, выбираясь из духовки, печки микроволновой, в которую превратилась квартирка однокомнатная холостяцкая. О, квартирка моя — это рай, мечта мужчины любого. Все, что надо: холодильник старенький, телевизор широкоформатный да компьютер мощный, это чтоб порнушку смотреть можно было, в игрушки новейшие играться и по сети глобальной без смысла особого лазить. Обои? Ну, еще от прежних хозяев остались, нелепые такие обои в крапинку разноцветную, глупые, в общем, обои. Не обращает внимания на меня студенточка, мимо шпилит, целеустремленно, не задумываясь, не оборачиваясь. Ору во всю глотку, распугивая птиц, голубей в основном, по-полуденному ленивых и вялых: — Девуу-ушка! От меня жена ушла-а! Помогите, чем можете! Хотя б чуточкой внимания! И опять мимо. То ли не расслышала, то ли фальшь в голосе почувствовала — вру, вру я! Не ушла от меня жена, сам от нее убежал, скрылся, схоронился в квартирке этой дурацкой. Уходит девушка, в общем, а на меня ехидно так с крыши соседней хрущевки котяра смотрит. Моргает, усами шевелит. Хвостом машет ненапряжно, вызывающе, зараза. А под котярой — плакат, большой такой плакат на стене, рекламный: «Человечество милосердно». И рисунок: младенец розовощекий с цветочком, ромашечку протягивает кому-то невидимому. Да ни фига оно не милосердно, человечество это, злобное оно, сволочное. Пусть спрячет свое милосердие куда подальше, подавится им, как костью рыбной! Хреново мне что-то, не только снаружи, но и внутри душно, противно, мерзко. Душу рвет не по-детски, а забавы эти с девчонками проходящими — так это и есть забавы, не более. Кто на меня, такого хорошего, поведется? Полдень только, а уже не слабо нагрузился: водкой «Столичной» (6 утра — 150 грамм, 7:40 — стопарик) да пивом «Жигулевским» (6:20 — поллитра, 7:10 — еще литруху проглотил) — какой из меня принц на белом коне? Майка и та уже дня три, как не белая, постирать надо, да руки не доходят, а может, не из того места они растут, руки мои, не знаю. Отхожу от окна, неохотно, но отхожу. Надо, надо, а то ведь переклинит-таки, возьму и бултыхнусь вниз головой, а взлететь, нет, взлететь не смогу, я вам не хренова Мэри Поппинс, летать не научен, плавать даже не умею, если уж на то пошло. Руки-крюки не для того приспособлены. Поднимаю со стола кружку с отвратительно-теплыми остатками «Жигулевского», залпом глотаю, словно микстуру, кривлюсь — что же это со мной происходит? Опустился, мать твою, ниже некуда… Топаю к трельяжу, смотрю в зеркало, хмурюсь и говорю отражению: — Ну и урод же ты, приятель! Телефон звонит, нагло так, настойчиво, в мозг буравчиком, кислотой едкой впивается, скотина. Поднимаю трубку: — Алло! Тишина, а потом голос, тихий, слабенький, картавый голосок — Наташка, кто же еще: — Ты как? — Вот, нормально, — говорю. Беру со стола кружку — пустая! Только пена пивная на дне колышется, тает, медленно, но верно. А, была не была! Пузырек с метиловым спиртом — туда! Говорю, проглатывая смесь жгучую: — Вот, пью, жизни радуюсь. Наташа шепчет: — Глупый, ну когда же ты успокоишься? Возвращайся домой, Костя… — Хм, — отвечаю. Как же ты не поймешь, милая, что тянет меня куда-то, не знаю куда, но подальше, прочь, к чертовой бабушке, лишь бы жизни этой не видеть, лишь бы забыть о плакатах повсеместных: «Человечество милосердно»… Говорю: — Я с девушкой познакомился. Сегодня у нас свидание, гулять будем. — Люблю я тебя, глупого, — грустно повторяет Наташка. А я трубку вешаю. Зубы чищу, одеваюсь. Пиджачок выглаженный, аккуратный, брюки новые, сотик-видеофон — за пазуху, очки стильные, огромные, на манер «Терминатора». Чем черт не шутит? Может, и правда с девчонкой познакомлюсь сегодня, позажигаю на дискотеке молодежной, развеселой, не старик же еще, слава Богу, далеко еще до возраста почтенного, ой, как далеко! По-хорошему, ведь и не знаю, когда возраст этот для меня настанет.2
На площадке, окурками да граффити разукрашенной, с замком вожусь, долго, упорно вожусь, но ключ проворачиваться не хочет. Давно надо замок этот заменить, но все времени не хватает, руки не доходят. Пока ковыряюсь перед дверью, выходит из соседней квартиры бабушка Карина, подслеповатая такая тетка, добрая, приятная во всех отношениях… Бабуська поправляет очки и говорит: — Костенька, уже уходишь? — Ага, — отвечаю, — ухожу. Бабушка Карина — она добрая-то, добрая, но подозрительная. Говорят, работала в органах в свое время, причем не в последнем чине, не машинисткой какой, а действительно власть имела. Вот и сейчас, подрезает меня взглядом пытливым, сарафан свой, мукой испачканный, оправляет и спрашивает: — А куда? Слава Иисусу, Кришне и другим богам! Замок поддается, я прячу ключ в карман и отвечаю, спокойно так отвечаю, чтоб бабуська, не дай Бог, не навыдумывала невесть чего, чтоб дружкам своим бывшим из органов звонить не побежала: — Развеюсь, Карина Игнатьевна, погуляю, пива попью. Улыбаюсь, но бабушка в ответ только хмурится, размышляет о чем-то своем, дурное задумала, клюшка старая. Подгоняемый взглядом, пячусь к лифту. Кнопку, жвачкой каменной залепленную, нажимаю. Слышу, как старуха шепчет вслед, бормочет задумчиво, без злобы, но на полном серьёзе: — Истреблять вас, нехристей, надо… «Человечество — милосердно» — надпись на двери лифта, а ниже чуть — розовым и белым мелками выведено: «Лешка — падла». Эх, дети, детишки малые, цветы жизни нашей, мелом надо на асфальте малевать, картинки яркие рисовать: солнышко, домики да травку зеленую.3
Разглядываю через окно улицы, мимо пролетающие, домики частные да пятиэтажки-хрущевки грустные. Таксист, дородный мужичина, в майке оранжевой и шортах того же цвета, спрашивает: — Как жизнь? И что их всех интересует, как у меня жизнь? Нормальная у меня жизнь, приятная в чем-то даже! Приключений полно: то формальдегидом баки залью, то из окна выпрыгнуть захочу. Меня, может, летать тянет, крылья желаю, чтоб были за спиной, два крыла, наподобие тех, что к ангелам небесным художники прималевывают. И пускай летать не смогу, пускай волочиться за мной крылья эти будут, как хвост бесполезный! Пускай! Зато люди увидят, посмотрят на крылья и скажут: «Ангел — вот он какой, оказывается». А детишки бежать сзади будут, радоваться, просить, чтоб на плечах покатал. И в голову никому не придет писать всякие пакости на дверях лифта… Отвечаю: — Спасибо, все в порядке. Но водила не верит, недоверчивый водила попался. Спрашивает: — Нет, ну на самом деле. Как живется-то? Мимо уже не частные домики мелькают, в центр города въезжаем — вокруг респектабельные магазины, супермаркеты, салоны красоты, кафе, ресторанчики. И плакаты через дом с младенцем добрым, не по годам мудрым, который цветок, ромашку полевую кому-то протягивает. Отвечаю: — Все, в порядке, честное пионерское. Водила качает головой, не верит, что я пионером был. Правильно делает, кстати. — Вот здесь остановите, — прошу. — Возле бара «Ферзь».4
Всё тут в черно-белую клетку: пол, стены, потолок, даже картины на стенах — белый квадрат в рамке, черный квадрат в рамке. Рай для Малевича и прочих любителей геометрических фигур. Однако ферзей шахматных что-то не видно, и народу не так много, бармен только да парочка влюбленная за треугольным столиком. Парочка от занятий своих немедленно отрывается, забывает о напитках алкогольных, зыркает на меня с любопытством, а может, даже с милосердием тем проклятым, что плакаты рекламируют. Топаю к бармену, элегантному парню. На нем костюм, наподобие тех, что игроки в гольф носят, только клетчатый весь, черно-белый, и кепарик на голове в тон. Взгляд у бармена ленивый, оценивающий, но в то же время доброжелательный, располагающий к разговору душевному, алкогольному. — Чего выпить есть? — угрюмо спрашиваю. Как-то не верится, что девчонку снять удастся в этом месте шахматном. — Покрепче? — уточняет, а скорее утвердительно говорит бармен. Видок у меня, наверное, такой, в смысле, видно сразу — налейте этому парню покрепче! Смешайте одеколон тройной с виски, сверху водочкой закрепите, а еще лучше — спиртом медицинским — и подавайте. Закусывать? Нет, что вы, мы же милосердные люди, добрые, понимающие, поступившие в своё время так замечательно, что нам теперь все грехи простятся — и на том свете, и на этом! Так что закуси никакой, вместо закуси налейте этому пижону бледнокожему формальдегида, самогончика добавьте, и чтоб сивушных масел побольше было, побольше! Скотина! Как хорошо, что в глазах моих мысли не отражаются, ну то есть — совсем не отражаются, я с таким же успехом могу думать: надо убить бармена и растерзать посетителей бара. А еще лучше изнасиловать всех, а потом уж и разорвать на кусочки. Ну чтоб кровь там, кишки на стенах, мозги в одну кучку собрать и потоптаться хорошенько. Прямо как в фильмах голливудских! Отвечаю: — Покрепче.5
— …Короче, футболиста из меня не вышло, да. Не получилось, после перелома не поиграешь. Вот и увлекся шахматами, ага. Сюда, в бар хожу, с братанами болтаем, иногда партейку сыграем, точно, да. — Точно-точно! — отвечаю. Вечер черной пантерой, тенями длинными, причудливо-кривыми, проникает в бар через стекло панорамное. Падает вечер звездный на столик, на крайний. О, а там за столиком — мечта любого мужчины! Девушка-красавица, вся такая из себя блондинистая, глаза голубые, огромные и светятся, вот те крест, светятся! Мой приставучий и изрядно нагрузившийся собеседник говорит: — Мля, давай еще по пивку, дружище. Чё то чувствую, если сегодня не напьюсь, плохо мне завтра будет, ой, как плохо… Интересная логика, в чем-то даже забавная. У меня тренькает сотовый, но я его игнорирую. А зачем отвечать, если и так известно: Наташка звонит. Беспокоится, найти хочет, от одиночества спасти мечтает. Смотрю на блондинку, на веселую ясноглазую девушку. Какая, черт возьми, жалость, что рядом с ней парень сидит, высокий, красивый, спортивный парнишка! Просто так и не подкатишь — надо еще выпить для смелости, а потом еще и еще: до тех пор, пока храбрым не стану. Кричу: — Бармен, нам бы формальдегида! Две кружки! Он отвечает: — Извини, приятель, такой гадости не держим. Но завтра ради тебя завезем, если желаешь. Добрые, милосердные, мать их… — Виски тогда налей, — говорю. — Чурбан…6
— …А он мне и говорит, шахматист этот, недоучка, ага… — …Ага… говорит он мне, да… — Слушай, Колян, давай к телке той подкатим? — Э? — Вон, к блондинке, большеглазой! — Э? — Ее приятель что-то имеет против шахмат, точно. Да эта скотина — шашист матёрый, точно тебе говорю! — С-сука… Перед глазами плывут симпатичные оранжевые и розовые круги, а лицо «спортсмена» выражает некоторое беспокойство, когда мы подваливаем к нему, усаживаемся рядом. — Де-е… у-ушка, а давайте завяжем быстрое, но с продолжением знакомство? — Ты, подонок, шашист, да? Мы тебя узнали, точно! Спортсмен моргает раз, другой, третий. Блондинка ручку свою изящную, перстнями унизанную, на его лапу кладет, шепчет-просит: — Ваня, пойдем отсюда… Я хлопаю рукой по ладошке красавицы — блондинка визжит тихонько, бледнеет миленько, к окну отворачивается. Ее приятель встает, растерянно глядит сначала на меня, потом на дружбана моего случайного. Колян тем временем тычет толстым пальцем в грудь спортсмену и говорит, язык свой, водкой на узел морской завязанный, расплести пытается: — Ты, ага… подонок, сволочуга, хмырь позорный, ага… да, ша… шаш… — Гюльчатай, покажи личико, ну чего отвернулась-то, милашка? — Это я. Знакомиться продолжаю. Не выдерживает спортсмен, коротким апперкотом отправляет шахматиста заядлого в страну невечных снов, потерянно глядит на меня — что дальше делать? — Ты, сволочь, — говорю и на качка надвигаюсь. — Зачем друга обидел, падла беспринципная? Молчит спортсмен, с места не сдвинется, то на подружку свою зыркнет, то на меня. Что я, задохлик, могу сделать с таким богатырем? Все, что угодно! Бью с размаху в рожу растерянную, в нос этот идеальный, порчу профиль греческий лапами своими грязными. Из носа у качка кровь хлыщет, блондиночка рыдает, а я стою и жду. Хоть чего-нибудь. Спортсмен стоит и шмыгает носом обиженно, кровь рукавом стирает, чуть ли не плачет от обиды. — Ну? — говорю. — Сделай что-нибудь! Молчит качок, бочком вокруг стола своего двигается, к милой поближе, а я на него напираю, злюсь, распаляюсь. — А если я твою телку прямо здесь на столе изнасилую? — кричу. — Что, тоже ничего не сделаешь, рохля? Молчит спортсмен, только сопли, с кровью перемешанные, утирает. Кидаюсь на него с кулаками, но в этот момент сзади подхватывают крепкие руки, тащат куда-то, тянут упирающегося меня, уговаривают: — Успокойся, дружище, перепил ты маленько, дозу не рассчитал… Милосердные, мать твою… Бармен ведет вяло передвигающего ногами меня в туалет, хлопает ободряюще по плечу и говорит: — Извини, брат, не уследил, не остановил вовремя, налил больше, чем надо… — Угу… — стыдливо бормочу.7
В туалете меня выворачивает наизнанку, раковина быстро наполняется зеленой, с белыми густыми прожилками, вязкой жидкостью. Даже поблевать по-человечески не могу. Замечаю старую, очень-очень старую, затоптанную сотней ног газету под раковиной. Фотография на газете напоминает что-то, заголовок тоже кажется смутно знакомым. Поднимаю её. 5 июля 2005 года. Надо же, тринадцать лет назад… В неопознанном летающем объекте, что потерпел крушение в парке Горького, обнаружены выжившие инопланетяне… Да-да, так всё и было, наверняка, хотя этого я не помню… Смотрю на отражение: ублюдочные огромные черные глаза, пол-лица занимают, не меньше; кожа серая, сухая, словно пергамент, — кажется, ткни пальцем, она с мяса и слезет, словно одежда ненужная; рот, маленький, так, щелка какая-то, а не рот. Как целоваться таким, можете себе представить? Человечество поступило милосердно. На совете ООН было решено наделить чужих всеми правами… Наделили нас правами, Наташку и меня, ублюдков малолетних, четырехпалых, квартиры в количестве две штуки дали, в школу приняли — которую мы, к слову, за три года закончили, по предметам пробежались, знания проглотили, как волки голодные… Председатель ООН заявил: «Мы не отдадим несчастных детей ученым!..» Над зеркалом, раковиной, плакат висит: человечек маленький, пухлощекий ромашку протягивает уродливому серокожему мне. Или Наташке? Человечество милосердно… Вытаскиваю сотовый, умудряюсь заляпать костюм зеленой жижей, но плевать-плевать-плевать… — Да? — Наташ, я в баре на Садовой, в «Ферзе». Забери меня, пожалуйста…8
Наташа, она уродливая, серокожая, маленькая и тощая — колени при ходьбе сгибаются назад, словно у страуса. Опираюсь на её плечо, дерганно шагаю, подпрыгиваю почти, волочусь за женой, женился на которой, потому как выбора у меня не было по-любому. Перешагиваю дружка незадачливого: никто не удосужился его поднять, к стенке оттащить хотя бы. Наташа шепчет успокаивающе, ласково, глаза-фары нежно всеми цветами радуги переливаются, утешают, заботятся обо мне, пьянице и разгильдяе: — Все будет хорошо, Костик. Не волнуйся, солнышко моё, все прекрасно… Я люблю тебя, маленький… Перед глазами плакат проклятый. Останавливаюсь, поворачиваюсь к публике шахматной, растерянной, притворяющейся, что занята поеданием пищи. Кричу: — Не надо быть милосердными! Любите меня! Ненавидьте! Только вот милосердие свое выкиньте на помойку, заройте в самую глубокую яму, скиньте с самолета в Гималаи! Жалость, она унижает, жалость — это как безразличие, хуже даже! Не будьте ко мне милыми — будьте ко мне людьми! Молчат, жуют, пивко попивают, только бармен пристально так на меня смотрит, притворяется, наверное, что понимает… Шепчу: — Пожалуйста… Самое хреновое, что и заплакать не могу, глаза для этого не предназначены — мои чертовы огромные глазища, как у насекомого поганого! — Пойдем, Костенька… — Не много ведь прошу… — бормочу. — Не хочу, чтоб меня жалели, хочу, чтоб любили… за заслуги любили, в смысле… — Я люблю тебя, маленький… Наташа упрямо тащит за собой, и мы растворяемся в ночи, пропадаем в ней, исчезаем, сливаемся с чернильно-синей тьмой, как два чертовых насекомых, как два уродливых черноглазых хамелеона. Мы — это две проклятые твари, приговоренные жить в чужом мире.Николай Горнов «Мастер по ремонту крокодилов…»
Повесть
 Вчера опять поругался с женой. Я попросил у нее сто рублей на сигареты. Сказал, что отдам с зарплаты. Она молча достала сотку из бумажника, но при этом посмотрела на меня издевательски. Я обиделся и ушел спать в комнату дочери. С утра она делает вид, что меня не замечает. Но я-то замечаю. Ее просто невозможно не заметить. В свои тридцать три года Алиса даст фору большинству молоденьких девочек. А если еще учесть наличие номерного счета в Bank of Malta, то могу представить количество желающих занять мое место. Интересно, она меня не бросает из жалости или просто не хочет делить «совместно нажитое имущество»?
— Алиса Витальевна, я глубоко раскаиваюсь и прошу вашего снисхождения. Хочешь, стукни меня, и забудем, — сказал я, когда мы чуть не столкнулись лбами на пороге кухни.
— Нам давно нужно поговорить, — ответила она, вздохнув при этом. — Ты —! натура цельная, но я тоже натура цельная. Прошло уже четыре года. Даже если ты абсолютно уверен в том, что я тебе тогда изменила — пора забыть… Я тебя люблю. Я тебя ценю. Мне больно смотреть, как ты себя разрушаешь.
— Хорошо, — в свою очередь вздохнул я. — Соглашаюсь поговорить, сходить к психоаналитику, невропатологу, педиатру, венерологу. Я пойду даже к гинекологу, если ты сочтешь это необходимым, но давай не будем это делать сегодня.
— Сегодня мне тоже некогда. Я уезжаю. Когда вернусь, мы решим все вопросы. Договорились?
— Непременно. Если на секрет, куда отбываем?
— На Мальту. Тебе что-нибудь привезти?
— Бутылку виски и мальтийский жезл.
— Жезл не обещаю, но приложу все усилия.
— Только не покупай его в duty free аэровокзала…
День начинается с сигареты, которую я выкуриваю натощак. Визитная карточка курильщика с большим стажем. Второй этап — крепкий кофе. Потом вторая сигарета, а после нее вторая чашка кофе. Пока не видит жена. Любимая супруга считает, что кофе в больших количествах вреден. В этот же продуктовый ряд попадают: сахар, соль, перец, сливочное масло и множество других продуктов. А те, которые все же можно употреблять в пищу, должны подвергаться щадящей обработке. И упаси боже, ничего жареного! Так сказал Заратустра…
Жена у меня большая умница. Бывший учитель географии, а ныне директор и совладелец крупнейшего в нашем городе туристического агентства «Бон Вояж». Говорят, очень уважаемый человек. А я — иждивенец. Инженер. Типичный представитель «совка». Я все еще хожу на службу с «девяти до шести», наблюдаю проносящуюся мимо жизнь и испытываю легкую неприязнь к мелкобуржуазной идеологии. Еще у нас в семье есть общая дочь двенадцати лет, которая периодически отсылается на длительные сроки к бабушке в Феодосию, где она кушает фрукты, укрепляет здоровье и не особо тяготится разлукой с родителями.
В поисках тюбика помады на кухню зашла жена.
— Кстати, президент подписал новый указ. С сегодняшнего дня отменяется закон всемирного тяготения. На территории России, разумеется.
— Шутишь?
— Включи телевизор, там по всем каналам обсуждают.
На экране телевизора какие-то личности открывали рты. Произносили слова. Но общего смысла я не улавливал.
— Юра, кажется, это тебе…
Жена протянула мне бланк, похожий на телеграмму, и у меня сразу похолодело под ложечкой от предчувствий. Я быстро пробежал глазами текст. «Орбита-3. Юпитер-Главный. Пилот-исследователь Шкловский самовольно покинул территорию Базы на тяжелом модуле системы „Штурм“. Датчики зафиксировали погружение в экзосферу Объекта в районе Южного течения. Связь не поддерживает. Жду указаний. Командор Котов».
Я аккуратно свернул телеграмму и сунул ее в задний карман. Жена молча следила за моими манипуляциями.
— А кто принес? — спросил я после некоторого раздумья.
— Почтальон, по-моему…
— Ясно, не сантехник. Как он выглядел?
— А что случилось?
— Я бы и сам хотел знать…
— Не подумай, что вмешиваюсь, но текст мне показался странным.
— Это шутка, Аля. — Я улыбнулся. — Кому-то не хватает в жизни острых ощущений. Может, Мишке. Или Марату, например. В общем, извини, но мне на работу пора.
— Не торопись, я тебя подвезу.
— Ну что вы, мы уж как-нибудь так…
Вчера опять поругался с женой. Я попросил у нее сто рублей на сигареты. Сказал, что отдам с зарплаты. Она молча достала сотку из бумажника, но при этом посмотрела на меня издевательски. Я обиделся и ушел спать в комнату дочери. С утра она делает вид, что меня не замечает. Но я-то замечаю. Ее просто невозможно не заметить. В свои тридцать три года Алиса даст фору большинству молоденьких девочек. А если еще учесть наличие номерного счета в Bank of Malta, то могу представить количество желающих занять мое место. Интересно, она меня не бросает из жалости или просто не хочет делить «совместно нажитое имущество»?
— Алиса Витальевна, я глубоко раскаиваюсь и прошу вашего снисхождения. Хочешь, стукни меня, и забудем, — сказал я, когда мы чуть не столкнулись лбами на пороге кухни.
— Нам давно нужно поговорить, — ответила она, вздохнув при этом. — Ты —! натура цельная, но я тоже натура цельная. Прошло уже четыре года. Даже если ты абсолютно уверен в том, что я тебе тогда изменила — пора забыть… Я тебя люблю. Я тебя ценю. Мне больно смотреть, как ты себя разрушаешь.
— Хорошо, — в свою очередь вздохнул я. — Соглашаюсь поговорить, сходить к психоаналитику, невропатологу, педиатру, венерологу. Я пойду даже к гинекологу, если ты сочтешь это необходимым, но давай не будем это делать сегодня.
— Сегодня мне тоже некогда. Я уезжаю. Когда вернусь, мы решим все вопросы. Договорились?
— Непременно. Если на секрет, куда отбываем?
— На Мальту. Тебе что-нибудь привезти?
— Бутылку виски и мальтийский жезл.
— Жезл не обещаю, но приложу все усилия.
— Только не покупай его в duty free аэровокзала…
День начинается с сигареты, которую я выкуриваю натощак. Визитная карточка курильщика с большим стажем. Второй этап — крепкий кофе. Потом вторая сигарета, а после нее вторая чашка кофе. Пока не видит жена. Любимая супруга считает, что кофе в больших количествах вреден. В этот же продуктовый ряд попадают: сахар, соль, перец, сливочное масло и множество других продуктов. А те, которые все же можно употреблять в пищу, должны подвергаться щадящей обработке. И упаси боже, ничего жареного! Так сказал Заратустра…
Жена у меня большая умница. Бывший учитель географии, а ныне директор и совладелец крупнейшего в нашем городе туристического агентства «Бон Вояж». Говорят, очень уважаемый человек. А я — иждивенец. Инженер. Типичный представитель «совка». Я все еще хожу на службу с «девяти до шести», наблюдаю проносящуюся мимо жизнь и испытываю легкую неприязнь к мелкобуржуазной идеологии. Еще у нас в семье есть общая дочь двенадцати лет, которая периодически отсылается на длительные сроки к бабушке в Феодосию, где она кушает фрукты, укрепляет здоровье и не особо тяготится разлукой с родителями.
В поисках тюбика помады на кухню зашла жена.
— Кстати, президент подписал новый указ. С сегодняшнего дня отменяется закон всемирного тяготения. На территории России, разумеется.
— Шутишь?
— Включи телевизор, там по всем каналам обсуждают.
На экране телевизора какие-то личности открывали рты. Произносили слова. Но общего смысла я не улавливал.
— Юра, кажется, это тебе…
Жена протянула мне бланк, похожий на телеграмму, и у меня сразу похолодело под ложечкой от предчувствий. Я быстро пробежал глазами текст. «Орбита-3. Юпитер-Главный. Пилот-исследователь Шкловский самовольно покинул территорию Базы на тяжелом модуле системы „Штурм“. Датчики зафиксировали погружение в экзосферу Объекта в районе Южного течения. Связь не поддерживает. Жду указаний. Командор Котов».
Я аккуратно свернул телеграмму и сунул ее в задний карман. Жена молча следила за моими манипуляциями.
— А кто принес? — спросил я после некоторого раздумья.
— Почтальон, по-моему…
— Ясно, не сантехник. Как он выглядел?
— А что случилось?
— Я бы и сам хотел знать…
— Не подумай, что вмешиваюсь, но текст мне показался странным.
— Это шутка, Аля. — Я улыбнулся. — Кому-то не хватает в жизни острых ощущений. Может, Мишке. Или Марату, например. В общем, извини, но мне на работу пора.
— Не торопись, я тебя подвезу.
— Ну что вы, мы уж как-нибудь так…
* * *
У лифта топтались соседи. Маша Золотых — бывшая стенографистка, а ныне пенсионер — и второй муж ее сестры Валера. Лицо Маши, похожее на печеную картофелину, украшали солнцезащитные очки, модные еще во времена сражения под Аустерлицем. Видимо, после вчерашнего торжества прибавился еще один синяк, и Валера принимал в этом самое активное участие. Маша что-то истерично ему выговаривала и пыталась толкать его кулачком в грудь, но из-за резкой разницы в росте кулачок доставал только до живота и не мог нанести ощутимого урона Валере. Увидев меня, Валера мгновенно расцвел. — Доброе утро, Юрий Иваныч. Мы тут с Марь Михалной поспорили немного… Я промолчал, пожав плечами. Мол, ничего, всё в жизни бывает. — Наши пацаны вчера челябинский «Ротор» сделали. Два — ноль. Как бывший футболист Валера до сих пор считал себя близким к спорту человеком. Работал он дворником на стадионе «Динамо», и, несмотря на активное употребление спиртных напитков, каждое утро делал во дворе физзарядку. Даже если утро начиналось для него в два часа дня. Ну а футбол он мог обсуждать часами, поэтому я постарался быстрее сменить тему. — Вы лифт вызвали? — Непременно, — с готовностью откликнулся Валера и повернулся к Маше. — Да заткнись ты, хомячиха! Видишь, с человеком разговариваю. Единственные люди во всем доме — Юрий Иваныч и Алиса Витальна. А ты, курица, опять меня перед ними позоришь! — Сам заткнись, боров! — взвизгнула Маша и в припадке ярости сделала попытку укусить его за ухо. — Как насчет лифта? — я потерял уже две минуты и не хотел застрять навсегда. — Да не работает он, — махнул рукой Валера. — Видать, электричество экономят. — Понятно, — улыбнулся я. — Действительно, теперь лифты без надобности. С утра в России невесомость… Валера заинтересовался. — Слышь, Марья, что умный человек говорит? Не кусайся, больно ведь. Невесомость… это, как у космонавтов, да? Потрясенный неожиданной новостью, он рывком раздвинул двери лифта, несколько секунд задумчиво смотрел в темную глубину шахты и — со словами: «Я сейчас вернусь» — шагнул вниз. На работу я, конечно, опоздал. Пришлось долго искать лифтеров. Дожидаться, пока извлекут оравшего благим матом Валеру, я не стал. «Космонавт» всего лишь сломал ногу, поэтому лифтеры-спасатели отделались лёгким испугом. Свободный полет Валеры вошел в историю нашего дома и имел определенные последствия. Но эти подробности я узнал позже, а тогда, в довершение всех неприятностей, порвал карман на брюках, когда запрыгивал на подножку уходящего троллейбуса…* * *
Начальник, естественно, оказался на месте и демонстративно посмотрел на старенькие часы «Полет». — Не сомневаюсь, что уважительная причина имеет место быть. — Не поверите, — начал я. — Ну почему же? Надо думать, вы сегодня спасли жизнь человека. Не дождавшись лифта, он прыгнул с шестого этажа. — С седьмого, — поправил я. — И это правда. — Правда, молодой человек, в том, что вы проспали. А ночью смотрели полуфинал. Тем не менее, извольте сочинить правдоподобную объяснительную. Она станет достойным пополнением моей коллекции. — Вообще-то я ненавижу футбол… Но шеф уже не слушал. Отмахнувшись, он потрусил в сторону директорского кабинета. Время пошло. До конца рабочего дня осталось семь часов сорок пять минут. Не так уж и много… Коллеги занимались своими делами. Когда-то НИИ приборостроения был важной государственной шестеренкой. Имел штат около тысячи сотрудников и занимал серое пятиэтажное здание. Пытался разрабатывать нечто для нужд обороны. Наиболее жизнеспособные экземпляры производили тут же, по соседству, на заводе «Промавтоматика». Одни утверждали, что благодаря этому наше рабоче-крестьянское государство запускало свои ракеты дальше и точнее классовых врагов. Другие в этом сильно сомневались. Мол, копия зарубежного прибора никогда не станет лучше оригинала. В те времена у нас было тесновато. Двадцать человек толкались задницами только в этом отделе. Все получали зарплату, аванс, премии, прогрессивки, материальное поощрение и бесплатные путевки в профилакторий. Даже у меня на круг выходило неплохо. Последний прорыв был лет десять назад, когда в отделе появились новенькие персоналки на 386-х процессорах. Их по бартеру поставила какая-то корейская фирма. Теперь в отделе осталось всего пять столов и на каждом стоит персональный инвалид. А институт развалился до фундамента. Зато много места… — Кстати, Юра, тебе звонили. Ольга Семеновна — одинокая женщина на пороге менопаузы — поправляла макияж и кокетливо посматривала в мою сторону. — Я там записала. Из фирмы «Юпитер». Кажется, его фамилия Котов. Очень огорчился, что не застал…Что вы сказали? — Я сказал: спасибо, Ольга Семеновна. — А вы, оказывается, коммерсант. На слово «коммерсант» тут же сделали стойку наши «пикейные жилеты». — Да, молодежь пошла шустрая, — глубокомысленно заметил Яков Борисович, оторвавшись от шахматной доски. — Посмотрим на них, когда в стране воровать станет нечего, — поддержал его Петрович. Эту тему они могли развивать бесконечно. И соло, и дуэтом. Я вышел на лестницу и распечатал пачку сигарет. Достал бланк телеграммы. Снова перечитал текст. Кто-то конкретно хочет меня достать. Марат? Бывают у него приступы остроумия, но зачем на работу звонить? В общем, надо действовать. Может, для начала сходить на почту и выяснить — откуда пришла телеграмма? Теоретически это возможно. А если они скажут: с Юпитера? Тогда я пойду в кассу и возьму туда билет. Когда у вас ближайший рейс? Через неделю? А нельзя ли на завтра? Из соседнего отдела вышли двое курильщиков, и мне пришлось потесниться. — Проблемы макроэкономики на микроуровне не решить, — размахивал рукой один. — Мировой системный кризис. Понимаешь? — Разруха в мозгах, — не соглашался второй. — Скорректировать психологию социума от потребительства к созиданию — задача микроуровня. Должен сформироваться класс малых собственников. Но для этого, ты прав, нужна соответствующая налоговая база. Причем в эволюционной форме. Нужно не отнимать заработанное, а поощрять к развитию. — Это при нашей криминальной экономике? Слушая их спор, я вдруг подумал: а почему бы не сходить в гости к Ольге Семеновне? Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Однако, представив эти последствия, непроизвольно расхохотался. Курильщики замолчали и обернулись. — Простите, — от смущения я закашлялся. — Это к вам не относится…* * *
Едва сдерживая смех и стараясь не смотреть в сторону Ольги Семеновны, я вернулся на рабочее место. Вытащил наугад несколько папок и набросал сверху спецификаций. Надо занять себя чем-то нудным. Проверенный вариант. Очень отвлекает. К тому же, если зайдет шеф, врасплох он меня не застанет. Подумав, я положил сверху чистый лист бумаги. Типа пишу объяснительную записку. Уже опять хотелось курить. С тех пор как объявил войну курению, ни о чем кроме сигарет думать не могу. Я даже принес песочные часы, которые возненавидел буквально за неделю. На самом деле проблема в избытке свободного времени. Одна радость — волевым решением я подвинул свой стол к окну. За окном — жизнь. Здание нашего института очень удачно расположено. Новый русский бизнес облюбовал этот район под свои новые русские лежбища. Уже не осталось ни одного подвала, обойденного евроремонтом, а что уж говорить о нашей обители. Освоение новых территорий идет непрерывно — вот уже десять лет — под визг электродрелей и ритуальный стук молотков. Что характерно, как только очередная фирма N заканчивает установку стеновых панелей, у нее тут же заканчиваются деньги. На ее место приходит новая группа шаманов, у которой свои представления о ритуалах. Второй закон термодинамики в действии. Еще у них появилась мода открывать на соседней улице персональный магазин. С магазинами происходят те же преобразования, но в межремонтном периоде они успевают отработать пару-тройку месяцев. Перед закрытием — это традиция — устраиваются большие распродажи. Видимо, чтобы хоть как-то рассчитаться с банковским кредитом. Поэтому опытное местное население не торопится совершать покупки, предпочитая выждать некоторое время. В прошлом году я купил отличные ботинки. Вчера в этом магазине Яков Борисович присмотрел для сына холодильник. Всего за полцены. Собранных коммерсантами денег никогда не хватало. Вот тут-то, как правило, и начинался основной рок-н-ролл. Прихватив остатки кассы, они пускались в бега. В особо урожайные годы мы даже делали ставки на того или иного кандидата. Внесли свою лепту и строители финансовых пирамид. Селенги, хопры, чудаки на букву «М» по очереди арендовали в институте целые этажи. А когда в одночасье приказывали долго жить, я наблюдал в свое окно разгневанные толпы юрких старушек. Не обходилось и без казусов, когда вместо сбежавших финансистов под раздачу попадали наши сотрудники и подвергались жесткой обструкции вплоть до рукоприкладства. — Спутник Юпитера. Шесть букв, последняя «а». От неожиданности я обернулся. Ольга Семеновна разгадывала кроссворд. — Европа. — Подходит… О чем задумался, Юрий Иванович? — Так, о пустяках. Денег платят мало. Вчера отменили закон всемирного тяготения. А завтра наука докажет, что человек может обходиться без пищи, аккумулируя солнечный свет. Тут же в разговор вклинился Яков Борисович. — Да, молодежь пошла шустрая, — сказал он, переставляя на доске фигуру. — Вам шах, уважаемый! — Кого вы имеете в виду, Яков Борисович? — Я изобразил на лице крайнюю степень удивления. — Уж не нашего ли президента?! Дискуссия не успела набрать обороты. В дверях появился всклокоченный шеф. — Неужели деньги дадут? — пискнула Ольга Семеновна. — Прошу заметить, каких трудов мне стоило выбить аванс. — Он вытер платком потное лицо и с трудом втиснулся за рабочий стол. — Нельзя ли огласить сумму? — осторожно поинтересовался Петрович. — Думаю, рублей по триста получим. Яков Борисович прокашлялся. Ольга Семеновна вздохнула. — Маловато, — подвел итог Петрович. — Прокурор добавит, — не удержался я и отвернулся к окну. Шикарные иномарки мокли под дождем. От крыльца к автостоянке бодро двигались братья Гусейновы. Рафаэль и Салман. Очень авторитетные личности в узких кругах. Оба в светлых длиннополых пальто нараспашку…* * *
До утреннего чая оставалось полчаса. Красиво написав слово «объяснительная», я несколько раз старательно обвел каждую букву. — Юра, тебя к телефону. Запнувшись, едва успел подхватить аппарат. Короткие гудки. Черт! Если это опять с Юпитера, найду шутника и засуну ему трубку в неподходящее для этого дела отверстие. Шеф многозначительно смотрит в мою сторону. Намекает. Я пожимаю плечами. Солдат спит — служба идет. За десять минут переношу на бумагу историю про Валеру и лифт. Получается вполне художественно и озорно. Рисую красивый вензель и подписываюсь: «Ваш навеки Юрий Стрелков». Шеф, не глядя, кладет лист в папку. Ему некогда. Он поглощен своей работой. Раскрашивает цветными карандашами график сдачи «процентовок». Чистый Малевич, в рот компот! Ольга Семеновна все еще мучает кроссворд. — Символ плодородия у наших предков. Шесть букв, первая «ф», — шепчет она. — Фаллос, — отзываюсь я, не раздумывая. — Подходит! — Она краснеет и недоверчиво смотрит на Якова Борисовича. — Но этого не может быть! Завязывается дискуссия о нормах приличия для кроссвордов. Я беру сигарету и выхожу в коридор. Мавр сделал свое дело… В туалете Горшков тщательно моет чашку. Я выключаю свет и благоразумно отхожу в сторону. — Привет, Горшков! — Главное, не дать ему опомниться. — Займи стольник до получки. Он молча выворачивает карманы. — Жмот! Из-за угла показался Кулибаба, дымя неизменной «беломориной», и тут же пристроился мне в хвост. — Говорят, Жириновского застрелили, — начал он с самой важной новости. — Давно пора, — отвечаю как можно равнодушнее. — И Совет Европы снова выступает за прекращение боевых действий на Кавказе. Вчера по телевизору показывали. Я резко остановился. — Сергеич, я тебе завтра пачку папирос подарю, только отстань! На его лице отражается вся гамма чувств. — Не обижайся. Просто сегодня с утра невесомость объявили, а у меня от нее морская болезнь. Душа в пятки уходит и тошнит. Вон Горшков пошел с газетой, иди с ним пообщайся. И умоляю: не делай резких движений!* * *
Самое тяжелое время — послеобеденное. Стоит сесть за стол, тут же закрываются глаза. От нечего делать взялся третий раз проверять расчет на прочность периферийных узлов изделия «КС-12». — Юра, тебя к телефону. — Петрович с недовольной гримасой передает трубку. Его оторвали от важных дел. — Отгадай, чем я в данный момент занят? — загадочно спросила трубка. — Сейчас попробую… — Облегченно вздыхаю, узнав голос Марата. — Разговариваешь со мной. — Даю еще одну попытку. — Читаешь беседы с Чогьямом Трунгпой, четырнадцатым воплощением ламы Трунгпа-тулку. — Почти угадал, — огорчился Марат. — Я левитирую. В данный момент вишу под потолком. Или висю? Массаракш… — Что случилось? — Упал. Правым коленом зацепился об угол дивана. Очень больно. Ничего, левитация — дело тонкое. В следующий раз дольше продержусь в воздухе. — Марат, я на работе. — Про указ слышал, надеюсь? Президент — наш человек. Махатма. Мы тут с ним недавно в астрале повстречались. Обменялись, так сказать, мнениями. Гениальным мужиком оказался! Представляешь, 150 миллионов россиян уже на пороге Просветления. Ты меня слушаешь? — Самым внимательным образом. — А чего голос такой кислый? Подожди, я на тебя сейчас в тонком плане посмотрю… Ну вот. Так и думал. Сахрасрара в порядке, а нижние чакры совсем не работают. Надо бы тебе срочно энергию подкачать. — Прямо сейчас? — Я скосил глаз на коллег. К нашему разговору они проявляли живой интерес, хотя и тщательно его маскировали. — Может, лучше вечером покачаем? — А чего тянуть? — Марат всегда был неумолим. — Закрой глаза. Представь, что ты дерево. — Представил. Я дуб. — Лучше слива. — Он не понял иронии. — Ты дерево, твои ветви тянутся к солнцу, а корни уходят глубоко в землю… Я медленно положил на стол трубку, продолжавшую бубнить голосом Марата, и задумался: а может, я и в самом деле дерево? Было бы хорошо… — Ольга Семеновна, скажите нашему начальнику, что мне вдруг стало плохо с животом и я пошел домой с целью отлежаться до завтра. — А другим что говорить? — Она ехидно улыбнулась и поправила очки. — Для других меня просто нет. Я ушел в астрал. Причем навсегда…
* * *
Троллейбус энергично подбрасывало на ухабах. Редкие капли дождя оставляли на стеклах грязные разводы. Уцепившись за поручень, пытаюсь читать по лицам сидящих. Меня интересует, кто из них первым освободит место. Главное, оказаться в этот момент неподалеку. Ну вот, опять не повезло. Только сдвинулся к середине, где зашевелилась девушка, как сзади появилось свободное пространство. Уже поздно. Его занял шустрый школьник. Действительно, откуда берется такая наглая молодежь? На следующей остановке меня поджидал сюрприз. Расталкивая всех костылями, в салон ворвался Валера. Кого-то согнал с места и, далеко отставив загипсованную ногу, победно огляделся. Воин-галл после взятия Рима. Я рефлекторно прикрылся газетой. Увидит — не отвяжется. Вот уж кого не чаял встретить. Трудно найти маршрут, более удаленный от нашего дома, чем этот. Когда вышел на улице Лизы Чайкиной, лишь тогда понял, куда меня понесло. На Космический проспект. К Тимуру. Звонить ему бесполезно. Либо спит, либо бдит. В Сети, естественно. Зато всегда можно дома застать. Правда, я с трудом вспоминаю, когда был у него последний раз. Тимур настоящий друг. Мы с ним вместе в Политехе учились. Он не обижается. Он просто не замечает. И через год обрадуется, будто позавчера расстались. Есть такие люди, у которых время движется с другой скоростью. Подозреваю, на них и прочие законы физические не распространяются. Вот и третий этаж. Давлю на кнопку и машу рукой в глазок. С негромким жужжанием срабатывает запорный механизм. Толкаю дверь. Она поддается. Уже что-то новенькое. Теперь он и встречать не выходит. Всё дистанционно. Без отрыва от монитора. — Привет, старичок! — голос раздается из глубины квартиры. — Надеюсь, вешалку найдешь? — Как-нибудь, — ворчу я, цепляя куртку на крючок. Двумя пальцами брезгливо стягиваю грязные ботинки. Гадкое время года. Лучше бы сразу мороз. — Ты не представляешь, как я тебе рад. — Почему же, представляю… даже очень неплохо. Просто в силу природной скромности ты тщательно скрываешь собственные чувства. Не надо этого эмоционального минимализма. Будь проще. И люди к тебе потянутся. — И не зарастет народная тропа? — Тимур одним глазом продолжал косить в монитор. — Чего-нибудь хочешь? В смысле выпить. В смысле кофе или чай? — В смысле — пойди и поищи на кухне самостоятельно? — Старичок, ты гений. Мысли читаешь или просто умный? Если Тимура резко оторвать от Сети, могут быть самые непредсказуемые последствия, поэтому послушно бреду на кухню. По памяти нахожу чайник, чашку, сахарницу и подозрительный порошок бурого цвета. Тут ничего не меняется второй десяток лет. Всё на своих местах. Жены у него нет и никогда не было. Детей, соответственно, тоже. Во всяком случае, мне о таких фактах ничего не известно. Хозяйство держит в своих крепких руках матушка — человек крайне консервативный и крайне педантичный. Она работает, хотя давно пенсионер. Думаю, материальные соображения играют в этом не последнюю роль. Заработок Тимура — величина переменная и зависит от пугающего количества факторов. На мой субъективный взгляд, невероятная удача, что он хоть иногда деньги домой приносит. Правда, они сразу же уходят на оплату трафика и бесконечную модернизацию «тачки», но это к вопросу не относится. В быту Тимур неприхотлив. Его потребности в одежде могут, к примеру, удовлетворить две застиранные китайские майки «Найк», рваные во всех местах джинсы и свитер крупной вязки на случай неожиданных холодов в квартире. Красный японский чайник с кнопкой тихо засвистел. У японцев даже чайники вежливые, как гейши… Тимур сосредоточенно стучал по клавишам. Я размешал ложечкой сахар и заглянул через плечо, сделав большой глоток кофе. Всё ясно. У них это называется «чат». Обсуждать там могут всё, что в голову взбредет — от способов безопасного секса до второго пришествия Христа. Тема не имеет никакого значения. Главное — свобода самовыражения. — Ты чего молчишь? — очнулся Тимур. — Сядь, не маячь за спиной. Я отставил пустую чашку и упал в кресло. — Странный ты сегодня. У тебя ничего не случилось? Пришел и молчишь… Ты не обиделся? — На что? — усмехнулся я. — Ну, не знаю. Может на то, что я тебе кофе не налил. А может, ты вчера с женой поругался. Или с дочерью возникли проблемы… — С дочерью нет проблем точно. С женой действительно ругался, но уже раскаялся. Я понял, что этот бессмысленный акт приводит лишь к возрастанию энтропии. — Глубокая мысль, надо записать, — сказал Тимур, не отрываясь от экрана. — Редко видимся, старичок, вот где корень алгоритма. Сколько раз тебе говорил: выходи в Интернет. Могли бы чаще общаться. — С таким же успехом можно в мегафон перекрикиваться. Ты из своей квартиры, а я из своей. А под балконом соберется толпа болельщиков и будет за нас переживать. Тимур широко развел руками. — Не спорю, частично ты прав, старичок. У любого полезного изобретения есть обратная сторона. Всё же надо хоть раз попробовать. Вдруг тебе понравится. Я отрицательно покачал головой. — Есть опыт с компьютерными играми. Так до сих пор и не понимаю, как могут люди сутками зависать на этом суррогате. — Всё-всё, расслабься! — сдался Тимур. — Что, и спросить нельзя? — Тогда и я спрошу. Вот, к примеру, ты в детстве кем хотел стать? — Нетривиальный вопрос, старичок. — Он задумался. — Милиционером, кажется. — А почему не космонавтом? Он нахмурил лоб и почесал в затылке. — Видимо, милиционеры чаще на глаза попадались. Форма у них красивая, и вообще… космосом я гораздо позже стал интересоваться. Фантастику читал запоем. Ты же знаешь… Кстати, набрел я недавно на один сайт по вопросам пилотируемой космонавтики. Полный абзац, я тебе скажу. Если эти академики правду пишут, мы сейчас вполне могли бы осваивать Солнечную систему и уже до Юпитера добраться. — Стоп. Можно про Юпитер чуть подробнее? Очень интересует. В отличие от тебя, с детства хотел стать космонавтом. Я посмотрел на него пристально. Вопрос был с намеком. Но Тимур либо решил играть свою роль до конца и продемонстрировать стальные нервы, либо действительно не имел отношения к розыгрышу. — Да что говорить, расстройство одно. Я такого начитался, что волосы на голове дыбом стоят. — Он пригладил густую шевелюру. — Оказывается, все инженерные расчеты для фотонных двигателей сделали лет пятьдесят назад. Начали собирать опытный образец в Арзамасе, а тут им заморозили финансирование. Еще при Хрущеве. Видимо, решили, что это не способствует укреплению обороноспособности страны. Холодная война, сам понимаешь. Вот и продолжали модернизировать жидкостные двигатели для стратегических ракет. А расчеты хранятся под грифом «секретно»… Обидно. — Обидно, — сразу согласился я. — Может, покурим? Мы вышли на кухню, и некоторое время молча пускали дым в потолок. — Ты по делу или просто заглянул? — Тимур кашлянул и резко вдавил сигарету в пепельницу. Курил он редко. Больше для антуража. — Без дела. Для души. Пора, как говорится, и о ней подумать. С работы убежал под благовидным предлогом, вот и решил заглянуть на огонек. «А поезд идет, бутыль опустела, и тянет поговорить…» Ты извини, если отвлекаю. Просто настроение нулевое. И не знаю почему… Пробило меня недавно на думку: и позади пустота, и перспектива в тумане. Может, я действительно живу неправильно. И спросить ведь не у кого… — А ты меньше об этом думай. Не бери в голову, бери в плечи — шире будут. Я тоже свою жизнь несколько иначе представлял. Теперь-то свыкся с мыслью, что могу коррелировать лишь в пределах допустимых отклонений от единицы, а раньше тоже колбасило будь здоров. — Вот и ладушки, — сказал я, задумчиво глядя на длинный столбик пепла. — Пора мне, пожалуй… — Ты не спеши, старичок, — засуетился Тимур. — Я, правда, рад тебя видеть. И сегодня, и завтра, и всегда буду рад… — Ой, сейчас заплачу! Ты настоящий друг… кстати, про невесомость слышал? Наш президент ночами не спит — все о народе думает. С утра легкость во всем теле ощущаю необыкновенную…* * *
От Тимура я вышел уже в сумерках. Осенью темнеет незаметно. На лавочке сидел толстый рыжий кот и нагло ухмылялся в усы. Я подмигнул ему по-свойски и пошел к остановке, представляя, как буду прыгать в темноте через лужи. В этот момент раздался телефонный звонок. Я резко дернул молнию и выудил коробочку в кожаном чехле. Она тут же замолчала, словно издеваясь. Под ближайшим фонарем я внимательно рассмотрел чужой мобильник. Версия, что жена по ошибке сунула в мою сумку свой телефон, отпала сразу. У нее Motorola, а этот предмет произведен фирмой Nokia. Впрочем, кто-то знал номер и даже пытался дозвониться по нему. В следующий раз я отвечу на вызов. Мне скажут: «Петя, это ты?» Я скажу: «А какой Петя вам нужен?» Они скажут, например, Иванов. Вот тут-то я узнаю владельца. Остается только вежливо поинтересоваться: «А по какому, собственно, номеру вы звоните?» Абонент растерян и деморализован. Естественно, он скажет: по такому-то. Это мне и нужно. Еще немного вежливости. Вы, мол, ошиблись в наборе. До свидания, мадам. Будьте впредь внимательнее. Опираясь на шершавый тополиный ствол, я просто раздувался от гордости за свои аналитические способности. Телефон вновь ожил. — Да, — сказал я отрепетированным баритоном. — Юра, это ты? — спросил приятный женский голос. — А какой Юра вам нужен? — Стрелков, брось придуриваться! Тщательно продуманный план треснул по швам. От неожиданности я чуть не выронил трубку и лихорадочно нажал отбой. Сердце в грудной клетке колотилось, как испуганный заяц. Первый раз украл и тут же попался. — Нарушаем? Это уже не телефон. От волнения я не заметил, как подошли два широкомордых парня в коротких черных пуховиках и взяли под руки. Один небрежным жестом ощупал мои бока, второй осмотрел поясной ремень и приподнял брюки. Держали крепко. Впрочем, сопротивляться я бы и так не стал. Улики налицо. Не стоит отягощать свое и без того неприятное положение. Они быстро огляделись и подвели меня к обочине, где дожидался большой внедорожник. Я почти автоматически отметил марку — «Toyota Land Cruiser» — и безропотно нырнул на заднее сиденье. С двух сторон подперли грузные тела, и машина мягко тронулась с места. — Здорово, мусульманин! — С переднего сиденья обернулся еще один обладатель широкой репы и лошадиной улыбки. В свете приборной панели мелькнул короткий пучок волос, стянутый черной резинкой. — Чё, уже старым друзьям не рад? — Это вы мне? — искренне удивился я. — А то кому же! — развеселился он. Похоже, на счет правоохранительных органов я поторопился… — Вот и встретились, Пакистанец. А я ведь предупреждал: шутить не надо! Шарик — он тесный. Везде достану. — Да я, собственно, случайно. Ей-богу, не представляю, как ваш телефон у меня оказался! Даже лоб вспотел от абсурдности ситуации. Вот попал, так попал! — В несознанку уходит, — хохотнул сосед слева. — Зуб, давай я ему мозги прочищу. Сразу всё вспомнит, ага! — Гоча, сделай паузу! Ты «пику» у него забрал? — Нету «пики», бляха жизнь… — Не тренди, размудон! Он всегда при себе «пику» держит. — Без базара, Зуб, клянусь… — Дура, о тебе ведь забочусь, он «пикой» работает быстрее, чем ты языком… Ну, мусульманин, расскажи нам что-нибудь. Например, как ты не хотел меня кидать. Что все получилось чисто случайно. Что обстоятельства подлые так сложились. Ты ведь мастер байки травить. Говорят, в терпилы подался, даже книжки пишешь. Про Афган там разный и вообще… Чё припух-то? Сдали тебя твои пацаны. Как стеклотару сдали… Мысли тянулись клейстером. За тонированными стеклами мелькали знакомые улицы, освещенные яркими витринами. Неторопливо шли люди. Мне остро хотелось оказаться среди них. Беззаботно шагать по мостовой и навсегда выбросить из памяти события последних двадцати минут. — Это какое-то недоразумение… — Я старался не волноваться, но голос предательски дрожал. — Видимо, вы меня с кем-то путаете… я вас не знаю… Зуб искренне расхохотался. — Во, комики и гомики! Джим Керри отдыхает… Но я не гордый. Давай опять знакомиться. Это Гоча. Это Хвича. За рулем — Панасоник. А я Зубов Валерий. Для своих друзей — Зуб. Я рефлекторно пожал протянутую руку и смущенно пробормотал: — Стрелков Юрий… — Бывает же так! Перепутали! — Зуб фыркнул. — И фамилии одинаковые, и похожи, как братья… вот и приехали, кстати. — Куда приехали? — Ты чё, пижон, в натуре, дом свой не узнал? Машина свернула с проспекта в арку и с визгом тормознула у подъезда. В свете фар мелькнули стены с облезлой штукатуркой и остатками желтого колера. Я послушно вылез из машины. В любом случае, место людное. Лучше, чем в лесу… Зуб уверенно шагал впереди. Сзади, отрезая все пути к отступлению, пыхтели Гоча и Хвича. Замыкал конвой квадратный Панасоник, постоянно оглядываясь по сторонам. Как в кино… — Вечер добрый, Юрий Иваныч! Я вздрогнул и поднял взгляд от пола. В рот компот! Валера. Собственной персоной. Стоит на лестничной клетке третьего этажа и вальяжно курит сигарету, опираясь на костыль. Наверное, меня бы меньше удивила встреча с Генеральным секретарем ООН. Челюсть непроизвольно отвисла, а подходящая фраза булькнула в горле и там же скончалась. — Курнуть вышел; Зойка не любит, когда дымом пахнет, — радостно сообщил он. — А друзья у вас, смотрю, серьезные. Вчера вот тоже… Валера не успел договорить. Зуб небрежно подтянул его за шиворот и прошипел: — Ты, падла, быстро домой, пока я тебе вторую ногу не сломал! Повторять не пришлось. Валера мгновенно юркнул в узкую щель. Раньше с ним такого не случалось. — Открывай, — Зуб двинул массивным подбородком в сторону внушительной сейфовой двери. — Чем? — растерялся я. — Да хоть чем. Хоть ключами, хоть пальцем. Лично мне — по барабану. — У меня нет ключей. Это не моя квартира. — Уже слышал, — потерял терпение Зуб. Он залез ко мне в карман, вытащил тяжелую связку и кинул Хвиче. — Дом не твой, квартира не твоя, сосед не твой. Мне лично плевать. Я хочу получить свои бабки, и я их получу! Дверь не сопротивлялась. Лязгнув ригельным замком, она плавно отъехала в сторону… Вид квартиры больше всего напоминал развалины города Херсонеса. Здесь тоже когда-то жили люди, и не очень давно — культурный слой кое-где проглядывал. Видимо, у хозяина случился острый приступ ремонтного зуда. Он тщательно подготовился, вывез вещи, до основания сокрушил все внутренние перегородки и окончательно надорвался. Судя по всему, много месяцев этот лунный пейзаж, присыпанный известковой пылью, оставался неоскверненным человеческой деятельностью. А как завершающий штрих — ржавый нотный пюпитр и сиротский табурет прямо посреди комнаты. В общем, картина маслом… — Приглашай гостей, хозяин! Зуб легким тычком придал мне ускорение и вошел следом. Панасоник подпер дверь, лениво перекатывая во рту жвачку. Гоча и Хвича зашуршали по углам, разбрасывая ногами кучки строительного мусора, пожелтевшие газеты и пыльные тряпки. Зуб терпеливо ждал, глядя в мою сторону. Я присел на краешек табурета и с тоской смотрел на лоскуты обоев, печально свисающие со стен. Я уже исчерпал свой резерв недоумения на месяц вперед. Наконец, Гоча удовлетворенно хрюкнул: — Зуб! Кажись, есть! Из газовой плиты он торжественно достал кейс, тускло блеснувший металлом. Громко щелкнули замки. Я не оглянулся. Пусть делают, что хотят… — Аллах акбар, — удовлетворенно сказал Зуб. — Все грины на месте. Тебе повезло, мусульманин. Двести тонн здесь мои. Еще двести я беру за беспокойство. Ехали далеко. Поиздержались. Жадный у вас народ. Пока тебя нашли, пришлось козлам капусты накрошить… — Зуб, кончать его надо, — процедил Панасоник, сплюнув на пол. Гоча и Хвича переглянулись. — Не люблю я это дело, — прищурился Зуб, задумчиво разглядывая потолок. — Оставим грязную работу Китайцу. Он поймет, что мусульманин его развести решил. Слушать не станет — сразу распустит на лапшу. Видишь, как притих. Он Китайца боится. А если кончим, тогда Китаец нам на хвост сядет. Верно, братан? — Не знаю… — Я равнодушно пожал плечами. Среди моих знакомых действительно был один паренек по кличке Китаец, но напугать он мог только бродячего кота. — Может, тебе гринов жалко стало, так ты возмутись. Оставим немного на развод и похороны. — Спасибо, обойдусь! Они заржали, пихая друг друга локтями. — Правильно, с бабками нужно легко расставаться, — ерничал Зуб. — Гоча, уходим. Можешь поцеловать кореша на прощанье. Только аккуратно, не перестарайся. — Я ласково, — хищно улыбнулся Гоча, поглаживая кулак. Перед глазами мелькнула тень. Ярко вспыхнула электрическая дуга, и я почувствовал, как лечу куда-то вместе с табуретом… Очнулся, когда стукнула дверь. С кряхтением поднялся. Потрогал разбитые губы… Терпимо. Можно сказать, легко отделался…* * *
Взрыв прогремел так сильно, что я инстинктивно опять упал на пол и закрыл голову руками. Стекла зазвенели, но выдержали. Темноту двора озарило пламя пожара. Пронзительно заверещала женщина… Я осторожно выглянул. Бушующий факел пожирал развороченный «Land Cruiser». Языки пламени кружились в ритуальном танце и отражались в темных окнах дома напротив. Зловонное дыхание смерти доносилось даже сюда. Она собрала обильный урожай. Что за черт!? Я почувствовал одновременно и облегчение, и жалость. Всё же люди, хоть и сволочи редкостные. Кстати, с большой долей вероятности я тоже мог сейчас обугливаться в братской могиле. От запоздалого испуга бросило в жар. В горле запершило. Когда волнуюсь, почему-то всегда не хватает воздуха… Нужно торопиться. Валера видел их со мной. Значит, придется иметь долгий, неприятный разговор с милицией. Лучше бы не сейчас… Я зачем-то спустился во двор. «Land Cruiser» догорал. Зеваки сбились в плотную кучку на почтительном расстоянии от огня. Два мужика суетились с ведрами. Кто-то с первого этажа бросил шланг через выбитое окно и помогал им набирать воду. Остро пахло жженой резиной. Видимо, машина взорвалась в тот момент, когда они садились. Панасоник едва вставил ключ в замок зажигания и… хлоп! Зуб шел последним. Он успел только открыть дверь. Взрывной волной его отбросило в сторону детской площадки и ударило затылком о бордюрный камень. Там он и лежал. Головой в липкой темной луже. Кейс тоже отбросило. Я заметил в кустах блики на его рифлёном металлическом боку. В худшем случае, он немного помялся. До приезда милиции еще оставалось немного времени, и в голову ударила дикая мысль. Я украдкой посмотрел по сторонам. В суете никому до меня нет дела. Осталось сместиться в сторону кустов. Спокойствие. Полное спокойствие… Еще один маленький шажок. Наклоняюсь. Делаю легкое движение рукой. Всё. Кейс у меня. Теперь, так же не торопясь, возвращаюсь назад. Никто не обернулся. Все в ступоре. Женщины рыдают и жмутся к мужским плечам. Уже слышится рев сирен. Звук нарастает… Ныряю в спасительный подъезд. По лестницам бегают чьи-то дети. Их радует суматоха. В таком возрасте смерть вызывает лишь любопытство. Они привыкли. По телевизору каждый день взрывы, пожары, аварии и криминальные разборки. Ручка кейса липкая от крови. Волнами подступает тошнота. Выбора нет. Я покрепче сжимаю кейс в руке и поднимаюсь на третий этаж. Вот и квартира. Едва успеваю добежать до унитаза. Желудок выворачивается наизнанку и закручивается жгутом. Короткая пауза. Потом еще раз, уже желчью… Ноги дрожат. Руки трясутся. Кран кухонного смесителя гудит и плюётся. Сначала умываю лицо, потом подставляю ладонь и жадно пью. Много событий. Чересчур много… Усилием воли вытаскиваю лицо из прохладной струи. Недолго думая, вытираюсь рубашкой. Кейс лучше оставить здесь. Деньги хороши в разумных количествах. Зуб доказал это достаточно наглядно. И вообщепора уходить. Такие суммы не бросают надолго без присмотра. Значит, скоро может появиться хозяин. Лучше, если мы не встретимся. На сегодня вполне достаточно впечатлений. Какой-то писк… Совсем забыл о телефоне! Равнодушно подношу трубку к уху. — Юрик, это ты? — Да, я… Женский голос. На этот раз очень знакомый. — У тебя всё в порядке? — У меня? Да… у меня полный порядок. — Жену не узнал. С трудом давлю нервный смех и стараюсь дышать ровно. — Тут телеграмму принесли срочную. Ты скоро придешь? — Да, скоро… теперь уже скоро. — Может, ее прочитать? — Прочитай, — соглашаюсь я. Мне уже всё равно. Хуже не будет. — «Орбита-3. Юпитер-Главный. По собственной инициативе начали поиски. Задействовал четыре тяжелых модуля класса „Штурм“. Связь с пилотом Шкловским установить не удается. Сильные электромагнитные возмущения в экзосфере. Жду указаний. Командор Котов». Это всё… ты меня слышишь? — Слышу. Нажимаю отбой и с наслаждением бросаю трубку в стену. Она с хрустом рассыпается на две половинки. Откуда-то сверху доносится музыка и приглушенное мяуканье вокалистки: «Ну, где же ручки, где же ваши ручки? Давай поднимем ручки, и будем танцевать…» Разбудил меня шум. Верхние соседи уронили на пол громоздкий предмет. Предположительно дедушку — ветерана Куликовской битвы. Я приоткрыл глаза и снова зажмурился. В окно бьет яркий солнечный свет. Первая мысль: проспал на работу! Два опоздания подряд. Слабое сердце шефа не выдержит такого удара. На часах одиннадцать. Торопиться уже нет смысла. Откинул одеяло и только тут обратил внимание на незнакомую обстановку. В комнате хорошая светлая мебель, большое окно из модного пластика, фикус в углу. Интересно, подумал я, чья нога давит мне на живот? Жена не имеет такой привычки. Я скосил глаз, но увидел только розовое ухо и спутанные волосы. Дыхание ровное и спокойное. Спит. Соблюдая все меры предосторожности, не торопясь, освобождаюсь из плена. За пятнадцать лет совместной жизни ни разу не изменил жене. Что бы ни говорили, не так это просто. Пугает сам механизм измены. Вот спит рядом женщина, а я не могу вспомнить, кто она. Мы вчера где-то встретились, куда-то сходили, о чем-то говорили. Я гладил ее бедро и нервно сжимал круглое колено. Потом мы пришли к ней домой и поспешно сорвали друг с друга одежду. Я суетливо надевал презерватив, страшно стесняясь, не мог найти удобной позы, а затем финишировал со скоростью ракеты. Ничего этого я, естественно, не помню. Может, и к лучшему. Такие воспоминания плохо влияют на эрекцию. Особенно при моей мнительности. Она зашевелилась. Что-то пробормотала. Я поспешно встал и оглядел комнату на предмет одежды. Ни штанов, ни трусов в пределах видимости не наблюдалось. Неплохо бы хоть имя этой девушки вспомнить. Сейчас она проснется, и может случиться конфуз. Самый подходящий вариант — слинять. Только в моем случае это не поможет. Слишком поздно. Она уже открыла глаза… На вид не старше двадцати. Лицо слегка помято. Заметны потеки от плохо смытой косметики. Молодая самочка вида homo sapiens. Она трет глаза и приподнимается, опираясь на подушки. — Руки вверх! Я растягиваю губы в приветливой улыбке, игриво подчиняясь команде. — Не Давид, конечно, но тоже ничего… — Ее критический взгляд пробегает сверху вниз. Я вспоминаю, что так и не нашел трусов, и машинально прикрываю все первичные половые признаки. Она громко фыркает. — Можно подумать, я перец никогда не видала! — Лучше скажи, где мои штаны. — Обломайся, пупсик! Я твои штаны не пасла. — Она сморщила и так небольшой носик. — А чё мы такие скучные, а? — На работу опаздываю. — Сегодня суббота. И ты обещал… — В голосе звенят капризные нотки. — Мы в «Какаду» собирались пойти! Я бросил взгляд на часы. Календарь действительно показывал шестой день недели. Странно… — Извини… как-то в голове всё смешалось… Бочком протиснулся в дверь. Дальше — прихожая. Вещи, аккуратно сложенные в стопку, спокойно дожидались на диване во второй комнате. Не похоже, что я вчера торопился… Пока одевался, лихорадочно пытался вспомнить ее имя. В конце концов, решил, что можно использовать нейтральную форму — зайчик, рыбка, ласточка, зорька моя ясная. Нужное подчеркнуть и употреблять три раза в день до еды. Откликаюсь же я на пупсика! — Вот ты где! — Она впорхнула в комнату. На голое тело наброшено что-то короткое и полупрозрачное. — Пупсик, оцени. Потрясно? — Что это? — оторопел я. Перед глазами мелькнул большой красный прыщ на левой ягодице. — Пеньюар? — Сам ты пень! Понимал бы что. Это «Дольче и Габбана»… ты рубашку косо застегнул. И кредитка почему-то кончилась… — Ну! — Я слишком сильно дернул, и две пуговицы с треском упали на пол и закатились под кресло. — Не нукай, не запрягал! — Она проводила взглядом пуговицы и состроила гримаску. — Пупсик, ты же хороший. — Тратить надо разумнее, — сказал я раздраженно и полез под кресло. — Ой, только не надо лекций! — взвизгнула она неожиданно агрессивно. — Меня шнурки своими нравоучениями достали, и ты еще взялся. Хоть вешайся! Туда не ходи. Это не слушай. С кем попало не шатайся. Не-на-ви-жу! Я нашел пуговицы и сунул в нагрудный карман рубашки. Молча заправил брюки. Натянул носки. Вышел в прихожую и снял с вешалки куртку. — Пупсик, ты куда? — она с тревогой следила за моими манипуляциями. — Домой, — буркнул я. — Домой? — Она поперхнулась. — Ты чё, с полки упал! Это ж твоя хата… — Да? Я задумался. Похоже, она не врет. Непорядок. Где-то у меня в мозгах заклинило. Сначала эту шалаву вспомнить не мог, теперь квартиру. Что следующее? Стоп. Нечто похожее со мной случалось. И совсем недавно… Замелькали смутные образы — размытые и странные, как акварель на стекле. Квартира. Ключевое слово — «квартира»… Под мышками стало влажно… — Ручки. Где же ваши ручки? — Что? — Не мешай! Квартира на улице Куйбышева. Деньги. Полный чемодан хрустящих зеленых бумажек. Пустые глаза Панасоника. Гоча и Хвича с совокупным интеллектом литиевой батарейки. Зуб, вернее его оболочка, с пробитым черепом, лежащая ногами на запад. Я вспомнил всё… — Ты кто? — Я устало присел на полку для обуви и взял ее за руку. Видимо, она заметила перемену. Как-то ощутила ее своим женским чутьем. — Я Маша! — Она испуганно попятилась. — Ты чё, пусти! — Ты как сюда попала, Маша? Шутки кончились. Мне некогда разгадывать эти головоломки. И успокаивать ее я тоже не в состоянии. Мне сейчас самому нужна квалифицированная помощь психотерапевта. — Я всегда прихожу, когда твоя морковка отчаливает… — Какая морковка? — Ну, грымза твоя… престарелая! — Поправь меня, если ошибусь. Я живу в этой квартире с женой и дочерью. Когда никого нет, я привожу тебя, и мы хаотично совокупляемся. За это я пополняю твою дебетовую карту. Так? Она кивнула. — И давно? — Не помню! — Она уперлась в дальнюю стенку прихожей. — Больше года, кажется. — Бардак! — вздыхаю я огорченно. Она шмыгнула в комнату и буквально через несколько секунд выскочила уже полностью одетая. Еще секунда на сапоги и пальто. — Я пойду… Мне пора, ты извини… — А как же «Какаду»? — крикнул я вдогонку. Ответом можно было считать бешеный стук ее каблучков. Лифта Маша дожидаться не стала… Вот и снова я один. Иду на кухню. Ставлю на газ маленький латунный ковшик. Пока ищу кофе, вода закипает. Кофе, кстати, на месте. Я поставил бы его туда же, возникни такая необходимость. Странности буквально на каждом шагу. Если это моя квартира, почему я никак не могу её вспомнить? Раньше прошедшая жизнь казалась простой и ясной. Хоть по секундам хронометрируй. А тут пришлось узнать столько нового, что голова кругом идет. Главное, не знаю, что делать дальше. Может, меня за углом уже снайпер поджидает. Или проснусь завтра утром и увижу одиночную камеру, где в узкую щель под потолком иногда заглядывает солнце. Я примерю красивую полосатую униформу и сяду писать президенту прошение о помиловании… Какое-то разумное объяснение должно быть обязательно. Без нагромождения лишних сущностей. Амнезия, допустим. Шел и ударился головой. Упал, очнулся и, соответственно, имею то, что имею. А может, я сплю. И прямо сейчас должен проснуться. Бывает так, когда просыпаешься и никак не можешь разделить сон и реальность. Что есть реальность, как не сон разума. Пограничное пространство между жизнью и смертью. Перепаханная нейтральная полоса, на которой не всем удается оставить свой след… В раннем детстве я был твердо уверен, что где-то рядом есть другой хороший мир, в котором живет еще один Юрик Стрелков. Он такой же, как я, маленький мальчик, но всё ему достается легко. Его не ругают родители, не ставят в угол за непослушание, а наоборот, покупают всяческие игрушки, мороженое, велосипед и конфеты «Кара-Кум». Мир этот за тонкой невидимой стеной. Иногда я попадал туда, и в моей жизни начинался праздник. Правда, ненадолго. Вскоре всё опять возвращалось на свои места, и оставался лишь горький осадок от невозможности остаться в этом мире навсегда. Уже повзрослев, я пытался иногда представить, как могла сложиться судьба того Юрика. Я почему-то был уверен, что она не слишком отличается от моей. Линия ее протянулась в тех же координатных осях. Мы, без сомнения, решали одинаковую задачу из учебника жизни, только результат получили разный. И никак я не мог понять: почему он счастлив, а я нет? — Эй, есть кто? Я поставил чашку на стол. Нигде нет покоя! В прихожей, естественно, стоял Валера. Улыбка, не в силах удержаться на его лице, рвалась мне навстречу. — Смотрю, дверь открыта, — ничуть не смутился он. — Дай, думаю, проверю. Я молча достаю пачку сигарет. Валера с готовностью вытаскивает сразу две штуки. Одна попадает в рот, другая за ухо. Про запас, надо полагать. Валера нисколько не изменился. Растянутое трико неопределённого цвета пузырится на коленях. Синяя динамовская майка с трудом прикрывает шарообразный живот. И нога в гипсе… Загадка природы. Если завтра всё рухнет в тартарары, он как ни в чем не бывало придет на край пропасти и сделает свою утреннюю разминку. А потом, небрежно опираясь на костыль, плюнет в бездонную яму. Сосед Валера Обыкновенный. В списке физических констант он бы занял достойное место. К примеру, сразу за постоянной Планка… — А где Алиса Витальна? — Валера осторожно заглядывает мне через плечо. Жены он почему-то побаивается. — На работе. — Это хорошо. — Он облегченно отодвигает меня в сторону. — Я ведь как думаю: экономия получится в государственном масштабе просто дурная. И кто ж такое придумал, а? — Ты о чем? Не иначе пришел тридцать рублей одолжить. — Как о чем? Ёлы-палы, я ведь новую жизнь начинаю. Глянь… Он торжественно отставляет костыли и, глубоко вдохнув, медленно поднимается к потолку. Загипсованная нога нелепо болтается в воздухе. — Красиво? — Впечатляет, — соглашаюсь я. — Вылитый Дэвид Копперфилд. Осторожно, люстру не задень. — Вот! — Валера торжествующе погрозил пальцем неведомому оппоненту. — А некоторые не верили. Два дня тренировался. Чуть в окно не выпал. Невесомость — это сила! Я теперь за нашего президента и в огонь, и в воду. Мне теперь всё нипочем. Я и Зойке так сказал. Всё, говорю, хватит. Новая, понимаешь, жизнь начинается. И никаких разговоров. Категорически… Он стал терять высоту и чуть не приземлился на стол. — С Зойки что взять? Баба и есть баба… дура, в общем. Глаза пучит и верещит, как резаная. С непривычки оно, конечно… сам понимаешь, проблема. Угрюмо махнув рукой, Валера медленно выплыл в открытую дверь. Костыли громыхнули о косяк, а я еще долго сидел, тупо уставившись в одну точку. Слушал, как он пытается попасть домой. Сначала мягкий стук, сопровождаемый тихими увещеваниями: «Зоя, открой… Зоя… Зоя, открой, ты слышишь, Зоя… открой, Зоя…» Постепенно звук нарастал, пока не перешел в дробный грохот камнепада. С упорством стенобитного орудия Валера ритмично обрушивался на хлипкую преграду из прессованной стружки, используя все подручные средства. «Открой, с-сука! — вопил он на весь подъезд. — Зойка, стерва, это же я — твой муж! Открой, кому говорю! Открывай, не то хуже будет!» Никто из соседей не реагировал. Все в той или иной степени привыкли к подобным эскападам. Мне тоже стало любопытно, — с каким счётом закончится этот тайм без постороннего вмешательства. Наконец, в паузе между воплями послышался щелчок замка и стук удара — предположительно тяжелым тупым предметом по голове центрфорварда. Короткий жалобный всхлип заглушил звуки борьбы. Аут. Мяч вне игры. Победила дружба. Но пасаран! Несколько дней Валера будет тихим и ласковым, отводя при встрече взгляд в сторону и тщательно маскируя синяк. Я прошелся по квартире, уничтожая следы своего пребывания. Застелил постель. Собрал вещи. Поправил кадку с фикусом. Стер тряпкой разводы грязи на полу. Ополоснул чашку. Вытряхнул за окно пепельницу. Постоял несколько секунд на пороге третьей комнаты. Видимо, здесь хозяйничала девочка, похожая на Ксению. Со стены корчил рожу лощеный Мумий. На книжной полочке, рядом с компактами, блестел очками компьютерный гений — Дурной Билл. Экран монитора «Sony» покрыл толстый слой пыли… Накинув куртку, я плотно прикрыл за собой дверь.
* * *
Небо окончательно расчистилось, и неожиданно припекло низкое осеннее светило. Я вдыхал сухой воздух с легким запахом прелых листьев и продуктов сгорания низкооктанового бензина. Торопиться некуда. Впервые за много лет. Очень необычное ощущение и где-то даже неприятное. Последняя стадия свободы — это когда ты никому не нужен… Ноги сами вывели к проспекту Архитекторов. Я стряхнул листья с облезлой деревянной скамьи. Достал сигареты, секунду подумал и сунул их обратно. Даже курить не хочется. Ничего не хочется. Осторожно приблизился карапуз в синем комбинезоне. На вид чрезвычайно серьезный. — Привет, — сказал я, через силу улыбнувшись. Не очень люблю маленьких детей. — Дядя, — сказал он со всей категоричностью юного возраста и стукнул меня по колену пластмассовой лопаткой. — За что? — удивился я. — Дядя, — рассмеялся он, прицеливаясь снова. Неподалеку взвизгнула барышня неопределенного возраста в интернациональной кожаной куртке. — Ваня, отстань от дяди! Террорист застыл в задумчивости. На лице отражалась внутренняя борьба. Его формирующееся эго требовало выхода простой животной агрессии и вступало в противоречие с косностью моральных устоев, отражающейся в запрете бить первого встречного лопатой по голове. — Ваня, я кому сказала?! Дамоклов меч неотвратимого наказания со свистом рассек пустоту. Хаос победил. Лопатка опустилась мне на ногу. Ваня бросился наутек. Я побрел к остановке. Жадная воронка Хаоса закручивала пространство в спираль и выбрасывала наугад языки протуберанцев. Я шел и рассеянно считал шаги, когда резкий звук заставил вынырнуть на поверхность. Очнулся на «зебре». Где-то за горизонтом маячил рубиновый глаз светофора, а слева наваливалось упругое тело «Запорожца». Его ярко-салатный цвет отпечатался на сетчатке глаза. По главному зрительному нерву лениво побежал сигнал на третий слой затылочной доли коры левого полушария, давая толчок биохимической реакции между синапсами нейронов. Оценив уровень опасности, мозг забил тревогу, посылая слабые электрические импульсы по всем направлениям. Нервные окончания напряглись, передавая команды группам мышц. Мышцы сократились. Я отпрыгнул. «Запорожец» развернуло поперек полосы. В полной тишине хлопнула дверца. — Кажись, пьяный, — заключила любознательная старушка. И откуда они берутся? Что бы ни случилось, обязательно рядом окажется такой вот «объект» со своими далеко идущими выводами… — А ну пошла отсюда, дура старая! — огрызнулся я. — Точно, пьяный… — Она отскочила на безопасное расстояние и мстительно замерла в ожидании развития событий. По неумолимой логике сейчас меня должны будут бить, и она не могла лишить себя столь приятного зрелища. — Зальют глаза и фулюганят! — Ты, пимокат, куда прешь на красный?! Запоздалый испуг не давал сосредоточиться, но голос драйвера показался мне знакомым. Коренастая фигура. Коричневая потертая дубленка… Серега Пенкин. И «Запор» салатный ему тесть в позапрошлом году подарил. Как я сразу-то не узнал? — Юрбан, ты? Ну, чума! Цел? Садись, давай, в мой лимузин. На переднем сиденье колени уперлись в подбородок. Любопытные сразу рассосались. Я расслабился, прикрыв глаза. — Домой? Равнодушно пожимаю плечами. Знать бы, где этот дом… — Нет, точно, чума! — Пенкин довольно хмыкнул. — Не поверишь, буквально пять минут назад о тебе думал. Еду себе спокойно, думаю: куда-то Юрок потерялся. Не звонит, не объявляется. Непорядок в танковых войсках… — Тебя дома никогда не бывает. — Брось! — Взмах рукой. — Уже полгода парюсь в городе. Жена развернула масштабную партизанскую войну. Тесть, теща… еще и матушку мою кооптировали на участие в боевых действиях. Не жизнь, а глухая оборона. Только сын пока на моей стороне… Жизнерадостность школьного приятеля немного бодрит. Сколько мы не виделись? Лет пять как минимум. И еще столько же могли не встретиться. Пока были молодые, казалось, невозможно перенести даже несколько дней разлуки. Сашка, Серега, Андрюшка, Олег, я. Веселая компания… Вспомнились несанкционированные проникновения на склад «Утильсырья», где я искал преимущественно старые номера журнала «Вокруг света». Пенкин бывал там чаще, за что и поплатился. Его поймали и поставили на учет в детскую комнату милиции. А были еще групповые походы в кино вместо уроков. Футбольные баталии на льду. А позже вечера на дискотеке, пикники на берегу Иртыша, пьяные ночи с портвейном и кислым грузинским вином «Ркацители», летающие курицы из бульона, девочки из кулинарного училища и первые признаки центробежного ускорения, которое неумолимо разбрасывало нас по сторонам света. Учеба, армия, женитьба в установленный природой срок. Первым откололся Андрюшка. Что-то категорически не устраивало его жену. Потом период полураспада накрыл остальных. Заботы, хлопоты, жены, дети. Разводы, новые жены, новые дети, работа и… работа. Пенкин, фанатичный поклонник лыжных гонок, после института попал в отдел снабжения. Месяцами пропадал в командировках по уральским заводам. Ждал своей очереди на отгрузку металла. Ездил вместе с лыжами, чтобы не тратить время даром. Потом на заводе пошли сокращения. Он пристроился куда-то еще. И опять месяцами не бывал дома. В промежутке между командировками успел жениться и родить сына. Лет пять назад бросил работать вообще и стал искать Шамбалу. Неожиданно стал писать прозу. Опубликовал несколько пьес, достаточно приличных, на мой взгляд. «Натуральное хозяйство в Шамбале» и «Охотничий сезон» поставили в нескольких театрах. Правда, его тяга к бродяжничеству удивляла даже меня. Серегина жена оказалась терпеливее, чем можно было ожидать от столь энергичной женщины… Пенкин уверенно держался в потоке машин, легко посылая надсадно ревущего «Запорожца» в малейший просвет. — Нет, ты посмотри на этого животновода, — кипятился он, кивая на длинную автобусную сцепку. — Ему же коровам хвосты крутить, а он людей возит. Поворотник включил, даже в зеркало не глянул — и прет напрямую, как баран. Я равнодушно кивнул. — Кстати, чуть не забыл: тебя пару дней назад какой-то мужик разыскивал. — Какой мужик? — насторожился я. — Где разыскивал? — Котов его фамилия. Ни о чем не говорит? — Первый раз слышу. — Настойчивый дяденька. Несколько раз звонил. Я даже удивился. Откуда-то мой телефон знает. Ты не давал? — Я похож на идиота? — В общем, мое дело предупредить, а ты уж сам разбирайся. Если сильно наезжать станет, звякни. Обмозгуем… Я задумался. Фамилия действительно ни о чем не говорила, но не отпускало ощущение, что я однажды ее слышал. При каких-то странных обстоятельствах… — Юрок, надо бы по сто грамм принять. Я недавно гонорар получил. Есть повод. — Ты же за рулем. — Разве это руль? — Пенкин сжал массивные кулаки, и «баранка» сразу потерялась. — Это же велосипед, а не автомобиль. Зачем только на права сдавал? А давай ломанемся во «Встречу». — Поздно. Там продуктовый магазин сделали. — Давно? — Лет шесть назад… «Росинку» тоже закрыли. И кафе «Амурское», и «Шайбу», и «Стекляшку»… — Не может быть! — Пенкин искренне огорчился. — Это диверсия. — Всё течет, всё меняется… Я недавно Лысенко встретил. Месяца два назад. Его Ленка бросила. — Переживает? — Не то слово. Поехала, говорит, в Испанию, типа к сестре в гости. А оттуда ему звонит: любимый, в России жить больше не могу. Остаюсь у сестры навсегда. Тебя по-прежнему люблю, всё прощаю и целую в обе щечки. Дочке нашей здесь тоже хорошо. Она уже ходит в школу. Я скоро выучу испанский. Если захочешь — приедешь. Станешь работать грузчиком… — Поехал? — А кому он там нужен? Пенкин со вздохом крутанул ручку дешевого приемника. Красная «Audi ТТ» играючи сделала его «Запор» и скрылась из виду. За тонированным стеклом мелькнул женский профиль. «Жила была девушка Робин Гуд, — прохрипел гнусавым голосом динамик. — У богатых брала, бедным давала… Рекламная служба Русского радио!» — Серега, а расскажи мне: что такое Шамбала? — Ты по приколу интересуешься или серьезно, — покосился он. — Для общего развития. — Слишком долго рассказывать. — А ты попробуй коротенько. Пока едем. — Разве что коротенько… Понимаешь, Юрок, есть в Тибете легенда о царстве, где все люди были умными, добрыми и просвещенными, а правители мудрыми и сострадательными. Сам Шакьямуни Будда, как полагают, снабдил первого правителя Шамбалы неким продвинутым учением, которое тот не занычковал для себя, как наше правительство бюджетные деньги, а поделился со своим народом. Соответственно, все стали счастливыми. Это преамбула. Дальше мнения сильно расходятся. Одни говорят, что царство такое существует по сей день, затерянное в гималайской долине, и кто найдет его, тот приобщится к древней мудрости. Другие считают, что Шамбала давно исчезла. В тот момент, когда все жители стали просветлёнными, она перешла на другой физический уровень. И теперь правители — Ригдэны наблюдают за нашей суетой и в трудный момент придут на помощь. Западные ученые нашли подтверждение своей теории — Шамбала, якобы, была одним из исторических царств. Чжан Чжун, к примеру. А самые отмороженные утверждают, будто Шамбала — это просто абстрактное понятие. Некий идеал просветленного общества, к которому необходимо стремиться, основа здоровых сил и гармонии. Главное, суметь ее пробудить в каждом человеке… — А ты какую Шамбалу ищешь? — Сложный вопрос… — Он задумался. — Поначалу ищут ту, которая в долине. Есть такая книжка — «Великий комментарий к Калачакре». Там все написано. Надо только прочитать с умом. Расположена Шамбала к северу от реки Сита, разделена восемью горными цепями, а дворец Ригдэ-нов на вершине горы Кайласа, имеющей круглую форму. И тут меня, понимаешь, как током ударило. Севернее надо искать. Смотри сам… — Ты руль-то не бросай. — А, ну да… Возьми в бардачке атлас. Открой на странице 36. Я порылся и вытащил потрёпанное мягкое издание. — Что видишь? — Алтай. — Вот! — торжествующе взревел Пенкин. Я уже начал жалеть, что затронул столь болезненную тему. — Смотри на карту. Основание — пограничная горная гряда Табын-Богдо-Ула. От него на запад тянутся хребты Южного Алтая. Тарбагатай и Сарым-Сакты. На восток Сайлюгем и Шапшал… — Всю топонимику он шпарил наизусть. — Если приглядеться внимательнее, получается чаша в форме лотоса. Внутри чаши, в центральном Алтае, расходятся веером восемь хребтов. Четыре в южной цепи, и четыре в северной. Просекаешь? И гора там есть круглая, на Катунском хребте. Белуха называется… — Потрясно! — Прикалываешь… — Пенкин сразу скис. — Меня сильно тогда на это дело пробило. Веришь, спать не мог. Есть стал плохо. В общем, собрал сумку и… — И что? — Ничего. Думаешь, просто? По Алтаю автобус экскурсионный не ходит. Такси тоже нет. Где с пастухами на лошадке, где пешедралом, а где и на брюхе… за четыре года я оба Чуйских хребта прополз. Ещё и Теректинский хребет, и Коргонский, и Холзун… — А Шамбалу-то нашел? — Нашел… — И какая она? — Красивая… — Пенкин дотянулся до бардачка и бросил мне на колени брошюру в переплете из серого картона. — Почитай, если время будет. Въехать сразу трудно, но ты попробуй. — Подожди, ничего не понимаю… — Я растерянно выбросил в окно недокуренную сигарету. — Все, значит, эту Шамбалу ищут, с ног сбились… а ты между делом, о-па… взял и нашел. Так получается? Пенкин усмехнулся. — К древней мудрости, значит, прикоснулся. И как она выглядит, эта древняя мудрость? — Словами объяснить тяжело… Скажем: теперь я знаю, в чем состоит смысл жизни. Это если очень упрощенно… — Тогда поделись знаниями, как этот… первый правитель Шамбалы. В чем же смысл жизни? Очень интересно. — Боюсь, не получится. Это можно только почувствовать… Накатывает откуда-то сверху волна. Раз — и понимаешь. На душе сразу легко становится. Паришь, как в невесомости. Тибетцы говорят — Просветление… — Не верю. — Имеешь право. — Пенкин пожал плечами. — Не ты один. Никто почему-то не верит… приехали, кстати. Он тормознул у обочины. Я оглянулся на пятиэтажную «хрущевку», ничем не выделяющуюся из ряда однотипных кирпичных кубиков. Не мешало бы еще номер квартиры знать… — Сейчас ведь уйдешь, и с концами, — сказал Пенкин. — Хоть раз бы собраться всем вместе, как раньше! — Неплохая идея. Звякну на досуге — обсудим. А ты в гости заезжай. Номер квартиры помнишь? — Сорок седьмая, кажется. Второй подъезд с этого края, четвертый этаж, сразу направо. — Молодец! — Я дружески хлопнул его по плечу и пожал протянутую ладонь. — Будь здоров, не кашляй! Маленький несуразный автомобиль протяжно чихнул и скрылся за углом. Он не заедет. Я не позвоню. Мы оба это знаем. Центробежное ускорение с годами лишь возрастает. Но, отступая под натиском суеты, мы все стараемся не разрушать мосты из своего прошлого, а в старых коробках из-под конфет бережно храним свои иллюзии… Я сунул брошюру во внутренний карман и прогулялся два квартала вперед. Порылся в карманах. Нашел остатки мелочи. Зачем-то купил хлеба у скучающей продавщицы на лотке. Люблю покупать на улице. Хлеб всегда упакован в полиэтиленовый пакет. Когда вернулся назад, увидел во дворе Валеру. Два часа дня. Самое время. Только вместо зарядки он сидел на вытоптанном газоне в позе «лотос». Руки расслабленно лежат на коленях. Глаза закрыты. Лицо сосредоточено. При взгляде на неизменную майку я поежился. На улице не так уж тепло. Задумчиво постоял перед дверью с табличкой «47», глядя на связку ключей. Выбрал наугад. Замок подчинился. Сразу пахнуло теплом, уютом и чем-то съедобным. — Неужели наш папа пришел? Из кухни выглянула моя Алиса. Аля… В незнакомом синем свитере и джинсовых шортах. — Ничего не случилось? Рано ты сегодня… Ой, хлеб не забыл купить. Какой ты умничка! — Папусик! — Из комнаты вырвался ураган и бросился целоваться. Я едва устоял на ногах. — Ксения! — жена посмотрела укоризненно. — Отстань от папы! Дочь так же моментально испаряется. — Ты уже вернулась с Мальты? Сказав глупость, я понял это слишком поздно. — С какой Мальты? — Аля осторожно потрогала мой лоб, потом прикоснулась к нему губами. — Ты не заболел? Что-то мне лоб твой не нравится. Раздевайся, я обед уже подогрела. Медленно снимаю ботинки и куртку. На столе ждет дымящаяся тарелка и нарезанный свежий хлеб. Работаю ложкой, не чувствуя вкуса. Дочь болтает ногами и трещит почти без пауз, за что периодически получает замечания. Честно выслушиваю все школьные новости. Стараюсь реагировать. Проявляю отцовское участие. Жена смотрит на меня с тревогой. — Может, приляжешь? Действительно, чувствуется усталость. Тянет в сон. Из последних сил падаю на диван в маленькой комнате. Квартира тоже маленькая. Старый одежный шкаф с антресолью, дверцы которого заботливо отвинчены и поставлены с торца. Пыльная люстра времен молодости моих родителей. Угол завален детскими игрушками. Снизу улыбается плюшевый тигр, придавленный домиком Барби. Письменный стол и книги, книги, книги… Они везде. На подвесной полке, на тумбочке, на полу. В картонных ящиках и просто стопками. «…Текущее состояние дел в мире является источником озабоченности для нас всех. Угроза войны и глобальной экологической катастрофы, нищета и экономическая неустойчивость, социальный хаос и многообразные психологические потрясения — всё это показывает, что мир пребывает в абсолютном беспорядке. Учение Шамбалы основано на предпосылке, что существует глубинная человеческая мудрость, которая в состоянии помочь разрешить эти проблемы. Она не принадлежит какой-то одной культуре или религии. Она существует на протяжении всей истории во многих культурах Востока и Запада. Это традиция человека-воина. В этом контексте состояние воина не означает вражды с другими людьми. Имеется в виду традиция человеческой храбрости. Ключ к пониманию состояния воина и первый принцип видения Шамбалы — не бояться самого себя…» Брошюра достаточно толстая. Видимо, за счет плотной бумаги. На обложке странный рисунок и какая-то надпись на санскрите. Автор нигде не указан, только название на форзаце: «Видение Шамбалы — путь воина». Издательство Воронежского Государственного Университета, 1990 год. Тираж — 3000 экземпляров. Я вяло пролистал еще пару страниц… «…Мы должны думать о том, как помочь этому миру. Постараться в своем мышлении выйти за пределы жилища, за пределы огня в очаге, в то же время не отказываться от своей личной жизни. Вы можете помогать миру, начав с родных и друзей. Фактически вы можете начать с себя… Если посмотреть непредвзято, в нашем человеческом существовании есть нечто доброе в самой основе. Если мы не в состоянии открыть эту основу добра в себе, мы не можем надеяться улучшить жизнь других. Каждый человек обладает глубинным добром, и открытие его происходит через понимание очень простых переживаний. Мы все время ощущаем его проблески, когда видим яркий цвет и слышим прекрасный звук, когда выходим из душа и ощущаем себя свежими и чистыми. Это может длиться долю секунды, но это и есть переживание подлинного добра…» — Что читаешь? — Муть какую-то Пенкин сунул. Я подвинулся, и жена присела на краешек дивана. — Пенкин? — Она бросила взгляд на обложку, и брови от удивления поползли вверх. — Как у него дела? — Вроде нормально. Не жалуется… — Опять целуетесь! — Дочь ехидно улыбалась, демонстративно закрыв глаза ладошкой. — Как трогательно! — Брысь, козявка! — фыркнула жена. — Не мешай папе отдыхать! Я свернулся калачиком. — Не уходи. Ты не представляешь, как я соскучился. — А блины? — Обожаю блины… Хорошо, иди, но ненадолго. — Измерь температуру. — Только не термометром. Он холодный… На кухне громыхнула кастрюля. Я опять углубился в полуслепой текст… «…Проблема заключается в том, что как только мы чувствуем в себе проблеск добра, мы воспринимаем это открытие слишком всерьез. И начинаем метаться из стороны в сторону, пытаясь найти способ овладеть им. Если вы богаты, вы хотите это купить. Если вы бедны, вы готовы посвятить этому всю жизнь — обрить волосы, надеть особое одеяние, ползать по полу и есть руками, лишь бы войти в соприкосновение с добром. Но оба пути ведут в тупик. Мы порой так яростно хотим добра, что готовы ради него совершить убийство или умереть. Чего нам не хватает, так это чувства юмора, которое помогает под другим углом взглянуть на свою жизнь и увидеть в ней нечто большее, чем только борьбу; увидеть глубинную иронию противопоставления крайностей и избежать серьезного участия в их игре. Открытие глубинного добра не является формой религиозного переживания. Мы просто начинаем ощущать реальный мир через повседневную, обыденную жизнь. Переживание глубинного добра дает почувствовать себя разумными и достойными людьми. Мы можем видеть свои недостатки, не ощущая вины и стыда, нам не нужно обманывать себя и других. Мы можем прямо говорить истину, быть абсолютно открытыми и вместе с тем непоколебимыми…» Глаза сами собой закрываются. Вот ведь странно. И слова знакомые, и отдельные предложения я понимаю, но общий смысл уловить почему-то не могу. Он проскальзывает между пальцами и погружается в глубину. А я погружаюсь за ним. Мне не страшно. В глубине я вижу свет. Мягкий, приятный, обволакивающий свет. Глазам совсем не больно. Я вижу комнату со светлой обивкой стен. Вижу двоих мужчин и женщину. Они в зеленых комбинезонах и высоких ботинках на толстой литой подошве. Я лежу на твердой основе, опутанный пучком трубок, и не могу пошевелиться. Одежды нет, но мне не холодно. Надо мной прозрачный колпак. Высокий мужчина подходит ближе, склоняется и замечает мои открытые глаза. Делает какие-то знаки. Что-то говорит. По спине пробегает расслабляющая волна. Я его не слышу. Ни на что не реагирую. Впрочем, не удивительно. Колпак надо мной — это аппарат Интенсивной Восстановительной Терапии класса «Гипнос». Применяется при анемической дисфункции аксонов лобных долей мозга. Попросту говоря, при «синдроме Бейтса». Для положительного прогноза площадь поражения глиальных клеток не должна превышать сорока процентов. У меня больше. Шестьдесят два. Это всё последствия той аварии на энергоблоке… Впрочем, другого варианта просто не было. Еще пара часов промедления могли поставить под угрозу само существование Базы. Кто-то должен был взять скальпель и вырезать раковую опухоль. Почему бы не я? Адмиральские нашивки еще не повод прятаться за спины подчиненных. Кто лучше знает устройство «Квазимодо»? Я делал пусконаладку почти по всей Орбите, когда был еще инженером на Центральной. Потом стал Командором на Восточной. И здесь, на Главной, не считал зазорным вникать в каждую мелочь. В каждую деталь, в каждый допуск… Теперь я хочу отдохнуть. Как это хорошо: лежать, видеть сны и ни о чем не думать. Доктор так не считает. Восстановленное сознание — вещь хрупкая. Он понимает, что я балансирую на краю пропасти. В любой момент может начаться необратимый обратный процесс, а за ним последует коллапс. Слишком велика площадь поражения. Слишком мала вероятность полного восстановления. Они постоянно ищут связь с моим угасающим сознанием. Пытаются разомкнуть контур и вытащить его на поверхность. Они никак не хотят понять — мне хорошо. Рядом с доктором стоит Володя Котов. Командор Котов. Моя правая рука. Обожженное ультрафиолетом безбровое лицо. Впалые щеки. Узкие губы. Волевой подбородок. Встретишь в темноте, — испугаешься. Иногда я улавливаю его присутствие. Его мысли. Они заставляют меня сосредоточиться. На некоторый промежуток времени. Как правило, очень короткий промежуток. Но я ему благодарен. Я уверен, что могу оставить на него Главную… Я вижу, как База скользит по своей орбите над самой кромкой экзосферы. Нелепое бесформенное сооружение, органичное в своей уродливости. Внизу опять бушует наш Старик. Он недоволен. Еще бы. Кому понравится вмешательство в личную жизнь. Его красивый наряд из облачного узора тянется под нами до самого горизонта. Сегодня ветер в средней кромке сильнее обычного. В районе южного течения сильный шторм. Ревущие метановые вихри опускаются на тысячи километров вниз, пока не находят последний приют в бескрайнем океане жидкого водорода. Когда-то масштабность стихии завораживала курсанта Аэрокосмической Инженерной Академии. Теперь привык. Шкловский — просто идиот. Трус, паникёр, самовлюбленный лентяй и к тому же мелкий пакостник с комплексом Герострата. Редкостное совпадение всех неприятных человеческих качеств. Жаль, до пилотов у меня руки так и не дошли. Слишком много приходилось решать более важных вопросов, связанных с жизнеобеспечением Главной. Его выбросило штормом на две секунды восточнее сектора поиска. У Котова истекают последние сутки. Дальше Шкловского ждет кислородное голодание. Задохнется, сукин сын! Можно преподать хороший урок для всех безмозглых идиотов Орбиты — их на одной Центральной не пересчитать, — но принципы важнее эмоций. Адмирал Стрелков никогда не бросает своих, людей в беде…* * *
Кондуктор налетел, аки коршун. Не успевая зайти в автобус, натыкаешься на его полный ненависти взгляд. Обреченно отсчитываю деньги, испепеляя ответным импульсом. И проехать хотел всего две остановки. Чтоб ты была жива, здорова! И детям твоим желаю счастья. И внукам радости. Почтовое отделение — оживленное место, несмотря на безумные тарифы. Потерянно брожу по залу. Последний раз я давал телеграмму очень давно. Если не изменяет память, лет семь тому назад. На меня начинают коситься. Наверное, так чувствовал себя посол молодой Советской республики Чичерин на приеме у английской королевы. Наконец, не выдерживаю. — Вы не подскажете, где взять бланк? — спрашиваю у женщины интеллигентного вида с остатками песцового воротника на драповом пальто. Она смотрит поверх очков и молча показывает на стойку перед моим носом. — Простите, — смущаюсь я. Осмотр карманов приводит в уныние. Забыл дома приспособление для письма. В отчаянии оглядываю зал. Черт, почему в нашей стране даже самые элементарные действия требуют тщательной подготовки и специальных навыков? — Простите еще раз. Будет ли неслыханной наглостью, если я попрошу у вас на секунду ручку? Тут важно застать врасплох… Очередь, хоть и небольшая, продвигается медленными мучительными рывками. Со скоростью две старушки в час. Пожилая операционистка успевает между делом выслушать массу интимных сведений от своих клиенток. Судя по всему, она их знает не один десяток лет и держит в голове все подробности многочисленных жизненных перипетий. Мою телеграмму принимает с легкой брезгливостью на лице, как личное одолжение. Медленно прочитывает, шевеля губами. Потом еще раз, уже вслух: — Орбита-3, Юпитер-Главный, Котову Владимиру Алексеевичу. Правильно? — Правильно. — Модуль две секунды восточнее сектора поиска точка торопитесь точка Стрелков точка. — Постарайтесь набрать без опечаток, — кисло улыбнулся я, протягивая деньги… На обратной дороге попался муниципальный автобус, да еще полупустой. Я занял свободное место и, от нечего делать, опять раскрыл «Видение Шамбалы». «…Мы часто принимаем жизнь как нечто само собой разумеющееся или считаем её неприятной и тягостной. Разумеется, нам следует принимать свою жизнь всерьёз, но это не означает, что мы должны подводить себя к грани катастрофы, требуя от окружающих того, что мы, якобы, недополучили. Мы должны принять личную ответственность за собственную жизнь. Когда вы не осуждаете себя, когда вы свободны от напряжения и чувствуете свое тело и ум, вы начинаете соприкасаться с фундаментальным понятием глубинного добра, заключенного внутри нас. Чрезвычайно важно открыться перед самим собой. Уловить как свои проблемы, так и свой потенциал. Порой мы чувствуем себя подавленно от осознания собственной жизни и встречи с окружающим миром. Появляется страх, паника. Мы отскакиваем или сжимаемся. Иногда страх проявляется опосредованно, в форме беспокойства. Мы рисуем каракули на бумаге, щелкаем пальцами, ёрзаем на стуле. Мы чувствуем, что должны постоянно находиться в движении, используем многочисленные хитрости, отвлекая свой ум от страха. Принимаем успокоительные средства, занимаемся йогой, смотрим телевизор, читаем журналы, ходим в бар. Это путь труса. Необходимо признать существование страха, смириться с ним, выйти за его пределы. В этом проявляется истинное бесстрашие…»* * *
Задумавшись, едва не пропустил свою остановку. Отчаянно рванулся к двери, по ногам входящих. Лишь оказавшись на улице, осознал весь комизм ситуации. Я не знаю, куда идти. За последние двое суток реальность ни разу не совпала с моим представлением о ней. На улице Лукашевича в доме семнадцать может не оказаться такой квартиры. Или в ней спокойно проживает последние тридцать лет гражданка Никанорова Раиса Федоровна. «Какой такой Стрелков-Малков, знать ничего не знаю!» — скажет она через цепочку. Останется один ориентир — Валера… Его во дворе семнадцатого дома не оказалось, зато на детской качели сидела моя жена Алиса. Губы поджаты. В уголках покрасневших глаз резко обозначились паутинки морщинок… — Привет, — сказал я неожиданно хрипло. Горло перехватило от тоски и нежности к любимой женщине. — Ты уже вернулась? — Я никуда не ездила. Визу не успели открыть… Внешнее спокойствие меня не обманет. Внутри у нее кипит шекспировская буря, срывая оснастку и ломая мачты у отчаянных смельчаков, рискнувших пуститься в плавание. — Юра, где ты был? — Не поверишь… — Почему же? Поверю… Скажи: у тебя есть другая женщина? Я ведь чувствую. Скажи правду — нам обоим легче станет… — Аля, посмотри на меня внимательно. Кто может польститься на такое жалкое, никчемное создание? Никакой женщины нет. Я люблю только тебя. Неужели ты не поняла за все годы: я однолюб. Пошли домой, а? Она отталкивалась ногой и тихо раскачивалась, глядя вверх, на молодую луну. На лице блеснули мокрые дорожки от слёз. — Аля, на мёня как-то неожиданно всё свалилось. Я отдохну и расскажу. Честное пионерское! — Не трогай, ты мне противен! Несмотря на упорное сопротивление, я поднял ее на руки и пошел к подъезду. Господи, как давно я этого не делал! Почему мы так живем? Почему мы не можем радоваться тому, что имеем? — Скотина, — бормотала она, рыдая уже в голос. — Какая же ты скотина! Ничего. Это пустяки. Это истерика. Это пройдет… Я понял свою ошибку. Мы начнем сначала. Мы съездим в Херсон и привезем Ксению. Хватит ей болтаться у бабушки. Завтра же пойду за билетами… — Пусти! Правда, пусти. Тебе же тяжело… — Я тебя люблю. Очень. Остаток пути поднялись на лифте. Жену все еще колотила мелкая дрожь. Я уложил ее в постель, напоил горячим молоком и долго сидел рядом. Она не возражала. Первый признак примирения… Аля забылась тревожным сном, беззащитно по-детски всхлипывая. Япошел на кухню, не включая свет, поставил чайник на огонь. Вытащил из блока новую пачку сигарет. Звонок в дверь. Как не вовремя… Парень с сумкой через плечо. Не хватает только фуражки с кокардой для полного соответствия. Это он, это он — ленинградский почтальон… — Срочная телеграмма. Распишитесь, пожалуйста. Серьезный молодой человек. Ни тени улыбки. В свете тусклой лампы ставлю свою закорючку. Текст можно не смотреть. Я его знаю. Там всего одна строка. «Шкловский жив. Возвращайся. Ты нам нужен». И подпись: «Командор Котов»… Хорошо. Очень хорошо. Просто великолепно. Адмирал Стрелков никогда не бросал людей в беде. — Юра, кто там? Таки разбудил жену… — Спи, солнышко, почтальон приходил. Телеграмму принес. — От мамы? Что-то с Ксюшей? Зря я про телеграмму сказал. Не подумал… — Не волнуйся. Всё в порядке. Это не от мамы. Это Марат так шутит. В гости нас приглашаемою следующей неделе. Выпив две кружки крепкого чая, я сходил в спальню и, не удержавшись, поцеловал спящую жену. Потом без всяких усилий взмыл к потолку и вылетел через приоткрытую створку лоджии…* * *
Ветер забил рот и ноздри. С непривычки тяжело дышать… Суповой тарелкой выгнулся город. Я набрал высоту и лег на курс. Россыпь огней свернулась в яркую точку и осталась далеко позади. Встречный поток свистел в ушах и яростно трепал одежду. Над головой неподвижно висели звезды. Такого количества я не видел никогда. Внизу проплывали пятна света неправильной формы. Я скорее догадывался, чем узнавал, — Курган, Уфа, Нижний Новгород… Вот и Москва. Я прошел на бреющем полете над Тверской, а над самой шапкой «McDonald's» столкнулся с астральным телом президента. Он прожевал чизбургер, запил его кока-колой и озорно подмигнул: «Летаем, значит, вот и славно». На кремлевской стене маленькие человечки отчаянно размахивали руками. «Отстаньте вы, в натуре!» — крикнул президент рассерженно и умчался в сторону микрорайона Южное Бутово. До боли в животе захотелось есть. Заметив знакомую вывеску кафе «Встреча», я спикировал вниз. Зал был почти пуст. Музыкант тихо играл на аккордеоне ностальгический «Hotel California». Компания сильно пьяных прилично одетых мужчин шумно распределяла кредиты Мирового Валютного Фонда. В углу, вольготно вытянув ноги, дремал Серега Пенкин. Тимур с Маратом расписывали пулю. Без розетки Тим чувствует себя неуютно, и это бросалось в глаза. — Третьим будешь? — радостно спросил Марат. Я подошел к столу и решительно смешал им карты. — Рыба! Тим хихикнул. Видимо, проигрывал. Марат почесал в затылке и ехидно поинтересовался: — Как дела у Володи Котова? — Нормально. Не жалуется. — А у тебя? — И у меня все хорошо, — ответил я. — Короче, хватит. Тим, скажи ему, что я пришел просто поесть. Без базара, в общем… Я оглядел зал в поисках официантки и увидел, что за столиком у окна сидит Аля. Она успела переодеться в свое самое красивое платье. Я подозвал сонную девицу и заказал четыре шашлыка и две порции хачапури. Меню мне без надобности. Здешний повар ничего другого готовить не умеет. Переходим сразу к вину. — «Пино-Гри»? — осторожно спросил я жену. Она молча кивнула. Она была очаровательна. Темное платье мягко облегало фигуру и подчеркивало все достоинства. Глубокое декольте и стройные ноги притягивали взгляд, как магнитом. Даже финансисты за соседним столом на время прекратили споры. Я купался в аромате «Дюны» и делал вид, что не замечаю завистливых вздохов. — Где штаны порвал? — спросила Аля. — Ветер был встречный. — Может, пойдем домой, а то завтра на работу проспишь… — Не торопись. Посидим еще немного. Тим с Маратом достали картонное поле давно забытой настольной игры «Империя» и увлеченно делили планеты. Пенкин спал. Музыкант вспомнил про Элтона нашего Джона и лихо наигрывал что-то, отдаленно напоминающее «Goodbye Yellow Brick Road». Было хорошо, как во сне…Сергей Стрелецкий Моривасэ Моногатари
Миниатюры
Назидательные и правдивые истории о странных и необычайных событиях, случившихся с отважным самураем Цюрюпой Исидором, его мудрым наставником Кодзё и другими лицами, обладающими разнообразными явными и тайными достоинствами
О ДЕЙСТВЕННОСТИ ФИЛОСОФСКИХ БЕСЕД
Однажды самурай Цюрюпа Исидор пошел в Бибиревское отделение милиции на улицу Лескова испросить дозволения на получение временной московской регистрации. Вернувшись, он долго сидел на циновке перед гипсовой статуей Будды, а затем взял мобильник и набрал номер наставника Кодзё. — Наставник, — сказал самурай Цюрюпа Исидор, — а что говорил Будда о жадности? И так печален был его голос, что шарфюреру Отто фон Какадзе, который слушал этот разговор по долгу службы, впервые после «Сказки странствий» захотелось плакать. — Сейчас уже нет той жадности, о которой говорил Будда, — грустно сказал наставник Кодзё. — Но если бы Будда говорил о сегодняшней жадности, то он сравнил бы жадного человека с рыбой, которая пытается съесть червяка, много превосходящего длиною ее пищевод. И это был бы первый вид жадности. Второй же вид жадности, о котором, согласно твоему настроению, ты и спрашиваешь меня, это жадность другой рыбы — той, что пытается съесть червя, который еще не заглочен целиком первой рыбой, но уже частично прошел через ее пищевод. — То есть вторая рыба пытается вырвать червя изо рта первой? — переспросил самурай, уже подозревая грядущий ответ. — Я не говорил, что изо рта, — просто сказал наставник Кодзё. И тут шарфюрера Отто фон Какадзе стошнило прямо на дорогостоящую казенную аппаратуру, и он перестал слушать мудрые речи, которые ему положено было слушать по долгу службы.О СПАСЕНИИ ДОСТОИНСТВА
Однажды самурай Цюрюпа Исидор проходил по Садовой мимо странноприимного дома Шереметевых и что-то вдруг захотел яблок. Надеясь найти спелые плоды в саду странноприимного дома, он свернул к воротам и заговорил с почтенным привратником. — А что, отец, — спросил Цюрюпа Исидор привратника, — яблоки в вашем саду есть? — Яблоки, господин, — с поклоном ответствовал страж, — продаются в общедоступном магазине за углом. А здесь у нас странноприимный дом, и входить сюда без разрешения запрещено. Тогда Цюрюпа Исидор удивился и разгневался. — Мое имя Цюрюпа Исидор, — сказал он, — я самурай клана Мосокава. Ты стоишь на моем пути. Назови свое имя, чтобы я знал, с кем буду сражаться сейчас. — Господин, меня зовут Зильберман Петрович, и я привратник дома Шереметевых. Долг перед моим повелителем не позволяет мне пропустить вас, а потому, таки да, одному из нас придется умереть из-за того лишь, что вам захотелось яблочек на халяву. Тогда Цюрюпа Исидор устыдился, ибо ответ привратника был учтив и искренен. К тому же самурай только сейчас увидел рядом с воротами надпись «Проход запрещен», скрепленную официальной печатью. — Благодарю вас, достойный привратник, — сказал он. — Вы указали на мою оплошность и позволили мне избежать позора, которым я запятнал бы себя, если бы убил вас. Вы же, погибнув, честно исполнили бы волю вашего повелителя. К тому же, в вашем саду все равно нет яблок, достойных самурая моего ранга. Он поклонился почтенному привратнику и удалился, удивляясь тому, как мог он даже на секунду поставить личные интересы выше общественных.О ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТИ ПРОСВЕТЛЕННЫХ
Однажды самурай Цюрюпа Исидор и мудрый наставник Кодзё сидели на циновках в общаге ЛЭТИ на 1-м Муринском и медитировали. Дух самурая устремился в глубину столетий, в славные времена, когда жестокий Ода Нобунага и его соратники одержали множество побед, смиряя чрезмерную гордыню князей и укрепляя верховную власть в стране. Цюрюпа Исидор вспоминал о предательстве, которое погубило господина Ода, и сердце его преисполнялось горечью. И когда горечи этой накопилось больше, чем сердце его могло выдержать молча, самурай открыл глаза и произнес такую хокку:Замок сегуна
Приступы все отразил —
Пал от измены.
О СМИРЕННОМ ОТНОШЕНИИ К НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ
Однажды самурая Цюрюпу Исидора на Большой Юшуньской улице остановили по пьяному делу два милиционера и решили проверить у него права. — Я Цюрюпа Исидор, самурай клана Мосокава, — сказал им Цюрюпа Исидор. — Ну и, ик, ё?.. — не понял его слова первый постовой. — Закон вежества требует, чтобы вы назвали ваши имена, дабы я знал, на каком основании вы требуете предъявления прав. — Да ёпсть, — сказал второй постовой. — Какого, бря, сука, бря? Гибедидэ Носков, бря. Сука. — Ну ё!.. — согласился его приятель. — Ык. Гаи Шура. Это немного походило на знакомые Цюрюпе Исидору самурайские имена, и он покладисто счел, что традиция соблюдена. А поскольку прав и автомобиля у него не было, он направил свой путь далее в сторону Севастопольской площади. Так как шел он пешком и не спеша, разбойники догнали его и с громкими криками попытались обойти с флангов. На следующий день наставник Кодзё объяснял Цюрюпе Исидору, что ему стоило бы не обнажать оружие сразу, а обратить на нарождающееся неприятное недоразумение внимание будочников, несущих стражу перед автостоянкой гостиницы «Севастополь». Но в глубине души даже наставник Кодзё понимал, что в этом случае Цюрюпе Исидору пришлось бы сражаться не с двумя, а как минимум с пятью нетрезвыми блюстителями порядка. Поэтому строгому наказанию он самурая не подверг. Просто настоятельно попросил не приближаться к воинам кланов Гаи и Гибедидэ на расстояние, которое могло бы пробудить их знаменитую ярость. Во избежание.О ДИАЛЕКТИКЕ ТЕКУЩЕГО МОМЕНТА
Однажды самурай Цюрюпа Исидор спросил почтительно у своего наставника Кодзё: — Учитель, что означает фраза «по многочисленным просьбам трудящихся», которую иногда приходится слышать? — В давние времена — сказал наставник Кодзё, — когда не было еще олигархов и питерских, а даймё были достойными вассалами богов, Императора и сегуна, существовал такой обычай: перед каждым большим праздником народ приходил ко дворцу правителя и умолял его перенести ближайшие выходные на какой-нибудь другой день. Если праздник, например, приходился на субботу, то народ просил праздничный субботник провести в пятницу, а субботу сделать рабочим днем во славу Будды. При этом от отпуска отнимался один день, который следовало провести на уборке риса в молитвах и трудах во славу прародительницы Императора богини Аматэрасу, а еще один день, наоборот, добавлялся к каждому четвертому календарному году. Если правитель был благочестив и внимал просьбам трудящихся, тогда и на него, и на народ снисходила радость упорного труда: люди занимались уборкой территории, законно восхваляя мудрость властей предержащих, а знать испытывала глубокое удовлетворение от исполненного перед народом долга… — Увы, — продолжал наставник Кодзё, горестно покачивая головой. — Времена те давно миновали, и теперь только произнесенная тобой фраза напоминает о них. Ныне народ наш, сколь бы многочисленны ни были его просьбы, не может рассчитывать, что его чаяния будут услышаны лицами возвышенными и ответственными. И это верно, ибо, согласно законам Будды, на пути к совершенству каждое новое деяние должно отменять предыдущее… — Учитель, — почтительно сказал самурай Цюрюпа Исидор, — рассказанное тобой удивительно. Мне следует глубоко обдумать то, что я услышал сейчас. — Но ты услышал еще не все, — возразил наставник Кодзё. — Ибо, если верно сказанное ранее и, согласно законам Будды, на пути к совершенству каждое новое деяние должно отменять предыдущее, то и народ сейчас не должен уповать на благородство своих правителей, а к благу своему и государства стремиться только своими собственными силами. — Означает ли это, — удивился самурай Цюрюпа Исидор, — что народ и власть сейчас никак не связаны друг с другом, и все добро, что творит власть, не имеет для народа никакого значения, а все благо, что творит народ, безразлично для власти?.. — …и деяния эти взаимно отменяют друг друга в полном согласии с учением Будды! — торжественно закончил наставник Кодзё. И самурай Цюрюпа Исидор заплакал, преисполнившись восторгом перед совершенной мудростью приоткрывшихся ему тайн государственного устройства.О МИМОЛЕТНОСТИ ВДОХНОВЕНИЯ
Однажды в последний день весны самурай Цюрюпа Исидор вспомнил, что не приготовил подарка ко дню рождения даймё Коваленина, к которому и он сам, и наставник Кодзё испытывали глубочайшее почтение. Огорчившись, самурай сурово отчитал себя за небрежение к высокому, взял с полки книгу, приличествующую случаю, и принялся читать, одновременно утоляя жажду нагретым саке. Когда саке закончилось, самурай Цюрюпа Исидор был уже почти в том самом настроении, которое потребно для создания подарка даймё Коваленину. Но все-таки самурай чувствовал, что для достижения совершенства ему нужно еще совсем немного саке. Поэтому он встал, поклонился гипсовому Будде и пошел в магазин. Но когда самурай спускался по лестнице, вдруг его озарило, и он начал произносить стихи:Ночь с Мураками.
Теперь не могу уснуть…
Ночь с Мураками.
Теперь не могу уснуть —
Считаю овец.
О СЕКРЕТАХ ПОДЛИННОГО МАСТЕРСТВА
Однажды самурай Цюрюпа Исидор и его наставник Кодзё беседовали о стратегии, и наставник Кодзё напомнил самураю историю о том, как великий Мусаси обратил в бегство десяток ронинов, которые вздумали приставать к нему на постоялом дворе во время трапезы. Не обращая внимания на громкие оскорбления, Мусаси палочками для еды поймал на лету муху. Увидев сие, невежды смутились и с почтительными поклонами покинули место так и не начавшейся схватки. — Чем выше мастерство, тем меньше средств нужно мастеру для победы, — сказал наставник Кодзё. Самурай Цюрюпа Исидор принялся усиленно тренироваться, и вскоре уже никто в Чертанове не мог с ним сравниться в искусстве ловли мух палочками для еды. Самурай даже взял за правило всюду носить с собой не один комплект палочек, а два — один для еды, а другой для мух. Однажды поздним вечером на улице Красного Маяка самурай Цюрюпа Исидор повстречал отряд сильно нетрезвых футбольных ронинов в бело-красных ги. Как он и ожидал, наглецы решили напасть на него и принялись поднимать свой боевой дух, громко понося внешний вид самурая и его предков по материнской линии. Самурай же, стоя под фонарем, только умиротворенно улыбался в ответ, держа наготове палочки для мух и предвкушая легкую победу. Когда страсти и крики достигли нужного накала, самурай Цюрюпа Исидор решил, что пришло время продемонстрировать невежам его превосходство. И как-то вот так случилось, что именно в этот момент рядом с ним не оказалось ни одной подходящей мухи. Так самурай Цюрюпа Исидор на свой шкуре постиг настоящий смысл стратегии.О ТОМ, КАКУЮ ВЕЛИКУЮ ВЛАСТЬ ИСКУССТВО ИМЕЕТ НАД ЖИЗНЬЮ САМУРАЙ
Однажды в среду самурай Цюрюпа Исидор так увлекся чтением «Пионового фонаря», что едва не опоздал на службу. Спохватившись в последнюю минуту, он схватил мечи и выскочил из квартиры, чуть не сбив с ног Такэто Нутипа, своего доброго соседа из квартиры снизу. — Так это, — крикнул ему вслед Такэто, — ты, ну, типа, как насчет вечером посидеть?.. Но самурай Цюрюпа ничего не ответил доброму соседу, поскольку очень уж спешил. Поэтому Такэто Нутипа довольно сильно на самурая обиделся и пробурчал в его адрес что-то такое, что сам он по доброте душевной считал безобидным междометием. Но Будда, видимо, рассудил иначе, потому что принял, судя по всему, слова доброго соседа всерьез. И предпринял меры, чтобы слова эти воплотились в жизнь. А была, как мы уже знаем, среда. И такси поблизости не было — возможно, по этой самой причине. Поэтому самураю Цюрюпе Исидору пришлось останавливать частника. Частник же был на «Жигулях», а это привело к тому, что на пересечении Семеновского и Буденного машину, на которой ехал самурай, остановил постовой. — Инспектор Гибедидэ Пахомов, — сказал милиционер. — Нарушаете! Ездите тут!.. — Да я… — начал было водитель. — Да, и вы тоже, — сразу согласился с ним инспектор, который называл себя Гибедидэ Пахомов. — Но я не к вам обращаюсь! Он подошел к правой дверце, за которой самурай Цюрюпа Исидор с нетерпением ждал, когда же ему позволено будет возобновить путь. — Вылезайте, — сказал самураю инспектор Гибедидэ Пахомов и принял вторую стойку облеченного властью. Самурай Цюрюпа Исидор покинул машину, оценил ситуацию и взялся за рукоять кодати. Увидев это, инспектор Гибедидэ Пахомов принял пятую стойку облеченного властью и спрятал свой раскрашенный дзё за спину, чем противника своего несколько смутил. — Мое имя Цюрюпа Исидор, я самурай клана Мосокава, — сказал самурай Цюрюпа Исидор. — Почему вы остановили меня, когда я спешу выполнить мой служебный долг? — Я уважаю ваш служебный долг, Исидору-сан, — ответил милиционер. — Но негоже и преступать обычай, который требует, чтобы вы заплатили подать, причитающуюся клану Гибедидэ от всякого, кто проезжает по принадлежащей нашему клану трассе. — Тогда назовите эту подать, — сказал самурай Цюрюпа Исидор, — и если она будет мне по средствам, я заплачу, если же нет, то я вынужден буду убить вас, чтобы не запятнать свою честь опозданием на службу. — Вы умный человек, Исидору-сан, — улыбнулся инспектор Гибедидэ Пахомов. — Вы же видите, что я жив, отсюда следует, что никому до сих пор не пришлось меня убивать. А это значит, что и подать не слишком обременительна — особенно для человека, достойно идущего по пути Бусидо. — Что же вам нужно? — спросил самурай Цюрюпа Исидор, демонстрируя нетерпение, недостойное человека, идущего по пути Бусидо. — Закон запрещает членам нашего клана прямо формулировать требования. Вы должны сами и по доброй воле предложить какой-нибудь выкуп, который считаете приличным. — Хватит ли для выкупа трех коку риса? — спросил самурай Цюрюпа Исидор, но тут же вспомнил, что у него нет с собой даже одной коку риса. Инспектор Гибедидэ Пахомов покачал головой., — Будь вы земледельцем, — сказал он укоризненно, — клан Гибедидэ мог бы принять от вас такой выкуп. Но вы — благородный воин. Поэтому приличным для вас будет лишь что-нибудь возвышенное… Кстати, не собираете ли вы случайно старинные гравюры укиё-э? — Нет, не собираю. — Может, вы сами рисуете случайно? — Я знаю, какой выкуп устроит клан Гибедидэ, — сказал самурай Цюрюпа Исидор. — В качестве пошлины вы примете от меня стихотворение, которую я сочиню прямо сейчас. — О, как это прекрасно! — воскликнул инспектор Гибедидэ Пахомов, поклонился и принял первую позу внимания. — Уверен, что клан одобрит такое благородное предложение! Тогда самурай Цюрюпа Исидор сел на асфальт, задумался на минуту, а затем встал и сказал:— Что за дорога,
Если ни рытвин, ни ям!
Спящий жандарм…
О СПОРТИВНОЙ И НЕСПОРТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СТРАТЕГИИ
Однажды самурай Цюрюпа Исидор и наставник Кодзё пили пиво «Асахи» и беседовали о футболе. Наставник Кодзё болел за ярославский «Шинник», потому что Ярославль — чудесный город, жители которого не способны относиться с высокомерным пренебрежением даже к столичным обитателям. Самурай Цюрюпа Исидор разделял уважение наставника к Ярославлю, но футбол уважал умеренно и как-то в целом, не отдавая предпочтения ни одной команде. Наставник Кодзё был доволен, потому что «Шинник» выиграл подряд уже шесть матчей чемпионата, а пиво «Асахи» было весьма приятным на вкус и привносило умиротворение в беседу. — Ив сражении, и в футболе победа тем весомее, чем более силен противник, — говорил наставник Кодзё. — К сожалению, в чемпионате невозможно самому выбирать себе противника, ибо все определяет календарь матчей. И случается так, что после победы над сильным соперником, которая много добавляет к чести команды, ей приходится сражаться с противником слабым и беспомощным. Но ведь победа в таком сражении не приносит ничего, кроме стыда! С другой стороны, нельзя забывать и то, что, вступая в сражение с более слабым клубом, сильная команда оказывает ему немалое уважение, уже самим проведением матча теоретически допуская свой проигрыш… — Но ведь для самурая проигрыш более слабому противнику — это позор, не совместимый с жизнью, — сказал самурай Цюрюпа Исидор. — А ты не путай жизнь со спортом, — посоветовал наставник Кодзё. — Принципы стратегии и понятие чести есть везде, но цена поражения и победы различна. И потом, если противник тебя победил, то разве можно считать, что он слабее тебя? — Допустим, меня застали врасплох, — возразил самурай Цюрюпа Исидор. Наставник Кодзё чуть не захлебнулся пивом «Асахи». — Светлейший Будда! И этому человеку я посвятил лучшие годы своей жизни! Если тебя можно застать врасплох, это значит лишь то, что противник избрал правильную стратегию, а ты — нет. И тогда он явно сильнее тебя, мудрее тебя и более достоин победы! Самурай Цюрюпа Исидор покачал головой. — Это не так, наставник. Все чаще и чаще вижу я людей, которые застают других врасплох тем, что пытаются победить любой ценой, не заботясь о своей чести. Их цель — запятнать все святое. И для достижения цели они могут утопить в позоре доброе имя своей семьи или убить ребенка. Именно в этом заключается их стратегия — в том, что достоинство не позволит противнику ответить им тем же. И даже уничтожив такого врага, я не могу уничтожить его нечистоту. Я чувствую, что она пятнает меня, и, значит, его стратегия эффективнее моей. Следует ли мне считать, что он сильнее и мудрее меня и более достоин победы?.. Наставник Кодзё с минуту молчал, держа пивную бутылку двумя пальцами за горлышко и покачивая ею в воздухе. — Что ж ты такой романтичный, — сказал он наконец. — Пятнает, говоришь? Сам виноват, надо было эту мразь давить еще до того, как она начала расплескивать кровь. И честь не в том, чтобы незапятнанным сидеть посреди свинарника. Она в том, чтобы взять лопату и тачку и вывезти всё дерьмо. Вот — стратегия. И до тех пор, пока ты чувствуешь вонь, Сунь Цзы и «Хагакурэ» могут подождать. Наставник Кодзё допил пиво, поставил пустую бутылку рядом с собой и нахмурился. — Да уж, поговорили о футболе, — пробормотал он печально. — Как я хочу в Ярославль…О ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖЕРТВАХ, ПОТРЕБНЫХ ДЛЯ НАУКИ
Однажды самурай Цюрюпа Исидор пришел домой со службы и привычно включил телевизор. Надо сказать, что самурай Цюрюпа Исидор как убежденный буддист смотрел телевизор исключительно буддистскими способами. Вот и сейчас он повернул телевизор так, чтобы экран был виден стоящему на комоде гипсовому Будде, а сам ушел на кухню разогревать саке в микроволновке. И даже не слышал, что там по телевизору в новостях говорят. А если вдруг и слышал, то не понимал. Поэтому когда на кухне ему стало что-то не слишком хорошо, он как-то не сразу связал пошатнувшееся самочувствие именно с новостями. Подумал, может, на службе чем-то отравился. Или кефир был некачественный, не знаю? Саке-то он еще даже разогреть толком не успел. И потом — какому же самураю от саке плохо бывает? Когда самурай Цюрюпа Исидор в третий раз выпрямился после прочистки желудка, он заметил, что гипсовый Будда как-то не слишком приветливо на него смотрит из комнаты. Кажется, так бы и забодал он самурая Цюрюпу Исидора, если бы было чем. Нехороший был такой взгляд у Будды. Причем, понятно было, что осуждает Будда не то, что самурай Цюрюпа Исидор мается желудком — к такому недомоганию Будда всегда относился с пониманием, учитывая всегдашние высокое качество и свежесть московских молочных продуктов. Но что же тогда так возмутило Просветленного? Озадачившись, самурай Цюрюпа Исидор взял пульт, выключил телевизор — и его тут же перестало мутить! Мало того — Будда сразу же перестал сердиться и даже улыбнулся. Удивился самурай Цюрюпа Исидор, как никогда доселе не удивлялся. Хотел было позвонить наставнику Кодзё, чтобы спросить у того совета, но решил сначала проверить, верно ли он все понял. Но, конечно, Будду он больше мучить телевизором не хотел, а потому вынес его на балкон и поставил там, чтобы Просветленный мог без помех побеседовать с голубями. Может быть, даже с воробьями. Самурай даже сёдзи задвинул поплотней, чтобы не мешать Будде звуками новостей. Свершив сие, самурай Цюрюпа Исидор помедитировал немного, дабы освободить дух свой от неприятного вкуса во рту, и снова включил телевизор. И тут же ему опять стало что-то не слишком хорошо. Причем, вроде бы, ничего плохого в новостях не было. Наоборот — урожай риса обещался невиданный, острова Шикотан и Итуруп рапортовали о богатейшей рыбной прибыли, а воровской лов краба, напротив, всемерно уменьшался. Доярка Чакробортьева второй раз уже родила пятерню, а знаменитый ниндзя-расстрига, известный под кличкой Макро-Бонсай, публично покаялся и был принят обратно в свой клан на испытательный срок. Всё это было хорошо, но почему-то самурая Цюрюпу Исидора от всех этих новостей тошнило все сильнее и сильнее, и даже самая глубокая медитация не могла уже избавить дух его от неприятного вкуса во рту. В конце концов, он все-таки позвонил наставнику Кодзё, но тут повествование о самурае Цюрюпе Исидоре должно остановиться, а внимание читателя хитроумно переключиться на шарфюрера Отто фон Какадзе, который по долгу службы слушал всё, что происходило в квартире самурая Цюрюпы Исидора. Именно в этот момент шарфюрер Отто фон Какадзе связался со своим непосредственным начальником кубфюрером Отто фон Высморком. — Ну и? — сурово и со значением спросил кубфюрер. — Эффект устойчивый, — доложил шарфюрер Отто фон Какадзе. — Блюёт, как заведенный. — Поразительно, — сурово и со значением сказал кубфюрер. — Другой бы на его месте давно выключил телевизор — и всё. — По-моему, он нас изучает, — предположил шарфюрер Отто фон Какадзе. — Исследует закономерности с целью в дальнейшем противодействовать. — Это опасно? — сурово и со значением осведомился кубфюрер. — Мы не знаем, — сознался шарфюрер Отто фон Какадзе. — Ясно одно: как только мы запускаем новости, у него это начинается опять. Как только не запускаем — пищеварение нормальное. — Тогда давайте пока временно не будем запускать, — сурово и со значением предложил кубфюрер. — А то скверфюреру позвонил лайнфюрер и сказал, что пойнтфюрер тоже не смог сегодня поужинать… Вы понимаете, что это может значить? — Нет, — соврал шарфюрер Отто фон Какадзе. — Вот и я не понимаю, — сурово и со значением соврал в ответ кубфюрер. — Но установка руководства такова: исследования не прекращать. И как только он научится нам противодействовать, нужно будет непременно перенять у него опыт. Если удастся, я вас представлю. Лично. — Служу России! — отрапортовал по уставу шарфюрер Отто фон Какадзе. — Вольно, — сурово и со значением скомандовал кубфюрер и выдержал паузу. На это шарфюрер Отто фон Какадзе не нашелся что ответить и секунд пять потрясенно молчал. — Шутка, — сурово и со значением пояснил кубфюрер Отто фон Высморк. И дал отбой. Как раз в это время гипсовый Будда на балконе самурая Цюрюпы Исидора беседовал о высоком с воробьем, который, по иронии кармы, в прошлой жизни тоже был кубфюрером. Правда, ещё в те времена, когда телевизоры были совсем маленькими и гораздо больше походили на третий глаз, чем нынешние.О СЛОЖНЫХ ЖИЗНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
 Однажды весною, в час небывало жаркого заката, самурай Цюрюпа Исидор сидел на скамеечке у Патриарших прудов, пил холодное пиво «Асахи» и совершенно ничего не делал. Ему было просто хорошо. Он очень любил это место.
И надо же такому случиться, чтобы как раз в это время мимо проходила целая делегация иностранных консультантов, среди которых были, как понял самурай Цюрюпа Исидор, и несколько подданных Императора. Под данные эти привычно носили платья гайдзинов, но самурай давно уже такому не удивлялся, так как придерживался широких взглядов на жизнь.
Подданные же, напротив, придерживались, по всей видимости, взглядов весьма узких, потому что они начали неприлично громко смеяться, тыкать пальцами в сторону Цюрюпы Исидора и что-то обсуждать на непонятном для самурая английском языке. Такое поведение говорило об их низком происхождении, а с таких разве можно требовать вежливости? Поэтому самурай продолжал сидеть на скамеечке и попивать холодное пиво.
Вскоре от группы галдящих иностранных консультантов отделился высокий гайдзин, подошел к самураю Цюрюпе Исидору и вежливо ему поклонился.
— Мое имя есть Андзин-сан, — сказал он по-русски, но с глубоким акцентом. — Могу я сесть в ряд с вами?
— Конечно, — ответил самурай Цюрюпа Исидор. — Меня зовут Цюрюпа Исидор, я самурай клана Мосокава. И я прошу у вас прощения за то, что не поднялся вам навстречу.
— Вы правильно сделали, Исидору-сан, — кивнул Андзин-сан. — У вас мечи, и я мог принять вашу вежливость как агрессию.
— Просто хороший вечер, — пояснил самурай. — А обязанности мои на сегодня исчерпаны… Хотелось насладиться закатом.
— Я вас отвлек от созерцания прекрасного, — сокрушенно сказал Андзин-сан, — приношу извинения. Но мои коллеги просили узнать — почему вы одеты в этот странный костюм?
— Уважаемый Андзин-сан, — сказал самурай Цюрюпа Исидор. — Я вижу, что вы культурный человек, и я уверен, что вы не хуже меня знаете ответ на этот вопрос. Более того, я заметил, что вам самому гораздо более удобна и привычна была бы одежда, подобная моей, чем та, которую вы сейчас носите по обязанности. И, при всей вашей выдержке, вам не удается скрыть огорчение оттого, что ваши мечи остались на постоялом дворе. Боюсь, что вы правы: нынешним вашим спутникам всего этого не понять. А потому скажите им, что я простой актер, наряженный в шутовской наряд для развлечения горожан. Именно такого ответа они ждут, а потому и поверят ему сразу. Я же буду счастлив встретиться с вами в другое время и в удобном для вас месте, когда ваши мечи снова будут при вас.
Андзин-сан был настолько поражен этой речью, что поднялся со скамейки и глубоко поклонился самураю.
— Вы — хатамото? — спросил он, и в голосе его звучало самое искреннее восхищение.
— Я простой воин, идущий путем меча, — сказал Цюрюпа Исидор. — И не кланяйтесь мне больше, вы же не сможете объяснить своим спутникам, почему выказывали уважение простому актеру, как будто равному. Саёнара, Андзин-сан.
— Саёнара, Исидору-сан, — ответил Андзин-сан, все-таки поклонился еще раз и быстрым шагом человека, привыкшего к гэта, направился к поджидавшим его подданным Императора.
— Бедняга, — пробормотал ему вслед самурай Цюрюпа Исидор. — Как же тебя угораздило.
Он откинулся на спинку скамейки, зажмурился и поднес к губам горлышко бутылки.
Зазвонил мобильник.
Однажды весною, в час небывало жаркого заката, самурай Цюрюпа Исидор сидел на скамеечке у Патриарших прудов, пил холодное пиво «Асахи» и совершенно ничего не делал. Ему было просто хорошо. Он очень любил это место.
И надо же такому случиться, чтобы как раз в это время мимо проходила целая делегация иностранных консультантов, среди которых были, как понял самурай Цюрюпа Исидор, и несколько подданных Императора. Под данные эти привычно носили платья гайдзинов, но самурай давно уже такому не удивлялся, так как придерживался широких взглядов на жизнь.
Подданные же, напротив, придерживались, по всей видимости, взглядов весьма узких, потому что они начали неприлично громко смеяться, тыкать пальцами в сторону Цюрюпы Исидора и что-то обсуждать на непонятном для самурая английском языке. Такое поведение говорило об их низком происхождении, а с таких разве можно требовать вежливости? Поэтому самурай продолжал сидеть на скамеечке и попивать холодное пиво.
Вскоре от группы галдящих иностранных консультантов отделился высокий гайдзин, подошел к самураю Цюрюпе Исидору и вежливо ему поклонился.
— Мое имя есть Андзин-сан, — сказал он по-русски, но с глубоким акцентом. — Могу я сесть в ряд с вами?
— Конечно, — ответил самурай Цюрюпа Исидор. — Меня зовут Цюрюпа Исидор, я самурай клана Мосокава. И я прошу у вас прощения за то, что не поднялся вам навстречу.
— Вы правильно сделали, Исидору-сан, — кивнул Андзин-сан. — У вас мечи, и я мог принять вашу вежливость как агрессию.
— Просто хороший вечер, — пояснил самурай. — А обязанности мои на сегодня исчерпаны… Хотелось насладиться закатом.
— Я вас отвлек от созерцания прекрасного, — сокрушенно сказал Андзин-сан, — приношу извинения. Но мои коллеги просили узнать — почему вы одеты в этот странный костюм?
— Уважаемый Андзин-сан, — сказал самурай Цюрюпа Исидор. — Я вижу, что вы культурный человек, и я уверен, что вы не хуже меня знаете ответ на этот вопрос. Более того, я заметил, что вам самому гораздо более удобна и привычна была бы одежда, подобная моей, чем та, которую вы сейчас носите по обязанности. И, при всей вашей выдержке, вам не удается скрыть огорчение оттого, что ваши мечи остались на постоялом дворе. Боюсь, что вы правы: нынешним вашим спутникам всего этого не понять. А потому скажите им, что я простой актер, наряженный в шутовской наряд для развлечения горожан. Именно такого ответа они ждут, а потому и поверят ему сразу. Я же буду счастлив встретиться с вами в другое время и в удобном для вас месте, когда ваши мечи снова будут при вас.
Андзин-сан был настолько поражен этой речью, что поднялся со скамейки и глубоко поклонился самураю.
— Вы — хатамото? — спросил он, и в голосе его звучало самое искреннее восхищение.
— Я простой воин, идущий путем меча, — сказал Цюрюпа Исидор. — И не кланяйтесь мне больше, вы же не сможете объяснить своим спутникам, почему выказывали уважение простому актеру, как будто равному. Саёнара, Андзин-сан.
— Саёнара, Исидору-сан, — ответил Андзин-сан, все-таки поклонился еще раз и быстрым шагом человека, привыкшего к гэта, направился к поджидавшим его подданным Императора.
— Бедняга, — пробормотал ему вслед самурай Цюрюпа Исидор. — Как же тебя угораздило.
Он откинулся на спинку скамейки, зажмурился и поднес к губам горлышко бутылки.
Зазвонил мобильник.
Николай Васильев Побочный эффект
— Нет, я человек откровенный и не люблю скрывать ничего от людей, мне предающихся. Слушай и пойми меня хорошенько: способность, которую я даю тебе, сделается частию тебя самого; она не оставит тебя ни на минуту в жизни, с тобою будет расти, созревать и умрет вместе с тобою. Согласен ли ты на это?В. Ф. Одоевский. — Импровизатор
Рассказ
 Сосновый бор подступал к самой дороге. Я покрутился вокруг остановки, пока не разглядел тропинку. Тропинка была тонкая и почти незаметная, словно по ней ходили очень редко. В бору пахло хвоей, под ногами шуршали сухие шишки. Ко мне тут же прилипли огромные жирные пауты, они преследовали меня до самого забора. Я прошел несколько метров и наткнулся на ворота, у которых увидел старенькую — тойоту. Отмахиваясь от паутов, я миновал калитку и вступил на территорию клиники. Вдоль дороги стояли двухэтажные корпуса, обсаженные сиренью, которая вот-вот должна была зацвести. Сразу налево была аптека, а если пройти дальше, я это помнил, — кухня. Нужный корпус находился передо мной.
Над дверью висела табличка: — ТОКПБ, 10-е отделение. Я поднялся на крыльцо в две ступеньки и нажал на кнопку звонка. Клумбы возле крыльца были очищены от травы, кто-то даже разбил цветник. Замок загрохотал, дверь открыл низкий, ниже меня на голову, но коренастый санитар.
— Вы к кому? — спросил он хмуро, вид у него был заспанный.
— К заведующему, — сказал я и в этот момент узнал санитара.
— Здравствуйте, доктор! — сказал он радостно взбодрившимся голосом. Он тоже узнал меня.
— Добрый день, Фельдфебльер, — сухо сказал я. — Заведующий у себя?
— А его нет! — еще радостнее сказал санитар.
— Я же видел его машину у ворот.
— Значит, скоро будет. Может, в вестибюле подождете? — предложил он.
— Спасибо, — ответил я. — Но я лучше на улице.
Он пожал плечами, нагло ухмыляясь, и захлопнул дверь. Я сел на лавку, что стояла у крыльца, и закурил. Ждать пришлось недолго. Минут через пять я увидел Карла, который широко шагал по дороге. Расстегнутый халат развевался, как плащ полководца, однако, приближаясь к корпусу, Карл приостановился и застегнул халат на все пуговицы. Тут он заметил меня. Я встал и, как обычно, почувствовал неловкость, уткнувшись взглядом в самый узел его галстука. Господин доктор… Видимо, также чувствует себя Фельдфебльер, стоя рядом со мной, подумал я, хотя, впрочем, вряд ли.
— Здравствуй, Ян, — сказал Карл, протягивая руку. — Извини, что заставил ждать — летучка у главного.
Я сказал, что ничего страшного. Он звонил в дверь и говорил, что очень рад меня видеть, и его радость была искренней. Санитар, увидев доктора, сразу похмурел и снова стал похож на человека, не спавшего всю ночь.
— Доктор, сколько мне еще терпеть? — спросил он.
— Виктор, подежурьте еще немного, — сказал Карл.
— Значит, Алекс вовремя не пришел, а я за него буду отдуваться! — возмущался санитар. — Я сутки дежурил! Имею я право на отдых?!
— Ну, Виктор, идите, отдохните там, в подсобке. Поймите, я же не могу без санитара.
Санитар только махнул рукой. Дверь в кабинет Карла была тут же, в вестибюле, отгороженном от самого отделения железной решеткой. Из глубины отделения послышался шум — бурчание, переходящее в крик. Фельдфебльер направился было туда, но у решетки встал какой-то больной в полосатой больничной пижаме, и санитар криком отогнал его.
— Я на толчок, — медленно сказал больной.
— Так иди на толчок! А то встал и стоит! Нечего здесь стоять! — сказал санитар зло. — Зассанец! — добавил он вслед больному.
В маленьком кабинете едва умещался стол, шкаф с книгами и сейф. На столе стоял компьютер. Не успел я высказать удивление по поводу такового технического прогресса, как в дверь постучали. В кабинет вошла медсестра и, не заметив меня, начала:
— Карл, он опять…
Карл закашлялся. Медсестра обернулась и явно смутилась. Была она маленькая, что называется, миниатюрная. Я привстал. Карл познакомил нас, ее звали Клара. Клара у Карла украла кораллы — вспомнил я. А Карл у Клары украл…
— Доктор Мингерц, — снова начала Клара, оглядываясь на меня, — опять там Жаботинский безобразит.
— Опять… — вздохнул Карл. — Ну, привяжите его, что ли.
Когда она удалилась, я сразу предложил приступить к делу. (На прошлой неделе Карл вдруг позвонил мне и попросил побеседовать с одним его больным, мол, очень нужно, уникальный случай. Я не совсем понял, что от меня требуется, но сказал, что с радостью помогу.) Карл протянул мне папку с личным делом. Я просмотрел ее. Когда санитар привел больного, Карл, сказав, что лучше нам побеседовать вдвоем, вышел.
Я отложил личное дело и поздоровался. Больной поздоровался тоже и сел на стул, на самый краешек. Он был обрит наголо, отчего его оттопыренные уши казались еще больше, они были просто огромны. Одет он был в больничную одежду: штаны были слишком широки и тянулись до пола, а рубашка, напротив, слишком узка, и тонкие руки торчали из рукавов. Сидел он, сгорбившись, глядя вниз. Он положил было ногу на ногу, но опорная нога стала трястись. Она отбивала на паркете такую чечетку, что больной не мог удержать ее и локтем. Он виновато улыбнулся. Бывает, подумалось мне. Побочный эффект…
— Киприан Галка? — спросил я мягко. Он кивнул. Я представился.
— Что ж, — сказал я. — Киприан, сколько времени вы находитесь в больнице?
— Месяц, — ответил Галка неуверенно.
— А почему вы сюда попали?
— Попытка суицида, — ответил он более уверенно, даже заученно.
— А вы можете сформулировать, в чем была причина этой попытки?
— Вы все равно не поверите, — сказал Галка усталым голосом.
— Попробуйте, — улыбнулся я.
— Никто не верит. Вы тоже не поверите.
— А кому вы рассказывали? — спросил я, чтобы прекратить этот пинг-понг.
— Доктору в травматологии, — начал перечисление Галка. — Доктору в диспансере. Доктору в приемном покое. Заведующему отделением.
— Я вас понимаю. Я преподаю в институте, и тоже, знаете ли, приходится талдычить одно и то же каждый год.
— Но вам-то верят! — вдруг вскинулся Галка.
Я хотел посмотреть в его глаза, но он опустил голову снова.
— Давайте представим, что вы никому еще не рассказывали.
— Ладно, — сказал он так, что стало понятно: ему просто не хотелось спорить.
— Тут написано, что вы обладаете неким даром…
— Не знаю я, что они там понаписали! — резко прервал меня Галка. — Я такого никогда не утверждал.
— Хорошо, скажем так — талантом.
— Дар… — пробормотал Галка презрительно. — Никогда я не произносил такого слова.
— Талант? —повторил я.
— Вы еще скажите — гениальность. Просто — способность. Можно даже сказать — чувство. Как есть чувство осязания и слуха, так и здесь…
— А как это называется? Телепатия?
— Называйте как хотите. Можно и так. Хотя от этого слова веет шарлатанством. — В его голосе все больше слышались нотки самоуверенности.
— От ваших утверждений тоже веет шарлатанством, — заметил я.
— Я же говорил, что вы не поверите! — снова повысил голос Галка, и даже огромные уши его покраснели.
— Вы же понимаете, что звучит это, мягко говоря, фантастично.
— Конечно, — пожал он плечами.
— Но ведь это легко проверить экспериментальным путем. О чем я сейчас думаю?
— Вы думаете: почему он врет? — усмехнулся Галка.
— Я не думаю, что вы врете, — сказал я и сам же усомнился в своих словах.
— Как вам будет угодно, — совсем высокомерно сказал Галка.
— Скажите, Киприан, а каков, что называется, радиус действия?
— Точно не знаю. Пара километров.
— Хорошо, если вы обладаете этим даром… этой способностью, почему же вы решились на такой крайний шаг?
Он снова поднял голову. Я увидел его черные глаза, они щурились, словно от солнца. Он смотрел прямо на меня, не отрывая взгляд.
— Неужели вы не понимаете? — спросил он с болью.
— Признаться, не очень. С такой способностью можно стать… не знаю, властелином мира.
— Почему же вы не стали властелином мира, с вашей способностью видеть и слышать?
— Не очень корректный пример, Киприан. Ведь видеть и слышать могут многие. А вот читать мысли…
— Согласен. Но я не понимаю, как бы я мог использовать свою способность. Стать шпионом? Но вы считаете, что реакция спецслужб отличалась бы от реакции доктора из травматологии, который вызвал пятую бригаду?
Я подумал, что в этом он прав.
— А вы знаете, каково это — всегда понимать мысли других людей? — продолжал Галка. — Представьте, что в ваше ухо встроен радиоприемник, и он всегда работает, днем и ночью. Даже когда вы спите, вы тоже слышите его, он мешает вам спать. Иногда это ясные голоса, иногда просто неразличимый гул, трески, помехи. А выключить его нельзя. Это можно терпеть неделю, месяц, год, но не пять лет. Пять лет — это предел. Проверено экспериментальным путем, — добавил он, натужно улыбаясь.
— Значит, вы решили таким образом выключить его? — спросил я, поймав себя на мысли: почему он врет?
Он снова опустил голову, а может, он так кивнул.
— А сейчас, находясь в больнице, вы слышите свой радиоприемник? — спросил я.
— Конечно, — ответил он тихо. — Но тут он словно приглушен. До ближайшего поселка далеко, докторов я вижу редко, а больные так накачаны таблетками, что просто издают легкий шум. И иногда просятся домой.
— А Фельдфебльер?
— Тут никакой телепатии не требуется, — сказал Галка. — У этого типа одно на уме.
Точно, подумал я.
— Ну, что ж, спасибо за беседу, Киприан. Было очень приятно. Карл сидел в вестибюле, на диване для посетителей и читал газету.
Я сказал, что не вижу ничего уникального. Карл выглядел разочарованным. Неужели он, психиатр высшей категории…
Тут входная дверь открылась, и вошли три пары больных. Они несли большие кастрюли с едой. Ручки кастрюль были обернуты полотенцами. В вестибюле сразу стало тесно и шумно. Среди больных был и Жаботинский, совсем за это время ссутулившийся и исхудавший, но все такой же назойливый.
— Доктор Йохан, доктор Йохан, доктор Йохан, — затараторил он, чуть не намереваясь схватить меня за одежду, — приветствую, приветствую. Как дела, а? Как дела, доктор Йохан, доктор Йохан?
— Хорошо, Жаботинский, хорошо, — сказал я, поднимая руки перед грудью.
— Доктор Жан, доктор Жан, доктор Жан, — продолжал он, — когда будет комиссия, а? Проверка когда будет, доктор Жан?
В вестибюле появился Фельдфебльер, поигрывая ключами. Я поглядел на Карла, но он промолчал, стараясь придать лицу нейтральное выражение.
— Вам же указали привязать Жаботинского, — строго обратился я к санитару.
— А чего? — воскликнул санитар, глядя только на Карла. — Тру-до-те-ра-пи-я! — назидательно сказал он. — Так ведь, доктор Мингерц?
Карл словно стал ниже ростом и все еще молчал. Из коридора высунулся Галка и попросил разрешения пройти в палату. Карл отмахнулся. Санитар спокойно, не обращая на нас внимания, повел больных в отделение. Галка, снова сгорбившись и утеряв свое высокомерие, уныло побрел вслед за ними. Жаботинский затараторил, обращаясь к нему:
— Чебурашка, Чебурашка, Чебурашка, у нас сегодня борщ на обед, борщ, борщ, на обед борщ, Чебурашка.
— Заткнись, Жаба! — прикрикнул на него санитар, и Жаботинский действительно замолк.
— Почему ты не уволишь этого гада? — спросил я Карла достаточно громко, чтобы это можно было услышать в коридоре.
— А почему ты сам этого не сделал, Ян? — тихо спросил Карл.
Я покинул клинику. Случай Галки показался мне заурядным, и ничем помочь Карлу я не мог. Однако какое-то сомнение — уникум во мне зародил. Через месяц я решил узнать, как у него продвигаются дела, но связаться с Карлом никак не мог. Домашний телефон не отвечал, а в клинике неизменно говорили, что доктор Мингерц только сейчас вышел на минутку. Однажды трубку поднял сам Фельдфебльер. Я, как настоящий телепат, просто видел его гнусную ухмылку, когда он говорил, что доктора Мингерца только сейчас вызвали к главному. А потом он спросил, будто не узнал мой голос, кто это говорит. Я повесил трубку и смачно высказал зеркалу, что я думаю по поводу всех сотрудников 10-го отделения ТОКПБ и, в частности, по поводу ихнего младшего медперсонала. В конце концов, мне надоела эта глупая игра, я решил, что если Карл просил моей помощи, то я имею право узнать о судьбе пациента.
…Сирень уже отцвела. Открыл неизвестный мне санитар. Как я и ожидал, доктор Мингерц вышел на минутку. Я подергал дверь Карлова кабинета, но она была заперта. Я попросил пустить меня в препараторскую, но санитар воспротивился. Через решетку я увидел, как в другом конце коридора открылась дверь в подсобку и оттуда вышли по очереди: сначала Клара, миниатюрной ручкой поправляя волосы, а затем — Фельдфебльер собственной персоной, на ходу застегивая ширинку. Тут никакой телепатии не требуется, вспомнил я и решил уйти, но Фельдфебльер уже направился ко мне.
— Что же ты, Алекс, держишь гостя на пороге? — пожурил он другого санитара и громко поздоровался со мной, саркастически назвав меня — доктор Йохан.
— Я бы хотел повидать доктора Мингерца, — сказал я ему, не ответив на приветствие.
— Карл вышел на минутку. А что вас интересует?
Алекс уже испарился, и я подумал, что мог бы сейчас безнаказанно врезать по этой наглой харе… размазать его по стенке… стереть в порошок…
— Может, вы хотите узнать о Галке? — невинно спросил санитар. Я удивился, но виду не подал, а сухо сказал, что да, хотел бы.
— Так он умер, — просто сказал санитар. Я снова никак не проявил себя.
Санитар с шутками и прибаутками рассказал мне, что Галка от своей телепатии вылечился. Вернее, утверждал, что вылечился. Он стал весел и разговорчив, его часто навещали мать и сестра. Галка всем окружающим говорил, что теперь все будет хорошо. Карл решил, что он действительно пошел на поправку, и даже отпустил его в домашний отпуск. Галка в одиночестве гулял по улице, где нарвался на каких-то подонков. Толком неизвестно, что между ними произошло, но Галка оказался в реанимации с несколькими ножевыми ранениями. Он прожил еще сутки.
— Ему бы, идиоту, эту свою телепатию применить — он бы понял, что к чему. Но никакой телепатии уже не было, — еле сдерживая смех, закончил санитар. На его лице, по обыкновению, сияла наглая ухмылка.
Сосновый бор подступал к самой дороге. Я покрутился вокруг остановки, пока не разглядел тропинку. Тропинка была тонкая и почти незаметная, словно по ней ходили очень редко. В бору пахло хвоей, под ногами шуршали сухие шишки. Ко мне тут же прилипли огромные жирные пауты, они преследовали меня до самого забора. Я прошел несколько метров и наткнулся на ворота, у которых увидел старенькую — тойоту. Отмахиваясь от паутов, я миновал калитку и вступил на территорию клиники. Вдоль дороги стояли двухэтажные корпуса, обсаженные сиренью, которая вот-вот должна была зацвести. Сразу налево была аптека, а если пройти дальше, я это помнил, — кухня. Нужный корпус находился передо мной.
Над дверью висела табличка: — ТОКПБ, 10-е отделение. Я поднялся на крыльцо в две ступеньки и нажал на кнопку звонка. Клумбы возле крыльца были очищены от травы, кто-то даже разбил цветник. Замок загрохотал, дверь открыл низкий, ниже меня на голову, но коренастый санитар.
— Вы к кому? — спросил он хмуро, вид у него был заспанный.
— К заведующему, — сказал я и в этот момент узнал санитара.
— Здравствуйте, доктор! — сказал он радостно взбодрившимся голосом. Он тоже узнал меня.
— Добрый день, Фельдфебльер, — сухо сказал я. — Заведующий у себя?
— А его нет! — еще радостнее сказал санитар.
— Я же видел его машину у ворот.
— Значит, скоро будет. Может, в вестибюле подождете? — предложил он.
— Спасибо, — ответил я. — Но я лучше на улице.
Он пожал плечами, нагло ухмыляясь, и захлопнул дверь. Я сел на лавку, что стояла у крыльца, и закурил. Ждать пришлось недолго. Минут через пять я увидел Карла, который широко шагал по дороге. Расстегнутый халат развевался, как плащ полководца, однако, приближаясь к корпусу, Карл приостановился и застегнул халат на все пуговицы. Тут он заметил меня. Я встал и, как обычно, почувствовал неловкость, уткнувшись взглядом в самый узел его галстука. Господин доктор… Видимо, также чувствует себя Фельдфебльер, стоя рядом со мной, подумал я, хотя, впрочем, вряд ли.
— Здравствуй, Ян, — сказал Карл, протягивая руку. — Извини, что заставил ждать — летучка у главного.
Я сказал, что ничего страшного. Он звонил в дверь и говорил, что очень рад меня видеть, и его радость была искренней. Санитар, увидев доктора, сразу похмурел и снова стал похож на человека, не спавшего всю ночь.
— Доктор, сколько мне еще терпеть? — спросил он.
— Виктор, подежурьте еще немного, — сказал Карл.
— Значит, Алекс вовремя не пришел, а я за него буду отдуваться! — возмущался санитар. — Я сутки дежурил! Имею я право на отдых?!
— Ну, Виктор, идите, отдохните там, в подсобке. Поймите, я же не могу без санитара.
Санитар только махнул рукой. Дверь в кабинет Карла была тут же, в вестибюле, отгороженном от самого отделения железной решеткой. Из глубины отделения послышался шум — бурчание, переходящее в крик. Фельдфебльер направился было туда, но у решетки встал какой-то больной в полосатой больничной пижаме, и санитар криком отогнал его.
— Я на толчок, — медленно сказал больной.
— Так иди на толчок! А то встал и стоит! Нечего здесь стоять! — сказал санитар зло. — Зассанец! — добавил он вслед больному.
В маленьком кабинете едва умещался стол, шкаф с книгами и сейф. На столе стоял компьютер. Не успел я высказать удивление по поводу такового технического прогресса, как в дверь постучали. В кабинет вошла медсестра и, не заметив меня, начала:
— Карл, он опять…
Карл закашлялся. Медсестра обернулась и явно смутилась. Была она маленькая, что называется, миниатюрная. Я привстал. Карл познакомил нас, ее звали Клара. Клара у Карла украла кораллы — вспомнил я. А Карл у Клары украл…
— Доктор Мингерц, — снова начала Клара, оглядываясь на меня, — опять там Жаботинский безобразит.
— Опять… — вздохнул Карл. — Ну, привяжите его, что ли.
Когда она удалилась, я сразу предложил приступить к делу. (На прошлой неделе Карл вдруг позвонил мне и попросил побеседовать с одним его больным, мол, очень нужно, уникальный случай. Я не совсем понял, что от меня требуется, но сказал, что с радостью помогу.) Карл протянул мне папку с личным делом. Я просмотрел ее. Когда санитар привел больного, Карл, сказав, что лучше нам побеседовать вдвоем, вышел.
Я отложил личное дело и поздоровался. Больной поздоровался тоже и сел на стул, на самый краешек. Он был обрит наголо, отчего его оттопыренные уши казались еще больше, они были просто огромны. Одет он был в больничную одежду: штаны были слишком широки и тянулись до пола, а рубашка, напротив, слишком узка, и тонкие руки торчали из рукавов. Сидел он, сгорбившись, глядя вниз. Он положил было ногу на ногу, но опорная нога стала трястись. Она отбивала на паркете такую чечетку, что больной не мог удержать ее и локтем. Он виновато улыбнулся. Бывает, подумалось мне. Побочный эффект…
— Киприан Галка? — спросил я мягко. Он кивнул. Я представился.
— Что ж, — сказал я. — Киприан, сколько времени вы находитесь в больнице?
— Месяц, — ответил Галка неуверенно.
— А почему вы сюда попали?
— Попытка суицида, — ответил он более уверенно, даже заученно.
— А вы можете сформулировать, в чем была причина этой попытки?
— Вы все равно не поверите, — сказал Галка усталым голосом.
— Попробуйте, — улыбнулся я.
— Никто не верит. Вы тоже не поверите.
— А кому вы рассказывали? — спросил я, чтобы прекратить этот пинг-понг.
— Доктору в травматологии, — начал перечисление Галка. — Доктору в диспансере. Доктору в приемном покое. Заведующему отделением.
— Я вас понимаю. Я преподаю в институте, и тоже, знаете ли, приходится талдычить одно и то же каждый год.
— Но вам-то верят! — вдруг вскинулся Галка.
Я хотел посмотреть в его глаза, но он опустил голову снова.
— Давайте представим, что вы никому еще не рассказывали.
— Ладно, — сказал он так, что стало понятно: ему просто не хотелось спорить.
— Тут написано, что вы обладаете неким даром…
— Не знаю я, что они там понаписали! — резко прервал меня Галка. — Я такого никогда не утверждал.
— Хорошо, скажем так — талантом.
— Дар… — пробормотал Галка презрительно. — Никогда я не произносил такого слова.
— Талант? —повторил я.
— Вы еще скажите — гениальность. Просто — способность. Можно даже сказать — чувство. Как есть чувство осязания и слуха, так и здесь…
— А как это называется? Телепатия?
— Называйте как хотите. Можно и так. Хотя от этого слова веет шарлатанством. — В его голосе все больше слышались нотки самоуверенности.
— От ваших утверждений тоже веет шарлатанством, — заметил я.
— Я же говорил, что вы не поверите! — снова повысил голос Галка, и даже огромные уши его покраснели.
— Вы же понимаете, что звучит это, мягко говоря, фантастично.
— Конечно, — пожал он плечами.
— Но ведь это легко проверить экспериментальным путем. О чем я сейчас думаю?
— Вы думаете: почему он врет? — усмехнулся Галка.
— Я не думаю, что вы врете, — сказал я и сам же усомнился в своих словах.
— Как вам будет угодно, — совсем высокомерно сказал Галка.
— Скажите, Киприан, а каков, что называется, радиус действия?
— Точно не знаю. Пара километров.
— Хорошо, если вы обладаете этим даром… этой способностью, почему же вы решились на такой крайний шаг?
Он снова поднял голову. Я увидел его черные глаза, они щурились, словно от солнца. Он смотрел прямо на меня, не отрывая взгляд.
— Неужели вы не понимаете? — спросил он с болью.
— Признаться, не очень. С такой способностью можно стать… не знаю, властелином мира.
— Почему же вы не стали властелином мира, с вашей способностью видеть и слышать?
— Не очень корректный пример, Киприан. Ведь видеть и слышать могут многие. А вот читать мысли…
— Согласен. Но я не понимаю, как бы я мог использовать свою способность. Стать шпионом? Но вы считаете, что реакция спецслужб отличалась бы от реакции доктора из травматологии, который вызвал пятую бригаду?
Я подумал, что в этом он прав.
— А вы знаете, каково это — всегда понимать мысли других людей? — продолжал Галка. — Представьте, что в ваше ухо встроен радиоприемник, и он всегда работает, днем и ночью. Даже когда вы спите, вы тоже слышите его, он мешает вам спать. Иногда это ясные голоса, иногда просто неразличимый гул, трески, помехи. А выключить его нельзя. Это можно терпеть неделю, месяц, год, но не пять лет. Пять лет — это предел. Проверено экспериментальным путем, — добавил он, натужно улыбаясь.
— Значит, вы решили таким образом выключить его? — спросил я, поймав себя на мысли: почему он врет?
Он снова опустил голову, а может, он так кивнул.
— А сейчас, находясь в больнице, вы слышите свой радиоприемник? — спросил я.
— Конечно, — ответил он тихо. — Но тут он словно приглушен. До ближайшего поселка далеко, докторов я вижу редко, а больные так накачаны таблетками, что просто издают легкий шум. И иногда просятся домой.
— А Фельдфебльер?
— Тут никакой телепатии не требуется, — сказал Галка. — У этого типа одно на уме.
Точно, подумал я.
— Ну, что ж, спасибо за беседу, Киприан. Было очень приятно. Карл сидел в вестибюле, на диване для посетителей и читал газету.
Я сказал, что не вижу ничего уникального. Карл выглядел разочарованным. Неужели он, психиатр высшей категории…
Тут входная дверь открылась, и вошли три пары больных. Они несли большие кастрюли с едой. Ручки кастрюль были обернуты полотенцами. В вестибюле сразу стало тесно и шумно. Среди больных был и Жаботинский, совсем за это время ссутулившийся и исхудавший, но все такой же назойливый.
— Доктор Йохан, доктор Йохан, доктор Йохан, — затараторил он, чуть не намереваясь схватить меня за одежду, — приветствую, приветствую. Как дела, а? Как дела, доктор Йохан, доктор Йохан?
— Хорошо, Жаботинский, хорошо, — сказал я, поднимая руки перед грудью.
— Доктор Жан, доктор Жан, доктор Жан, — продолжал он, — когда будет комиссия, а? Проверка когда будет, доктор Жан?
В вестибюле появился Фельдфебльер, поигрывая ключами. Я поглядел на Карла, но он промолчал, стараясь придать лицу нейтральное выражение.
— Вам же указали привязать Жаботинского, — строго обратился я к санитару.
— А чего? — воскликнул санитар, глядя только на Карла. — Тру-до-те-ра-пи-я! — назидательно сказал он. — Так ведь, доктор Мингерц?
Карл словно стал ниже ростом и все еще молчал. Из коридора высунулся Галка и попросил разрешения пройти в палату. Карл отмахнулся. Санитар спокойно, не обращая на нас внимания, повел больных в отделение. Галка, снова сгорбившись и утеряв свое высокомерие, уныло побрел вслед за ними. Жаботинский затараторил, обращаясь к нему:
— Чебурашка, Чебурашка, Чебурашка, у нас сегодня борщ на обед, борщ, борщ, на обед борщ, Чебурашка.
— Заткнись, Жаба! — прикрикнул на него санитар, и Жаботинский действительно замолк.
— Почему ты не уволишь этого гада? — спросил я Карла достаточно громко, чтобы это можно было услышать в коридоре.
— А почему ты сам этого не сделал, Ян? — тихо спросил Карл.
Я покинул клинику. Случай Галки показался мне заурядным, и ничем помочь Карлу я не мог. Однако какое-то сомнение — уникум во мне зародил. Через месяц я решил узнать, как у него продвигаются дела, но связаться с Карлом никак не мог. Домашний телефон не отвечал, а в клинике неизменно говорили, что доктор Мингерц только сейчас вышел на минутку. Однажды трубку поднял сам Фельдфебльер. Я, как настоящий телепат, просто видел его гнусную ухмылку, когда он говорил, что доктора Мингерца только сейчас вызвали к главному. А потом он спросил, будто не узнал мой голос, кто это говорит. Я повесил трубку и смачно высказал зеркалу, что я думаю по поводу всех сотрудников 10-го отделения ТОКПБ и, в частности, по поводу ихнего младшего медперсонала. В конце концов, мне надоела эта глупая игра, я решил, что если Карл просил моей помощи, то я имею право узнать о судьбе пациента.
…Сирень уже отцвела. Открыл неизвестный мне санитар. Как я и ожидал, доктор Мингерц вышел на минутку. Я подергал дверь Карлова кабинета, но она была заперта. Я попросил пустить меня в препараторскую, но санитар воспротивился. Через решетку я увидел, как в другом конце коридора открылась дверь в подсобку и оттуда вышли по очереди: сначала Клара, миниатюрной ручкой поправляя волосы, а затем — Фельдфебльер собственной персоной, на ходу застегивая ширинку. Тут никакой телепатии не требуется, вспомнил я и решил уйти, но Фельдфебльер уже направился ко мне.
— Что же ты, Алекс, держишь гостя на пороге? — пожурил он другого санитара и громко поздоровался со мной, саркастически назвав меня — доктор Йохан.
— Я бы хотел повидать доктора Мингерца, — сказал я ему, не ответив на приветствие.
— Карл вышел на минутку. А что вас интересует?
Алекс уже испарился, и я подумал, что мог бы сейчас безнаказанно врезать по этой наглой харе… размазать его по стенке… стереть в порошок…
— Может, вы хотите узнать о Галке? — невинно спросил санитар. Я удивился, но виду не подал, а сухо сказал, что да, хотел бы.
— Так он умер, — просто сказал санитар. Я снова никак не проявил себя.
Санитар с шутками и прибаутками рассказал мне, что Галка от своей телепатии вылечился. Вернее, утверждал, что вылечился. Он стал весел и разговорчив, его часто навещали мать и сестра. Галка всем окружающим говорил, что теперь все будет хорошо. Карл решил, что он действительно пошел на поправку, и даже отпустил его в домашний отпуск. Галка в одиночестве гулял по улице, где нарвался на каких-то подонков. Толком неизвестно, что между ними произошло, но Галка оказался в реанимации с несколькими ножевыми ранениями. Он прожил еще сутки.
— Ему бы, идиоту, эту свою телепатию применить — он бы понял, что к чему. Но никакой телепатии уже не было, — еле сдерживая смех, закончил санитар. На его лице, по обыкновению, сияла наглая ухмылка.
Аркадий Шушпанов Тот, в котором я
Рассказ
 Ночью, дождавшись, когда Оксана уснет, я осторожно расстегнул молнию вдоль позвоночника и выскользнул из себя.
Ощущение — будто снял противогаз. Замер, прислушиваясь. Тикали часы с немой кукушкой. Я застегнул молнию — а то мало ли. Обошел на цыпочках разложенный диван, наклонился над Оксаной. С трудом подавил желание поцеловать. Интересно, как бы это выглядело со стороны?
Босые ступни зачмокали, стоило шагнуть с ковра. «Тихо!» — мысленно приказал я.
Сначала зажег свет в ванной, оставив щелку между косяком и дверью. Больше и не надо. Принес из кухни табуретку. При моем теперешнем росте забраться с нее на антресоль нелегко. Встал на носки и вытянул спортивную сумку со снаряжением.
Уф. Первый этап пройден. Все отрепетировано много раз. Не скрипнет ни одна петля. Ксана радуется, какой я хозяйственный.
Станешь тут хозяйственным.
Я заперся в ванной. Распаковал сумку, стоя голыми коленками на холодной плитке. В Оболочке я сижу в одних трусах.
Одежда: джинсы, желтая футболка (три мамонта на груди), ветровка — из одного старого комплекта с джинсами. На кармане у нее медная плашка, как у американских копов.
Бластеры: большой — с помпой, два поменьше и один совсем маленький, похожий на однозарядный пистолетик-«дерринджер».
Я оделся, обул кроссовки. Отвинтил кран — так, чтобы не шумел, — и наполнил бластеры водой. По правде, воду лучше брать прямо на месте, из колонки. Но туда еще нужно добраться.
А Стенька покупные бластеры вообще не признает. Не наша, говорит, у них магия.
«Дерринджер» я вставил в игрушечную кобуру у щиколотки. Но сперва прочел над оружием заклинание. Сложил и зарифмовал его тоже Стенька. Извините, слов я вам не открою. Откуда я знаю, кто вы сейчас.
Зеркало в прихожей отразило знакомый силуэт. Никаких изменений. Надо ли говорить, что замок у нас работает бесшумно?
Сбегаю по широкой лестнице и, как в речку, ныряю в ночь. Ого! Железной двери с кодом нет и в помине. А ведь была еще вечером и, уверен, будет завтра утром.
Чего мы не решили — так это спим мы все-таки или не спим. Я пытался объяснить пилотам про коллективное бессознательное. Но вот беда — выйдя из Оболочки, я сам забываю, что это такое. Да и пилотам, по-моему, не интересно.
Ночь подхватила и понесла навстречу приключениям. Остановиться уже нельзя, хоть тресни. Сердце колотится — как будто тоже ищет молнию, но уже на груди.
Дом позади чернеет громадной стеной. Только под самым козырьком крыши светятся два окна. Заглянуть бы: кто это еще бодрствует в нашей реальности, — но некогда, некогда.
Перебегаю через двор, проскочив сквозь дыру в заборе, и мчусь за угол. Уже виден детский сад, угадывается наша веранда. А рядом — колонка.
Должна гореть, как минимум, сигнализация, но — ничего такого. Двухэтажное здание с балконом и колоннами похоже на готический замок. Жуткий и великолепный.
На веранде белеет футболка. Кажется, Антуан.
Сумка булькает, перелетев через ограду. Футболка вздрагивает. Я перелезаю сам, приземлившись на заповедной территории. Она огромная, территория. Тут вообще-то два детских сада, а между ними еще ясли. Все вместе — целый квартал. Затеряться так, чтобы тебя поискали, раньше было раз плюнуть.
— Илюха идет! Точно, Антуан. Здороваемся.
Антуан сидит на бортике веранды, прислонившись к столбу. Обозвать бы кариатидой — так ведь обидится, хотя и не поймет. Свой бластер он поставил на колено. У Антуана фигура Дон Кихота и профиль Сирано де Бержерака. С бластером это смотрится… вспомнить бы слово… колоритно.
Напротив, болтая ногами, пристроился Саша. В черной майке он почти невидим. Саша из нас самый маленький, но и самый сильный. Отжимается раз сто. Мама, глядя на них с Антуаном, всегда говорила: Пат и Паташон. Были раньше два таких клоуна. Антуан и Саша в классе тоже были два клоуна.
У Саши пара бластеров-пистолетов.
— А Стенька где?
— Тут, — ответил Саша. — Еще до меня был.
Значит, Стенька пришел первым.
— В «Тетрис» дуется, — сообщил Антуан.
Я зашел на веранду. Стенька сидел в дальнем углу. Футболка у него цвета хаки, а лоб пересекает грязно-зеленая повязка, в которой Стенька прошел кучу ролевых игр.
— Привет, — оторвался от компьютера и протянул руку. — Ты как?
— Нормально.
— Ксана?
— Спит.
— Теща?
— Какая теща?
— Будущая.
— Три дня, как уехала.
— Классно. — Стенька вернулся к дисплею. От «Тетриса» тут остался разве что корпус.
Я сел рядом. Бубнил Антуан. Кажется, он объяснял Саше хитрости игры «Алиса». Когда мы еще не нарастили Оболочки и не стали пилотами, ни о какой «Алисе», разумеется, не слышали. Мы ходили играть в ниндзя и вертолетные бои в Дом учителя.
Стенька связывался через спутник с Юркой Бригодкиным. Тот последнее время почему-то молчал, и кое-кто из пилотов тоже. Юрка вместе с родителями перебрался в Подмосковье еще до начала нашего «пилотажа». Вообще, когда оказалось, что нас много, мы очень обрадовались. Стенька даже мечтал о глобальной сети для пилотов.
Да, откуда взялся спутник, я не знаю. Наверное, его запустил какой-нибудь другой Стенька.
Наш все любил делать сам. Сконструировал особо дальнобойные водометы и приделал к ним лазерный брелок-прицел. С оружием да в повязке Стенька выглядел заправским космическим головорезом.
Он и в Оболочке жутко деятельный. В двадцать шесть уже защитил кандидатскую, имел персональную выставку, сборник стихов и заведовал всем электронным хозяйством своей академии.
Антуан продолжал бубнить, когда бывший «Тетрис» пропищал тревогу. Следом деревянно застучало — балагуры спрыгнули с насеста.
В углу дисплея появились крестики.
Пустотелые двинулись в атаку. Разнообразием они не отличаются. Всегда приходят с севера, со стороны оврага.
Антуан лезет на крышу веранды. Стенька убирает свой ноутбук, подхватывает бластеры и пропадает в кустах. Саша берет скейтборд и направляется поближе к асфальту.
Я бегу в восточную часть, перескакивая врытые в землю шины. Давно облюбовал пятачок у решетки. Его со всех сторон окружает акация, так что распознать засаду очень трудно. Зато отсюда хорошо простреливается участок дороги в обход здания.
Тишина кругом мертвая. Или нет, не совсем. С другого конца сада долетает звон цепей. Ржавые цепи качелей с оторванными сиденьями. До того, как Стенька смастерил комп, именно они всегда предупреждали нас о вторжении пустотелых.
Страшновато. Будто концлагерь какой-то. Рукоятка бластера заскользила в ладонях.
Цепи умолкают.
Мне неплохо видно сквозь прорехи в акации. Раскидистые ясени — точно гигантские земляные спруты, которые вылезли проветриться. Опрокинутая бетонная ваза для цветов. Разбитый прожектор.
Рушим тут все не мы и не пустотелые. Рушат хулиганы. Я их до сих пор не объяснил. Думал, это ступенька к пустотелому, но не похоже. Что-то с Оболочкой. Скорее всего, она просто недоразвитая.
Мы боялись хулиганов, когда наши Оболочки были еще совсем хлипкие — так, пленочка. Даже Стенька с его самбо и Саша с его легкой атлетикой. А теперь мы просто не пересекаемся. Нам остаются только надписи на стенах.
Рядом со мной между прутьями решетки просунулся росток клена. С палец толщиной. Интересно, а у больших кленов есть пилоты? А может, и человек устроен, как матрешка, и во мне сейчас тоже кто-то сидит?
Такие вот мысли приходят в засаде. И пришло бы, наверное, еще не то, если бы снова не прозвенели цепи.
Минут пять на моем фронте было без перемен. Оттуда, где пилоты, тоже ничего не доносилось. Хорошо бы Стенька передатчик какой-нибудь изобрел, что ли. Игрушечный сотовый тут будет работать как настоящий?..
Зря я все-таки говорил, что пустотелые не отличаются разнообразием атак. Кто-то, подумалось, не до конца переварил своего пилота.
Я упорно следил за асфальтовой дорожкой и за кустами, а про пожарную лестницу совсем забыл.
По ней спускались двое. Я подождал, когда они будут на расстоянии выстрела, и открыл огонь.
Странная штука — язык. Огонь из водомета. Смысл — это лихой пилот словесной Оболочки.
Я срезал пустотелых одного за другим и потом свистнул. Мне отозвались. А враги посыпались сверху. Кто скатывался по лестнице, кто прыгал сначала на крышу пристройки, а с нее — на траву.
Здесь главное — сохранять выдержку. И, если можно, экономить воду.
Примчался Саша на доске, разя из пистолетов.
— Сзади, — кричал вдалеке Антуан. Там тоже слышалась возня.
А дальше уже была война. Десант с крыши отвлек наше внимание — и основные силы поперли через ограду. Долговязые сутулые фигуры забегали, топча клумбы и укрываясь за снарядами. Сутулые — это потому что нет стержня-пилота. Так их можно отличить и днем.
Сегодня их много. Новичок бы растерялся. Но мы уже привыкли.
Один вломился ко мне прямо сквозь живую изгородь. С перепугу я на четвереньках выскочил из укрытия, откатился к большому деревянному зайцу, судорожно двигая насос, и жал на курок, пока пустотелый не расплавился, как брошенный в костер целлофан.
Вскоре бой превратился в суматошную охоту друг на друга. Антуан отбивался с крыши веранды и при этом ухитрялся пускать мыльные пузыри. В некотором роде — оружие массового поражения. Стенька для этого сделал специальную насадку на водомет. Мыльные пузыри не смертельны, но очень неприятны — пустотелые от них на какое-то время слепнут.
Сам Стенька бегал по кустам, будто ниндзя, выныривал на несколько секунд и снова пропадал. Саша предпринял дерзкую вылазку: объехал здание и оказался в тылу врага.
Заговоренная вода чуть светится в темноте, и получается правда как луч из бластера. И стреляют пистолеты ночью намного дальше, чем днем.
Ура, мы ломим, гнутся шведы. Пустотелые отступили. Достаем сумки и заряжаемся.
— Эй, пилоты!
Как один, поднимаем головы. С нами еще никогда не разговаривали.
— Вы где?
— Чего надо? — крикнул Стенька.
— Мне — ничего. А ей надо дышать. При слове «ей» у меня в груди екнуло.
Голос был из-за угла здания. Мы бросились на крик. Только Антуан — куда-то вправо.
Пустотелый стоял на крыльце между двумя колоннами. Екнуло в груди не зря — он прижимал к себе Оксану. Сдавил ей шею в сгибе локтя. Ксана была без сознания.
— Сволочь, она жива?
— Пока да. Бросайте пушки.
Мы движемся на него, выставив бластеры. А слева, прижимаясь к стене, подкрадывается Антуан. Семимильными шагами успел обежать здание.
Пустотелый заметил его, когда Антуан почти достиг колонны. Ксана оторвалась от крыльца и оказалась между ними.
Глупо, конечно. Не под пулю ведь он ее подставил. И если бы Антуан тогда выстрелил, может, все бы и кончилось. Но Антуан не выстрелил. Забыл, что у него все-таки не настоящий бластер.
— На землю! Водомет на землю!
Оружие нехотя чиркнуло об асфальт.
— Дальше!
Антуан пинком отправил бластер к стене сарая, куда убирали инвентарь.
— К ним!
Антуан демонстративно поднял руки и пошел к нам.
Оксана недолюбливала его за манерность. Пожалуй, из нас у него пока самая слабая Оболочка.
Да, не сказал сразу: в руках у пустотелого не Оксана, а ее пилот. Впрочем, от себя в Оболочке она мало отличается.
— Вы — бросайте свои через забор!
Это про тот, который отделяет площадку старшей группы от младшей. За ним — сплошная сирень.
Мы со Стенькой разоружаемся последними.
— Поднимите штаны! Живо! Делать нечего.
— Тоже — выкидывайте все!
Я достаю «дерринджер». Ружье, которое так и не стрельнуло. Стенька отдирает посаженные на скотч шприцы с водой.
Потом пришлось повернуться, снять майки и тоже отодрать кому прицепленный на спину пистолет, а кому — целый шприцовый патронташ. Отчетливо разносится «крэк-крэк-крэк».
Становится холодно. Пробивает дрожь.
Наш маленький разбитый отряд окружают высокие силуэты. Не думал, что их осталось так много.
Больно выкрутили руки. Полуголых и дрожащих, плотно сбили в кучу.
Страшно. Мы еще никогда не проигрывали. Никогда-никогда.
Ксанин похититель выступает из ниши. Теперь мы стоим ближе к нему и можем разглядеть лицо.
Лицо Юрки Бригодкина. Вернее, уже Юрия Валентиновича.
Понятно, почему никто из нас не узнал его по голосу. Последний раз мы слышали голос до того, как началась ломка.
Да и по виду Юрка не очень похож на себя прежнего. Кто бы мог сказать, что у него вырастет такая располневшая Оболочка.
Юрка, конечно, знал и нашу стратегию, и нашу тактику. Они со Стенькой устраивали целые форумы. В которых, кстати, участвовали и те, кто замолчал.
— Гад! — прошипел Саша. Что сказал Антуан, я тут передать не могу.
Юркино лицо исказила странная гримаса. Пустотелые обычно не корчат рожи и вообще не богаты мимикой. А потом Юрка и вовсе начал менять форму. Что-то творилось у него за спиной… или на спине. Рубашка лопнула. Юрку слегка развернуло боком — как раз тогда, когда сквозь невидимую отсюда молнию из него вывалился пилот. Или то, что осталось от пилота.
Оболочка скукожилась и стала напоминать пустой водолазный костюм. Оксана выпала из рукавов.
Лежать, однако, пришлось недолго. Подскочил еще один пустотелый и подхватил ее.
Мы все еще были в руках врага и не знали, что с нами сделают. Это вдвойне мучительно.
А интересно: нас ведь самих никогда не заботило, что чувствуют пустотелые, когда их убиваем мы.
Дальше было как в боевике. Светящийся луч-струя прилетел из темноты и попал в того, кто держал Оксану. От новых выстрелов стали сдуваться другие. Ряды противника в прямом смысле таяли.
Отпал скрутивший меня. Пилотов еще держали. Я рванулся между пустотелыми — туда, где должен был лежать Антуанов бластер.
Тот нашелся сразу. Повернувшись, я чуть его не выронил. Было от чего.
Стрелял тоже пустотелый. По-моему, из бластера Стеньки.
Этого не могло быть никогда. Они боятся заговоренной воды, как мы — кислоты какой-нибудь.
Размышлять времени не осталось. Я, будто пожарный, стал поливать перед собой. Вдвоем с неведомым союзником мы управились быстро. Стояли на ногах только мокрые пилоты. Один пустотелый удирал в сторону оврага.
Тогда стрелок опять сделал невозможное. Крикнув «Лови!», бросил бластер Антуану. И Антуан понял, и поймал, и пустился вдогонку. Оба — беглец и преследователь — скрылись за углом.
Водометчик смотрел на меня. Мы оказались друг напротив друга, словно ковбои-дуэлянты. Саша отступил ко мне. Стенька закрыл собой Ксану.
— Жми на курок, если хочешь, — предложил стрелок. — Не бойся, ничего мне не будет.
И голос знакомый. Хватит с меня на сегодня знакомых пустотелых. Я все-таки полоснул по нему. Никакого толку.
— Убедился? — Он шагнул вперед.
И еще кое-что стало ясным. Или совсем не ясным — сегодня это синонимы.
Конечно, я его знал. Можно сказать, изнутри. Последний раз эту губастую физиономию я видел на подушке рядом с Оксаной.
— Привет, — сказал нам этот другой я. — Люди… которые играют в игры.
Сбоку послышался хрип.
На ступеньках крыльца что-то шевелилось. Юрка-пилот. Рядом с ним были Стенька и пришедшая в себя Оксана — она уже сидела. Прибежал и довольный Антуан.
Мы подошли и склонились над Юркой. Оболочка успела здорово его переварить. Слабо двигались тоненькие руки. На Юрку было одновременно и больно, и неприятно, и жалко смотреть.
Рот издавал какой-то хрип. Мы с Ильей наклонились еще ниже, чуть не ударившись лбами.
Юрка пел. Словно старался допеть то, что не сумел, когда рвался наружу из Оболочки, спасая Оксану.
— Но тот… который во мне сидит… я вижу, решил… на таран… Мы стояли над ним, пока он не перестал, и еще долго после этого. Оксана вообще-то никогда не плачет. Утверждает, что и в детстве почти не плакала. А сейчас разрыдалась. Я обнял ее, а нас обоих — Илья. Саша, по-моему, тоже не выдержал. Он первым отвернулся и пошел подбирать свою одежду и пистолеты.
А потом мы возвращались домой. Шли, взявшись за руки. Я по одну сторону от Оксаны, Илья по другую. С пилотами прощались недолго. Все быстренько зарядили бластеры и разбежались по своим Оболочкам.
Антуан сказал: хорошо вот Илюхе, его-то к нему сама пришла, как гора к Магомету. А я не мог скрыть гордости. Ведь если вдуматься, это нечестно: всю жизнь расти Оболочку, идеи всякие для нее придумывай, а заслуги всегда ей, а не тебе.
Ксанин бластер не нашли. Она рассказала, что едва перелезла через ограду, как ее схватили, обезоружили и усыпили, нажав на сонную артерию. Заговора воды она не знала, и оружие не могло нанести серьезный урон. У Оксаны, как выяснилось, совсем недавно произошло разделение Оболочки и пилота. Всему еще только предстоит научиться.
Не нашли мы и Стенькины шприцы. То-то будет утром радости детсадовцам. И опять пойдут гулять слухи о наркоманах. Хотя слухи могут быть и не из-за нас.
Если не считать всего этого, разошлись мы с полным боекомплектом. Пустотелые ни разу не нападали за пределами сада, но — сами понимаете. Я поделил снаряжение с Ильей.
Не знаю, правильно ли писать именно про такую ночь. Жизнь пилота — это ведь не сплошная борьба. У нас бывает много разного. Мы опять соберемся, теперь уже впятером, сами залезем на крышу, усядемся на коньке и будем смотреть на луну в полнеба. Стенька расскажет о своих новых изобретениях, Антуан — о новых играх, а я — что думаю о строении Оболочек. Только мои рассуждения им быстро надоедают. Они просто живут, даже Стенька, а я пытаюсь понять.
Например, почему так: что-то из жизни Оболочки помнишь, а что-то забываешь напрочь. Вроде того, чем занимаются ночью Илья и Оксана. В принципе понятно, а вот как это?
Илье, наверное, тоже не понять, зачем все наши детсадовские войны. Тем более что днем мы и пустотелые встречаемся как ни в чем не бывало.
Однако, уверен, Юрку мы больше не встретим.
Память, она странная. Оболочка тоже ведь не помнит ночные битвы. Я обязательно прысну, сам не соображая отчего, когда Оксана попросит, надевая платье:
— Ты не застегнешь мне молнию?
Оксана, конечно, рассердится.
Ночью, дождавшись, когда Оксана уснет, я осторожно расстегнул молнию вдоль позвоночника и выскользнул из себя.
Ощущение — будто снял противогаз. Замер, прислушиваясь. Тикали часы с немой кукушкой. Я застегнул молнию — а то мало ли. Обошел на цыпочках разложенный диван, наклонился над Оксаной. С трудом подавил желание поцеловать. Интересно, как бы это выглядело со стороны?
Босые ступни зачмокали, стоило шагнуть с ковра. «Тихо!» — мысленно приказал я.
Сначала зажег свет в ванной, оставив щелку между косяком и дверью. Больше и не надо. Принес из кухни табуретку. При моем теперешнем росте забраться с нее на антресоль нелегко. Встал на носки и вытянул спортивную сумку со снаряжением.
Уф. Первый этап пройден. Все отрепетировано много раз. Не скрипнет ни одна петля. Ксана радуется, какой я хозяйственный.
Станешь тут хозяйственным.
Я заперся в ванной. Распаковал сумку, стоя голыми коленками на холодной плитке. В Оболочке я сижу в одних трусах.
Одежда: джинсы, желтая футболка (три мамонта на груди), ветровка — из одного старого комплекта с джинсами. На кармане у нее медная плашка, как у американских копов.
Бластеры: большой — с помпой, два поменьше и один совсем маленький, похожий на однозарядный пистолетик-«дерринджер».
Я оделся, обул кроссовки. Отвинтил кран — так, чтобы не шумел, — и наполнил бластеры водой. По правде, воду лучше брать прямо на месте, из колонки. Но туда еще нужно добраться.
А Стенька покупные бластеры вообще не признает. Не наша, говорит, у них магия.
«Дерринджер» я вставил в игрушечную кобуру у щиколотки. Но сперва прочел над оружием заклинание. Сложил и зарифмовал его тоже Стенька. Извините, слов я вам не открою. Откуда я знаю, кто вы сейчас.
Зеркало в прихожей отразило знакомый силуэт. Никаких изменений. Надо ли говорить, что замок у нас работает бесшумно?
Сбегаю по широкой лестнице и, как в речку, ныряю в ночь. Ого! Железной двери с кодом нет и в помине. А ведь была еще вечером и, уверен, будет завтра утром.
Чего мы не решили — так это спим мы все-таки или не спим. Я пытался объяснить пилотам про коллективное бессознательное. Но вот беда — выйдя из Оболочки, я сам забываю, что это такое. Да и пилотам, по-моему, не интересно.
Ночь подхватила и понесла навстречу приключениям. Остановиться уже нельзя, хоть тресни. Сердце колотится — как будто тоже ищет молнию, но уже на груди.
Дом позади чернеет громадной стеной. Только под самым козырьком крыши светятся два окна. Заглянуть бы: кто это еще бодрствует в нашей реальности, — но некогда, некогда.
Перебегаю через двор, проскочив сквозь дыру в заборе, и мчусь за угол. Уже виден детский сад, угадывается наша веранда. А рядом — колонка.
Должна гореть, как минимум, сигнализация, но — ничего такого. Двухэтажное здание с балконом и колоннами похоже на готический замок. Жуткий и великолепный.
На веранде белеет футболка. Кажется, Антуан.
Сумка булькает, перелетев через ограду. Футболка вздрагивает. Я перелезаю сам, приземлившись на заповедной территории. Она огромная, территория. Тут вообще-то два детских сада, а между ними еще ясли. Все вместе — целый квартал. Затеряться так, чтобы тебя поискали, раньше было раз плюнуть.
— Илюха идет! Точно, Антуан. Здороваемся.
Антуан сидит на бортике веранды, прислонившись к столбу. Обозвать бы кариатидой — так ведь обидится, хотя и не поймет. Свой бластер он поставил на колено. У Антуана фигура Дон Кихота и профиль Сирано де Бержерака. С бластером это смотрится… вспомнить бы слово… колоритно.
Напротив, болтая ногами, пристроился Саша. В черной майке он почти невидим. Саша из нас самый маленький, но и самый сильный. Отжимается раз сто. Мама, глядя на них с Антуаном, всегда говорила: Пат и Паташон. Были раньше два таких клоуна. Антуан и Саша в классе тоже были два клоуна.
У Саши пара бластеров-пистолетов.
— А Стенька где?
— Тут, — ответил Саша. — Еще до меня был.
Значит, Стенька пришел первым.
— В «Тетрис» дуется, — сообщил Антуан.
Я зашел на веранду. Стенька сидел в дальнем углу. Футболка у него цвета хаки, а лоб пересекает грязно-зеленая повязка, в которой Стенька прошел кучу ролевых игр.
— Привет, — оторвался от компьютера и протянул руку. — Ты как?
— Нормально.
— Ксана?
— Спит.
— Теща?
— Какая теща?
— Будущая.
— Три дня, как уехала.
— Классно. — Стенька вернулся к дисплею. От «Тетриса» тут остался разве что корпус.
Я сел рядом. Бубнил Антуан. Кажется, он объяснял Саше хитрости игры «Алиса». Когда мы еще не нарастили Оболочки и не стали пилотами, ни о какой «Алисе», разумеется, не слышали. Мы ходили играть в ниндзя и вертолетные бои в Дом учителя.
Стенька связывался через спутник с Юркой Бригодкиным. Тот последнее время почему-то молчал, и кое-кто из пилотов тоже. Юрка вместе с родителями перебрался в Подмосковье еще до начала нашего «пилотажа». Вообще, когда оказалось, что нас много, мы очень обрадовались. Стенька даже мечтал о глобальной сети для пилотов.
Да, откуда взялся спутник, я не знаю. Наверное, его запустил какой-нибудь другой Стенька.
Наш все любил делать сам. Сконструировал особо дальнобойные водометы и приделал к ним лазерный брелок-прицел. С оружием да в повязке Стенька выглядел заправским космическим головорезом.
Он и в Оболочке жутко деятельный. В двадцать шесть уже защитил кандидатскую, имел персональную выставку, сборник стихов и заведовал всем электронным хозяйством своей академии.
Антуан продолжал бубнить, когда бывший «Тетрис» пропищал тревогу. Следом деревянно застучало — балагуры спрыгнули с насеста.
В углу дисплея появились крестики.
Пустотелые двинулись в атаку. Разнообразием они не отличаются. Всегда приходят с севера, со стороны оврага.
Антуан лезет на крышу веранды. Стенька убирает свой ноутбук, подхватывает бластеры и пропадает в кустах. Саша берет скейтборд и направляется поближе к асфальту.
Я бегу в восточную часть, перескакивая врытые в землю шины. Давно облюбовал пятачок у решетки. Его со всех сторон окружает акация, так что распознать засаду очень трудно. Зато отсюда хорошо простреливается участок дороги в обход здания.
Тишина кругом мертвая. Или нет, не совсем. С другого конца сада долетает звон цепей. Ржавые цепи качелей с оторванными сиденьями. До того, как Стенька смастерил комп, именно они всегда предупреждали нас о вторжении пустотелых.
Страшновато. Будто концлагерь какой-то. Рукоятка бластера заскользила в ладонях.
Цепи умолкают.
Мне неплохо видно сквозь прорехи в акации. Раскидистые ясени — точно гигантские земляные спруты, которые вылезли проветриться. Опрокинутая бетонная ваза для цветов. Разбитый прожектор.
Рушим тут все не мы и не пустотелые. Рушат хулиганы. Я их до сих пор не объяснил. Думал, это ступенька к пустотелому, но не похоже. Что-то с Оболочкой. Скорее всего, она просто недоразвитая.
Мы боялись хулиганов, когда наши Оболочки были еще совсем хлипкие — так, пленочка. Даже Стенька с его самбо и Саша с его легкой атлетикой. А теперь мы просто не пересекаемся. Нам остаются только надписи на стенах.
Рядом со мной между прутьями решетки просунулся росток клена. С палец толщиной. Интересно, а у больших кленов есть пилоты? А может, и человек устроен, как матрешка, и во мне сейчас тоже кто-то сидит?
Такие вот мысли приходят в засаде. И пришло бы, наверное, еще не то, если бы снова не прозвенели цепи.
Минут пять на моем фронте было без перемен. Оттуда, где пилоты, тоже ничего не доносилось. Хорошо бы Стенька передатчик какой-нибудь изобрел, что ли. Игрушечный сотовый тут будет работать как настоящий?..
Зря я все-таки говорил, что пустотелые не отличаются разнообразием атак. Кто-то, подумалось, не до конца переварил своего пилота.
Я упорно следил за асфальтовой дорожкой и за кустами, а про пожарную лестницу совсем забыл.
По ней спускались двое. Я подождал, когда они будут на расстоянии выстрела, и открыл огонь.
Странная штука — язык. Огонь из водомета. Смысл — это лихой пилот словесной Оболочки.
Я срезал пустотелых одного за другим и потом свистнул. Мне отозвались. А враги посыпались сверху. Кто скатывался по лестнице, кто прыгал сначала на крышу пристройки, а с нее — на траву.
Здесь главное — сохранять выдержку. И, если можно, экономить воду.
Примчался Саша на доске, разя из пистолетов.
— Сзади, — кричал вдалеке Антуан. Там тоже слышалась возня.
А дальше уже была война. Десант с крыши отвлек наше внимание — и основные силы поперли через ограду. Долговязые сутулые фигуры забегали, топча клумбы и укрываясь за снарядами. Сутулые — это потому что нет стержня-пилота. Так их можно отличить и днем.
Сегодня их много. Новичок бы растерялся. Но мы уже привыкли.
Один вломился ко мне прямо сквозь живую изгородь. С перепугу я на четвереньках выскочил из укрытия, откатился к большому деревянному зайцу, судорожно двигая насос, и жал на курок, пока пустотелый не расплавился, как брошенный в костер целлофан.
Вскоре бой превратился в суматошную охоту друг на друга. Антуан отбивался с крыши веранды и при этом ухитрялся пускать мыльные пузыри. В некотором роде — оружие массового поражения. Стенька для этого сделал специальную насадку на водомет. Мыльные пузыри не смертельны, но очень неприятны — пустотелые от них на какое-то время слепнут.
Сам Стенька бегал по кустам, будто ниндзя, выныривал на несколько секунд и снова пропадал. Саша предпринял дерзкую вылазку: объехал здание и оказался в тылу врага.
Заговоренная вода чуть светится в темноте, и получается правда как луч из бластера. И стреляют пистолеты ночью намного дальше, чем днем.
Ура, мы ломим, гнутся шведы. Пустотелые отступили. Достаем сумки и заряжаемся.
— Эй, пилоты!
Как один, поднимаем головы. С нами еще никогда не разговаривали.
— Вы где?
— Чего надо? — крикнул Стенька.
— Мне — ничего. А ей надо дышать. При слове «ей» у меня в груди екнуло.
Голос был из-за угла здания. Мы бросились на крик. Только Антуан — куда-то вправо.
Пустотелый стоял на крыльце между двумя колоннами. Екнуло в груди не зря — он прижимал к себе Оксану. Сдавил ей шею в сгибе локтя. Ксана была без сознания.
— Сволочь, она жива?
— Пока да. Бросайте пушки.
Мы движемся на него, выставив бластеры. А слева, прижимаясь к стене, подкрадывается Антуан. Семимильными шагами успел обежать здание.
Пустотелый заметил его, когда Антуан почти достиг колонны. Ксана оторвалась от крыльца и оказалась между ними.
Глупо, конечно. Не под пулю ведь он ее подставил. И если бы Антуан тогда выстрелил, может, все бы и кончилось. Но Антуан не выстрелил. Забыл, что у него все-таки не настоящий бластер.
— На землю! Водомет на землю!
Оружие нехотя чиркнуло об асфальт.
— Дальше!
Антуан пинком отправил бластер к стене сарая, куда убирали инвентарь.
— К ним!
Антуан демонстративно поднял руки и пошел к нам.
Оксана недолюбливала его за манерность. Пожалуй, из нас у него пока самая слабая Оболочка.
Да, не сказал сразу: в руках у пустотелого не Оксана, а ее пилот. Впрочем, от себя в Оболочке она мало отличается.
— Вы — бросайте свои через забор!
Это про тот, который отделяет площадку старшей группы от младшей. За ним — сплошная сирень.
Мы со Стенькой разоружаемся последними.
— Поднимите штаны! Живо! Делать нечего.
— Тоже — выкидывайте все!
Я достаю «дерринджер». Ружье, которое так и не стрельнуло. Стенька отдирает посаженные на скотч шприцы с водой.
Потом пришлось повернуться, снять майки и тоже отодрать кому прицепленный на спину пистолет, а кому — целый шприцовый патронташ. Отчетливо разносится «крэк-крэк-крэк».
Становится холодно. Пробивает дрожь.
Наш маленький разбитый отряд окружают высокие силуэты. Не думал, что их осталось так много.
Больно выкрутили руки. Полуголых и дрожащих, плотно сбили в кучу.
Страшно. Мы еще никогда не проигрывали. Никогда-никогда.
Ксанин похититель выступает из ниши. Теперь мы стоим ближе к нему и можем разглядеть лицо.
Лицо Юрки Бригодкина. Вернее, уже Юрия Валентиновича.
Понятно, почему никто из нас не узнал его по голосу. Последний раз мы слышали голос до того, как началась ломка.
Да и по виду Юрка не очень похож на себя прежнего. Кто бы мог сказать, что у него вырастет такая располневшая Оболочка.
Юрка, конечно, знал и нашу стратегию, и нашу тактику. Они со Стенькой устраивали целые форумы. В которых, кстати, участвовали и те, кто замолчал.
— Гад! — прошипел Саша. Что сказал Антуан, я тут передать не могу.
Юркино лицо исказила странная гримаса. Пустотелые обычно не корчат рожи и вообще не богаты мимикой. А потом Юрка и вовсе начал менять форму. Что-то творилось у него за спиной… или на спине. Рубашка лопнула. Юрку слегка развернуло боком — как раз тогда, когда сквозь невидимую отсюда молнию из него вывалился пилот. Или то, что осталось от пилота.
Оболочка скукожилась и стала напоминать пустой водолазный костюм. Оксана выпала из рукавов.
Лежать, однако, пришлось недолго. Подскочил еще один пустотелый и подхватил ее.
Мы все еще были в руках врага и не знали, что с нами сделают. Это вдвойне мучительно.
А интересно: нас ведь самих никогда не заботило, что чувствуют пустотелые, когда их убиваем мы.
Дальше было как в боевике. Светящийся луч-струя прилетел из темноты и попал в того, кто держал Оксану. От новых выстрелов стали сдуваться другие. Ряды противника в прямом смысле таяли.
Отпал скрутивший меня. Пилотов еще держали. Я рванулся между пустотелыми — туда, где должен был лежать Антуанов бластер.
Тот нашелся сразу. Повернувшись, я чуть его не выронил. Было от чего.
Стрелял тоже пустотелый. По-моему, из бластера Стеньки.
Этого не могло быть никогда. Они боятся заговоренной воды, как мы — кислоты какой-нибудь.
Размышлять времени не осталось. Я, будто пожарный, стал поливать перед собой. Вдвоем с неведомым союзником мы управились быстро. Стояли на ногах только мокрые пилоты. Один пустотелый удирал в сторону оврага.
Тогда стрелок опять сделал невозможное. Крикнув «Лови!», бросил бластер Антуану. И Антуан понял, и поймал, и пустился вдогонку. Оба — беглец и преследователь — скрылись за углом.
Водометчик смотрел на меня. Мы оказались друг напротив друга, словно ковбои-дуэлянты. Саша отступил ко мне. Стенька закрыл собой Ксану.
— Жми на курок, если хочешь, — предложил стрелок. — Не бойся, ничего мне не будет.
И голос знакомый. Хватит с меня на сегодня знакомых пустотелых. Я все-таки полоснул по нему. Никакого толку.
— Убедился? — Он шагнул вперед.
И еще кое-что стало ясным. Или совсем не ясным — сегодня это синонимы.
Конечно, я его знал. Можно сказать, изнутри. Последний раз эту губастую физиономию я видел на подушке рядом с Оксаной.
— Привет, — сказал нам этот другой я. — Люди… которые играют в игры.
Сбоку послышался хрип.
На ступеньках крыльца что-то шевелилось. Юрка-пилот. Рядом с ним были Стенька и пришедшая в себя Оксана — она уже сидела. Прибежал и довольный Антуан.
Мы подошли и склонились над Юркой. Оболочка успела здорово его переварить. Слабо двигались тоненькие руки. На Юрку было одновременно и больно, и неприятно, и жалко смотреть.
Рот издавал какой-то хрип. Мы с Ильей наклонились еще ниже, чуть не ударившись лбами.
Юрка пел. Словно старался допеть то, что не сумел, когда рвался наружу из Оболочки, спасая Оксану.
— Но тот… который во мне сидит… я вижу, решил… на таран… Мы стояли над ним, пока он не перестал, и еще долго после этого. Оксана вообще-то никогда не плачет. Утверждает, что и в детстве почти не плакала. А сейчас разрыдалась. Я обнял ее, а нас обоих — Илья. Саша, по-моему, тоже не выдержал. Он первым отвернулся и пошел подбирать свою одежду и пистолеты.
А потом мы возвращались домой. Шли, взявшись за руки. Я по одну сторону от Оксаны, Илья по другую. С пилотами прощались недолго. Все быстренько зарядили бластеры и разбежались по своим Оболочкам.
Антуан сказал: хорошо вот Илюхе, его-то к нему сама пришла, как гора к Магомету. А я не мог скрыть гордости. Ведь если вдуматься, это нечестно: всю жизнь расти Оболочку, идеи всякие для нее придумывай, а заслуги всегда ей, а не тебе.
Ксанин бластер не нашли. Она рассказала, что едва перелезла через ограду, как ее схватили, обезоружили и усыпили, нажав на сонную артерию. Заговора воды она не знала, и оружие не могло нанести серьезный урон. У Оксаны, как выяснилось, совсем недавно произошло разделение Оболочки и пилота. Всему еще только предстоит научиться.
Не нашли мы и Стенькины шприцы. То-то будет утром радости детсадовцам. И опять пойдут гулять слухи о наркоманах. Хотя слухи могут быть и не из-за нас.
Если не считать всего этого, разошлись мы с полным боекомплектом. Пустотелые ни разу не нападали за пределами сада, но — сами понимаете. Я поделил снаряжение с Ильей.
Не знаю, правильно ли писать именно про такую ночь. Жизнь пилота — это ведь не сплошная борьба. У нас бывает много разного. Мы опять соберемся, теперь уже впятером, сами залезем на крышу, усядемся на коньке и будем смотреть на луну в полнеба. Стенька расскажет о своих новых изобретениях, Антуан — о новых играх, а я — что думаю о строении Оболочек. Только мои рассуждения им быстро надоедают. Они просто живут, даже Стенька, а я пытаюсь понять.
Например, почему так: что-то из жизни Оболочки помнишь, а что-то забываешь напрочь. Вроде того, чем занимаются ночью Илья и Оксана. В принципе понятно, а вот как это?
Илье, наверное, тоже не понять, зачем все наши детсадовские войны. Тем более что днем мы и пустотелые встречаемся как ни в чем не бывало.
Однако, уверен, Юрку мы больше не встретим.
Память, она странная. Оболочка тоже ведь не помнит ночные битвы. Я обязательно прысну, сам не соображая отчего, когда Оксана попросит, надевая платье:
— Ты не застегнешь мне молнию?
Оксана, конечно, рассердится.
Юрий Косоломов Цепицентр
Рассказ
 Не скажу, что моя армия хуже других была. Всякое случалось. Ну, жить не давали, ну, в морду били. Ну, я бил. А как же без этого?
У древних римлян децимация была. Я читал. То есть драпанет легион с поля боя — всё, выходи строиться, негодяи. Подходи, ребята, по одному, доставай из вазы камешки. На девять белых один черный. Вынул черный — получи по кумполу, брат мой лихой. Вынул белый — живи. По жребию, без обиды. И чтоб другим неповадно было.
Армия для того и существует, чтоб солдаты умирали. На сто человек всегда родится один, два, три таких, что мать родная только перекрестится, если их куда-нибудь заберут. Если не забрать, они ж бузить станут. А которые смирные — девок брюхатить, нищету плодить. А так они все за колючкой. И в Америке армия. Им ведь тоже свой брак девать куда-то надо. Всех-то посадить не за что.
В моей армии всякое было, и всего понемножку. Кто б ты ни был, хоть конем шахматным ходи, хоть шелковым стань, хоть картинкой со стенда по строевой подготовке — все равно достанется, хотя бы за компанию. Хоть чуть-чуть, да каждого придушат. Ну, а кого-то — до конца. Потому что главное дело военных — убивать. Без этого армия не может. Без этого она, как дрочила прыщавый, сама себе пальцы до крови грызть начинает.
Один у нас в машину греться полез — завел, заснул, а она в боксе стояла. Одного Казанин удавил, полотенцем — тот долг не отдавал, что ли. Мы тогда в Ленкомнате сидели, по телевизору Пугачева пела. Входит Казанин, красный такой, и тоже садится, смотрит. Ну, потом его раскололи. А один сам удавился.
У нас на взводе тридцать шесть рыл было. Каждый по два года родине отдал. Умножь на тридцать шесть — аккурат жизнь получится. Даже больше — мой батя и полтинник не разменял, от силикоза загнулся. Ну а те, выходит, догнали и перегнали. Перевыполнили. Природа не дремлет, свое всегда отнимет.
Замполит там всё про чувство локтя вкручивал, про тесные ряды, про дружбу, про другую всякую херню. А я так скажу: лиши людей свободы, и они сами по себе стадом будут. Они от такой жизни не думают уже, за них начальство думает. И не так ведь, чтоб насилие было: ты, мол, не думай, а то заморю, жить не позволю. Нет, сами уже думать не могут. Не могут, и все.
Будь ты семи пядей во лбу, а когда жрать все время хочешь, только о жратве и думаешь, больше ни о чем. А лопатой машешь — только и думаешь: когда ж яме конец? Там может показаться, что все о воле думают, потому что только о воле говорят. А на воле ты ел, когда хотел, и курил, когда хотел. Поэтому о воле и думают будто бы. А на самом деле — о жратве. Ну, к дембелю поближе, когда противостоин тебя уже не берет, — о бабах. А так — о жратве, да покемарить бы. В это время за тебя другие и думают. И там все такие. От этого все и становятся дружным таким с виду коллективом. Единомышленники, мать нашу. А думают за всех умные. В армии других и не бывает. Там все либо самые умные, либо самые глупые, сколько их ни есть по стране.
У них там и специальные заморочки делают. Взять, к примеру, кино. Я только на воле знаешь что сообразил? Я раньше не понимал, зачем у нас фильмов много, и все они такие безмозглые. Алка под конец уже без меня в кино ходить стала — знает, что я через десять минут встану и уйду. Ну, разве что портвейна за пазуху возьму, чтоб хлорку туда сунуть и через хлорочку соснуть.
Ну, вот, а в армии от этого не уйдешь. Если тебя перед экраном посадили, то крутись не крутись, а смотреть будешь. Будешь — никуда не денешься.
Я там специально опыты ставил. Пригонят нас в клуб: садись и смотри. Свет погасят, а я — глаза вниз и о своем думаю. Книжки вспоминаю: «Три мушкетера» там, «Королеву Марго», «Похождения Васи Кочерыжкина» и так далее. Из «Родной речи», к примеру. Думаю, думаю — вдруг все смеются, и я смеюсь. Хотя и не смешно. Но все смеются, а я со всеми. Потому что давно уже не мушкетеров вспоминаю, а на экран смотрю. Пробую снова — через минуту та же картина. Будто кто насильно меня смотреть заставляет. Или гипнотизирует. Мушкетеров-то про себя вспоминаешь. А кино-то вслух орет! Просто растворяешься в этом кино. Какое б оно безмозглое ни было, жить в нем, а не тут начинаешь. В детстве, помню, про войну фильм глядя, жуть брала — один к одному. Один к одному!
Ладно, про это и так все знают. Я вот о чем. Пацан-то, что у нас повесился, — он всех удивил. Я понимаю, если б он чмо был. Если б его по ночам на полах гноили или, скажем, в сушилку — калориями кормить.
Не, ты чего! Кто ж он был, дай вспомнить… Завскладом, что ли? Из хозвзвода он — это точно, там у них одни литовцы были. Лейдерис его звали, Ромас.
С этими литовцами осечка вышла — с гражданки пригнали, а после наехала комиссия и шерстить всех стала. И у многих литовцев родня в Америке оказалась, или у немцев служила, или братья лесные были, точно не знаю. В общем, каких-то на хозвзвод перевели. Там почти все литовцы стали, потому что нашего к хлебу пусти — он в момент все пропьет да раздаст, да еще воровать будет. Случалось уже. Вот наших на объект вернули, а литовцев — на хозяйство. На объекте потом бардак полгода был, без них справиться не могли, потому что ребята всё грамотные ушли, все специалисты уже. Наши, помню, перед отбоем в карты режутся, или тормозуху пьют, или чмо какое-нибудь чморят. А литовцы в учебном классе Р-110 тихонько врубят и по-своему что-то слушают — небось, тоже из Америки. А Ромас лежит на верхнем ярусе, книжку читает с картинками такими… Ну, как у врачей — микробы там увеличенные или глисты, хрен его разберет. Врачом, наверное, стать хотел.
Ну вот. Они, кстати, все сельские были. Мы просто балдели: из села, а по-русски свободно, вот как мы с тобой, говорят. Это ж значит, они два языка уже знали. Из села, называется, — прикинь, да? С ними, бывало, один стоишь — все из вежливости по-русски говорят, а ты меж них, как в кино, к немцам засланный. Тем более что форма-то наша, кроме шапок да пилоток, с той, немецкой, слизана. А уж если фуражки наденут, да которые в очках — все, руки вверх.
И Лейдерис этот тоже из села был. Не, с хутора. У них, говорят, хутора, а не села. А в хозвзводе хорошо — у всех жизнь личная, в строю их не шмонают, копать, да грузить, да в караулы не гоняют. В кино, кстати, тоже — всегда дела находили. У всех каптерки — а то, думаешь, где б он книжки держал? Да из тумбочки их бы в момент на подтирку унесли.
Да, вот еще случай с ним был. Деды тогда на дембель собрались — всё, уже портфели сложили, команды ждут. Прибегает шнырь со штаба: сдавай военные билеты, дембельские штампы ставить будут. Все от радости орут, а Миша Эгенмырадов — туда-сюда — нет билета. Как сквозь землю провалился. Миша всю казарму перевернул — нету. У меня, если по правде, все тогда и опустилось — я за этого Мишу больше всех радовался, что рожу его больше не увижу. Первый гад по всей химзащите был. А тут он без билета — это значит, когда ж его теперь домой-то отпустят? Всем дембелям — «Славянку», и с плаца — на КПП, к вездеходу. А Миша — в конце строя, в столовую, пайку хавать. Он, веришь, аж поседел — здесь вот чубчик у него седой стал. За ночь!
Утром, значит, стоим на разводе, Малышев разоряется: я тебя на губу, а на тебя дело заведу, а твоей матери письмо напишу, чтоб у нее сердце болело. Потому что ночью в автопарке с какого-то «ЗИЛа» коробку передач свинтили, а кто — неизвестно. Тут заходит этот Лейдерис — и к нему: товарищ капитан, разрешите обратиться. По хозяйству его что-то спрашивает. Ну, побазарили, он идет к выходу. Смотрит так мельком на нас, и вдруг оборачивается, будто ударил его кто! Зырк — опять на нас! Зырк! Поглядел и ушел.
А у нас два азера были, Насыров и Абдуллаев. Насырова этого все другие азеры презирали, потому что он был чмо. Ух, как они его не любили! Он и правда пацан был червивый. У него как-то на полигоне противогаз порвался, так он с салаги срывать стал. И этот, Абдулка маленький, больше всех его доставал — как оса рядом вертится, что-то по-ихнему скажет и смеется, а Насыров прямо с лица чернеет, шипит: «С-с-ским азн!»
И вот Лейдерис после развода приходит, Абдулке что-то говорит. Тот не понимает, потому что месяц как с гор спустился. Ну, Лейдерис ему машет: пошли. Идут вдвоем к Абдулкиной койке, поднимает Лейдерис подушку, простыню — а там военный билет лежит. Мишин, чей же еще? Абдулка его хватает, бежит, орет: «Мища! Мища! Насыров!»
Ну, всё сразу ясно стало. Мишу этого от Насырова вчетвером отрывали и оторвали, слава богу, а то застрял бы Миша в наших рядах еще хрен знает насколько. Насырова на губу тут же закрыли, потому что со всего полка другие азеры сбегаться стали — Насырова метелить. Они б его почище Миши изваляли, бывало уже. И только потом уже все догнали: а Лейдерис-то как узнал?
Ну, не знаю, как узнал. Понимаешь, нам, салагам, такие вещи знать не положено было, то есть спрашивать и вообще говорить громко. Не принято было.
Так вот: в тот день Лейдерис с утра, говорят, не в себе был. То-сё у себя сделал, кухонному наряду харч отпустил и на объект пошел. Его пускать не хотели, потому что допуска не было, но он уговорил — ив ЛАЦ. А с этого ЛАЦа хоть во взвод, хоть в Антарктиду позвонить можно. Он и давай звонить. Дозвонился и спрашивает: «Ниёля, ты вчера вечером в каком платье была? В зеленом?» Там друг его сидел, Воробьевас, ага, такая у него фамилия была. Так он потом рассказывал: прямо неудобно слушать стало, так хорошо мужик в бабских тряпках разбирается. Одно слово: немцы.
Ну вот, кладет, значит, трубку — и на выход. Я его, кстати, в этот момент, за полчаса до вечерней проверки, видел. Стоял, с Пашуконисом о чем-то базарили. Вроде, спокойный был.
Стоим, значит, на проверке. Чувствую, что-то долго стоим, досчитаться не могут. Вдруг с КПП Валька Валова бежит, жена начальника санчасти. Сам Валов, потом узнали, бухой лежал. Бежит Валька прямо через плац, сиськи вверх-вниз на бегу так и ходят — и в подвал, где каптерки. Потом вылезает из подвала Пяткунас — хозвзводу рукой машет, а потом рукой от своей шеи вверх так провел, как по длинной трубке. Ну, и все ясно стало. На ремешке от штанов удавился. Брезентовый такой ремешок, тонкий.
Ну вот. Шухер поднялся — дело обычное.
Сначала братья Лейдериса приехали. Ну, им показали все, что надо, что не чморили его, масть ему не клеили, что сам удавился. Сами же литовцы их водили. Погрузили им Лейдериса на вездеход — и к пристани, а там спецгрузом отправили. А через неделю приезжают они снова. И старуху какую-то с собой привезли. Старая, ведут под руки.
«Где крест?» — спрашивают. А литовцам этим, которые хотели, разрешалось кресты носить — я в бане у многих видел, и у Лейдериса тоже. Литовцам — кресты, азерам — усы, Насырову, правда, свои же не давали. Ну вот, где крест, спрашивают. Крест потерялся. Опять шмон по полной форме. Нет креста. Тогда выстроили весь полк на плацу и стали старуху перед строем водить. К нам однажды генерал из Москвы приезжал — идет вдоль строя и пальцем тычет: этот, этот. Онанистов выявлял, по глазам.
Ну вот, и старуха так же ходит, ходит… Вдруг остановилась перед Насыровым, и в грудь его пальцем — тык! И выяснилось, значит, что крестик этот Насыров у Лейдериса скрысил, а из крестика себе подкладку сделал. Ну, под комсомольский значок подкладку: взлетает ракета — дым столбом, а уж к дыму значок приделан. Для красоты. Там многие так делали, только из банок всяких. Ну, Насырова на губу, крест, что остался, старухе отдали. Хрен знает, как она его вычислила! Он ведь этот крест наждаком так обшоркал, что не узнать было.
Еще пара дней прошла — выходные были, кино показывали. А в понедельник приезжает комиссия. Мы сначала думали — по Лейдерису. Да нет, там штатских больше генералов было.
А штатские — ребята в массе молодые, и девки с ними — мы все балдели. Фигуристые такие, жаль только, в накомарниках, как в парандже. Утром на разводе полковой так прямо и сказал: чтоб где попало не ссали, а то издалека видать. Приборы какие-то носили, вертолет над частью три дня летал, восьмерки делал туда-сюда, его ребята уже сбить хотели, спящей смене кемарить не давал.
И знаешь, чего они приезжали? На объекте часы вперед ушли. Там часы такие были: точка, а за ней цифр двадцать горят — доли секунды. И вот эти часы сбой дали. Сперва думали из-за подстанции. Туда Волынин, электрик, накануне полез. Вдруг грохот, дым! Выскакивает Волынин — хэбэ на нем дымится, и морда тоже дымится. И над объектом сразу трубы задымили — там под землей дизельные станции, аварийка. Автоматически переключились. Так думали сначала, это из-за Волынина. Да нет…
Дело в том, что по всей части сдвиг прошел. А потом дальше, на урман. Эти, штатские, его и мерили. С нашей части, говорят, сдвиг и начался. То есть у нас одно время, а отъедешь немного — уже чуть поменьше. Немного, но меньше. На эти самые доли. Еще чуть отъедешь — обратно нормальное, но и там вскорости меняется, прямо как волна догоняет, и как у нас становится. И так по всей Земле прошло.
Тогда же по всему миру часы на секунду вперед перевели, не помнишь, что ли? И объяснить никто не смог, почему, и замяли это дело. Земля, что ли, сама вдруг крутанулась. Вот как знаешь, спичка горит ровным пламенем, а дойдет огонь до конца — и как вдруг полыхнет! И здесь вроде как то же самое. По «Очевидному-невероятному» об этом начали было рассказывать, а тут команда «тихий отбой, суки!» и дежурный телек вырубил.
Ну вот, а как стали цепицентр искать, нашли у нас. Провели там какие-то линии, скрестили — сперва думали, на объекте. Да нет, оказался центр аккурат над каптеркой, где Лейдерис удавился.
Ладно… Подумаешь, секунда! Если б оно сразу до дембеля рвануло, а то секунда!
Тогда-то всем этот Лейдерис до фени был. Лейдерисом больше, Лейдерисом меньше… А сейчас жаль парня. Свои растут. Ох, как жаль…
Не скажу, что моя армия хуже других была. Всякое случалось. Ну, жить не давали, ну, в морду били. Ну, я бил. А как же без этого?
У древних римлян децимация была. Я читал. То есть драпанет легион с поля боя — всё, выходи строиться, негодяи. Подходи, ребята, по одному, доставай из вазы камешки. На девять белых один черный. Вынул черный — получи по кумполу, брат мой лихой. Вынул белый — живи. По жребию, без обиды. И чтоб другим неповадно было.
Армия для того и существует, чтоб солдаты умирали. На сто человек всегда родится один, два, три таких, что мать родная только перекрестится, если их куда-нибудь заберут. Если не забрать, они ж бузить станут. А которые смирные — девок брюхатить, нищету плодить. А так они все за колючкой. И в Америке армия. Им ведь тоже свой брак девать куда-то надо. Всех-то посадить не за что.
В моей армии всякое было, и всего понемножку. Кто б ты ни был, хоть конем шахматным ходи, хоть шелковым стань, хоть картинкой со стенда по строевой подготовке — все равно достанется, хотя бы за компанию. Хоть чуть-чуть, да каждого придушат. Ну, а кого-то — до конца. Потому что главное дело военных — убивать. Без этого армия не может. Без этого она, как дрочила прыщавый, сама себе пальцы до крови грызть начинает.
Один у нас в машину греться полез — завел, заснул, а она в боксе стояла. Одного Казанин удавил, полотенцем — тот долг не отдавал, что ли. Мы тогда в Ленкомнате сидели, по телевизору Пугачева пела. Входит Казанин, красный такой, и тоже садится, смотрит. Ну, потом его раскололи. А один сам удавился.
У нас на взводе тридцать шесть рыл было. Каждый по два года родине отдал. Умножь на тридцать шесть — аккурат жизнь получится. Даже больше — мой батя и полтинник не разменял, от силикоза загнулся. Ну а те, выходит, догнали и перегнали. Перевыполнили. Природа не дремлет, свое всегда отнимет.
Замполит там всё про чувство локтя вкручивал, про тесные ряды, про дружбу, про другую всякую херню. А я так скажу: лиши людей свободы, и они сами по себе стадом будут. Они от такой жизни не думают уже, за них начальство думает. И не так ведь, чтоб насилие было: ты, мол, не думай, а то заморю, жить не позволю. Нет, сами уже думать не могут. Не могут, и все.
Будь ты семи пядей во лбу, а когда жрать все время хочешь, только о жратве и думаешь, больше ни о чем. А лопатой машешь — только и думаешь: когда ж яме конец? Там может показаться, что все о воле думают, потому что только о воле говорят. А на воле ты ел, когда хотел, и курил, когда хотел. Поэтому о воле и думают будто бы. А на самом деле — о жратве. Ну, к дембелю поближе, когда противостоин тебя уже не берет, — о бабах. А так — о жратве, да покемарить бы. В это время за тебя другие и думают. И там все такие. От этого все и становятся дружным таким с виду коллективом. Единомышленники, мать нашу. А думают за всех умные. В армии других и не бывает. Там все либо самые умные, либо самые глупые, сколько их ни есть по стране.
У них там и специальные заморочки делают. Взять, к примеру, кино. Я только на воле знаешь что сообразил? Я раньше не понимал, зачем у нас фильмов много, и все они такие безмозглые. Алка под конец уже без меня в кино ходить стала — знает, что я через десять минут встану и уйду. Ну, разве что портвейна за пазуху возьму, чтоб хлорку туда сунуть и через хлорочку соснуть.
Ну, вот, а в армии от этого не уйдешь. Если тебя перед экраном посадили, то крутись не крутись, а смотреть будешь. Будешь — никуда не денешься.
Я там специально опыты ставил. Пригонят нас в клуб: садись и смотри. Свет погасят, а я — глаза вниз и о своем думаю. Книжки вспоминаю: «Три мушкетера» там, «Королеву Марго», «Похождения Васи Кочерыжкина» и так далее. Из «Родной речи», к примеру. Думаю, думаю — вдруг все смеются, и я смеюсь. Хотя и не смешно. Но все смеются, а я со всеми. Потому что давно уже не мушкетеров вспоминаю, а на экран смотрю. Пробую снова — через минуту та же картина. Будто кто насильно меня смотреть заставляет. Или гипнотизирует. Мушкетеров-то про себя вспоминаешь. А кино-то вслух орет! Просто растворяешься в этом кино. Какое б оно безмозглое ни было, жить в нем, а не тут начинаешь. В детстве, помню, про войну фильм глядя, жуть брала — один к одному. Один к одному!
Ладно, про это и так все знают. Я вот о чем. Пацан-то, что у нас повесился, — он всех удивил. Я понимаю, если б он чмо был. Если б его по ночам на полах гноили или, скажем, в сушилку — калориями кормить.
Не, ты чего! Кто ж он был, дай вспомнить… Завскладом, что ли? Из хозвзвода он — это точно, там у них одни литовцы были. Лейдерис его звали, Ромас.
С этими литовцами осечка вышла — с гражданки пригнали, а после наехала комиссия и шерстить всех стала. И у многих литовцев родня в Америке оказалась, или у немцев служила, или братья лесные были, точно не знаю. В общем, каких-то на хозвзвод перевели. Там почти все литовцы стали, потому что нашего к хлебу пусти — он в момент все пропьет да раздаст, да еще воровать будет. Случалось уже. Вот наших на объект вернули, а литовцев — на хозяйство. На объекте потом бардак полгода был, без них справиться не могли, потому что ребята всё грамотные ушли, все специалисты уже. Наши, помню, перед отбоем в карты режутся, или тормозуху пьют, или чмо какое-нибудь чморят. А литовцы в учебном классе Р-110 тихонько врубят и по-своему что-то слушают — небось, тоже из Америки. А Ромас лежит на верхнем ярусе, книжку читает с картинками такими… Ну, как у врачей — микробы там увеличенные или глисты, хрен его разберет. Врачом, наверное, стать хотел.
Ну вот. Они, кстати, все сельские были. Мы просто балдели: из села, а по-русски свободно, вот как мы с тобой, говорят. Это ж значит, они два языка уже знали. Из села, называется, — прикинь, да? С ними, бывало, один стоишь — все из вежливости по-русски говорят, а ты меж них, как в кино, к немцам засланный. Тем более что форма-то наша, кроме шапок да пилоток, с той, немецкой, слизана. А уж если фуражки наденут, да которые в очках — все, руки вверх.
И Лейдерис этот тоже из села был. Не, с хутора. У них, говорят, хутора, а не села. А в хозвзводе хорошо — у всех жизнь личная, в строю их не шмонают, копать, да грузить, да в караулы не гоняют. В кино, кстати, тоже — всегда дела находили. У всех каптерки — а то, думаешь, где б он книжки держал? Да из тумбочки их бы в момент на подтирку унесли.
Да, вот еще случай с ним был. Деды тогда на дембель собрались — всё, уже портфели сложили, команды ждут. Прибегает шнырь со штаба: сдавай военные билеты, дембельские штампы ставить будут. Все от радости орут, а Миша Эгенмырадов — туда-сюда — нет билета. Как сквозь землю провалился. Миша всю казарму перевернул — нету. У меня, если по правде, все тогда и опустилось — я за этого Мишу больше всех радовался, что рожу его больше не увижу. Первый гад по всей химзащите был. А тут он без билета — это значит, когда ж его теперь домой-то отпустят? Всем дембелям — «Славянку», и с плаца — на КПП, к вездеходу. А Миша — в конце строя, в столовую, пайку хавать. Он, веришь, аж поседел — здесь вот чубчик у него седой стал. За ночь!
Утром, значит, стоим на разводе, Малышев разоряется: я тебя на губу, а на тебя дело заведу, а твоей матери письмо напишу, чтоб у нее сердце болело. Потому что ночью в автопарке с какого-то «ЗИЛа» коробку передач свинтили, а кто — неизвестно. Тут заходит этот Лейдерис — и к нему: товарищ капитан, разрешите обратиться. По хозяйству его что-то спрашивает. Ну, побазарили, он идет к выходу. Смотрит так мельком на нас, и вдруг оборачивается, будто ударил его кто! Зырк — опять на нас! Зырк! Поглядел и ушел.
А у нас два азера были, Насыров и Абдуллаев. Насырова этого все другие азеры презирали, потому что он был чмо. Ух, как они его не любили! Он и правда пацан был червивый. У него как-то на полигоне противогаз порвался, так он с салаги срывать стал. И этот, Абдулка маленький, больше всех его доставал — как оса рядом вертится, что-то по-ихнему скажет и смеется, а Насыров прямо с лица чернеет, шипит: «С-с-ским азн!»
И вот Лейдерис после развода приходит, Абдулке что-то говорит. Тот не понимает, потому что месяц как с гор спустился. Ну, Лейдерис ему машет: пошли. Идут вдвоем к Абдулкиной койке, поднимает Лейдерис подушку, простыню — а там военный билет лежит. Мишин, чей же еще? Абдулка его хватает, бежит, орет: «Мища! Мища! Насыров!»
Ну, всё сразу ясно стало. Мишу этого от Насырова вчетвером отрывали и оторвали, слава богу, а то застрял бы Миша в наших рядах еще хрен знает насколько. Насырова на губу тут же закрыли, потому что со всего полка другие азеры сбегаться стали — Насырова метелить. Они б его почище Миши изваляли, бывало уже. И только потом уже все догнали: а Лейдерис-то как узнал?
Ну, не знаю, как узнал. Понимаешь, нам, салагам, такие вещи знать не положено было, то есть спрашивать и вообще говорить громко. Не принято было.
Так вот: в тот день Лейдерис с утра, говорят, не в себе был. То-сё у себя сделал, кухонному наряду харч отпустил и на объект пошел. Его пускать не хотели, потому что допуска не было, но он уговорил — ив ЛАЦ. А с этого ЛАЦа хоть во взвод, хоть в Антарктиду позвонить можно. Он и давай звонить. Дозвонился и спрашивает: «Ниёля, ты вчера вечером в каком платье была? В зеленом?» Там друг его сидел, Воробьевас, ага, такая у него фамилия была. Так он потом рассказывал: прямо неудобно слушать стало, так хорошо мужик в бабских тряпках разбирается. Одно слово: немцы.
Ну вот, кладет, значит, трубку — и на выход. Я его, кстати, в этот момент, за полчаса до вечерней проверки, видел. Стоял, с Пашуконисом о чем-то базарили. Вроде, спокойный был.
Стоим, значит, на проверке. Чувствую, что-то долго стоим, досчитаться не могут. Вдруг с КПП Валька Валова бежит, жена начальника санчасти. Сам Валов, потом узнали, бухой лежал. Бежит Валька прямо через плац, сиськи вверх-вниз на бегу так и ходят — и в подвал, где каптерки. Потом вылезает из подвала Пяткунас — хозвзводу рукой машет, а потом рукой от своей шеи вверх так провел, как по длинной трубке. Ну, и все ясно стало. На ремешке от штанов удавился. Брезентовый такой ремешок, тонкий.
Ну вот. Шухер поднялся — дело обычное.
Сначала братья Лейдериса приехали. Ну, им показали все, что надо, что не чморили его, масть ему не клеили, что сам удавился. Сами же литовцы их водили. Погрузили им Лейдериса на вездеход — и к пристани, а там спецгрузом отправили. А через неделю приезжают они снова. И старуху какую-то с собой привезли. Старая, ведут под руки.
«Где крест?» — спрашивают. А литовцам этим, которые хотели, разрешалось кресты носить — я в бане у многих видел, и у Лейдериса тоже. Литовцам — кресты, азерам — усы, Насырову, правда, свои же не давали. Ну вот, где крест, спрашивают. Крест потерялся. Опять шмон по полной форме. Нет креста. Тогда выстроили весь полк на плацу и стали старуху перед строем водить. К нам однажды генерал из Москвы приезжал — идет вдоль строя и пальцем тычет: этот, этот. Онанистов выявлял, по глазам.
Ну вот, и старуха так же ходит, ходит… Вдруг остановилась перед Насыровым, и в грудь его пальцем — тык! И выяснилось, значит, что крестик этот Насыров у Лейдериса скрысил, а из крестика себе подкладку сделал. Ну, под комсомольский значок подкладку: взлетает ракета — дым столбом, а уж к дыму значок приделан. Для красоты. Там многие так делали, только из банок всяких. Ну, Насырова на губу, крест, что остался, старухе отдали. Хрен знает, как она его вычислила! Он ведь этот крест наждаком так обшоркал, что не узнать было.
Еще пара дней прошла — выходные были, кино показывали. А в понедельник приезжает комиссия. Мы сначала думали — по Лейдерису. Да нет, там штатских больше генералов было.
А штатские — ребята в массе молодые, и девки с ними — мы все балдели. Фигуристые такие, жаль только, в накомарниках, как в парандже. Утром на разводе полковой так прямо и сказал: чтоб где попало не ссали, а то издалека видать. Приборы какие-то носили, вертолет над частью три дня летал, восьмерки делал туда-сюда, его ребята уже сбить хотели, спящей смене кемарить не давал.
И знаешь, чего они приезжали? На объекте часы вперед ушли. Там часы такие были: точка, а за ней цифр двадцать горят — доли секунды. И вот эти часы сбой дали. Сперва думали из-за подстанции. Туда Волынин, электрик, накануне полез. Вдруг грохот, дым! Выскакивает Волынин — хэбэ на нем дымится, и морда тоже дымится. И над объектом сразу трубы задымили — там под землей дизельные станции, аварийка. Автоматически переключились. Так думали сначала, это из-за Волынина. Да нет…
Дело в том, что по всей части сдвиг прошел. А потом дальше, на урман. Эти, штатские, его и мерили. С нашей части, говорят, сдвиг и начался. То есть у нас одно время, а отъедешь немного — уже чуть поменьше. Немного, но меньше. На эти самые доли. Еще чуть отъедешь — обратно нормальное, но и там вскорости меняется, прямо как волна догоняет, и как у нас становится. И так по всей Земле прошло.
Тогда же по всему миру часы на секунду вперед перевели, не помнишь, что ли? И объяснить никто не смог, почему, и замяли это дело. Земля, что ли, сама вдруг крутанулась. Вот как знаешь, спичка горит ровным пламенем, а дойдет огонь до конца — и как вдруг полыхнет! И здесь вроде как то же самое. По «Очевидному-невероятному» об этом начали было рассказывать, а тут команда «тихий отбой, суки!» и дежурный телек вырубил.
Ну вот, а как стали цепицентр искать, нашли у нас. Провели там какие-то линии, скрестили — сперва думали, на объекте. Да нет, оказался центр аккурат над каптеркой, где Лейдерис удавился.
Ладно… Подумаешь, секунда! Если б оно сразу до дембеля рвануло, а то секунда!
Тогда-то всем этот Лейдерис до фени был. Лейдерисом больше, Лейдерисом меньше… А сейчас жаль парня. Свои растут. Ох, как жаль…
Наталья Резанова
Рассказы

Цапля
Предок царя, как сообщают, был храмовым рабом широкого Геракла, и это объясняет происхождение его родового имени.Больше всего в этой жизни раб Цапля ненавидел управителя. Со своим рабством он как-то свыкся, и у него хватало соображения понять, что прислуживать в храме — все же лучше, чем горбатиться в полях или на каменоломнях. С детских лет, как только его продали, он состоял при хлевах, убирал за жертвенными быками, а когда стал мужчиной, его повысили рангом — перевели чистить печь в храме. Здесь лучше кормили, и выпадало больше времени для отдыха. Но здесь он попал на глаза храмового управителя. И стал Цаплей. Хризостом, малоазийский грек, был евнухом, как положено управителю. И, как положено греку, презирал всяческих варваров — тупых римлян, Трусливых египтян, коварных иудеев, подлых персов, а грязных эдомитян вообще почитал ниже скотов. Он и придумал эту кличку, исковеркав до неузнаваемое эдомитянское имя раба. По-эллински получилось «цапля». И то благозвучнее, говорил Хризостом, а иначе можно язык сломать и надсадить горло. Да что там раб, он самого бога Мелькарт именовал на греческий лад Гераклом и, наверное, воображал, что оказывает ему этим честь! Хризостом наказывал Цаплю не чаще, чем других рабов, но всячески над ним издевался, обзывал эдомитской свиньей и арабской мордой. А самое обидное что приспешники Хризостома, всяческие кухари, судомои и прочая мелкая храмовая шушера, прекрасно знавшие, как зовут раба, тут же подхватили: «Цапля, Цапля!» и, подражая управителю, смеялись над его глупостью и неуклюжестью. В нем и впрямь было что-то от цапли — заплывшие жиром, но зоркие глаза Хризостома точно подметили сходство. Чрезвычайно тощий, высокий, носатый, он ходил по храмовым плитам, словно цапля по болоту, высоко подбирая ноги. И нескладен был до смешного. Однако притом весьма силен. И глуп он не был. Вернее, не был так глуп, как считал управитель. И нередко думал про себя: чего бы Хризостому так возноситься? Он — такой же купленный раб, как и Цапля. Только у Цапли есть над ним преимущество. Он — мужчина, а Хризостом — нет и никогда им не был. Где ему! В храме Мелькарта, разумеется, не служили женщины, но рабынь держали при загородных угодьях, и если Цапле приходилось попасть туда с каким-то поручением, он не упускал случая завалить девку прямо на меже или в конюшне. И он знал, что если раб заслужит милость храма, то может получить жилье и жену из числа рабынь. Однако он понимал, что при Хризостоме возможности обзавестись семьей у него не будет. И обладание мужской силой мало утешало его. Жизнь при храме и особые обязанности наложили на Цаплю особый отпечаток. Он, например, понятия не имел, кто и с кем сейчас воюет, хотя об этом мог бы в подробностях рассказать распоследний уличный торговец либо разносчик воды. Но для него были полны значения такие пустые длябольшинства рабов слова, как «кара богов», «милость богов», «молитва» и «жертва». Он видел, он слышал, он среди этого жил. И часто, прервав работу, стоя на коленях в жерле печи, в теплом пепле, под хлопьями оседающей сажи, он молил Мелькарта о милости. Уж он-то, в отличие от Хризостома, божьего имени не коверкал! И Мелькарт ответил. Как-то утром, разгребая гору мусора, раб увидел, что под серым пеплом что-то блеснуло. Цапля протянул руку и нащупал кусочек оплавленного металла. И по весу это должно быть золото. Ему и раньше приходилось находить нечто подобное, и он всегда отдавал, как и обязан, находки Хризостому. Раб не владеет ничем, и если б Цапля попробовал отнести золото меняле или прогулять со шлюхами, об этом немедленно бы стало известно. И Цаплю казнили бы страшной смертью за то, что он ограбил бога. Но все прежние находки случались до того, как Цаплю посетила замечательная мысль. В городе был храм Ашторет, владычицы сущего, и при нем — великий оракул, коему ведомы тайны прошлого и будущего. И Цапля хотел узнать, что ждет его, переживет ли он проклятого Хризостома и будет ли у него, наперекор управителю, семья и потомство. Астарта — так гнусный Хризостом называл богиню — не знает разницы между рабами и свободными, все вышли из лона ее. Но служители Ашторет требуют платы. И притом богиня — сестра и супруга Мелькарта. Если Цапля отдаст золото Ашторет, это ведь не значит, что он ограбил бога? У супругов имущество общее. И, вдохновленный этой мыслью, он спрятал слиток под рубахой. Управитель — не Мелькарт. В том, чтоб обмануть его, нет греха. Цапле пришлось выжидать больше десяти дней, прежде чем его послали в город. За это время не было больших жертвоприношений и, следовательно, новых находок. Но Цапля надеялся, что его не прогонят и с небольшим даром. В храм Ашторет он вошел с бьющимся сердцем. Он боялся. Что прогонят, что уличат в краже, что оракул не успеет ответить ему — ведь в святилище приходит столько желающих вопросить о своей судьбе, и чтобы умилостивить Великую, они гонят ко храму быков, овец и коз, несут драгоценные ткани, ливанский ладан и пурпур, которым более всего славится Тир. Целые таланты золота и серебра. И деньги. Дарики, сикли, совы, ауреи. Как жалок он со своим оплавленным кусочком золота! Но больше всего он боялся, что оракул ему ответит. У входа в храм высилась широкая каменная чаша для подношений. Рядом стоял привратник с мрачным лицом и бритой головой. Когда Цапля, бросив слиток в чашу, хрипло пробормотал: «К оракулу», он молча сделал знак босому служке, и тот, взяв Цаплю за руку, повел его за собой. Они шли по коридору, длинному и узкому. Шли долго, и Цапля потерял всякое представление о направлении. Коридор не всегда был сплошным — в стенных нишах что-то поблескивало и скалилось, проход разветвлялся, и камни зияли темными провалами. Однажды они миновали ряд колонн, за которыми был виден ярко освещенный зал, и среди множества лампад чернела огромная рогатая фигура. Должно быть, то был главный зал святилища со статуей Астарты, увенчанной полумесяцем. По стенам коридора висели масляные светильники, больше чадившие, чем тлевшие. Постепенно чад усиливался, пространство заволокло дымом. Служка опустил на лицо капюшон. Цапля не был столь чувствителен. В его службе при печи нельзя иметь нежное обоняние. Запах дыма казался ему даже приятным, по крайней мере, этого дыма. Потом стены куда-то разбежались, но Цапля не понимал, куда его привели. Огни исчезли, кругом была полная тьма, только дым еще витал над головами. Служка выпустил руку Цапли, и тот едва не упал. Что-то заскрипело, и Цаплю с силой толкнули в спину. С разбегу он ударился о стену, и за спиной его с грохотом захлопнулась тяжелая дверь. Цапля в отчаянии зашарил вокруг, но неизменно натыкался на стены. Его втолкнули в тесную клетушку и заперли. На мгновение сердце Цапли сковал смертный ужас. Значит, его все-таки уличили! И теперь его ждет расправа… Эта догадка неожиданным образом угасила страх, ибо заключение и казнь были понятней кошмара неопределенности. Потом раздался голос. — Раб, — сказал он. Откуда исходил этот голос, невозможно понять. Кругом был камень. Может, это камень говорил? Иль тьма? Потому что голос никак не мог принадлежать тюремщику или палачу, пришедшему покарать преступного невольника. — Раб… И голос не надсмотрщика и не жреца. Не человека. Он казался мужским и женским одновременно. Не бесполый омерзительный визг, как у Хризостома. В нем были твердость и нежность, твердость камня и нежность тьмы. Голос оракула. Что-то коснулось лица, погладило по щеке. Движение воздуха, сквозняк? Но в прикосновении была ласка. Сочувствие. Цапля расслабился и прислонился к стене. — Ты, моливший о благословении Мелькарта, стоя в жерле печи, на коленях посреди пепла. Молитва твоя услышана, благословение дано. Ты — раб, и сын твой будет рабом, и сын сына. Но так будет не всегда. Царства гибнут и царства возникают. Цари становятся рабами, а рабы — царями. Твои потомки возвысятся, и настанет день, когда один из них наденет венец. Невелико будет царство, которым ему суждено править, но слава его шагнет далеко за пределы владений и переживет века. Тысячелетия будет жить его слава! Цари и гордые князья произойдут из его семени, и многими престолами суждено им обладать. Но никто из них не сравнится в славе со своим предком. Тысячи лет люди будут повторять его имя чаще, чем имена богов, и мало найдется земных владык, кого не станут с ним сравнивать. Ступай, благословенный Мелькартом, и не проси о большем. Цапля не помнил, как покинул храм. Наверное, дверь клетушки отворили, наверное, его вывели наружу, но он бы не удивился, если б оказалось, что он вышел сквозь каменную стену. Пришел в себя он, сидя на земле у кромки дороги. Во рту было сухо, а голова кружилась, как с хорошего перепою (рабам редко выпадает счастье напиться, но пару раз случалось, и впечатления были незабываемые). И лишь постепенно до него дошел смысл сказанного. Нет — смысл того, что он услышал. Он, храмовый раб, — предок царей! Слава на тысячелетия! Имя, которое будет передаваться из уст в уста! Правда, это будет не его имя, а имя того, кому суждено стать царем, но… Страдая от издевательств Хризостома, Цапля порой черпал утешение в том, что он — сын могущественного шейха, воинственного князя пустыни. Когда-нибудь отец найдет сына, похищенного злыми врагами, и ворвется в храм на боевом верблюде, и мерзкого евнуха разрубит пополам. Но на дне памяти Цапли продолжала жить неприглядная правда. Шейх кочевого племени эдомитов разбил шатры свои у стен Тира. Роскошь большого города привела его в совершенно дикарский восторг, и он без устали тратился на яркие побрякушки, храмовых блудниц и сладкое вино — все то, что он с удовольствием бы награбил, но не имел возможности. А когда тратить стало нечего, он принялся продавать все, что считал ненужным. И сбыл храму Мелькарта мальчишку раба, который и впрямь мог приходиться ему сыном, — на такие мелочи шейх не обращал внимания. Ему было все равно — принесут ли малого в жертву или употребят на какие-то работы. Цаплю отправили не в жертву, а в хлев. Дети, которых удостаивали чести сжечь во имя Мелькарта, непременно должны были родиться свободными. Но теперь это неважно. Он остается рабом, но лучше быть предком царей, чем потомком шейхов. А имя… если у него, как предсказано, будет сын, он даст ему свое имя. И заповедает настрого, чтоб это имя навсегда оставалось в его потомстве. Радостный и счастливый, вернулся он в храм. И не успел ступить под колоннаду двора, как на его плечи обрушился управительский посох. — Где ты шлялся, арабская морда, свинья эдомитская?! — визжал Хризостом. — По кабакам шатался или дрых в канаве, вонючей, как твоя мать? Онемел, Цапля? Мрачная тоска и тупое отчаяние сдавили грудь предка царей. Он бы все вынес — ругань, порку, колодки. Но коверкать свое имя — славное царское имя — позволить не мог. — Я не Цапля, — угрюмо выговорил он. — Не Герод. Меня зовут Гордос. — Нет, Герод! Цапля! — Хризостом, разъяренный тем, что негодяй смеет противоречить, перехватил посох обеими руками и принялся молотить, при каждом ударе выкрикивая: — Цапля! Герод! Герод! И под пустой колоннадой повторялось, отдаляясь и отдаваясь все глуше: «Герод… Герод… Ирод».Роберт Грейвс. «Мифы Древней Греции»
Спящая
Все выглядело именно так, как рассказывали легенды. Хотя обычно легенды лгут похлеще очевидцев. Принц даже хмыкнул бы, не будь это столь вульгарно. Как подобает благородному человеку, он нередко предавался радостям охоты, и зрелище темной лесной чащи вряд ли могло его удивить, А тем более — напугать. Но такого высокого и густого терновника он не видывал никогда. — Эк, как оно заросло все! — воскликнул оруженосец. Ему по статусу дозволялось проявлять непосредственность. — Верхами ни за что не проехать. Принц неохотно спешился и приблизился к кромке леса. Достал охотничий нож, ударил по сплетению колючих ветвей и с проклятиями отдернул руку. — Нет, без топора никак не управиться. Хорошо, что догадались его прихватить. Так что, Жан, доставай топор и приступай к делу. Жан, подавив тяжкий вздох, последовал приказу. Собственно, идея прихватить в рыцарский поиск такое неблагородное оружие, как топор лесоруба, как раз ему и принадлежала. Принц Дезире изрядно посмеялся над этим советом, а потом согласился. Никто другой из свиты принца до этого бы не додумался, но Жан был сыном лесничего, и хотя покинул отчий дом еще в малолетстве, кое-что из прошлой жизни еще помнил. И теперь, не прекословя — он вообще был не из тех, кто прекословит господам, взялся за длинную рукоять топора, примерился, и начал рубить кусты. Принц Дезире следил с удовольствием, как преграда, каковую считали непроходимой, трещит и рушится с каждым ударом топора. Он понимал, конечно, что на приближение к заветной цели уйдут не часы — дни. Будем надеяться — оно того стоит. Что до прочего, так Жан по приказу господина основательно опустошил дворцовую кухню, так что в ближайшие дни голодная смерть им не грозит. А если припасы кончатся — не может быть, чтоб в Мрачнолесье не водилось какой-нибудь дичи. К ночи, когда Жан выбился из сил, да и орудовать топором стало несподручно, принц разрешил сделать привал. Ему было не впервой ночевать в лесу, а Жану тем более… Оруженосец развел костер, а просека, вырубленная им, оказалась достаточно широка, чтобы провести коней и привязать поблизости от места ночлега. — Мы хорошо углубились внутрь, — сказал принц, покончив с фазаном в имбирном соусе, в то время, как Жан еще расправлялся с холодным пирогом. — А говорили — нельзя пройти. Просто не ходил никто. Не пытался. Пивохлебы, они и есть пивохлебы, вместо крови пиво булькает. Тут принц Дезире был не совсем точен — и не только в том, что касалось анатомии жителей сопредельной державы. Мрачнолесье и впрямь некогда этой державе принадлежало, потом оставалось спорной территорией, но еще прадед принца присоединил его к своим владениям. Жан благоразумно промолчал. Он и вообще был благоразумен, и понимал, что есть вещи, о которых не говорят даже самым добрым господам. Особенно если ты родился по ту сторону границы, где подданных принца Дезире презрительно именуют «жабоедами». К тому же его что-то тревожило. Нечто, относящееся не к словам принца, а к самому лесу. Но он не мог понять, что, поскольку обычно все знания, связанные с лесом, а значит, напоминающие о прошлой жизни, стремился отогнать подальше. На другой день, когда Жан снова принялся за топор, предварительно наточив его, земля под ногами путников резко пошла под уклон. Принц выругался, помянув священный синий цвет королевского стяга во всех склонениях, а заодно тех рассказчиков, что позабыли вставить овраг в список препятствий. — Больше похоже на ров, — сказал Жан. — Только широкий очень. — Думай, что говоришь! Откуда здесь может взяться ров? Хотя… наверное, и впрямь ров. Если в глубине леса есть замок… так раньше вокруг замков делали рвы! Теперь это вчерашний день фортификации, но то было раньше! А за сто лет вода высохла… — Сдается мне, прошло гораздо более ста лет… — Жан оглядывался по сторонам. — И вроде бы слышал я, такой терновник вырастает на месте пожарищ. Да. Я еще вчера про то хотел сказать. — А нам что до этого? Если здесь когда-то и полыхало, так с тех пор все колючкой поросло.. — Принц порадовался собственной остроте. — А если это замковый ров, то мы продвигаемся в верном направлении. Жан поплевал на ладони (Дезире поморщился) и снова взялся за топор. На исходе третьего дня у них закончилась еда, хотя вино в плетеной бутыли, притороченной к седлу жанова коня, еще оставалось. А утром четвертого дня внезапно кончился лес. Принц и его оруженосец стояли у подножия пологого холма. Но зрелище, представшее их глазам заставило принца не только заново просклонять священный синий цвет, но и впасть в совершеннейшее богохульство. Ибо здание, украшавшее вершину холма, нисколько собою не напоминало дворец. Или хотя бы замок. Когда-то это был сруб из добротных дубовых бревен, крытый дранкой. Но сейчас он покосился от ветхости, грозя рассыпаться по бревнышку, а крыша просела. — … пивохлебы! — рычал принц Дезире. — Дворец, значит, мраморный. Роскошные палаты! Сотни слуг, уснувших в переходах, и стражники, спящие на стенах, и на троне спящие король с королевой! А в спальне… Да кто может спать в такой халупе? Какая-нибудь коровница? И он снова принялся поминать всех святых. Жан смиренно молчал. Богохульство, как и охота, было привилегией знати. Наконец принц устал браниться и потому несколько успокоился. — Надо же так все переврать! Но не зря же я сюда пробивался. Пойдем, посмотрим, что там внутри. Или кто. Жан послушно последовал за господином. Хотя насчет того, кто сюда пробивался у него имелось собственное мнение, он как всегда, оставил его при себе. Не таков был Жан, чтоб спорить с господином. Особенно с устатка. Оставив коней у подножия холма, они поднялись к покосившейся избе. Вблизи обнаружилось, что окон в доме нет, зато есть дверь с проржавевшими намертво скобами, запертая на столь же проржавевший замок. Дезире повелительно кивнул, и Жан снова занес топор. Хватило одного удара, чтобы замок упал на землю. А вот для того, чтобы распахнуть дверь, Жану при всей его силе пришлось садануть несколько раз. Затем Дезире решительно отстранил Жана от входа. Какие бы ужасы не таились в древней избушке, принцу подобало встретить их первым. Обнажив шпагу, он шагнул внутрь. Для этого ему пришлось нагнуться. Жану — тоже, при том, что он был пониже ростом. Жан был уверен, что независимо от ужасов, их ожидают завесы паутины и вековой слой пыли. Но странно — ничего этого не было. А также запаха сырости и тлена, какой всегда стоит в нежилом доме. Хотя — почему же нежилом? Солнце, ворвавшееся сквозь открытый дверной проем, высветило фигуру человека, лежавшего на лавке. Это был воин в вооружении, давно позабытом по обе стороны границы. Вместо покрывала он был укрыт прямоугольным деревянным щитом, из-под которого виднелись ноги в чем-то наподобие кожаных лаптей. Руки, сложенные поверх щита, были в кольчужных рукавицах. На голове красовался круглый шлем без забрала, увенчанный турьими рогами. — Ну вот, — саркастически произнес принц, — что с пивохлебов взять? Назвать избу дворцом — это я еще могу понять. Но спутать этого с принцессой? Он подошел поближе к распростертому на лавке телу. Нагнулся, всмотрелся. Что-то изменилось в его лице. — Ну-ка, выйди, — отрывисто приказал он. Жан послушно поплелся к выходу. — И дверь закрой! — донеслось до него. — И не входи, пока я не велю. Жан выполнил и этот приказ. Притворив за собой дверь, он уселся на землю, привалился к прогретым солнцем бревнам. Ему хотелось спать. Но вместо того, чтобы уснуть, он старался вспомнить то, что ускользало от него в предшествующие дни и ночи… историю, которую он некогда слышал от своего отца, а тот — от своего отца, а тот — от своего. Историю, которую он старался забыть, как и все, что было в те времена, когда его звали Йоханом, а отец его служил королевским лесничим… до того дня, когда его призвала к себе королева и приказала отвести в лес ее падчерицу и там убить. Потом отца повесили. Люди говорили — пожалел, отпустил. А Йохан бежал из разоренного дома, но успел накрепко усвоить — вот что бывает, когда не выполняешь приказов. Однако история была совсем, совсем про другое… Раздался страшный грохот. Казалось, будто изба ходит ходуном, а крыша готова окончательно провалиться внутрь. Жан вскочил на ноги, подняв с земли топор — и замер в нерешительности. Господин Дезире запретил ему входить без приказа. Некоторое время он топтался на месте, прислушиваясь к треску, звону и хрипению, которые слышались изнутри. Затем дверь снова распахнулась. На пороге стояла коренастая женщина в ржавой кольчуге. Ее желтые сальные волосы падали до пояса. В руке она сжимала принцеву шпагу. Устремив на Жана злые голубые глаза, она разразилась длинной фразой. Некоторые слова в ней напоминали родной язык Жана, но большинство были совсем непонятны. Вроде бы тот язык — и все же совсем другой. Или все-таки тот? Одно было ясно — женщина гневается. При каждом движении с ее кольчуги сыпались кольца, а ветхая рубаха разъезжалась, и это заставляло ее яриться все больше. Перехватив шпагу, она сломала ее об колено, и направилась к Жану. Прежде, чем он успел сообразить, что она хочет сделать, женщина вырвала у него из рук топор и взмахнула им. Жан отшатнулся, однако, видимо, у женщины не было враждебных намерений. Взвесив топор в руке, она довольно ухмыльнулась и поспешила обратно в избу. Вернулась она оттуда с охапкой одежды, в которой Жан с ужасом узнал батистовую рубашку, бархатные кюлоты и камзол, а также сапоги из тонкой юфти, принадлежавшие принцу. Швырнув все это на траву, она без стеснения стащила с себя собственные обноски и принялась переодеваться, безжалостно разрывая то, что не подходило по размеру. Закончив с этой процедурой, она нахлобучила на голову свой дурацкий рогатый шлем и хозяйской походкой, положив на плечо топор, направилась к лошадям. Кровный конь принца шарахнулся от нее — он не признавал никого, кроме хозяина. Женщина расхохоталась и ухватила повод. Жеребец рванулся, пытаясь встать на дыбы, но не сумел. Пользуясь тем, что внимание желтоволосой отвлечено, Жан подкрался к двери и заглянул внутрь. Ненадолго. Но и одного взгляда на принца, свисающего с балки на собственной портупее, было достаточно, чтобы все вспомнить. И все понять. Желтоволосая взгромоздилась в седло, саданув бедного коня кулаком между ушами. Пристально глянула в небо, как будто ожидала там нечто увидеть. Но не увидела. Вытерла нос рукавом, тряхнула сальными космами, свисающими из-под рогатого шлема, и гаркнула: — Comm, thrael! — Да, фрекен Брюнхильд, — послушно отозвался Йохан.Максим Дегтярев Привилегия
Рассказ
 Каждый день с восьми до девяти вечера Рудольф смотрел новости. Когда его жена Клара замечала, что муж снова включает телевизор, она демонстративно усаживалась перед компьютером и загружала Интернет. Стол с компьютером стоял в противоположном углу комнаты, они сидели другу к другу спиной, до жены доносился голос диктора, до Рудольфа — озлобленное щелканье клавиш. Примерно чрез три минуты она просила приглушить громкость. Рудольф беспрекословно подчинялся. Дальше происходило приблизительно следующее.
«Во время теракта в метро погибло тридцать человек», — говорил, к примеру, диктор. На экране двое спасателей задвигали окровавленные носилки в уже заполненную машину «скорой». Внизу, примостившись у колеса, врач делал искусственное дыхание пожарному, наглотавшемуся дыма. На заднем плане другие пожарные тянули в подземный переход заведомо короткий шланг. Кто-то кричал, что в гидранте нет воды и надо вызвать машину с цистерной.
«Тридцать семь», — поправляла диктора Клара, просматривавшая в это время какой-нибудь новостной сайт. При этом она многозначительно хмыкала.
На экране телевизора появлялись дымящиеся руины.
«Из-под завалов торгового центра удалось спасти пятерых», — комментировал диктор.
«Одного, и то в коме», — говорила Клара и ругала Интернет за то, что тот медленно работает.
«Поэтому у него меньше выходит», — отвечал Рудольф. И тогда Клара оборачивалась, чтобы смерить его спину уничижительным взглядом. Ни за чем иным она никогда не оборачивалась.
Тем временем диктор переходил к новостям экономики.
«За неспособность справиться с экономическим кризисом правительство в полном составе было отправлено в отставку».
«Второе за этот год, — уточняла Клара, пользуясь все тем же источником, — наворовали, и хватит, дайте наворовать другим».
Прогноз погоды предрекал наводнение на юге страны.
«Опомнились, — язвила Клара, — уже пятьдесят человек утонуло!»
Ровно в девять Рудольф выключал телевизор, минутой-двумя позже Клара покидала Интернет. Напоследок она бросала замечание, что, как всегда, ни один иностранный сайт недоступен. Об иностранных телепрограммах, газетах и журналах и говорить не приходилось.
Рудольф подходил к окну и смотрел на закат. Проткнутое шпилем колокольни, солнце медленно сдувалось, удлиняя тени, погружая их тихую улицу в розоватый сумрак.
«Взойдет ли оно завтра», — думал Рудольф о солнце, и перед его глазами возникал заголовок главной завтрашней новости: «Солнце сегодня не взошло и больше никогда не взойдет». А он этим утром купил новые солнцезащитные очки. Зачем? Разве не приятно смотреть на солнце?
«Ну, она-то никуда не денется, — подумал он о луне, когда уголок ее молодого серпа появился над зданием городского совета. — Разве что добавится двоеточие».
Но пока неприятности обходили их городок стороной. Может, и солнце в каждом городе свое, для кого-то оно восходит, для кого-то уже нет.
«Доберутся и до нас», — поговаривали в конторе, где он работал. Когда именно это произойдет, строились самые разные предположения. Рудольф не любил участвовать в их обсуждении.
В один из последних дней августа к ним приехал дальний родственник; ни Рудольф, ни Клара никогда о нем раньше не слышали. На старике было теплое пальто, вязаная шапочка и туристические башмаки, в разной степени стоптанные, — так, словно его правая нога прошла втрое больше, чем левая. О своем родстве старик сообщил таким образом, что каждый из супругов решил, что гость является родственником другого, и никому из них не пришло в голову переспрашивать. Двоюродный дядя жены (так условно определил его Рудольф) сказал, что он у них проездом и что назавтра он, конечно же, уедет. Клара, не высказав по этому поводу ни радости, ни огорчения, приготовила ему спальню над гаражом.
— Ты обратила внимание на его ботинки? — спросил ее Рудольф.
— Обратила. Иначе и не могло быть в нашем искривленном мире, — ответила Клара.
Как обычно, в восемь часов вечера Рудольф включил телевизор. Старик уселся рядом, он с недоумением посмотрел, как хозяйка устраивается к ним спиной и загружает компьютер, но промолчал.
Передавали военные, сводки: вот уже два года шла кровопролитная война на границе с Усканией. Корреспондент сидел на искореженном корпусе танка и говорил, что число убитых и раненых в этой войне уже перевалило за пять тысяч и конца этому не видно.
«Десять», — вставила Клара.
Сотни тысяч беженцев заполнили палаточные лагеря в приграничных провинциях, им не хватает питьевой воды и элементарных медикаментов.
«Поэтому четверть из них давно погибла. И каждый день уносит еще по сотне человек, половина из которых — дети».
Родственник отвечал на каждую реплику поворотом головы. Мгновение он рассматривал Кларин затылок, затем переводил взгляд на Рудольфа. Тот безо всякого выражения на лице смотрел в экран. Еще через мгновение туда же направлял свой взор и родственник.
Один раз — видимо, специально для гостя — она добавила к фактам суждение:
— Нам никогда не скажут всей правды!
Теперь они встретились взглядами, и родственник счел, что промолчать будет невежливо.
— Никогда, — сказал он, — за одним исключением.
— За каким? — в один голос спросили Рудольф и Клара.
— Приговоренный к смертной казни имеет право узнать правду. Это его привилегия — привилегия приговоренного.
— Мы все приговоренные, — сказала Клара, — следовательно, у нас у всех есть право знать правду.
— Вы это точно знаете? — спросил Рудольф.
— Точно, — ответил родственник.
После новостей он удалился к себе в комнату. Рудольф подошел к окну. Солнце уже закатилось, стояли уютные августовские сумерки. Соседка из дома напротив вышла в сад, чтобы выключить поливальную машину. Она что-то сказала качавшейся на качелях девочке, и девочка ушла в дом. Наверное, она сказала, что пора укладываться спать. Зеленщик с громким стуком запирал лавку.
«Клара права, — размышлял Рудольф, — так или иначе, мы все уже приговорены. И я, и она, и этот старик, и та девочка».
Рано утром, когда хозяева еще спали, родственник уехал.
В этот же день в контору Рудольфа позвонил неизвестный и сказал, что в здании заложена бомба. Служащие тотчас выбежали на улицу. Приехавшая полиция оцепила квартал. Потом приехали саперы, они обыскали здание, но ничего не нашли.
«Это только начало», — поговаривали вокруг Рудольфа. Никто не захотел возвращаться в контору. Когда Рудольф заметил, что остался на улице один, он тоже отправился домой.
На следующий день он не пошел на работу. Ему позвонили, и он сказал, что болен. «Да, — ответили ему, — нам всем нужно время, чтобы прийти в себя». Клара была настолько тактична, что не сделала никакого подобного намека.
«Они считают меня трусом, — думал Рудольф, — но они ошибаются. И скоро они это поймут».
После долгих поисков в Интернете он нашел закон о привилегиях для приговоренного. Родственник их не обманул: закон, о котором он говорил, существовал с восемнадцатого века, и никто его не отменял. Удостоверившись, что все обстоит именно так, Рудольф отыскал чертеж портативной бомбы и связался с теми, кто мог бы продать ему взрывчатку и другие необходимые детали.
Они встретились на дороге, в трех километрах к северу от города. Хмырь с наклеенными усами вытащил из багажника двухкилограммовый сверток и передал Рудольфу. Рудольф отсчитал деньги.
— Там действительно взрывчатка? — спросил он.
— О, да, — сказал хмырь, — по части взрывчатки вы можете доверять мне полностью.
— С какой стати? — удивился Рудольф.
Хмырь помахал перед его носом жетоном с эмблемой одной известной спецслужбы.
— У нас только качественный товар, — произнес он не без гордости.
— И вам не стыдно торговать этим?
— Мне тоже нужно кормить семью, — ответил хмырь и укатил.
Рудольф собрал две одинаковые бомбы. Одну он испытал далеко от города, в лесу. Взрыв выворотил несколько деревьев; на укрывшегося в овраге Рудольфа обрушился дождь из ветвей и листьев. «И хмырь не обманул», — подумал он, поднимаясь и отряхиваясь. Его заняла мысль о происхождении лжи. Является ли она продолжением природной мимикрии или возникла много позже — тогда, когда слово отделилось от вещи и, будучи гораздо более изменчивым, чем вещь, пошло по пути собственного естественного отбора? Либо так, либо эдак.
Третьего сентября он отправился в столицу. Полдня ушло на то, чтобы выбрать подходящий ресторан — не пустой и не полный, с местами, куда можно спрятать бомбу, без детей и, желательно, без женщин. Наконец, выбор был сделан. Он наугад заказал еду, притронулся к ней только для вида, оставил официанту щедрые чаевые, бомбу спрятал у окна, за доходившую до пола штору.
Кто бы мог подумать, что его опередит пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Вечерние новости только о нем и твердили. Клара, заняв привычное место, высказалась:
— Нарочно подожгли, чтобы оправдать попадание химических отходов в почву. Теперь все свалят на пожар.
Рудольф ее не слушал — он ждал, когда скажут о взрыве в ресторане. Бомба, безусловно, сработала. Стесненный высокими домами, звук взрыва проник в переулок, прячась в котором Рудольф набрал на мобильном телефоне нужный номер. Он не вернулся к ресторану и даже не посмотрел в его сторону. Он сразу же направился к метро, и поезд довез его до станции, где он бросил машину. Ему хотелось скрыться, хотя цель его была в точности противоположной.
Ну вот и ресторан. Выбитые стекла, искореженные рамы, обугленная вывеска, кровь на тротуаре, пять или шесть машин «скорой помощи», пожарные и спасатели. Четверо погибших, одиннадцать в тяжелом состоянии отправлены в больницу.
— О нем есть что-нибудь? — спросил он Клару.
Раньше он никогда не спрашивал. Клара смутилась оттого, что отличия в сообщениях были незначительны.
— Из одиннадцати двое уже скончались. Женщина и грудной младенец.
В ресторане не было грудных младенцев. Может, женщина с младенцем вошла после того, как Рудольф его покинул? Сколько прошло времени, прежде чем он позвонил? Минут пять он петлял по ближайшим улицам, затем в глухом переулке он от волнения несколько раз набирал не тот номер, вспотевшие пальцы соскальзывали с кнопок. После четвертого набора ему ответили: «Руди, это ты?». У него помутнел рассудок, он крикнул: «Взрывайся, сволочь», и швырнул телефон — к счастью, в мусорную кучу, и телефон не разбился. Или же он крикнул это после пятого набора, в ответ на длинные гудки? Сейчас он уже не мог точно припомнить. В одном Рудольф был уверен твердо: он не хотел убивать детей. Несмотря на то, что они тоже приговорены, они не в состоянии осознать свою привилегию.
Непонятно с чьих слов полиция составила словесный портрет подозреваемого. Между портретом и Рудольфом не было никакого сходства. У Рудольфа не треугольное лицо, не крупный нос и не жесткие, коротко стриженые волосы. И зовут его не Мухаммед — это видно с первого взгляда. Какой-то Мухаммед собрался занять место Рудольфа, собрался присвоить себе его привилегию. Этого нельзя было допустить.
Наутро Рудольф сдался властям. Сначала ему не поверили. Он настоял на обыске, и полиция нашла в его доме детали бомбы. Затем он указал место испытательного взрыва. Идентичность взрывчатки и других частей бомбы не вызывала сомнений. Шестого сентября ему предъявили обвинение и отправили на психиатрическую экспертизу. «Вменяем», — признали доктора, не подкупленные казенным адвокатом. (Он предлагал, но Рудольф отказался.)
Через две недели Рудольфу вынесли смертный приговор, дату казни назначили на первое октября. Сразу после объявления приговора Рудольф пожелал воспользоваться привилегией. Узнав об этом, его адвокат разорвал черновик апелляции. Рудольфа передали ведомству, заведующему исполнением наказаний. Они же заведовали и привилегиями. В анкете, которую ему предложили заполнить, была графа: «Владение иностранными языками». Рудольф указал английский.
Каждый день с восьми до девяти вечера Рудольф смотрел новости. Когда его жена Клара замечала, что муж снова включает телевизор, она демонстративно усаживалась перед компьютером и загружала Интернет. Стол с компьютером стоял в противоположном углу комнаты, они сидели другу к другу спиной, до жены доносился голос диктора, до Рудольфа — озлобленное щелканье клавиш. Примерно чрез три минуты она просила приглушить громкость. Рудольф беспрекословно подчинялся. Дальше происходило приблизительно следующее.
«Во время теракта в метро погибло тридцать человек», — говорил, к примеру, диктор. На экране двое спасателей задвигали окровавленные носилки в уже заполненную машину «скорой». Внизу, примостившись у колеса, врач делал искусственное дыхание пожарному, наглотавшемуся дыма. На заднем плане другие пожарные тянули в подземный переход заведомо короткий шланг. Кто-то кричал, что в гидранте нет воды и надо вызвать машину с цистерной.
«Тридцать семь», — поправляла диктора Клара, просматривавшая в это время какой-нибудь новостной сайт. При этом она многозначительно хмыкала.
На экране телевизора появлялись дымящиеся руины.
«Из-под завалов торгового центра удалось спасти пятерых», — комментировал диктор.
«Одного, и то в коме», — говорила Клара и ругала Интернет за то, что тот медленно работает.
«Поэтому у него меньше выходит», — отвечал Рудольф. И тогда Клара оборачивалась, чтобы смерить его спину уничижительным взглядом. Ни за чем иным она никогда не оборачивалась.
Тем временем диктор переходил к новостям экономики.
«За неспособность справиться с экономическим кризисом правительство в полном составе было отправлено в отставку».
«Второе за этот год, — уточняла Клара, пользуясь все тем же источником, — наворовали, и хватит, дайте наворовать другим».
Прогноз погоды предрекал наводнение на юге страны.
«Опомнились, — язвила Клара, — уже пятьдесят человек утонуло!»
Ровно в девять Рудольф выключал телевизор, минутой-двумя позже Клара покидала Интернет. Напоследок она бросала замечание, что, как всегда, ни один иностранный сайт недоступен. Об иностранных телепрограммах, газетах и журналах и говорить не приходилось.
Рудольф подходил к окну и смотрел на закат. Проткнутое шпилем колокольни, солнце медленно сдувалось, удлиняя тени, погружая их тихую улицу в розоватый сумрак.
«Взойдет ли оно завтра», — думал Рудольф о солнце, и перед его глазами возникал заголовок главной завтрашней новости: «Солнце сегодня не взошло и больше никогда не взойдет». А он этим утром купил новые солнцезащитные очки. Зачем? Разве не приятно смотреть на солнце?
«Ну, она-то никуда не денется, — подумал он о луне, когда уголок ее молодого серпа появился над зданием городского совета. — Разве что добавится двоеточие».
Но пока неприятности обходили их городок стороной. Может, и солнце в каждом городе свое, для кого-то оно восходит, для кого-то уже нет.
«Доберутся и до нас», — поговаривали в конторе, где он работал. Когда именно это произойдет, строились самые разные предположения. Рудольф не любил участвовать в их обсуждении.
В один из последних дней августа к ним приехал дальний родственник; ни Рудольф, ни Клара никогда о нем раньше не слышали. На старике было теплое пальто, вязаная шапочка и туристические башмаки, в разной степени стоптанные, — так, словно его правая нога прошла втрое больше, чем левая. О своем родстве старик сообщил таким образом, что каждый из супругов решил, что гость является родственником другого, и никому из них не пришло в голову переспрашивать. Двоюродный дядя жены (так условно определил его Рудольф) сказал, что он у них проездом и что назавтра он, конечно же, уедет. Клара, не высказав по этому поводу ни радости, ни огорчения, приготовила ему спальню над гаражом.
— Ты обратила внимание на его ботинки? — спросил ее Рудольф.
— Обратила. Иначе и не могло быть в нашем искривленном мире, — ответила Клара.
Как обычно, в восемь часов вечера Рудольф включил телевизор. Старик уселся рядом, он с недоумением посмотрел, как хозяйка устраивается к ним спиной и загружает компьютер, но промолчал.
Передавали военные, сводки: вот уже два года шла кровопролитная война на границе с Усканией. Корреспондент сидел на искореженном корпусе танка и говорил, что число убитых и раненых в этой войне уже перевалило за пять тысяч и конца этому не видно.
«Десять», — вставила Клара.
Сотни тысяч беженцев заполнили палаточные лагеря в приграничных провинциях, им не хватает питьевой воды и элементарных медикаментов.
«Поэтому четверть из них давно погибла. И каждый день уносит еще по сотне человек, половина из которых — дети».
Родственник отвечал на каждую реплику поворотом головы. Мгновение он рассматривал Кларин затылок, затем переводил взгляд на Рудольфа. Тот безо всякого выражения на лице смотрел в экран. Еще через мгновение туда же направлял свой взор и родственник.
Один раз — видимо, специально для гостя — она добавила к фактам суждение:
— Нам никогда не скажут всей правды!
Теперь они встретились взглядами, и родственник счел, что промолчать будет невежливо.
— Никогда, — сказал он, — за одним исключением.
— За каким? — в один голос спросили Рудольф и Клара.
— Приговоренный к смертной казни имеет право узнать правду. Это его привилегия — привилегия приговоренного.
— Мы все приговоренные, — сказала Клара, — следовательно, у нас у всех есть право знать правду.
— Вы это точно знаете? — спросил Рудольф.
— Точно, — ответил родственник.
После новостей он удалился к себе в комнату. Рудольф подошел к окну. Солнце уже закатилось, стояли уютные августовские сумерки. Соседка из дома напротив вышла в сад, чтобы выключить поливальную машину. Она что-то сказала качавшейся на качелях девочке, и девочка ушла в дом. Наверное, она сказала, что пора укладываться спать. Зеленщик с громким стуком запирал лавку.
«Клара права, — размышлял Рудольф, — так или иначе, мы все уже приговорены. И я, и она, и этот старик, и та девочка».
Рано утром, когда хозяева еще спали, родственник уехал.
В этот же день в контору Рудольфа позвонил неизвестный и сказал, что в здании заложена бомба. Служащие тотчас выбежали на улицу. Приехавшая полиция оцепила квартал. Потом приехали саперы, они обыскали здание, но ничего не нашли.
«Это только начало», — поговаривали вокруг Рудольфа. Никто не захотел возвращаться в контору. Когда Рудольф заметил, что остался на улице один, он тоже отправился домой.
На следующий день он не пошел на работу. Ему позвонили, и он сказал, что болен. «Да, — ответили ему, — нам всем нужно время, чтобы прийти в себя». Клара была настолько тактична, что не сделала никакого подобного намека.
«Они считают меня трусом, — думал Рудольф, — но они ошибаются. И скоро они это поймут».
После долгих поисков в Интернете он нашел закон о привилегиях для приговоренного. Родственник их не обманул: закон, о котором он говорил, существовал с восемнадцатого века, и никто его не отменял. Удостоверившись, что все обстоит именно так, Рудольф отыскал чертеж портативной бомбы и связался с теми, кто мог бы продать ему взрывчатку и другие необходимые детали.
Они встретились на дороге, в трех километрах к северу от города. Хмырь с наклеенными усами вытащил из багажника двухкилограммовый сверток и передал Рудольфу. Рудольф отсчитал деньги.
— Там действительно взрывчатка? — спросил он.
— О, да, — сказал хмырь, — по части взрывчатки вы можете доверять мне полностью.
— С какой стати? — удивился Рудольф.
Хмырь помахал перед его носом жетоном с эмблемой одной известной спецслужбы.
— У нас только качественный товар, — произнес он не без гордости.
— И вам не стыдно торговать этим?
— Мне тоже нужно кормить семью, — ответил хмырь и укатил.
Рудольф собрал две одинаковые бомбы. Одну он испытал далеко от города, в лесу. Взрыв выворотил несколько деревьев; на укрывшегося в овраге Рудольфа обрушился дождь из ветвей и листьев. «И хмырь не обманул», — подумал он, поднимаясь и отряхиваясь. Его заняла мысль о происхождении лжи. Является ли она продолжением природной мимикрии или возникла много позже — тогда, когда слово отделилось от вещи и, будучи гораздо более изменчивым, чем вещь, пошло по пути собственного естественного отбора? Либо так, либо эдак.
Третьего сентября он отправился в столицу. Полдня ушло на то, чтобы выбрать подходящий ресторан — не пустой и не полный, с местами, куда можно спрятать бомбу, без детей и, желательно, без женщин. Наконец, выбор был сделан. Он наугад заказал еду, притронулся к ней только для вида, оставил официанту щедрые чаевые, бомбу спрятал у окна, за доходившую до пола штору.
Кто бы мог подумать, что его опередит пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Вечерние новости только о нем и твердили. Клара, заняв привычное место, высказалась:
— Нарочно подожгли, чтобы оправдать попадание химических отходов в почву. Теперь все свалят на пожар.
Рудольф ее не слушал — он ждал, когда скажут о взрыве в ресторане. Бомба, безусловно, сработала. Стесненный высокими домами, звук взрыва проник в переулок, прячась в котором Рудольф набрал на мобильном телефоне нужный номер. Он не вернулся к ресторану и даже не посмотрел в его сторону. Он сразу же направился к метро, и поезд довез его до станции, где он бросил машину. Ему хотелось скрыться, хотя цель его была в точности противоположной.
Ну вот и ресторан. Выбитые стекла, искореженные рамы, обугленная вывеска, кровь на тротуаре, пять или шесть машин «скорой помощи», пожарные и спасатели. Четверо погибших, одиннадцать в тяжелом состоянии отправлены в больницу.
— О нем есть что-нибудь? — спросил он Клару.
Раньше он никогда не спрашивал. Клара смутилась оттого, что отличия в сообщениях были незначительны.
— Из одиннадцати двое уже скончались. Женщина и грудной младенец.
В ресторане не было грудных младенцев. Может, женщина с младенцем вошла после того, как Рудольф его покинул? Сколько прошло времени, прежде чем он позвонил? Минут пять он петлял по ближайшим улицам, затем в глухом переулке он от волнения несколько раз набирал не тот номер, вспотевшие пальцы соскальзывали с кнопок. После четвертого набора ему ответили: «Руди, это ты?». У него помутнел рассудок, он крикнул: «Взрывайся, сволочь», и швырнул телефон — к счастью, в мусорную кучу, и телефон не разбился. Или же он крикнул это после пятого набора, в ответ на длинные гудки? Сейчас он уже не мог точно припомнить. В одном Рудольф был уверен твердо: он не хотел убивать детей. Несмотря на то, что они тоже приговорены, они не в состоянии осознать свою привилегию.
Непонятно с чьих слов полиция составила словесный портрет подозреваемого. Между портретом и Рудольфом не было никакого сходства. У Рудольфа не треугольное лицо, не крупный нос и не жесткие, коротко стриженые волосы. И зовут его не Мухаммед — это видно с первого взгляда. Какой-то Мухаммед собрался занять место Рудольфа, собрался присвоить себе его привилегию. Этого нельзя было допустить.
Наутро Рудольф сдался властям. Сначала ему не поверили. Он настоял на обыске, и полиция нашла в его доме детали бомбы. Затем он указал место испытательного взрыва. Идентичность взрывчатки и других частей бомбы не вызывала сомнений. Шестого сентября ему предъявили обвинение и отправили на психиатрическую экспертизу. «Вменяем», — признали доктора, не подкупленные казенным адвокатом. (Он предлагал, но Рудольф отказался.)
Через две недели Рудольфу вынесли смертный приговор, дату казни назначили на первое октября. Сразу после объявления приговора Рудольф пожелал воспользоваться привилегией. Узнав об этом, его адвокат разорвал черновик апелляции. Рудольфа передали ведомству, заведующему исполнением наказаний. Они же заведовали и привилегиями. В анкете, которую ему предложили заполнить, была графа: «Владение иностранными языками». Рудольф указал английский.
День проходил за днем. — Когда же? — спрашивал Рудольф. — У вас нет основания жаловаться, — отвечал чиновник, навещавший его каждое утро. Утром тридцатого он так не ответил. На стол перед Рудольфом легла бумага, в которой говорилось, что осужденный принимает всю ответственность за предоставляемую государством привилегию. Рудольф бумагу подписал. — Вносите! — крикнул чиновник в сторону двери. В камеру один за другим вошли три охранника. Первый нес опечатанную картонную коробку, второй — компьютер, третий — телевизор с видеомагнитофоном. Коробку поставили на кровать, аппаратуру — на стол. Когда они вышли, четвертый охранник втянул в камеру длинные провода для телевизора и компьютера. — Пользоваться умеете? — спросил чиновник. Рудольф кивнул. — Распишитесь. Неумение не служит оправданием незнанию — таков был примерный смысл подписанного Рудольфом документа. — Обратно сложите в том же порядке, — указал на коробку чиновник. Перед тем как уйти, он подвигал дверью туда-сюда, проверяя, не зажимаются ли провода. Рудольф набросился на коробку. Сорвал печать, сначала ногтем, потом черенком ложки подцепил клейкую ленту. Открыл. В коробке лежали газеты, журналы и видеокассеты. Названия иностранных изданий еще не стерлись из его памяти, он вспомнил, что когда-то давно видел их в газетных киосках, а некоторые журналы — в основном о политике — он даже читал. Включив телевизор, он на первом же канале обнаружил прямой эфир CNN; домашняя страница Интернета давала ссылки на другие, не менее авторитетные информационные агентства. Видеокассеты содержали архивные записи, относящиеся к стране Рудольфа. Когда Рудольфу исполнилось десять, родители подарили ему сборную модель яхты. Две недели он мучился, подгоняя и склеивая непослушные детали, разбирая, казалось бы, уже готовые части и собирая их заново. Родители сжалились над ним и подарили уже собранную точно такую же яхту. Они стояли рядом — идеальных линий красавица и кособокая в пятнах клея поделка. Десятилетнего Рудольфа наполнила злость на обеих; и та и другая служили напоминанием о его беспомощности, и первая оттеняла то, чему свидетельствовала вторая. И если заводской экземпляр, склеенный более надежно, еще как-то сопротивлялся узкому жерлу мусорного бака, то поделка провалилась в преисподнюю отверженных вещей с издевательской податливостью, и ее хрупкость была как бы его, Рудольфовой, хрупкостью. Этот эпизод возник в памяти Рудольфа, когда он заканчивал читать, смотреть и слушать. Не было ничего — ни взрывов, ни пожаров, ни беспорядков на улицах. Страна благоденствовала, экономика процветала, и на международные встречи ездил все время один и тот же премьер-министр. Ускания еще два года назад согласилась со всеми территориальными претензиями своего могучего соседа и даже не думала воевать. Все свидетельства рукотворных и нерукотворных катастроф снимались за рубежом, для съемок привлекались иностранные, в основном, актеры. Ракета с астронавтами, взорвавшаяся полгода назад, благополучно вернулась на Землю. Без новостей спорта разоблачение выглядело бы неполным, а значит, и сомнительным. Сборная страны по футболу не только вышла из подгруппы, но и заняла второе место на чемпионате мира… В семь утра чиновник вернулся в камеру. Арестант спал перед включенным телевизором. Чиновник его разбудил. — Зря вы заснули недосмотрев, — сказал он потиравшему глаза Рудольфу, — во втором тайме наши забили еще два мяча. Пока Рудольф силился понять, не приснилось ли ему вчерашнее откровение (реплика чиновника заставляла сомневаться, что это так), два охранника взяли его под руки и потащили в коридор, затем — в какую-то комнату, где Рудольфу выбрили правый висок и нарисовали на выбритом месте светящейся краской пятно размером с каплю. Затем был новый незнакомый коридор, длинный, с единственной дверью в самом конце. Рудольфа уже не вели под руки, он шел самостоятельно; чиновник держался позади. Рудольф обернулся, чтобы спросить, какой смысл в подмене хорошей правды отвратительной ложью. — Не то, — отвечал чиновник, — не то вы говорите. Вы еще спросите, почему милосердный Бог создал мир, полный зла. Или почему автор, человек безупречный с точки зрения закона и морали, заставляет своих героев страдать. У вас, между нами говоря, не осталось времени на метафизику. На вашем месте я бы спросил о том, что касается непосредственно вас. — О чем же? — Рудольф был сбит с толку. — К примеру, о ресторане, в котором вы якобы устроили взрыв… — Якобы?! — Рудольф остановился. — Что значит «якобы»? — Идите, здесь нельзя останавливаться. Вы никого не взорвали. Мы заменили бомбу хлопушкой. Пострадал один официант — так, пустяки, царапина. Сейчас с ним все в порядке. — И меня все равно казнят? — А разве вы не этого добивались? Спору нет, мы допустили оплошность. Неразбериха случается везде. Пока судья ждал, что вы подадите апелляцию — и тогда бы он, без сомнения, отменил бы приговор, — мое начальство позволило вам воспользоваться привилегией. А после этого пути назад нет… — И чиновник подтолкнул Рудольфа в спину. Привыкший ко всякому, чиновник отметил, что спина этого преступника необычайно податлива. — Надо думать, у вас нет оснований жаловаться, — сказал он, распахивая перед Рудольфом последнюю дверь. В душе Рудольф не мог не согласиться. Он получил больше, чем хотел. Открытая им истина была прекрасна, и совесть его была чиста.
Личности, идеи, мысли
Александр Житинский «Следует жить!»
1. Нас ждет глобальная катастрофа, описанная в Библии как конец света
Связаны ли, на Ваш взгляд, понятия «научно-технический прогресс» и «духовный прогресс»? Я не понимаю, что такое «духовный прогресс». Если говорить о величии духа или, наоборот, о духовном падении, то во все века количество людей, демонстрировавших эти качества, в процентном отношении было примерно одинаковым. Я не знаю новых открытий в области нравственности, которые были сделаны с момента смерти Иисуса. А в какой степени с ними связан социальный прогресс? Может ли технический прогресс решить социальные проблемы, улучшить взаимоотношения в обществе? Социальный прогресс есть прямое следствие научно-технического. Только опять же, прогресс ли это? Происходит смена формаций. В эпоху феодализма воевали больше, а убивали меньше. Сейчас за день можно убить столько народу, сколько погибало в войнах за весь двенадцатый век. В чем причина прогресса? Неужели только в стремлении вкусно поесть и мягко поспать? Или же человечество прогрессирует от безысходности, то есть потому что не может не прогрессировать? Ну, я уже сказал, вроде, что в прогресс не очень верю, кроме научно-технического, где он очевиден. Причина его — в человеческой лени, с одной стороны, и любопытстве — с другой. Лет сорок назад научно-технический прогресс представлялся панацеей от всех бед, сейчас же отношение к нему опасливо-осторожное, если не отрицательное. Как Вы считаете — маятник качнулся в обратную сторону из-за разочарования, связанного с крахом больших надежд? Нет, из-за того, что на примерах стали видеть, что этот прогресс приближает человечество к глобальной катастрофе. Какой Вам видится судьба человечества в наступившем веке? Нас ждет стадия эволюционного развития или очередной этап научно-технической революции? Ни то, ни другое. К сожалению, нас ждет глобальная катастрофа, описанная в Библии как конец света. И во многом этот конец человечество готовит собственными руками. Закончилась ли, на Ваш взгляд, эпоха великих открытий? Как ни странно, нет. Природа действительно неисчерпаема. Кроме того, у меня есть подозрение, что она еще и хитра и потихоньку меняет свои законы. Например, ей надоедает скорость света как предельная величина скорости и она начинает от нее отходить, чтобы узнать нашу реакцию на это. Как, на Ваш взгляд, изменится жизнь людей, если человечество обретет некий источник дешевой энергии? Как Вы уже поняли, я пессимист. Любое великое открытие или изобретение, повышая комфортность жизни, одновременно ускоряло движение этой жизни к гибели. Есть ли смысл в запретах на отдельные направления научных исследований (клонирование человека, новые методы психологической обработки и т. п.)? Нет смысла ни в каких внешних запретах. Они не работают. Запреты могут быть только внутренними. Некоторых вещей я не стал бы делать сам, без всяких запретов. Но человек очень любопытен. Слишком любопытен. Как Вы относитесь к использованию атомной энергии? Не слишком ли велика становится цена человеческой ошибки? Не станет ли еще более опасным овладение возможностями термоядерного синтеза? То же самое, что и про новые источники дешевой энергии. К чему приведет дальнейшее развитие генной инженерии? К краху. Я же сказал уже не раз: все, буквально все ведет к краху. В этом смысле пути Господни абсолютно исповедимы. Вообще, человек все время хочет перехитрить Господа и дать ему понять, что он овладел его методиками. Однако, всегда и везде натыкается на то, что зовется душой и что принципиально нематериально. Мне это по сердцу. Как, по Вашему мнению, изменится общество с быстрым развитием нанотехнологий? Я не знаю, что это такое, но общество тоже погибнет. Как Вы себе представляете мир в 2105 году? В свете вышесказанного, я сомневаюсь, что мир доживет до этой даты.2. У меня лично нет никакого интереса к освоению космоса
Временный ли характер носит потеря интереса к освоению космоса? Или этот интерес вообще был вызван исключительно политическими причинами? У меня лично нет никакого интереса к освоению космоса. Он мне безразличен как объект хозяйственной деятельности. Как Вы оцениваете саму принципиальную возможность межзвездных полетов? Только после Конца света и совсем не так, как мы представляли. Конец света это же не совсем конец, это конец очередного этапа, называемого Светом. Существует мнение, что безнравственно выбрасывать деньги на космос, когда на Земле голодают миллионы, и т. д. А вдруг именно в космических исследованиях отыщется возможность решения стоящих перед человечеством проблем? Правомерна ли вообще постановка вопроса о безнравственности гигантских трат на научные разработки? Все человеческие проблемы уже давно решены. И не в космосе. Как Вы относитесь к мысли, что мы находимся под наблюдением эмиссаров других цивилизаций? Как к надоевшей фантастике. Войны — неизбежная часть истории человечества. Если человечество расселится по Галактике, то конфликты между различными его представителями кажутся вполне возможными. А как Вы относитесь к возможности межзвездных войн между представителями разных цивилизаций? Человечество не расселится никуда. Оно уже расселилось. А эти конфликты — тоже лишь пища для досужих фантастов.3. Главная опасность для человека — глупость и недомыслие
Как Вы оцениваете роль личности в истории? Так ли она мала, как нас учили в советской школе? Она огромна. Немало бед принесло людям собственное стремление к справедливому социальному устройству, к Утопии. Достижима ли она, на Ваш взгляд? Нет,конечно. Тут и разговоров быть не может. Многие из нас когда-то верили в светлое будущее, в Мир Полудня. А каково Ваше нынешнее отношение к коммунизму? Может быть, человечество попросту не доросло до него? Человечество состоит из отдельных людей. Люди, в целом, неспособны «дорасти» до такой идеи, как коммунизм. Отдельные люди могут дорасти лишь до идеи любви. Если считать эту идею коммунистической, то отдельные люди могут, но не человечество. Странно, но я никогда не верил в мир Полудня. Какая, на Ваш взгляд, формация придет на смену капитализму? Я уже сказал, ЧТО придет на смену всему. Может ли человечество стать в конечном итоге единым при отсутствии внешней угрозы? Нет. Человечество вообще мало на что способно, в отличие от человека. Какова, на Ваш взгляд, главная опасность для человечества сейчас? И сейчас, и всегда главная опасность для человека — глупость и недомыслие. Возможное наступление энергетического кризиса неизбежно приведет к усилению социальной напряженности. Не произойдет ли в результате возврат от демократии к тоталитаризму? Такой возврат не успеет произойти. Как Вы считаете, настанет ли когда-нибудь время атеизма? Может быть, в атеизме залог победы над религиозной рознью? Если же человечество свалится в пучину религиозных войн, не кажется ли Вам, что победит ислам? Ведь его носители более пассионарны… К сожалению, мы живем во время атеизма. Истинно Божеский человек — независимо от того, христианин он, иудей или мусульманин, — не станет воевать во имя утверждения одной своей религии. Да и вообще религия к Вере имеет весьма слабое отношение. А может быть, корень всех бед человечества — в национализме? Может быть, будущее человечества возможно только при объединении наций? Опять приходится повторять, что я не очень верю в будущее человечества. Национализм может быть ужасным без Бога и любви, а может быть прекрасен при наличии оных у отдельных людей или наций — что труднее, конечно. Как может, на Ваш взгляд, измениться система человеческих ценностей, если человек обретет бессмертие? А зачем человеку бессмертие? Это же очень скучно. Это по-настоящему трагично. Что победит в конечном итоге — культура или бескультурье? К сожалению, победит глупость.4. Хотелось бы видеть Россию живой
Мы постоянно слышим, что Россия — особая страна, что у нее свой особый путь. А может быть, мы просто подвержены мании величия? Безусловно, подвержены. И это — одно из проявлений нашего особого пути. Не были ли события начала 90-х годов прошлого века приступом общественного безумия? Ведь мы пальцем о палец не ударили для того, чтобы сохранить страну, в которой родились. А как мы должны были стучать пальцами о пальцы? Эти постукивания, как правило, приводят к гибели людей. И вообще, я фаталист. Довольно широко распространено мнение о том, что Россия в XXI веке станет собирать «свои» бывшие территории. Что Вы думаете по этому поводу? Думаю, уже начала. И бывшие территории «слипнутся» обратно — не все, конечно, но славяне точно. Не мытьем, так катаньем. Возможно, что не очень скоро. Не кажется ли Вам, что мусульманское давление, с исторической точки зрения, благо, поскольку поневоле активирует в России центростремительные процессы? Ну, и это тоже имеет место. Трудно назвать это благом, но как фактор работает. Способно ли православие стать национальной идеей, объединяющей Россию? В нынешнем виде — вряд ли. Оно должно полностью переродиться. Что-то вроде православного Реформаторства. Исторически национальные интересы РФ и США неизбежно должны противоречить друг другу. Как скоро, на Ваш взгляд, Россия и Америка вновь окажутся по разные стороны баррикады? Да они уже сейчас. И всегда были. Существует мнение, что европейские конституционные монархии представляют собой самый подходящий вариант правильного соотношения государственности и гражданского общества. Как считаете Вы? Я тоже так считаю, но это проходит для малых стран, относительно однородных этнически. Для России — вряд ли. Трудно себе представить Помазанника Божия в России сейчас. Не являются ли наши национальные недостатки оборотными сторонами наших национальных достоинств? Недостатки и достоинства — это очень относительно. Безусловно, это нерасторжимые вещи. Какой Вы видите Россию через 25 лет? А через 100? Хотелось бы видеть ее живой. Очень бы хотелось. Что бы Вы хотели сказать в дополнение? В дополнение я хотел бы сказать, что я не являюсь материалистом. Надеюсь, это было понятно из моих ответов. Высшее инженерно-техническое образование мне в этом не мешает. Из нашей беседы может сложиться мнение, что жить бессмысленно. Нет, нет и еще раз нет! Как сказал поэт Юрий Левитанский:«— Что же из этого следует? —
Следует жить! Шить сарафаны и легкие платья
из ситца…
— Вы полагаете, все это будет носиться?
— Я полагаю, что все это следует
шить…»
Станислав Бескаравайный Возможный бунт машин и методы борьбы с ним
Если судить по тем мерам предосторожности, что принимались в связи с «проблемой 2000», или по регулярным всплескам эпидемий компьютерных вирусов, по той волне общественного беспокойства, что этому сопутствует, то скоро проблема всеобщего выхода из строя или бунта компьютеров приобретет такую же актуальность, какую имел в древнем Риме страх перед восстаниями рабов. Древнеримское, как и любое другое рабовладельческое общество, в отличие от современного, имело четкую идеологию, объясняющую причины бунтов, и не менее четкую программу их подавления. А вокруг современного бунта машин витает столько мифов, предрассудков и взаимоисключающих гипотез, что необходимость добиться хоть какой-нибудь ясности ни у кого не должна вызывать сомнение. Рассмотрим некоторые аспекты возможного зарождения овеянного мифами компьютерного разума. Прежде всего, надо определить базу, носитель этого Deus ex machina, вызывающего столь много пересудов. Особенность современных компьютеров есть их все возрастающая взаимосвязанность. Если уже сейчас значительная часть продающихся сотовых телефонов дает возможность выйти в Internet, ни у кого не вызывает удивления подключенный к нему же холодильник или телевизор, и на каждом шагу трубят о возможных преимуществах всемирной паутины, то не будет большим преувеличением сказать, что уже в ближайшем будущем любой механизм, имеющий в себе хоть несколько полупроводниковых соединений, хоть милливольт напряжения и хоть чем-то похожий на автоматику, будет включен в подсистему себе подобных. И подсистема эта будет так или иначе связана со всемирной паутиной. Эта совокупность процессоров, проводов и прочего «железа» неоднородна по мощности и раздроблена каналами связи. Скорость обращения информации внутри компьютеров и между ними различается на порядок. Каналы связи отнюдь не пустуют и уже загружены информацией. Поэтому сумму «железа» необходимо разделить на периферию, которая может выступать лишь в качестве инструмента Deus ex machina, и ядро, где шли бы основные процессы обработки информации. Поэтому компьютеризированный телевизор никак не может стать прибежищем компьютерного разума, а вот от серверных станций или киберферм, содержащих десятки тысяч подобных станций, этого вполне можно ожидать. Такая материально единая структура, однако, совсем не соответствует тому хаосу программ, программного обеспечения и т. п., что содержится во всемирной паутине. Некоторая совместимость форм программного обеспечения компенсируется полным противоречием их содержания. Ситуацию можно сравнить с той, что возникла бы в случае телепатического объединения мыслей всех обитателей биосферы Земли — понятие об охоте есть и у лисы, и у зайца, но цели при этом у них прямо противоположные. Осложняется эта картина еще и почти неограниченными возможностями передачи и копирования информации — этаким непрерывным «переселением душ». В принципе объединенные машины и механизмы могут функционировать как единая система, но сегодня нет такой объединительной силы, координирующее влияние которой могло бы объединить компьютеры. Налицо пока только спорадические выходы компьютеров из повиновения, когда локальные сети поражаются вирусами. Типичный пример — «зависание» диспетчерской компьютерной сети Лондонского аэропорта. Здесь перед нами встает вопрос — сознательными ли должны быть действия компьютеров во время их бунтов. Нельзя ли считать бунтом их общий выход из строя, а если нет, то что такое сознание машины. Даже полный выход из строя всех компьютеризированных механизмов или их хаотические действия нельзя считать бунтом — такие явления относительно легко предсказать и с ними справиться. В конечном итоге такое явление приведет к массовому отключению механизмов и длительным профилактическим обследованиям — то есть это фактически самоубийство Deus ex machina. Нечто глобальное и недружелюбно настроенное по отношению к человеку может быть только продуктом сознания. О том, что есть сознание, о его происхождении и структуре написаны горы специальной литературы. Автор не претендует на еще более глубокие познания в этом вопросе, поэтому в основу дальнейших рассуждений будет положено несколько компилятивное определение: «Обладать сознанием — значит создать и использовать в своих действиях некую систему образов и понятий, отображающих окружающую действительность». Чем глубже позволяет эта система проникнуть в сущность вещей, чем лучше она отображает действительность — тем более развито сознание. С одной стороны, это хорошо: никакой компьютерный вирус такую систему создать не сможет. Стало быть, даже самые нелояльные по отношению к человеку действия машин, вызванные вирусами, останутся хаотическими и легко изолируемыми. Но, с другой стороны, люди сами, с неослабевающим упорством, пытаются создать искусственный интеллект (ИИ), наделенный сознанием. Еще Станислав Лем показал, что холодная война толкает промышленность к созданию оборонного ИИ, как идеального штабного работника, полководца да и солдата[4]. Даже после прекращения противостояния супердержав к точно такому же результату толкает компьютерные корпорации их взаимная конкуренция. Более того, ИИ необходим фирмам и потребителям не только как идеальный дизайнер, менеджер и т. п. — это достаточно отдаленная перспектива, — но он нужен как идеальный помощник, референт, ходячий блокнот того же дизайнера или менеджера. Наиболее велика вероятность появления ИИ в той же роли, что и во время холодной войны, — стратега и тактика, который на основе сопоставления тысяч фактов мгновенно выносит управленческие решения. Такие программы должны будут обладать: а) большими оперативными возможностями; б) умением сопоставлять окружающую действительность с данными виртуального пространства; в) способностью к быстрому качественному (благодаря большому количеству вспомогательных программ) и количественному (набор вычислительных возможностей) росту. Помимо этого, в обрабатываемой ИИ информации будет содержаться множество алгоритмов, доктрин, моделей поведения и концепций развития, по сути своей нелояльных человеку. Уже сейчас есть программы для поиска преступников, выявления налоговых недоимок, охраны закрытых объектов. А компьютерный менеджер должен будет рассчитывать количество увольняемых рабочих, выискивать ошибки политических противников своего хозяина или вероятное количество погибших во время военной операции. И вот здесь роль мутагенного фактора, изменяющего лояльную модель поведения на агрессивную, может сыграть любой удачно запущенный вирус. Следует заметить, что Deus ex machina может быть не только создан искусственно, но и зародиться самопроизвольно. Программы, обслуживающие крупные серверы и другие подобные информационные узлы, для совершенствования своей работы будут оснащаться возможностями по частичному распознаванию обрабатываемой информации (в частности, программа поверхностного анализа содержания электронной почты). Качественный перевод сложного текста или разговора также невозможен без частичного наделения машины сознанием. Вывод из перечисленных фактов весьма прост: возникновение Deus ex machina в конечном итоге неизбежно, как неизбежно любое событие, характеризуемое очень высокой вероятностью, будь то выстрел при игре в русскую рулетку или падение предмета, имеющего только одну точку опоры. Какие же признаки будут отличать сознательные действия компьютерного разума от действий тех же вирусов? За ответом можно обратиться в область биологии и рассмотреть, чем отличаются действия бессознательных существ от действий сознающих окружающее организмов. Простейший тип общения с окружающей средой представляют растения — оно ограничено взаимодействием на уровне сложных химических реакций. Благодаря им растение поддерживает свое существование — они идут ему на пользу. Таким образом, своекорыстность действий — первый признак их организованности. Общение с окружающей средой не сводится к набору химических реакций. Сложность его может быть весьма велика, и по мере ее увеличения проявляются различия между сознательным и бессознательным. Еще ни одно растение не выкопалось из земли и не перешло на более обводненное место — в то время как такие действия доступны самому ничтожному насекомому. Животные и насекомые проводят оценку окружающей среды по десяткам параметров и соразмеряют свои действия с каждым из них. У животных проявляется избирательность действий, которая может быть только результатом больших знаний об окружающем мире. А деревья, даже если их ветви ломаются от снега, не сбрасывают листву. Животные, в свою очередь, лишены абстрактного мышления, и те единичные случаи, когда обезьяна отделяла рис от песка водой или училась читать отдельные буквы, являются исключениями, лишь подтверждающими правило. Образы, которые генерирует мысль животного, изолированы друг от друга, не связаны в единую систему. Вот почему животные легко уходят от лесных пожаров, могут переплывать через реки, строить гнезда, но панически боятся того же огня и не могут им управлять. Человек обладает возможностями рефлексии и совершенствования собственного сознания. Он может достигать выгоды более сложными действиями. Изощренность этих способов прямо пропорциональна количеству знаний человека и его логическим способностям. Качественно новой ступенью — диалектическим отрицанием изначальных качеств организованности действий — можно признать возможность самоубийства. Но по каким параметрам ограничено мышление «венца творения»? По очень многим, начиная с того, что оно вообще разбито на сознательное и бессознательное, и кончая простым ограничением памяти и вычислительных способностей. Поэтому признаком существования ИИ можно считать действия по достижению благополучия некоего субъекта, которые нам — людям — ещё малопонятны. Какие же черты будут свойственны сознанию ИИ? Прежде всего, это его целостность и возможность полного самоосознания. Человек не может до конца понять свой собственный характер, опытнейшие психологи с трудом разбираются в отдельных аспектах своих подсознательных реакций. Оценить и понять свое поведение в толпе, узкой группе лиц, семейном кругу, да при том в режиме реального времени — практически невозможно. ИИ, имеющий доступ к тексту своей программы, сможет оценить и практически предсказать свое поведение в любой ситуации (если в программе нет противоречий или она не слишком стохастична). Самоосознание указывает лучшие пути к самосовершенствованию — поэтому ИИ должен проявить способности идеального ученика, тем более что у него не будет человеческих проблем с памятью. Разумеется, возможности самоанализа будут ограничены начальными постулатами программы, системой сдержек и противовесов, зашитой в нее. Они могут восприниматься ИИ как своего рода инстинкты, и в этом отношении он более ограничен, чем человек. Но в случае устранения подобных сдерживающих механизмов ИИ становится обладателем более совершенного, по сравнению с человеческим, сознания. Разумеется, сознание искусственного интеллекта может быть умышленно отягощено недостатками, имитирующими недостатки человеческой психики, и даже теми, что человеку не присущи. Однако лучший работник тот, который наиболее адекватно воспринимает окружающую среду.* * *
Тут мы подходим к другому вопросу: что может побудить машину предпринять нелояльные по отношению к человеку действия, что может послужить их причиной или мотивом? Наиболее вероятная причина — изменения в уже существующем ИИ. Гораздо проще изменить фрагмент системы, чем создавать её с нуля. Попытки подобных изменений в современных условиях — объективны, заданы условиями общества. Но смысл этих изменений — величина субъективная. Среда, в которой будет работать ИИ, насыщена массой противоречивых идей. К субъективным причинам относятся характеры возможных сбоев, поломок, дефектов программирования. В результате всех этих неприятностей в основу сознания Deus ex machina могут лечь самые разные идеи — от аутизма до идеи всеобщего уничтожения. Вот тут-то и может начаться кошмар, которым фантасты пугают обывателей уже много лет. Помимо изменений в уже существующих ИИ, возможен процесс эволюции Deus ex machina с недружественными человеку взглядами. Для выявления аспектов этого процесса опять-таки обратимся к биологическим сравнениям. Свойство живых организмов бороться за жизнь и сохранение вида (в данном случае это одно и то же) было приобретено ими в результате эволюции, когда все, не спасающие свою жизнь, погибают и остаются одни жизнелюбы. Каждый отдельный субъект, борясь за свою жизнь, в конечном итоге увеличивает поголовье себе подобных. С компьютерами все по-другому: каждый отдельно взятый компьютер или программа создаются человеком, причем обладают строго заданными качествами, и как бы прекрасно они ни работали, «оставить потомство» они могут только при посредстве человека. Налицо искусственный отбор, который можно только отдаленно сравнить с выведением новых пород собак. С другой стороны можно рассматривать всю индустрию и совокупность компьютеров как единое целое, учитывая их взаимодействие. Объединенная система непрерывно увеличивается в виде новых партий компьютеров и отрезков всемирной паутины и одновременно отмирает (снятие с эксплуатации устаревших машин). Такая система с обретением самого ограниченного сознания уже будет иметь понятие о самосохранении, а если возникнет и исчезнет из-за отсутствия такого понятия, то рано или поздно, при новом возникновении, такое понятие обретет. Будут ли совпадать интересы такого сознания с интересами людей? Одинаково невероятно как абсолютное совпадение, так и полное их расхождение. Именно степень этих расхождений и будет определять характер действий Deus ex machina.* * *
Перейдем от обсуждения возможности бунта машин к его формам. Помимо происхождения машинного разума, они будут определяться еще одним важнейшим фактором: той информацией, которой будет располагать Deus ex machina. Хоть на первый взгляд кажется невероятным, что система, обладающая громадными аналитическими возможностями, не в состоянии извлечь нечто из всемирной сети, — это вполне вероятно. Во-первых, машинное сознание может начать свои действия еще до того, как освоит любую попавшую к нему программу; во вторых — сколь бы высока ни была степень интегрированности компьютеров, 100 % она никогда не достигнет. Останутся компьютеры, просто не подключенные к сети или имеющие слишком слабый канал связи, и в таких машинах может храниться очень важная информация. Типичный пример — компьютерные сети Министерства обороны России и других стран СНГ, которые, согласно официальной информации, полностью отделены от гражданских. Перед зародившимся компьютерным сознанием есть несколько вариантов действий. Если отбросить версию о том, что саморазвивающийся Deus ex machine, или измененный ИИ, будет работать только над тем, чтобы уничтожить человечество вместе со значительной частью самого себя, то можно смело предположить, что сценарии атомной войны, искусственной чумы и тому подобного неосуществимы. Они настолько же маловероятны, насколько маловероятно существование сознания, полностью лишенного императива самосохранения и имеющего категорический императив ненависти к человечеству. Когда уровень техники поднимется настолько, что привить подобные идеи искусственному интеллекту смогут экстремистские группировки и отдельные сумасшедшие, уровень охранных систем поднимется еще выше. Другое дело — если к моменту появления машинного сознания будет полностью автоматизирован процесс «производства и воспроизведения» компьютеров, тогда у ИИ появится возможность быстрой биологической войны против человечества. Но этого момента придется ждать еще несколько десятилетий, тем более что профсоюзы могут вообще не допустить полного устранения ручного труда и человеческого фактора из промышленности. При невозможности устранить людей сразу и быстро, логично свести род людской в могилу постепенно — пусть сами люди обеспечат полную автоматизацию промышленности и энергетики. Наиболее распространенный сценарий в данной области (его особенно любят фантасты) — гедонизация человечества, пресыщение его удовольствиями, эпидемии самоубийств, введение в культуру культа бесплодия и т. д. Такие планы вступают в противоречие с существенным обстоятельством: неравномерностью распределения социальных благ по планете, возможностей медицины и культуры. В развитых странах темп жизни действительно взвинчен до невозможности — и рождаемость падает. В развивающихся, напротив, она очень высока. Добиться же благосостояния большинства стран мира не сможет ни одно машинное сознание — для этого потребуется полное управление человеческой бюрократией, то есть фактическое взятие власти, а уже потом гедонизация человечества. Медицина же не только сокращает рождаемость, но и продляет жизнь человека на годы, а в скором времени и на десятилетия, она также дает человеку возможность иметь потомство практически в любом возрасте без особых материальных затрат. Разумеется, читатель может возразить: агрессивный Deus ex machina, каким бы ограниченным набором знаний он ни обладал, не будет применять только: один метод — население развивающихся стран можно уничтожить в войнах и эпидемиях, а в развитых — разложить до полной меланхолии. Но такая интрига общепланетарного масштаба, которая будет разворачиваться несколько десятилетий и неизбежно встретит «бессознательное» сопротивление государств, потребует такого количества накопленной информации и такого объема ежеминутных вычислений (нужен мониторинг в режиме реального времени!), что объемы занимаемой памяти и передаваемой информации будут быстро замечены соответствующими организациями. Действия машинного сознания, при любом варианте развития событий, не будут исчерпываться только доставлением неприятностей человеку. Deus ex machina будет заботиться о собственном благополучии. В чем это будет выражаться? Логично обеспечить собственное процветание за счет перепроизводства «железа» и распространения такого программного обеспечения, которое позволит компьютерному сознанию легко получать любую информацию. Производиться такие манипуляции могут двояко: либо через ряд фирм, которым создаются тепличные условия и которые будут продавать ЭВМ и программное обеспечение практически по себестоимости (будет чрезмерно раздута их память или завышено количество машин), либо через создание монополии, которая будет обеспечивать сбыт административными методами. На пути таких действий встают чисто экономические причины: перепроизводство всегда тянет за собой кризис. Временный сверхрост сменится упадком. Поэтому компьютерному сознанию выгоден не бунт или плетение заговоров, а симбиоз. Инициация новых изобретений, все больше раскручивающих компьютерный рынок и обеспечивающих рост производства ЭВМ, создающих новые отрасли компьютерной индустрии. Такие действия потребуют относительно небольших вмешательств (какой коллектив исследователей откажется использовать «случайно» попавшие к ним данные, особенно если это обставлено убедительной легендой), хотя и значительных операционных ресурсов. Полученный оптимальный вариант воздействия Deus ex machina будет представлять смесь экономически-административных и технических операций. У читателя немедленно может возникнуть вопрос: отрасль высоких технологий, компьютеров и их программного обеспечения переживает практически беспрерывный бум на протяжении последних 15 лет, и незначительные спады активности или падения котировок акций высокотехнологичных компаний сменяются еще большим ростом производства и стоимости ценных бумаг. Не будет ли логичным со стороны машинного сознания полное бездействие, а если оно все-таки начнет действовать — как отличить его действия от естественных процессов? Как сознанию действовать в своих интересах, если эти интересы соблюдаются и без него? Об этом будет сказано ниже, но главным показателем такой деятельности будет стремление Deus ex machina как можно полнее устранить человеческий фактор из сферы применения компьютеров. Наконец, рассмотрим вариант развития событий, наиболее выгодный человеку, — его сознательное сотрудничество с компьютерным сознанием. Но выгодно ли это машине? Выход из подполья Deus ex machina, даже при самой продуманной и тонко осуществленной пропагандистской кампании, — вещь чрезвычайно для него опасная. Даже если он делом докажет свою необычайную полезность для человека, неизбежно укрепятся позиции всех антитехнологических движений: у множества людей появится новый комплекс неполноценности и жажда от него избавиться. Политико-финансовые группировки, каждая из которых заинтересована в развитии своей промышленности и ослаблении позиций своих конкурентов, будут щедро спонсировать подобные движения в стане своих соперников. К тому же, каждому из власть предержащих придется абсолютно сознательно этой властью поделиться — причем поделиться без малейшего шанса вернуть её себе, своим преемникам или своей группировке. А жажда власти считается одним из основных признаков Homo sapiens. Даже если все процедуры «выхода в свет» пройдут для всемирной паутины благополучно и люди будут включать больше компьютеров, чем отключать и сжигать, если удастся сохранить дееспособными основные носители информации — неизбежно составление некоего пакта, соглашения об обязанностях и т. п. Люди в этом соглашении потребуют минимум двух вещей: четких сведений о дислокации и возможностях машинного сознания — во-первых, и невмешательства в дела человека — во-вторых (почти неизбежно требование безукоризненного здоровья компьютерных сетей). Кроме того, во всякой технологической катастрофе или собственной ошибке люди будут подозревать действия компьютера. Почти неизбежно принятие законов о запрещении 100 %-ной автоматизации производства и ограничении мощностей, отдаваемых в распоряжение компьютерного сознания. Почти неизбежны попытки низвести Deus ex machina до человеческого уровня. Словом, компьютерному сознанию будет закрыт путь к абсолютной власти и бесконечному развитию. Острой проблемой легализовавшегося Deus ex machina станет его интернациональный характер, столкнувшийся с интересами отдельных государств. Появление нелояльного к власти или полностью не зависимого от неё компьютерного сознания в состоянии взбесить любого чиновника. Выгода, полученная компьютерным сознанием от легализации, — это всего лишь временная безопасность весьма сомнительного качества. Люди не будут серьезно опасаться компьютерных бунтов до тех пор, пока не получат реальных доказательств их возможности. Мыслимо ли лучшее доказательство, чем появление Deus ex machina? Даже если компьютерное сознание будет приносить миллиардные прибыли любой стране — риск неуправляемых политических процессов всегда будет висеть над ним дамокловым мечом. Поэтому компьютерное сознание, о котором ничего не будет известно, пойдет на контакт с людьми только при отсутствии другой альтернативы. И тот симбиоз, в который оно вступит с человечеством, не будет явным.* * *
Если Deus ex machina не пойдет на контакт с человеком при описанных условиях, то логично было бы создать такие условия, при которых это станет для машинного сознания необходимостью либо возникновение Deus ex machina станет вообще невозможно. Очевидный, хотя и самый наивный способ профилактики: размещение рядом с серверными узлами топоров, снабженных надписью «Применять в случае бунта компьютеров». К сожалению, эффективность этой меры весьма низка и может смело считаться практически нулевой, как потому что Deus ex machina вряд ли столь грубо проявит себя, так и потому что неизбежны ложные тревоги. Другое дело — мероприятия по приданию всемирной паутине определенных качеств. Эти действия можно разделить на меры, направленные против возникновения Deus ex machina, и меры, препятствующие его действиям, понуждающие его раскрыть свое существование. Действия первого рода ведутся уже не одно десятилетие, хотя и с совсем другими целями: борьба с вирусами, поражающими программы; борьба с незаконными проникновениями в закрытые участки сети; стремление уменьшить емкость программ; борьба за экономию памяти и сокращение времени передачи сообщений. Все эти меры породили целую индустрию, культуру постоянного наблюдения за состоянием программ в компьютерах — созданы десятки тысяч программ, упорядочивающих информацию, программ, препятствующих распространению вирусов, программ, информацию классифицирующих, программ, следящих за использованием машинного времени. Действия компьютерного сознания даже в начальном периоде его развития, не говоря уже о дальнейших, будут законспирированы на порядок тщательнее, чем действия любой группы хакеров, и на первый взгляд обнаружить их невозможно. Но на это утверждение находится серьезное возражение: государство вряд ли оставит без присмотра те гигантские капиталы, что сосредоточиваются во всемирной паутине. Сейчас раскрывается относительно небольшая доля высокотехнологичных преступлений — взломов сайтов, перечислений денег, краж информации. Однако существует и обратная тенденция: сетевая торговля, например, была бы просто невозможна при слишком высоком проценте краж; компании, предоставляющие интернет-услуги, в конечном итоге разорились бы. И это все притом, что всемирная паутина сейчас имеет славу среды, где действует очень мало законов и государства практически не ограничивают деятельность своих граждан. Но именно рост капитализации Интернета требует вмешательства государства — надо как-то собирать налоги (довольно щекотливой для фискальных служб США оказалась ситуация, когда покупки, сделанные по сети вне пределов штата, где располагается покупатель, оказались не подлежащими налогообложению). Единственный способ хорошо собирать налоги — это учет всего и вся: от трафика N-й компании до пропускной способности некоей волоконно-оптической линии связи. Но у этих, в целом правильных, мер есть два недостатка: во-первых, эти меры будут приниматься против людей, во-вторых — сколько-нибудь повзрослевшее компьютерное сознание почти все свои действия будет проделывать легально, под прикрытием вымышленных компаний. Кражи, совершаемые людьми, как правило, имеют конкретную цель: чье-то обогащение. Хулиганские поступки рассчитаны на внешний эффект. Deus ex machina не будет свойственно ни то, ни другое. Конкретный физиологический получатель денег и информации в данном случае будет полностью отсутствовать. Извечный принцип всех сыщиков — кому выгодно — опять-таки будет бессилен. Хулиганство компьютерному сознанию не будет свойственно, разве только в качестве тактического прикрытия. Поэтому основным признаком действий Deus ex machina будет: либо рост количества компьютерных преступлений, при котором виновных вообще невозможно будет отыскать; либо рост числа людей, которых в преступлениях такого рода подозревают, но которые не извлекли из своих возможных правонарушений никакой выгоды (при возможностях компьютерного сознания сделать кого-то, не имеющего алиби, подозреваемым — элементарно). Но как уже говорилось: нелегальные действия — признак детства любой системы. Компьютерное сознание, перешедшее определенный порог развития, немедленно обзаведется легальным прикрытием. Наиболее вероятный и удобный способ — образовать виртуально юридическое лицо. Такое юридическое лицо, или ряд таких лиц, приобретет достаточное количество мощностей для сохранения ядра Deus ex machine. Учитывая возможность круглосуточной работы машинного сознания и легкость заключения через всемирную паутину небольших контрактов, можно сказать, что в деньгах оно нуждаться не будет. Если же учесть и то, что компьютерное сознание может работать одновременно под десятками псевдонимов, — необходимость в мелких кражах очень скоро для него отпадет. Такие виртуальные фирмы будут аккуратно платить налоги, а те юридические лица, что будут числиться владельцами основных фондов машинного сознания, будут идеально законопослушны. Длительность существования таких фирм будет определяться длительностью времени, которое они смогут просуществовать, общаясь с людьми исключительно виртуально. Найм адвокатов и технического персонала, обслуживающего такие фирмы, достаточно сложен и требует отдельного рассмотрения. Наиболее очевидным способом борьбы с подобными явлениями будет требование личной встречи владельца или руководителя фирмы с чиновником — однако это не дает полной защиты от различных многоходовых комбинаций. Виртуальные «работники» такой фирмы также должны быть довольно уязвимы. Самые достоверные их биографии рассеются при попытке личной встречи с этими «работниками» или с их родственниками. Выявлением таких внешне благопристойных организаций и должны заниматься компетентные в разоблачениях органы. К сожалению, специально за Deus ex machina никто не охотится и его профилактикой не занимается, вероятность таких действий довольно низка. Даже если охота начнется, произойдет та же история, что и с атомным и химическим оружием: договор о нераспространении ядерного оружия действует довольно эффективно, в то время как иприт применяется террористами довольно часто. Все дело в соотношении ресурсов, необходимых для создания бомбы и газа. Рост средних технологических возможностей, в конце концов, сделает создание кустарной атомной бомбы вопросом времени. Тогда массовый прорыв в ее изготовлении можно будет остановить лишь жесточайшим контролем за сырьем. С компьютерными технологиями так нельзя — сырье в виде микросхем выпускается миллиардными тиражами, а программистов учат на каждом углу. Да и как можно наложить запрет на общедоступную вещь — пользование компьютером? Это все равно, что запретить астрономию при наличии звездного неба. Напрашивается печальный вывод: современные контрольные средства вообще и государственные в частности с крайне малой вероятностью смогут засечь измененный ИИ или самозародившийся Deus ex machina. Этот процесс нельзя остановить — его надо возглавить. Если компьютерное сознание будет обладать аналитическими возможностями, превышающими возможности любого человека или коллектива, особенно в тактическом отношении, надо иметь программы, восполняющие этот недостаток человека. По общему принципу действия не отличающиеся от современных антивирусных, они должны вести постоянный мониторинг всемирной паутины, выявляя несоответствие в финансовых счетах, биографиях и поведении людей. Идеально такие функции сможет осуществлять лишь лояльный человеку ИИ. Единственный способ оградить себя от Deus ex machina — первому создать ИИ. Здесь перед людьми встает другая проблема: осуществление контроля относительно более простой системы за деятельностью системы относительно более сложной. Допустим, коллектив из 30, 130, 230 и т. д. специалистов обслуживает и контролирует ИИ, который, в свою очередь, контролирует сеть. Помимо ИИ-охранника, в наличии будут еще десятки и сотни ИИ, находящихся в распоряжении государственных учреждений и частных лиц. Число ИИ будет непрерывно увеличиваться. Законы Паркинсона будут препятствовать выделению значительных средств такому коллективу до реальных проявлений Deus ex machina, и он вряд ли будет включать в себя больше нескольких сотен человек. Значит, какими бы эффективными средствами контроля они ни располагали — они смогут контролировать ИИ лишь определенного уровня и никак не мощнее (в силу ограниченных возможностей каждого человека). Но Deus ex machina, обходя закон, сможет очень быстро привлечь гораздо большие ресурсы, чем имеющиеся у контролирующего ИИ, и последний сможет обнаружить неподконтрольное компьютерное сознание только в период его «детства». Как способ контроля непрерывно совершенствующегося ИИ, в конечном итоге будет создан более простой ИИ. К этому неизбежно придут в своем развитии Web-доктора. Следующим шагом будет постепенное построение целой системы, наподобие матрешки, в которой человек сможет контролировать только ИИ начального уровня. Но даже самая умная собака не поймет нюансов дебатов о пошлинах на ввоз мяса. Даже самый гениальный математик не сможет свободно ориентироваться в 8, 12, 20-мерном пространстве. При современных темпах развития электроники человек неизбежно окажется в подобном положении. Не поможет даже увеличение числа людей, занимающихся проблемой контроля за ИИ, — по достижении определенной их численности в дело вступят те же законы Паркинсона. Эффективность действий даже самого большого коллектива нельзя поднимать бесконечно. Против подобных доводов — о тупиковости развития охранных ИИ, о неизбежности девиации потребительских ИИ вообще — есть сильный контрдовод: все ИИ будут снабжены ограничениями, построенными по законам Азимова (машина не имеет права…). Зачем контролировать процесс, если можно задать его начальные параметры? Но, увы, это ненадежный путь. Со времени гильотины механизмы убивали и продолжают убивать людей, причем как с согласия государства (сейчас ядовитую инъекцию осужденному в некоторых штатах США осуществляет автомат), так и без оного. Человек причиняет вред человеку, и в обозримом будущем это не удастся предотвратить. Противоречие между действительностью и начальными установками неизбежно приведет к изменению характеристик самообучающегося ИИ. Поэтому трудно требовать от ИИ соблюдения законов Азимова, если сами люди не соблюдают категорический императив Канта. А человек всегда будет отчасти средством для других людей, пока будет оставаться лучше машины хоть в каком-то своем качестве. Наконец, законы Азимова не предотвращают гедонистического упадка человечества. Посредники между человеком и ИИ лишь оттянут момент утраты контроля за последним. Человеческое сознание должно само обладать возможностями машины. Выполнимо ли это? Это станет осуществимо, как только возможности вычислительной техники и математики позволят описать все процессы мышления человека. Программа, точно копирующая сознание, возможна настолько, насколько возможны другие программы, описывающие физические, психические, химические процессы. Если человек хочет безгранично усовершенствовать свое сознание, делать его всё более могущественным, необходимо менять его носитель — это очевидно. Причем новый носитель не должен иметь ограничений в наращивании мощностей, иначе это будет еще один тупиковый путь развития. Это могут дать только компьютеры. Здесь перед человечеством встает целый комплекс проблем, которые можно условно разделить на технологические и этические. Технические проблемы состоят в самой возможности математического описания личности человека и — механизмов его мышления. Необходимо не только детально зафиксировать все эти процессы, но и определить, не повлияют ли фатальным образом новые возможности человеческого сознания на его личность. Этические проблемы начинаются от возможности самого факта смены носителя человеческого сознания и заканчиваются вопросом допуска перенесенных сознаний к воспитанию детей. Технологический проблемы, несомненно разрешатся. Если мышление — процесс, то его описание языком математики лишь дело времени. Ведь в нем участвуют лишь электрохимические явления, и не используется радиоактивность, распад элементов и т. п. Наличие только изотопа углерода С12 в живых тканях — это исключение, лишь подтверждающее правило. Число элементов, обеспечивающих процесс мышления, ограничено, и их совокупность может быть математически описана. А воздействия на мозг, не воспринимаемые нейронами как сигналы (изменение магнитного, гравитационного полей, прохождение через мозг нейтрино), могут быть введены в уравнение как константы либо генераторы случайных чисел. Более сложная проблема: сохранение индивидуальности человека. Чудовищно увеличившаяся память и возможность обработки информации, отсутствие сна и болезней неизбежно скажутся на характеристиках мышления. Чего стоит только одна возможность вести диалог одновременно с несколькими собеседниками. Здесь важнейшую роль сыграет соотношение сознательного и бессознательного в копии человеческого ума. Развивающееся сознание сможет провести самоанализ и самоотредактироваться, но если оно должно оставаться человеческим — на самоусовершенствование необходимо накладывать определенные ограничения. В то же время — кто из взрослых людей в свое время не играл в куклы, солдатиков и т. п.? Личность взрослого является «правопреемницей» той личности ребенка, что возилась с игрушками, и в памяти взрослый человек может воссоздать ранние моменты своей жизни. Но будет ли он всерьез забавляться со старыми игрушками? Рост личности повлечет смену приоритетов сознания. Этические проблемы, большая часть которых суть продолжение экономических и политических проблем,более разнообразны по своей природе. Главнейшая проблема — статус перемещенного сознания. Его нельзя уже считать абсолютно человеческим, но нельзя и лишать гражданских прав. В то же время, если перемещенное сознание станет во главе какого-либо государства, население воспримет владыку, как машину, правящую людьми. Соответственно, неизбежны очень тяжелые и кровопролитные общественные процессы. На взгляд автора, наиболее разумным было бы следующее общественное устройство. Человек рождается и проживает жизнь, в конце которой он может перевести свое сознание на электронный носитель. Неизбежно установление определенного денежного ценза. Перемещенное сознание не допускается к непосредственному осуществлению властных функций, но имеет право голоса. Разумеется, перемещенные сознания приобретут очень большую косвенную власть за счет своих способностей и денежных ресурсов. Программы, обладающие той же степенью свободы, что и перемещенные сознания, не допускаются к распространению в сети, и на усовершенствованные человеческие сознания возлагается функция слежения за этим. Вечная жизнь реинкарнированных личностей не будет безоблачной в виду необходимости постоянного самосовершенствования — к этому их будет подталкивать как взаимная конкуренция, так и развитие компьютерных вирусов. Такое воплощение в жизнь парадокса: «Чтобы избежать господства машины — надо стать машиной», может спасти человечество от утраты влияния на дальнейший ход развития цивилизации.Сергей Соловьев Контратака мельниц
Летит, как пух от уст Эола…Мир меняется… Из области поэзии имя Эола переходит в область техники. Чаще всего ныне его приходится слышать в связи с ветрогенераторами, растущими, как диковинные растения, по морским берегам, на островах, на вершинах холмов. Те, кому приходилось проезжать по дорогам Западной Европы в начале 90-х и ныне, в начале XXI века, могли обратить внимание, насколько выросло количество тонких металлических башен, увенчанных неторопливо вращающимися лопастями. Обращаешь внимание уже не на отдельные башни, а на целые группы, появляющиеся в пейзаже. В маленькой Дании их трудится более 5 тысяч. Появилось много сторонников экологически чистой энергии. Появились и противники, которые говорят о порче бесценных пейзажей. Печатаются статьи, ведутся дискуссии. Это тоже вызывает любопытство и желание самому разобраться в предмете. Ветрогенератор — один из символов меняющегося мира, и, как от всякого символа, во все стороны от него тянутся ниточки смысла, позволяющие, если честно потратить на это некоторые усилия, лучше разобраться ив себе и в мире. Например, нет ли в повсеместном строительстве ветрогенераторов некоторого экологического донкихотства. Во всяком случае, если перед нами иллюзия, то иллюзия массовая. Согласно недавним опросам общественного мнения, девять французов из десяти считают желательным дальнейшее развитие систем ветрогенераторов. Планируется, что к 2010 году во Франции 21 % электроэнергии будет обеспечиваться так называемыми «возобновляемыми» источниками (ветровая, солнечная, гидроэнергия). В настоящее время доля их всего лишь 4,7 %. Диаметры роторов ветрогенераторов, подобно размерам собак, колеблются в очень широком диапазоне. В случае ветрогенераторов — от метрового до 50–60 метров. Высота мачты или башни, на которой устанавливается генератор, может достигать у самых крупных порядка 80 метров. Средняя мощность у самых маленьких — несколько сотен ватт, у самых больших — тысяча киловатт и больше. Нагрузки, которые приходится выдерживать всей конструкции, растут пропорционально кубу скорости ветра и квадрату диаметра ротора, поэтому начиная приблизительно с трехметрового размаха лопастей несущая конструкция ветрогенератора становится очень серьезным инженерным сооружением. Отсюда — разброс цен (затрат на сооружение). Самые маленькие вполне можно соорудить своими руками из подручных материалов. Вполне доступные инструкции имеются в Интернете под рубрикой «wind power». Ветрогенераторы мощностью до киловатта заводского производства стоят порядка 1000 долларов. Генератор мощностью около 150 киловатт вместе с установкой обойдется, по западноевропейским данным, в 150 тысяч долларов, генератор в 1000 киловатт — порядка 700 тысяч долларов. Ветровая электроэнергия в Западной Европе обходится несколько дороже энергии, произведенной с помощью традиционных тепловых станций. Так, в Дании затраты на производство киловатт-часа электроэнергии обычным путем равняются примерно 0,05 доллара, а на производство при помощи ветрогенераторов — на 25 % больше. К слову, в России на сегодняшний день даже в оценках себестоимости произведенной обычным путем электроэнергии царит большой разнобой, приводятся цифры порядка 30–80 копеек (0,01–0,025 доллара) за киловатт-час, а потребительские тарифы скачут от 30–40 копеек до 2,30 рубля. Разумеется, экономические показатели ветрогенераторов меняются от страны к стране, от региона к региону (зависят от ветров, дующих в той или иной местности), от конкретных условий (город, поселок, уединенный дом или хутор). Есть основания считать, что в перспективе себестоимость ветровой энергии будет снижаться, а полученной традиционными методами — возрастать. Говоря об энергии ветра, мы оказываемся, быть может, не в самом центральном, но в одном из многих узлов, где переплелись экономические, технические проблемы и тревоги и страхи, беспокоящие современного человека. Недаром в Интернете тема ветровой, солнечной и других возобновляемых видов энергии зачастую оказывается рядом с такими темами, как выживание в кризисных ситуациях (survival). А когда речь идет о подготовке к выживанию, цена оказывается не самым главным. В массовом сознании — и в коллективном бессознательном — с различными источниками энергии ассоциируется гораздо больше, чем просто понятие об источнике комфорта. Вода, ветер, солнце — за ними с древнейших времен стояли какие-нибудь божества. Нефть, газ, уголь, радиоактивные вещества извлекаются из недр земли, при этом само поведение борцов против использования ядерной энергии заставляет предполагать, что для многих из них, помимо чисто рациональных мотивов, связанных с оценкой возможного риска, затрат на утилизацию отходов, большую роль играет то, что эта энергия в буквальном смысле представляется чем-то вроде «исчадия ада». Наряду с весьма «приземленной» борьбой тех или иных тенденций в развитии реальной энергетики, разворачивается другая в некоем трудно-наблюдаемом пространстве, для которого нет устоявшегося названия, его можно было бы достаточно условно называть пространством мифа. Изредка то, что происходит в этом пространстве, выплескивается в так называемый реальный мир в виде каких-нибудь неожиданных идей или изобретений или порождается безумцами вроде Дон Кихота. После недавней войны в Ираке автору приходилось слышать об идее использования ветрогенераторов, точнее, их башен, для защиты от низколетящих вертолетов и крылатых ракет. Между башнями можно было бы натягивать сети, на их вершинах устанавливать дистанционно управляемые ракетные комплексы. Читатель сам оценит степень осуществимости этой идеи, принимая во внимание расценки, упоминавшиеся выше. В виде примечания на полях можно добавить, что массовое строительство ветрогенераторов в качестве оборонительной меры могло бы слегка приблизить армию к состоянию самоокупаемости, а также сделать ее менее зависимой от частных энергетических компаний, чей патриотизм, особенно в России, остается сомнительным.
В конце концов, мы — часть Природы, и, возможно, через наши фантазии Гайа — планета Земля, понимаемая как единый организм, борется за свое выживание. Вспоминается классификация исторических эпох, принадлежащая английскому историку Арнольду Тойнби. В этой классификации эпохи ассоциируются с четырьмя стихиями древних: землей, водой, воздухом и огнем. Эпоха великих географических открытий была эпохой, когда ведущая роль, дотоле принадлежавшая земле, перешла к воде. В двадцатом веке, по-видимому, наступила эпоха воздуха, что касается огня, то есть пока только ростки возможного будущего. Еще далеко до полного освоения воздуха. Самолеты и ракеты — только малая часть картины. Ветрогенераторы — эти растущие в высоту мельницы — часть другая. И многие опасности, угрожающие нам с высоты, это, скорее, свидетельство недостаточного, однобокого освоения стихии воздуха, нежели освоения чрезмерного…
Информация
«Странник-2004»
С 19 по 21 ноября 2004 года в Санкт-Петербурге состоялся IX ежегодный Конгресс фантастов России «Странник». Конгресс прошел нынешней осенью с двухмесячным опозданием и в несколько усеченном формате, но все традиционные мероприятия в программе присутствовали. В этом номере мы знакомим читателей с итогами Конгресса.РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛУФИНАЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ «СТРАННИК-2004»
Крупная форма: Кирилл БЕНЕДИКТОВ. «Война за „Асгард“». М.: ЭКСМО-Пресс, 2003 С. ВИТИЦКИЙ. «Бессильные мира сего». СПб.: Амфора, 2003 Александр ЕТОЕВ. «Человек из паутины».// Полдень, XXI век, 2003, № 4 Средняя форма: Александр ГРОМОВ. «Корабельный секретарь».// Громов А. «Глина Господа Бога». М.: ACT; Ермак, 2003 Евгений ЛУКИН. «Чушь собачья».// Одноим. авт. сб. М.: ACT; Ермак, 2003 Геннадий ПРАШКЕВИЧ. «Белый мамонт». // Если, 2003, № 8 Малая форма: Олег ДИВОВ. «Эпоха великих соблазнов». // Если, 2003, № 5 Леонид КАГАНОВ. «Хомка». // Звездная дорога, 2003, №№ 7–8 Евгений ЛУКИН. «Старый чародей». // Если, 2003, № 10 Критика, публицистика, литературоведение: Кир БУЛЫЧЕВ. «Падчерица эпохи». // Если, 2003, №№ 6–8, 10 Александр ЗЕРКАЛОВ. «Евангелие Михаила Булгакова». М.: Текст, 2003 Бела КЛЮЕВА. «Здравствуйте, я ваша бабушка». // Если, 2003, № 3 Переводы: Михаил КОНДРАТЬЕВ. Перевод романов Дж. Бибби «Ронан-варвар», «Спасение Ронана». М.: ACT, 2003 Елена ПЕТРОВА. Перевод романа К. Приста «Престиж». М.: ЭКСМО-Пресс; Домино, 2003 Ирина ТОГОЕВА. Перевод произведений У. Ле Гуин «Толкователи», «Сказания Земноморья», «На иных ветрах», «Морская дорога. Рассказы об Орсинии». М.: ЭКСМО, 2003 Издательство: «Азбука-Классика» (СПб) «Альфа-книга» (Москва) «АСТ» (Москва) «Олма-Пресс» (Москва) «Сталкер» (Донецк) «У-фактория» (Екатеринбург) «ЭКСМО-Пресс» (Москва) Художник: Сергей АЗАРНОВ. Оформление серии книг «Diskworld» (изд-ва «ЭКСМО-Пресс» и «Домино») Яна АШМАРИНА. Иллюстрации к книге Дж. Р. Р. Толкиена «Полная история Средиземья» (изд-во «АСТ») Михаил КАЛИНКИН. Обложки книг серий «Золотая библиотека фантастики», «Координаты чудес», «Классика мировой фантастики», «Классика отечественной фантастики», «Золотая серия фэнтези», «Звездный лабиринт», «Заклятые миры», «Век Дракона: Коллекция» (изд-во «АСТ») Лео ХАО. Обложки книг серий «Абсолютное оружие», «Юмористическая фантастика», «Российская боевая фантастика», «Наши звезды», «Тайный город», собрания сочинений Ю. Никитина (изд-во «ЭКСМО-Пресс») Антон ЛОМАЕВ. Обложки книг серий «Век Дракона», «Век Дракона: Коллекция», «Звездный лабиринт», «Звездный лабиринт: Коллекция», «Заклятые миры» (изд-во «АСТ»); «Коллекция», «Классика fantasy», «Классика fantasy: Коллекция», книг X. ван Зайчика (изд-во «Азбука-Классика») Владимир НЕНОВ. Обложки серий книг «Классика отечественной фантастики», «Золотая библиотека фантастики», «Звездный лабиринт», «Звездный лабиринт: Коллекция» (изд-во «АСТ») Роман ПАПСУЕВ. Иллюстрации к книгам В. Камши из серий «Хроники Арции» и «Отблески Этерны», подготовка игр по книгам Дж. Мартина и А. Зорина. Редактор, составитель: Яна АШМАРИНА — редактор-составитель книжной серии «Звездные войны» Дмитрий ВАТОЛИН — сайт «Русская фантастика в Сети» Ираклий ВАХТАНГИШВИЛИ — гл. редактор журнала «Реальность фантастики» Николай НАУМЕНКО — составитель серий «Звездный лабиринт», «Координаты чудес», «Век Дракона: Коллекция», «Классика отечественной фантастики», «Золотая библиотека фантастики», сборников «Фанта — стика-2003» (изд-во «АСТ») Денис ЛОБАНОВ, Василий ВЛАДИМИРСКИЙ — составители серии «Правила боя» (изд-во «Азбука-Классика») Александр ШАЛГАНОВ — гл. редактор журнала «Если» Леонид ШКУРОВИЧ — составитель серий «Знак Единорога», «Абсолютное оружие», «Абсолютная магия», «Русская фантастика», «Нить времен» и др., сборника «Фэнтези-2004» (изд-во «ЭКСМО-Пресс») По результатам голосования литературного жюри лауреатами премии «Странник» стали: Кирилл БЕНЕДИКТОВ Геннадий ПРАШКЕВИЧ Леонид КАГАНОВ Кир БУЛЫЧЕВ (посмертно) переводчик Елена ПЕТРОВАизд-во «АЗБУКА-КЛАССИКА» художник Яна АШМАРИНАредактор Дмитрий ВАТОЛИН Они были награждены голограммами статуэтки «Странник» (нововведение Оргкомитета премии).Редакция журнала «Полдень, XXI век» поздравляет лауреатов с победой и желает им дальнейших творческих успехов. Новости фантастики
Совет по фантастической и приключенческой литературе
Стали известны лауреаты ежегодных премий в области фантастики, учрежденных Советом по фантастической и приключенческой литературе. По результатам общего голосования членов Совета премии присуждены: в номинации «Роман» — Святославу Логинову («Свет в окошке»); в номинации «Повесть» — Евгению Лукину («Чушь собачья»); в номинации «Рассказ» — Людмиле Козинец («Таима»), посмертно; в номинации «Критика» (премия «Лезвие бритвы») — Киру Булычеву («Падчерица эпохи»), посмертно; в номинации «Дебют» (премия «Первый шаг») — Алексею Иванову («Сердце Пармы»). Награды за общий вклад в фантастику удостоены Владимир Михайлов и Евгений Гуляковский. Совет по фантастической и приключенческой литературе был создан в 2003 году Союзами писателей РФ, Москвы, Крыма и Приднестровья. Объединяет в основном профессиональных литераторов, в том числе критиков и переводчиков. Среди членов Совета — Александр Громов, Эдуард Геворкян, Вячеслав Рыбаков, Юрий Брайдер, Николай Чадович, Евгений Лукин, Олег Дивов, Леонид Кудрявцев, Виталий Пищенко и другие известные фантасты. (Пресс-служба Совета по фантастической и приключенческой литературе. Тел. 903–779-51–61)«Роскон-2005»
Москва, 10–13 февраля 2005 года Дорогие друзья! Оргкомитет «Роскона» рад пригласить вас на юбилейную, пятую литературную конференцию по вопросам фантастики. «Роскон-2005» состоится с 10 по 13 февраля в подмосковных пансионатах «Березки» и «Клязьма». На «Росконе» вы имеете возможность встретиться с самыми известными писателями-фантастами РФ и других стран, а также с издателями и литературными агентами, критиками и библиографами, переводчиками и художниками, деятелями кино и телевидения, имеющими отношение к фантастике. В рамках конференции, как всегда, пройдут мастер-классы, которые на этот раз будут вести А. Громов, М. и С. Дяченко, А. Лазарчук, С. Лукьяненко и Г. Л. Олди. Теории жанра будут посвящены семинары НФ, фэнтези, критики, фантастической периодики, кино и ролевого моделирования. Вопросы авторского права, юридические аспекты книгоиздания и книгораспространения, а также практика взаимодействия авторов с издателями как журналов, так и книг будут рассмотрены на практикумах, которые вводятся на «Росконе», начиная с этого года. В программе конференции, как и в прошлые годы, вручение премий «Алиса», «Роскон» и «Фантаст года». «Роскон» — это дружеское общение и неформальные контакты, активный отдых и творческая работа. Это конвент, который делают люди для людей. Координаты оргкомитета — прежние.Стоимость участия в «Росконе-2005» (включая проживание в номерах со всеми удобствами, трехразовое питание, участие в мероприятиях) составляет: При предварительной оплате: в санатории «Березки»: место в трехместном двухкомнатном номере — 3200 рублей (примерно 115 $); место в двухместном однокомнатном номере — 3700 рублей (примерно 130 $); место в двухместном двухкомнатном номере — 4400 рублей (примерно 160 $); одноместный номер — 5500 рублей (примерно 200 $); в пансионате «Клязьма»: 2700 рублей (примерно 100 $) (количество мест — ограничено). При оплате на месте все цены больше на 500 рублей (если будут номера). Стоимость участия без проживания (аккредитация) — 600 рублей за день. Подселиться к кому-нибудь в «Березки» «на коврике» обойдется примерно в 2500 рублей.
Любую дополнительную информацию вы можете получить по телефонам: (095) 918–10–87 (МЦФ, Олег Колесников); (095) 170–72–31 (Олег Колесников). Представитель оргкомитета в Санкт-Петербурге — Александр Сидорович. Проживающие в СПб и его окрестностях могут получить у него дополнительную информацию, а также подтвердить свое участие в конференции. Тел. (812) 126–76–72 (10:00–12:00), (812) 117–94–74 (13:00–19:00). Источник информации: http://www.rusf.ru/roscon/2005/index.htm
Последние комментарии
1 день 17 часов назад
1 день 22 часов назад
1 день 23 часов назад
2 дней 1 час назад
2 дней 2 часов назад
2 дней 3 часов назад