
Владимир Соколовский МУРАШОВ Повесть
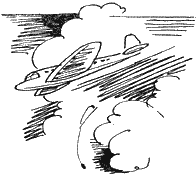
1
До войны здесь стоял огромный щит с рекламой бегов. По зеленому, вытоптанному в круге полю неслись кони. Крайний — гнедой, он прямо вырывался со щита: мощная, широкая грудь, изогнутая в напряжении шея, оскаленная морда… Здорово! Видно, художник любил лошадей. Когда шли бои, неподалеку упал снаряд, щит повалился на землю и сильно обгорел. А стоял он у самой городской границы и будто отгораживал крайние строения от сколоченных на скорую руку хижин, землянок, что грудились за окраиной. Теперь от них остались только ямы, в одной из таких ям и ютился Мурашов. Немцы дважды выжигали дощатые лачуги и землянки, якобы из санитарных соображений; выжигались попутно и жившие тут люди: цыганские и еврейские семьи, раненые, другие отставшие в отступлении красноармейцы, бродяги и темный люд из не успевшей эвакуироваться тюрьмы. Особенно много погибло в первый раз. Обезумевшие, залитые огнем, люди рвались к огнеметным командам, и солдаты — те, кто пожалостливее, — достреливали их. Во второй раз сгорело уже меньше. Все это рассказал Мурашову старый цыган, — теперь в обгоревших ямах жил только он со своей широкой, оплывшей, горбатой от горя женой да пятилетним внучонком. И сам Мурашов — капитан из армейского разведотдела. Но он-то обитал здесь считанные дни, и ничто не связывало его с этой выжженной землей, а у старика погиб тут весь табор — на его глазах. С женой и внуком он ушел тогда утром в город, и, вернувшись, они увидели с небольшого пригорка оцепление и огнеметы… Когда цыган рассказывал это, его потерянное в бороде лицо словно совсем исчезало — только источались слезы из-под зажмуренных век. «Надо идти в степь!» — говорил Мурашов. «Нет, нет, — качал головой старик и прижимал к себе курчавого внука. — Михай остался последним в моем роду, я не могу умереть с ним в степи. Миха, Миха, чавэлэ…» Капитан удивился: что случилось со старым бродягой — он стал бояться открытой земли? В степи и правда было опасно — где там, на продуваемой со всех сторон равнине, спрятаться от неутомимо шныряющих жандармов и патрулей? Над Бессарабией навис фронт, власти ожесточены и напуганы до предела, ловят и стреляют, наивно рассчитывая тем оттянуть неизбежное… Мурашов сам еле ушел от патрулей, пытаясь пробраться к фронту. Цыган со старухой вырыли землянку, обложили свод ее обгорелым, натащенным с руин кирпичом, наносили дерн на крышу; однако в войну любое, даже и самое крепкое жилье не бывает надежно, а уж земляночка-то эта — совсем чепуха, не более чем вид… Дед словно не понимал этого, все укреплял и укреплял ее. Когда появился Мурашов, старик стал приходить вечерами к его яме, делился жмыхами, которые воровал для семьи на румынской конюшне. Солдаты-румыны наверняка догадывались об этом, однако не гнали старика, не жаловались на него офицерам: за то, что он знал лошадей, помогал кузнецу, за кусок того же жмыха или мамалыги мыл животных, чистил конюшню, чинил упряжь, бегал к лавочнику по поручениям. По сути, он и кормил весь свой почти разрушенный род. «Миха, Миха, чавэлэ…» Старуха уползала с утра гадать и просить милостыню, — это тоже было весьма опасно, могли в любую минуту задержать и утащить в префектуру, оттуда дорога вела в приземистый каменный дом — местную тюрьму, а дальше — лишь к Ямам, пустому и мрачному месту километрах в двух от города. Там раньше добывали глину и делали кирпичи, а теперь — расстреливали людей, не нужных фашистской власти или, по ее мнению, не имеющих права на существование. Так что у цыганки не было бы в этом случае ни единого шанса выжить. Подавали ей мало, приносила она сущую чепуху, однако каждый день, словно на работу, бабка ходила и ходила на люди — сказывалась, видно, и многолетняя привычка, и натура, и потребность хоть как-то подпитать сознание иллюзией старой, довоенной жизни. Пока деда с бабкой не было, мальчишка их оставался в развалинах один. Из города к нему наведывались иногда сверстники, молдавские ребятишки, — тогда они играли вместе, бегали по выжженным пригоркам. Но приходили отцы и матери, отыскивали пацанов, били их, цыганенка, тащили детей домой, подальше от страшного места. Мальчик опять оставался один, плакал где-нибудь в ямке или тихо играл с тряпкой, деревяшкой, воображая их игрушками. Это — некая жизнь, протекавшая в те дни перед глазами капитана Мурашова. Такая тихая, полуреальная, под знаком смерти. Нет фронта, нет плена. А гибель все равно ходит по пятам за человеком. Однажды солдат застрелит деда за украденный жмых. Уведут бабку в приземистый дом. Мальчишку… Конечно, огнеметных команд теперь в городе не было, они давно ушли со своими частями, но во всякий момент могло прийти кому-нибудь в голову устроить здесь обыкновенную облаву. Сам Мурашов вырыл на этот случай надежную небольшую нору с тщательно обработанным входом, чтобы укрываться там при появлении жандармов, других охранных отрядов, просто чужих людей. И дни свои проводил либо в норе, либо рядом с нею, не отдаляясь больше чем на пять-шесть метров. Он и цыганенка пытался приучить сидеть тихо рядом, покуда не понял: это бесполезное дело. Тот и пяти минут не мог провести в одной позе: гримасничал, дергался, лопотал; вдруг вскакивал и убегал. Присутствие чужого взрослого будоражило его. И вот появись здесь вооруженные люди, оцепи они этот изрытый, испепеленный пустырь, — мальчику не уйти от них. Заметят, вытащат откуда угодно. Солдаты — те могут просто пристрелить мимоходом, и это будет для пацана еще не худший вариант. Местные стражники уволокут с собой для допроса. А потом все равно сдадут в тюрьму, в жестко фильтрующие руки уполномоченных гестапо. Те уж позаботятся, чтобы цыганенок не остался в живых. Причем каждый стражник в отдельности может не испытывать к Михаю, маленькому чавэлэ, последней надежде древнего рода, никакой неприязни. И, встретив где-нибудь, не обратить внимания, может быть, даже сунуть кусок сухаря или кукурузный початок. Блюстители порядка были здесь в большинстве своем ленивые, брюзгливые, с толстыми щеками, любили поговорить о лошадях, о нравах, навести страху на рынке. Однако одно дело, когда человек несет службу в одиночку и действует по своему усмотрению. Стоит же нескольким таким служителям соединиться вместе для выполнения какого-то приказа, задания, и характер каждого из них в отдельности как бы перестает существовать, он уже не имеет значения. Есть только Идея, которой они служат, в данном случае — Порядок. И люди, объединившиеся для лихих целей, не знают уже ни добра, ни милости. Задержавший цыганенка стражник, как бы ни любил он детишек, уже не отпустит его: он на виду у других полицейских, и Порядок висит над всеми, безжалостный. Нарушившему его открыто — своему, чужому ли — надлежит принять мучительную гибель в его медленных челюстях. Об этом, да и еще о многом другом думал капитан Павел Мурашов, лежа в яме среди развалин и поглядывая кругом. Дерганый, привыкший на фронте быстро работать мозг гнал и гнал новые ситуации, варианты поведения… Допросив цыганенка и вызнав от него о неясном человеке, живущем в развалинах, жандармы соберутся снова и поплетутся обратно, на новую облаву. Возьмут Михая, он покажет им нору. В промежутке между их уходом и возвращением Мурашову надо будет уйти. Куда? Этому городку он чужой, совсем чужой, там его никто не ждет и не примет. На улицах, в людных местах торчать неизвестному в городе человеку тоже нельзя — засекут и доложат, куда следует. Ладно, допустим, он найдет укромное безопасное место где-нибудь в заброшенном подвале. Хотя… Откуда может взяться заброшенный подвал? Молдаване, здешний народ, дорожат землей, она у них впустую не пропадает. Значит — только в степь. А там — да куда бы он ни ушел, шанс ускользнуть от наводнивших степь патрулей ничтожно мал. Кроме них, есть и сельские стражники, или те же крестьяне — тоже ведь попадаются разные…2
Ни одна из явок, полученных им в разведотделе, не была уже рабочей, действующей. Он оказался один — на чужой земле, среди чужих людей. Когда Мурашов уходил с последнего адреса, от дома учительницы Аурики Гуцу, провожаемый мрачным взглядом ее сожителя, он уже еле помнил себя. Тесный каленый обруч стянул голову, в глаза словно сыпанули песку. И люди удивленно глядели ему вслед — приземистому, машущему в такт шагу руками, быстро идущему мимо дядьке. В бараньей шапке, свитке, рубашке не первой свежести, на ногах — пыльные постолы, сам чернявый, с круто вьющимся волосом, — он ничем внешне не отличался от них, но больно уж дик был его вид. Ну и мало ли что могло случиться с человеком! Может быть, его обокрали, или вручили негодный товар, или заболела лошадь… Приказ был поставлен четко, конкретно, боевая задача для группы капитана Мурашова — сбор и передача данных о местности, характеристика населенных пунктов в полосе наступления армии, их оборонное значение, гарнизоны, вооружение — уяснена, отработана на нужных уровнях. И вот так получилось… Начальник разведотдела подполковник Лялин на последнем инструктаже задал Мурашову и радисту Грише Кочневу обычный вопрос: «Ну, что мы еще не обговорили? Если остались напоследок какие-то неясности — прошу!» Гриша пожал плечами, глянул на капитана: спрашивайте, мол, у старшого, я величина маленькая. «Ну что, комбат, я слушаю тебя». Мурашов повел головой, словно выворачивая шею из гимнастерки, поднялся. «О чем еще говорить, товарищ подполковник? Приказ отдан, и его надо выполнять, так я понимаю». «Ну, комбат…» — каким-то неопределенным голосом произнес начальник разведотдела. Комбат так комбат. Для Мурашова, вчерашнего фронтового командира батальона, ничего обидного в этом слове не было. Хотя он и понял, что хотел сказать Лялин: «Да, браток, не получается из тебя разведчика, каким ты был окопником, таким и остался». «Что ж, ребята… — подполковник приблизился, пожал обоим руки, обнял. — Паша, Гриша, давайте. Если даже и остались какие-то претензии, — что теперь говорить о них? Только учти, Паша, — там все может оказаться очень непросто. Явки ведь старые, еще довоенные. А других людей, которых можно было бы использовать для разведки на этом направлении, у нас нет. Может, и были, да расхватали, пока нашу армию сюда перебрасывали. Штаб трясет данные, а нам и сказать нечего. Так что надежды на вас большие, действуйте. На первый взгляд, вприкидку, городок, который мы определили как базовый для резидентуры, — тихий, достаточно захолустный, без сколько-нибудь мощного и постоянного воинского контингента. Следовательно, по идее, гестапо и контрразведка тоже должны там работать вполсилы. Но тут-то и может быть опасность. Тут-то и опасность…» «В чем, товарищ подполковник?» — спросил Гриша. «Вот даже затрудняюсь сказать. На меня, как на разведчика, эти городки всегда непростое впечатление производят. В большом городе легче. Там везде, ко всему можно примениться, почувствовать себя своим, потеряться. А тут… все, вроде, как на ладони, и все не твое. И каждый может так за штаны ухватить, что не только без них, а без шкуры останешься. Так что ушки держите на макушке. Ну, и если что — по обстановке смотрите, действуйте, тут рецепта на любой случай быть не может. Если уж подопрет и почувствуете, что до фронта не дотопать, пытайтесь выходить на линию Ниспорены — Бобейка — Котовск — Молешты — Чимишлия, этот район мы контролируем, ищите партизан, может, повезет… Но я на вас надеюсь, повторяю!..» Он толкнул дверь, выходя из одиноко стоящей в роще мазанки, где жили разведчики. Следом вышел майор Перетятько, отвечавший за операцию. Скоро майор вернулся, потер бритый затылок, хохотнул: «Братцы, братцы… Была мне теперь от Лялина добра бучечка… А я шо могу сделать? У меня больше нет никого. Да и Павлик с Гришей нас не подведут, все сделают так, как положено…» «Что значит — не подведут? — бледнея, спросил Мурашов. — Ты не уверен в нас, так надо понимать? И подполковник тоже? Тогда уж лучше не посылайте. Ну, Гавря, товарищ майор, не ожидал я от тебя…» Гриша тоже насупился, заморгал, отвернулся. «Да что-о вы! — закричал Перетятько, вплескивая руками. — Ведь совсем не в том, не в том смысле, перестаньте! О Грише вообще разговору нет, он и радист, и разведчик проверенный. А в твоей, Паша, личной храбрости и командирском умении только дурак усомнится. Разве ж о том разговор? Лялин, видишь, что толкует: дескать, вообще Мурашов никакой не тыловой разведчик, не был им и никогда не будет. Нет гибкости, приспосабливаемости, того, сего… А я его убеждаю: ни в чем сейчас нельзя быть уверенным. Может быть, у него как раз все пойдет отлично. Иной ведь дурак дураком смотрится (Мурашов усмехнулся: „Ну, спасибо, товарищ майор“), а в деле показывает себя лучшим образом. Лялин послушал, послушал меня, потом и говорит: „Может быть, и твоя, Перетятько, правда“, — сел в машину и уехал. Что ты, разве в твоей храбрости кто-то сомнение поимел? Вернешься — мы тебя на курсы пошлем, вообще классного разведчика из тебя сделаем, Паша!» «Ну, это уж положим. Все равно уйду обратно, на батальон. Да хоть на роту, только на передок». «Так мы тебя и отпустили… ха-ха… Ладно, дело сделано, что теперь толковать, давайте закусим немного…»3
Эх, майор Гавря, майор Гавря! Где-то ты теперь! Вот уж, наверно, пилит начальство твою толстую шею. Вышла тебе судьба пострадать безвинно. А впрочем, что спрашивать с тебя строго? — кандидатурой Мурашова занимался и утверждал ее штаб армии, Перетятько подключился позже и ничего уже не мог изменить, если бы даже очень захотел. Но все это осталось там — далекое, недоступное, почти забытое… Здесь же — кротовье существование, выжженная земля на магале — окраине захолустного молдавского городишки. Пропал Гриша, исчез неизвестно куда. Не действует ни одна из явок. Конечно, сказались три года оккупации. Война, неволя… Красивая была здесь земля! Тот год, что Мурашов провел в Бессарабии после училища, так и остался самым счастливым из всех, что прошли между рождением и сегодняшним бытием. Все тогда было у него: и жена, и служба, которая нравилась. Теперь, при воспоминании о том времени, казалось: и хатки были наряднее, и пышнее деревья, и небо голубее, и село, где стоял их гарнизон, выглядело чище, красивее этого городка. Наверно, просто другими глазами смотрел на все. И думал, что так все и должно быть, и будет всегда. Но странно: на что-то тогда обращал внимание, а что-то так и проходило мимо глаз, сердца, ума. Гриша, когда вместе готовились к выброске, как-то спросил: — Товарищ капитан, а молдаванки красивые? Мурашов наклонил к плечу голову, подумал и ответил: — Не помню, знаешь… А что тебе за интерес до того? — Да так, стихи одни вспомнил. Там про бессарабские степи, и дальше —«Твоя, твоя!» — мне пела Мариула
Перед костром
В покинутых шатрах…
4
Когда Мурашов понял, что остался один, без связей и без радиста, он попытался уйти к фронту. Все понятно: обстановки в степи он не мог знать, вдобавок поначалу, подогретый страхом и растерянностью, в такой ситуации сильнее всего оказывается в человеке инстинкт. Тем страшным днем капитана вынесло к выходу из городка, на окраину его, — впрочем, не к выжженным руинам, ставшим впоследствии его пристанищем, а к дороге, ведущей в Ямы, место расстрелов и погребений. Мурашов не знал, что творится иногда на исходе ночи в глиняных горах и оврагах. За последним огородом он повалился в жесткую траву, снял свитку, закрыл ею голову и сразу уснул. Сказались и бессонная ночь, и пережитое потрясение, и потребность отдыха перед дорогой. Проснулся он в быстро свалившейся на землю южной темноте. Ночь была, в отличие от предыдущей, лунная. Свет мертво обливал бывшие глиняные разработки, смотрелись они как дикие, нелепые развалины больших нечеловеческих построек. За ними катилась к горизонту и во все стороны отсвечивающая степь. И ни шума, ни ветерка. Будто умер, погиб весь мир, оставив после себя только степь и Ямы. «Однако надо идти!» Обогнув потревоженную некогда, изрытую людьми землю, Мурашов вышел на открытое пространство. Прошагав совсем немного, вдруг увидал замерцавший вдали огонек. Он становился ярче, потом донесся треск мотора, и Мурашов понял: прямо на него откуда-то издалека едет мотоцикл. Пригнувшись, он бросился бежать в степь. Тогда рядом с фарой замигал еще один яркий огонек, отчетливое «ду-ду-ду» перебило звук мотора: стреляли из тяжелого мотоциклетного пулемета. Мурашов ничком упал на землю и, словно ящерица, быстро пополз перпендикулярно движению машины, стараясь держаться дальше от травяных кустов, вообще от видных, выступающих на поверхности укрытий. Наполз на маленькое углубление в земле, вжался в него. Мотоцикл встал метрах в сорока сбоку, пулемет дал очередь. «Ду-ду-ду!» — сердито грохотало оружие. Пули скакали от почвы вверх и золотыми шмелями неслись дальше — там терялись, падали под силой тяготения и, видно, шипели на увлажненной росой траве, отдыхая после злобного, опасного своего полета. Затихали навечно. Мотоцикл взревел снова, заездил кругами. Затем пулеметчик спрыгнул с машины, побежал по траве, осматривая ее. Один раз прошел метрах в семи от Мурашова. Тот еле поборол желание выстрелить в него из пистолета. — Ну что там, Ион? — донеслось от машины. — Я никого не вижу, домнуле[1] унтер-офицер. Как та мышь. Была — и нету. — Может быть, мы его проехали? — Затрудняюсь сказать. Открытое место скрадывает расстояние ночью, можно ошибиться и в сто, и в двести метров. — Ладно, садись. Поедем дальше и посмотрим еще. — Может, он где-то здесь и слушает нас? — Тогда ты нашел бы его по запаху. Он сейчас вонючий со страху. — Водитель захохотал и пулеметчик подсмеялся ему вслед. — Все-таки никак не выводятся эти бродяги. А ведь ты мог его и уложить насмерть, Ион? Тогда он мертвый. — Нет, я знаю, когда попадаю. — А, черт с ним! Пусть бредет в город и молится своему богу. Или идет в степь. Далеко ему все равно не уйти. Пулеметчик подбежал к мотоциклу, бухнулся в коляску. Машина ревнула, взвыла, трогаясь, и умчалась вдаль. Мурашов, после того, как они уехали, полчаса еще лежал на месте, опоминаясь и обдумывая положение. Вот так! Не пройдешь, не проедешь. Предыдущая ночь, когда их выбрасывали, была темная, легкий Як-6 протарахтел маленькими моторами далеко на запад, огибая место прыжка, а затем нешумно скользил с большой высоты, чтобы не засечь себя и не дать врагу повода для тревоги. После прыжка им предстояло встретиться, закопать парашюты, надежно спрятать снаряжение, рацию и идти на места явок. Имелся и вариант: если попадется надежное укрытие, Гриша остается там и ждет Мурашова, тот отправляется в город один. Приходилось быть осторожным: радист не знал по-молдавски. Сам капитан приземлился удачно, на утоптанном пыльном плато, видно, овечьем выгоне, покружил по нему, вглядываясь, вслушиваясь в темноту, даже крикнул несколько раз и помигал фонариком. Гриша не откликался, не подходил, не давал знака. Тогда Мурашов двинулся в путь один. Он пересек выгон в южном направлении, на конце его закопал саперной лопаткой парашют, прошел по меже большое кукурузное поле — и к началу рассвета был уже на окраине городка. На счастье, ему удалось избежать патрулей. Только мысли об исчезнувшем радисте не давали покоя.5
Мурашов, командир стрелкового батальона, кадровый офицер довоенной выпечки, попал в армейскую разведку случайно, без всяких собственных на то намерений. Армия, в которой он находился, воевала на Ленинградском фронте, в местности лесистой, холмистой, болотистой, изборожденной речками, довольно густо населенной. После прорыва блокады ее отвели в тыл, пополнили, доукомплектовали, отвезли эшелонами на новое направление, определили задачу… И первый вопрос, который встал перед командованием, — отсутствие данных о местности, лежащей в полосе вероятного наступления. Только аэросъемка. Однако она не дает точных данных даже о рельефе, не говоря уж о дислокации, численности, вооружении противника. За то недолгое время, когда Бессарабия находилась в составе Советского Союза, провернуть огромную работу по топографической съемке местности оказалось, разумеется, невозможно. Старые карты были больших масштабов, очень приблизительные. В Красную Армию бессарабцев не брали, — страна долго находилась под пятой королевской Румынии, среди мобилизованных могли оказаться всякие люди. Конечно, искали людей из подлежащих освобождению районов, однако если и находили — что они могли сказать? Попробуй угадай, что теперь происходит в местах, давно тобой покинутых. Главные источники сведений — партизанские отряды — базировались главным образом в кедровых, лесистых местах. В сложившейся обстановке разведотделы армий, управления фронтов делали, что могли: формировали группы, готовили отдельных агентов, засылали их самолетом, проводили через войска. Кто-то уходил и пропадал вообще, иные перед гибелью или перед тем, как быть схваченными, успевали передать одну-две-три шифровки, кто-то, сломившись, вступал в хитрую и сложную радиоигру по разработкам опытнейших мастеров абвера, кому-то удавалось оседать прочно, давать точную, конкретную, по-настоящему нужную информацию… И все-таки обстановку нельзя было назвать обычной — поиск разведданных, нащупывание противника шли необыкновенно тяжело, с буксовкой и потерями. Хоть по первичным данным и не казалась эта местность особенно сложной в стратегическом и географическом отношениях. Была линия фронта — как обычно, многоэшелонная, отлично укрепленная, — однако брали и не такие. Среди войск много румын, самих бессарабцев. В степи — то хутора, то села в виноградниках, густые кусты по берегам речушек. Преврати любое из этих сел в мощнейший очаг обороны — все равно для наступающей, катящейся в едином порыве на запад армии он не станет серьезным препятствием: потерзает, потерзает она его, обтечет — и дальше, а остальное додолбят штурмовики и бомбардировщики; завершит же все маршевый батальон из резерва, с приданной батареей небольших пушчонок. И все равно — перед наступлением врага надо прощупать, знать, кто и что стоит перед тобой, где придется идти. Потому что огромную страну надо еще пройти, пройти с боями. Пройти быстрее, с наименьшими потерями, с наибольшим успехом, ибо от этого зависит и жизнь людей, и судьба самой армии, судьба ее корпусов, дивизий, полков, множества поддерживающих и обеспечивающих частей. Огромный, отлаженный механизм, чудовищные массы народа приходят в движение и — идут, сметая все, или гибнут, рассеиваются в страхе и панике. И нет командира, какого бы ранга он ни был, который не нервничал перед наступлением, не терзал беспрерывно разведку: сведений! сведений! Каждому, от командующего фронтом до ротного, взводного, страшно наступать вслепую — боязнь неизвестности, больших потерь, невыполнения боевого приказа.6
Давно затих стук мотоциклетного мотора, лишь столб света от его фары продолжал двигаться за горизонтом. Процокал невдалеке копытами парный конный патруль. Мурашов пополз обратно. Когда уставал, делал короткие пробежки и снова падал на землю. Пошел, называется… Куда? Через всю страну. Только затем, чтобы появиться в разведотделе, глянуть в глаза Лялину, сказать: не обессудьте, ничего я не сделал и радиста потерял… Какое ему дело до того, как тебе было трудно, какие перенес опасности, чтобы вернуться? И не надо храбриться, как храбрился до вылета: ну подумаешь, мол, если не получится, — это не моя работа, отправляйте обратно на передовую, буду там снова делать то, к чему привык! Батальон, должность комбата отодвинулись далеко, стали какими-то не очень реальными даже, как и вся фронтовая обстановка: стреляют там, бомбят, могут убить каждый момент — это да, однако в блиндаже можно стоять в полный рост и говорить во весь голос; ординарец сообразит поесть; есть люди, компания которых тебе приятна, и с ними можно всегда пообщаться. Ты не один… По сложной кривой, далеко обогнув глиняные разработки, Мурашов под утро выбрался к городу — как раз туда, к тем развалинам, где ютилась семья старого цыгана. Затаился и пролежал целый день в какой-то яме. Одурь, голод, жажда сморили его. Особенно мучила жажда, Из ямы виднелась близкая окраина, там возле дома стоял колодец, однако Мурашов не мог почему-то заставить себя пойти к нему и напиться. Окликнул возившегося в черной земле цыганенка, испугав его; мальчишка убежал, а капитан снова осел на дно бывшей землянки. Сидел, вытянув ноги, привалясь к стенке. Потом кто-то завозился рядом, и крошечное, остренькое смуглое лицо показалось сверху. Пацан что-то гортанно сказал на чудном молдавско-цыганском диалекте — Мурашов не разобрал смысла слов и прохрипел по-молдавски: «Пить! Принеси воды…» Цыганенок принес воды в черепушке; Мурашов выпил и слабо улыбнулся. Мальчик исчез. Вечером, когда вернулись дед с бабкой, он привел их к яме, в которой сидел Мурашов. Бабка охала, причитала, видно, боялась пришельца, больше всего — что он дезертир или бежавший преступник, что его станут искать и потревожат их непрочное существование. По ее словам, обращенным к мужу, капитан понял: она уговаривает деда скорее убить его и закопать, чтобы избежать беды. Старик колебался; затем, оттолкнув старую цыганку, полез в яму. Ощупал свитку Мурашова, оценил лежащую рядом баранью шапку. Капитан подобрался, решив про себя так: если дед замахнется или бросится на него, он вцепится ему в шею и задушит. Силу своих рук и пальцев он знал, из них не вырваться даже молодому, здоровому. Вода, принесенная днем цыганенком, сильно подбодрила его. Дед сидел на корточках и внимательно разглядывал незнакомого, чужого человека, склоняя голову то к одному, то к другому плечу. Вынул из кармана цветную тряпку, размотал, достал оттуда кукурузного хлеба, отломил немного и протянул Мурашову. Тот взял, стал жевать, стараясь не торопиться. Старик чуть усмехнулся, спросил: — Румын? — Нет. Молдаванин. — Иди туда. — Цыган указал на город. — Иди туда, в степь. Зачем здесь быть? Мы не знаем, кто ты. Здесь никто не живет. Ни плохой, ни хороший. Только я, моя жена и внук. Мы бедные цыгане, а ты уходи отсюда. — Мне некуда идти, мош.[2] В городе у меня никого нет, а в степи сразу поймают или убьют. Нет пропуска, понимаешь? Я работал в имении, у боярина, на виноградной давильне. Стал кашлять, приехал доктор, сказал, что начинается туберкулез, мне нельзя работать с продуктами, и меня выгнали из экономии. Я живу недалеко от Вулканешт, в селе. — Это дальняя дорога! — покачал головой дед. — Туда надо долго добираться. Ты что, заболел? Почему пришел сюда? — Сегодня меня задержали в степи стражники, отобрали деньги, справку о болезни и пропуск. Как же я пойду дальше? — Иди в город, к префекту. Там сделают запрос в экономию и в твое село. Когда придут ответы, тебе дадут другой документ и другой пропуск. — А покуда задержат как бродягу? Думаешь, они станут долго разбираться? Стражники, что задержали меня, предупредили, чтобы я не вздумал на них жаловаться. Сказали: если увидим в городе, — берегись. На самом деле у Мурашова были при себе и деньги, и справки о болезни, и пропуск на проход от прифронтовой полосы почти через всю Молдавию, к месту прежнего жительства. Все было заполнено и проштемпелевано префектурой и военными властями — по добытым разведкой образцам. Про деньги цыгану не стоило говорить: мало ли какие думы могут возникнуть в голове у старика! Справка о болезни могла еще пригодиться, а вот пропуск… Идти по нему можно было только в глубь территории от своих войск — а значит, что от него толку, когда надо в обратную сторону. Но обратный путь заданием не предусматривался: Мурашову, установив связь с явками, надлежало осесть в надежном месте, наладить сбор информации и отправлять ее через Гришину рацию. Такова была суть. Такова была… — Что же ты станешь делать? — сипло трубил старый цыган. — Здесь нельзя жить, это наше место, а ты опасный человек. Как-то здесь ночевали недолго два венгра, а потом их поймали в городе и повесили на базаре. А если бы поймали здесь? Тогда задержали бы и увели в тюрьму и меня, и мою семью. — Трусишь, мош. Неужели никто не знает, что вы тут живете? Нет, не верю. — Знает полицейский надзиратель и не трогает, и не дает трогать другим. Иногда он просит что-нибудь сделать у него в доме, старуха моет полы, помогает в саду. — Только-то? Может, еще чем-нибудь помогаешь? Цыган сгорбился, начал раскуривать трубку. «Постукивает старичина, — подумал Мурашов. — Крутится, видать, по разным местам, а после доносит. Спасается по-своему. И тех венгров не без его участия похватали». И тут в голову внезапно ударила горькая мысль: ведь у него нет ненависти к старому двуличному цыгану, готовому предать всех и вся, лишь бы только выжил он и его семья. На фронте он смотрел бы на деда совсем другими глазами. А вот теперь не стреляют, не рвутся кругом снаряды, тихое небо висит сверху, — и не поднимается рука на этого человека. Сидит, слушает его. Видно, тут другой мир, он перевернулся, как в песочных часах. Все по-другому. Нет жесткой разницы, преграды между добрым и злым, плохим и хорошим, белым и черным, как на передовой. Попробуй, скажи, что плохо, что хорошо, когда ты сидишь и жрешь мамалыгу, полученную из рук цыгана, на совести у которого наверняка не одна подло загубленная жизнь, а сам ты, находясь здесь, не сделал ничего для исполнения своей солдатской задачи. — Ты меня, мош, не закладывай, — сказал он, — я тихий. И ты учти: если меня возьмут, тебя не станет в тот же день. Пожалей своих, мош.7
Летом 1938 года с заставы на западной границе, где Мурашов проходил срочную службу, отправили его поступать в пограничное училище. Он прожил в летнем лагере около недели, когда его вызвал вдруг начальник приемной комиссии. — Слушай, помкомвзвод, — сказал он. — Ты знаешь, куда поступаешь? — Так точно, знаю. В пограничное училище. — Да-да. У нас особые требования. А у тебя, — он стукнул пальцем по папке, — тетка, репрессирована. Почему не сообщил сразу? На заставе об этом знают? — У нас спрашивали о таких родственниках. Я все сказал. И мне ответили, что это не препятствие. Ведь вы неправильно сейчас сказали: это мужа у тетки арестовали, инженера-конструктора. А тетка с ребятами живет, где и жила. Мается, конечно… Муж тетки — довольно ведь дальняя родня, верно? — Хмм… Ты сам с ними поддерживал отношения? — Ну, чтобы уж близко — не скажу… Мурашов и правда редко ходил в гости к тетке Симе — стеснялся худой одежды, чувствовал себя чужим в чинной, благообразной, ухоженной обстановке Дома специалистов после барачных шума и вольницы. Тетка тоже редко бывала у них, снисходительно жалела сестру, мать Мурашова, за ее тяжелую жизнь с лиховатым, не чурающимся рюмочки мурашовским отцом. А сам отец вообще не бывал в инженерской семье никогда. «А-а, родня… дерьмо!» — говорил он. — Так вот, помкомвзвод: ты в наше училище не подходишь. У нас особые требования, понимаешь? Мурашов подумал, вздохнул, развел руками: — Ну, что делать? Хоть в городе побывал, на других людей глянул, отвлекся немножко. А все-таки без своих ребят скучно. Поеду обратно на заставу, буду дослуживать. Я ведь, товарищ полковой комиссар, не очень-то и просился. Приехал из отряда командир, спрашивает: «Не желаешь учиться на командира-пограничника? Ты из рабочих, комсомолец, старослужащий, помкомвзвод — подходишь по всем статьям». Что же, думаю, не поехать. А статьи-то, оказывается, вовсе и не все… Ну, не получилось — беды особенной нет. На гражданке тоже люди нужны. — Конечно, нужны… Только найдешь ли ты там дело по себе? У тебя ведь девять классов — значит, до института еще год учиться надо. А обратно на завод идти — что же с таким образованием кувалдой-то махать? Ты ведь кузнец? — Я работал на механическом молоте, там кувалдами не машут. Но вообще я собирался на лекальщика учиться, мне один из них говорил, что у меня в пальцах чутье есть. — А если в техникум? — Что я там, с пацанами? Да и кормить-одевать меня некому, так что будем считать — отучился… — Что-то ни то, ни се у тебя, — гнул свое комиссар. — Почему девять классов? Ни семь, ни десять. Запалу не хватило, что ли? — Мать за уши тащила, — нехотя объяснил Мурашов. — У ней в семье все образованные. А у меня в девятом классе уже борода росла. Считайте, девяти в школу пошел, да два года сидел в шестом. Девятнадцать лет, а я все в штанах с заплатами бегаю! Сверстники-то мои работали давно, одевались… — Но-но! — прозвучал строгий голос. — Мать тебе добра хотела, а ты, понимаешь… Не кончил, значит? А причина, все-таки? — Да отец наш опять забуробил, нашел какую-то… Матери тогда не до меня стало, я и ушел потихоньку из школы. Когда на завод устроился, только тогда ей сказал. — Ладно, с этим ясно. Как я понял… жгучего, скажем так, стремления стать командиром-пограничником у тебя нет? — Жгучего нет, товарищ полковой комиссар. На границе ведь служба тяжелая. Иной раз и день и ночь на ногах. Разрешите идти, собираться? — Нет, Мурашов, погоди. А если бы поступил к нам — учился бы, служил честно? — Конечно. Кому-то ведь и на границе служить надо. Это служба почетная. И зарплата подходящая. — Отлично отвечаешь. Отлично. Только — не могу я тебя в наше училище принять, вот какая беда! «Ну, не можешь и не можешь, какого хрена тогда кашу-то по тарелке мазать?» — раздраженно подумал Мурашов и сказал снова: — Так разрешите идти? — И отпустить так просто не могу… Вот характеристика твоя, подписанная командиром отряда Апенченко. Мы с твоим Апенченко в Средней Азии вместе служили, можешь передать ему при встрече привет от Колбенева. Так вот что тут сказано: «Выносливый, исполнительный, не чурающийся никакого труда красноармеец. Среди подчиненных пользуется заслуженным авторитетом. Меры строгости по отношению к ним применяет справедливо, основным методом воздействия считает личный пример. В боевой обстановке смел, инициативен…» Видишь, что тут написано? А я Апенченко верю, он словами не бросается. И плохого красноармейца не пошлет учиться на командира. Только лучшего из лучших. И что же теперь из этого выходит? — Что выходит, товарищ полковой комиссар? — Ты не дергайся, встань как следует. У меня тоже время дорогое, если толкую с тобой — значит, есть причины… Вот, выходит так, что ты хороший красноармеец. Хороший ты красноармеец, помкомвзвод? — Себя хвалить вроде как не положено… Но так, если рассудить, красноармеец я неплохой. Крупно не наказывали, а благодарностей имею целых четыре. — Да, вот еще: «Имеет склонность и способности к изучению языков». Это откуда? — У нас на заставе кружок по испанскому языку организовали. Жена политрука вела, она в институте его учила. Так я с ней через два месяца почти свободно толковал. Как-то быстро получилось. — Подходишь ты нам по многим пунктам. А вот одного пунктика не хватает, и — все, баста! Но что я думаю про тебя, помкомвзвод: жалко будет, если армия потеряет такого солдата. Образование, служба за плечами… будь он неладен, этот шурин, или кто он тебе! Уйдешь на гражданку, потеряешься там… можно ли это допустить? Да и перед Апенченко, старым дружком своим, я вроде как виноват окажусь: что такое, послал сюда хорошего парня, а я обратно отфутболиваю… Давай попробуем сделать так: здесь у нас есть еще военно-инженерное, попросту — саперное училище. Там требования не такие высокие. Я звонил туда, у нас с заместителем отношения хорошие, говорил о тебе. Они не возражают. Ты парень рабочий, металл, говоришь, аж пальцами чувствуешь… тоже ведь твое место, а? Давай соглашайся, и мы перешлем туда документы. — Так ведь это совсем другие войска, можно ли? — засомневался Мурашов. — Это я все сделаю, улажу, а как — не твоя забота, понял? Твое дело — только принять решение. На хмуроватом мурашевском лице напряженно заблестели глаза; помолчав, он хмыкнул, махнул рукой: — Что ж, если так — видать, не уйти мне от учебы да армии…8
Пуститься бы вскачь на сильном и быстром коне! Доскакать без остановки аж до самого штаба своего полка, кинуть повод уздечки первому солдату: «Привяжи!» — и спуститься в блиндаж по крутым ступенькам. «Капитан Мурашов прибыл для дальнейшего прохождения службы!» Его, поди-ка, никто уже и не ждет. С того самого времени, как отозвали в распоряжение штаба армии. Сначала с ним разговаривали у начальника разведки дивизии майор и подполковник, от них он ушел обратно в батальон, а через день приказ: быстренько собираться и — в путь-дорожку, будьте любезны! Наверняка нашлись и такие, что завидовали: мол, штаб армии — это тебе не передовая! Сюда бы их. Не передовая… Скоротав в яме, в земле, первую ночь, Мурашов отправился на городской базар. Потолкался там среди торгующих семечками и жареной кукурузой крикливых баб, среди пахнущих лошадьми, ружейным маслом и дешевым табаком румынских солдат, немногих крестьян из ближних сел. Несмотря на шум, оживление, базар был по-военному скуден. Сухие шкуры, мамалыжный хлеб, папироски, вино, бараньи шапки, всякая рвань… И народ здесь, видимо, шлялся — и продавцы, и покупатели — более или менее здешний, известный друг другу. Поедешь ли далеко с товаром без острой, крайней необходимости в лихое время! Мурашова засекли сразу: уже минут через десять после того как он появился на рынке, к нему подошел рослый полицейский и потянул в укромное место. Долго глядел предъявленные бумажки — Мурашов даже засомневался, грамотный ли он, потом бесконечно выспрашивал подробности: кто, откуда и почему. «Ну, и что тебе здесь надо?» — спросил напоследок стражник. «Нездоровится. Надо перед дорогой хлеба, сала купить…» — Мурашов стал кашлять, и детина отпрянул брезгливо. «Заразных велено в префектуру…» — пробубнил он. Мурашов дал ему сто лей. «Больше чтобы я тебя здесь не видел», — сказал полицейский, отходя. Капитан купил хлеб, соли, шматок шпика, две бутылки виноградной водки. Вернувшись в свое пристанище, он поел и стал ждать цыгана. Тот вернулся под вечер и не один: рядом колобком катился рыжеусый лысоватый мужичок в темно-синей полицейской форме: штаны навыпуск, петлицы на отложном воротнике, лычки на плечах. Это оказался местный надзиратель, покровитель цыганской семьи. Повторилась сцена с чтением справок, расспросами. Голос у надзирателя был высокий, почти писклявый. «Немедленно уходи! — орал он. — Вон с моего участка!» Мурашов кашлял, надрывался, умолял подождать хоть немного, покуда ему не станет легче. «В префектуру! В префектуру!» — визжал полицейский, покуда Мурашов не приник к его уху и не стал говорить что-то тихо и внушительно. Зашуршали деньги. Потом капитан метнулся в свою яму, вытащил из лежащего на дне ее мешка бутылку с водкой, затряс ею: «Я прошу, я прошу, домнуле офицер!» Надзиратель подтопал к нему толстыми ногами, вырвал бутылку, сунул себе за пазуху и пошел прочь, важно переваливаясь. Другую бутылку Мурашов распил с испуганным, насторожившимся цыганом. Тот недоумевал: ведь чужак говорил вначале, что деньги у него отобрали в степи, где же он взял их сегодня — на водку, хлеб, подкуп домнуле надзирателя? Наверно, он хитрый человек. А может быть, крупный и удачливый вор. Тогда он, живя рядом, может помочь и их, цыган, существованию. А он, дед, поможет ему в его делах. Поможет, а потом донесет на него домнуле. И тот даст хлеба и сала для него, бабки и маленького Михая — надежды рода. Так — бок о бок — прожили они несколько суток. Мурашов выкопал укрытие на случай внезапной облавы, подобралплошку для еды. По вечерам цыган приползал к нему, они выбирались на небольшой холмик, жевали остатки раздобытой за день пищи и молчали или тихо разговаривали. Луна, если она была, высвечивала их костистые горбоносые лица, дующий низом ветер уносил в сторону степи рваный дым от стариковой трубки. Бегали, попискивая, мыши. Старик вздыхал, он казался вечерами очень старым. «Мне семьдесят седьмой год, — ворчал он. — Война, молодым нет места на свете, а я никак не могу умереть. Михай, Михай, чавэлэ…» — сипел он о спящем рядом с бабкой внуке. «Еще живи, мош, — посмеивался над ним Мурашов. — Вон сколько в тебе силы: целый день на ногах да на жаре — это ведь надо выдержать, не шутка!» «Видишь? — дед горделиво сжимал кулак. — Когда-то я убивал им лошадь. В целом таборе не было цыгана сильнее меня. Меня любили и румынки, и венгерки, и молдаванки. Я украл и продал много коней, и никто не мог догнать меня и убить. Я только два раза сидел в тюрьме. А теперь табора нет, и Михай даже не знает толком, как заседлать впервые степную лошадь. Он способный, живой мальчик, Но кто, где ему покажет, научит?» Капитан Мурашов сидел рядом и вполуха слушал скрипотню старого цыгана. Ему самому было двадцать девять лет, а отцу полгода назад, зимою, исполнилось бы пятьдесят семь, если бы не помер в день своего рождения прямо за станком, от мгновенного сердечного паралича, вызванного усталостью и дистрофией. Цыган хвастался своей прошлой жизнью; по его рассказам выходило, что не было на свете преступления, какое он не совершал. Убийства, кражи, обманы, насилия… Но поскольку делалось это просто, на виду, обыденно, даже с удалью, то и само понятие преступного как-то терялось, смывалось, преступление переставало быть чем-то страшным, мрачным, таинственным и чуждым человеческой природе. Мало ли чего не бывает в степи, при вольной жизни и вольных нравах! — так следовало понимать слова старика. Впрочем, может быть, все и было гораздо страшнее, чем он говорит. Да даже наверняка так.9
В гражданской, далекой жизни самого Мурашова существовал период, когда он был близок к блатным. Вначале он просто дружил со своими сверстниками-товарищами по бараку, где жил, улице, где бегал, школе, где учился. Это уже после, годам к пятнадцати, ребята начали резко делиться на группы, и стало более или менее понятно, что кого ждет. Что этот, например, будет заводским рабочим, этот собирается идти в техникум, этот — в аэроклуб, тот — в командирское училище или в армию… Часть же парней — небольшая, конечно, — откололась сразу, сбилась в свою кучку, и прошел слух, что они воруют. Иногда они появлялись на улице вместе, хмельные, со своими девками, гитарами, чечеткой, — горделиво так показывали свою веселую жизнь. Их и боялись, и посмеивались над ними, но как-то робко, храня дистанцию, чтобы не пырнули ненароком. Чего им стоит, шпане! Время от времени по слободе проносился слух: такого-то и такого-то «замели», их матери выли в коридорах, подъездах бараков, пускали слухи про уголовный розыск, следователей, затем был суд, набивался полный зал любопытных, — и долго еще поселок гудел, переживая это событие. Парнишки, кое-кто из девок уходили в заключение, на их место являлись другие, кого-то забывали начисто, кто-то, отбыв свое, приходил обратно, и к нему тянулись жадные, любопытные взгляды ребятни… Как-то Пашка Мурашов, учась в шестом, ходил в октябрьские праздники на утренник в клуб, и потом, выйдя из клуба, двинулся к стоящим на дворе поленницам: там в дровах спрятан был отнятый у четвероклассника поджиг — плотно одетая на деревянную ручку медная трубка с расплющенным на одной стороне концом. Туда ссыпалась соскобленная со спичек селитра, плотно утрамбовывалась загнутым гвоздем, затем тот же гвоздь с надетой на загнутый конец резинкой выставлялся из трубки, — для выстрела требовалось только, вытянув руку, стукнуть по чему-нибудь твердому. Пашка шел за этим оружием, как вдруг увидал между поленницами лежащего мужика, и над ним — двух знакомых пацанов из ихней школы: Баку из соседнего шестого и Сашку Чуню из седьмого. На Пашкин оклик они обернулись, шарахнулись, и он увидал их искореженные страхом лица. Узнав его, они вернулись на прежнее место и снова склонились над раскинувшимся телом. Пашка узнал в мужике печника дядю Парфена Заболотных, из соседнего барака. Он был пьяный. Ребята шарились у него в карманах, доставали деньги. Закончив это дело и спрятав деньги под телогрейки, они повернулись к стоящему поодаль Пашке. — Мураш, трояк надо? — весело спросил Вака. — Обойдется и так! — процедил Чуня и показал Мурашову кулак. — Смертью пахнет, понял? Убьем, если что! Он мог и не говорить это: ябедничество считалось в поселке самым тяжелым грехом в ребячьей среде, и доля тех, кто «сучил», была очень жалкая: как тени, существовали они, вне всяких игр и компаний, вечно битые. А Пашка был в доску свой, уличный, они и не думали его бояться и грозили просто так, на всякий случай, а скорей всего, это и не угроза была, а вид хвастовства перед другим своей удачей и удалью. Они прошли, и Пашка поплелся за ними, потом отстал. Он был жестокий пацан, как и все его уличные друзья, и ему не было жалко дядю Парфена; ну и черт с ним, пускай знает, как напиваться до смерти! — но картина совершающейся на глазах пакости надолго удивила и запомнилась: бессильное тело, раскрытый рот на багровом оплывшем лице, шарящие по карманам и запазухам быстрые руки, перекошенные рожи воров… Вака и Чуня как сообщники подмигивали ему при встречах, однако он сторонился их компании. Потом они ушли из школы, и оба стали блатными. Одного перед войной — пронесся слух — убили в лагере; затерялся и след другого. И еще был случай, когда Павел уже работал на заводе, в кузнечном, месяца за три перед армией. Получил зарплату, пришел домой, умылся, отдал матери половину денег — «Ша, мамка, хватит, дай погулять перед службой!» — сколько-то отвалил, как обещал, сестре на туфли, сколько-то младшему брату, остальные оставил себе. Оделся, покрасовался перед большим зеркалом: белая рубашка в голубую полоску, джемпер без рукавов, брюки-клеш с напуском, желтые штиблеты, кепка-бобочка над косой челкой — и остался доволен: гулять можно! У отца в тот день тоже была получка, они распили вдвоем четвертинку, и Пашка отправился на трамвае в город. Пошатался по саду, глазея на девчонок и длинно сплевывая. Перед тоннельчиком, ведущим в кассу кинотеатра, встретил вдруг трех знакомых — своих, поселковских ребят: Петю Бобика, Ваню Фикса и Сэра. Они сами подошли к нему, заговорили просто, дружелюбно, и Пашка возгордился: как же, такие люди держатся с ним, словно с равным! Парни эти всегда ходили стайкой, отлично одевались, работали столярами в стройцехе. Это считалось чистой работой. И все-таки было в их компании такое, что удаляло ее от других: снисходительный, со смешками, разговор, щегольство, отстраненность от поселковых дел. Они чаще пропадали в городе, на танцплощадке появлялись с незнакомыми девушками, не ввязывались в драки, — но и на них боялись налетать. Пашка однажды видел, как невысокий, худенький Ваня свалил здорового, на голову выше его, парня: тот стоял среди друзей под деревьями у танцевальной веранды, Ваня подошел, что-то сказал, коротко усмехнулся и — ударил. Парень сразу упал, друзья его разбежались, Фикс же, как ни в чем не бывало, проследовал на веранду, к Сэру, Бобику, к приехавшим с ними городским девочкам. Сила была за этой компанией — ее уважали и боялись. Пашка Мурашов не был близок к троице, они никого не подпускали к себе, и ему польстило обращение запросто у кинотеатра. — Ты в картину? — спросили у него. — Мы уже смотрели, картина — дрянь. Пойдем лучше с нами, прохладимся пивком. Они постояли в тесной, душной пивной. Парни лениво зубоскалили, и Пашка смеялся их шуткам — шутки казались ему удачными, а Бобик, Сэр и Фикс — отличными ребятами. — Ну что ж, — сказал Бобик, когда они вышли из пивной. — Я, кажется, дозрел до хорошего вечера в шикарной таверне. «Ес-сть в саду ресторанчик прекрас-сный…» Ты идешь с нами, Паша? — Конечно, конечно! — заторопился Мурашов. — У меня сегодня получка была, так что я при деньгах… — Добре… В ресторане заняли столик, заказали вина и закуски. Пашка, счастливый, возбужденный, хохотал, что-то рассказывал, глазел по сторонам — поход в ресторан был для него огромным событием. Потом он опьянел, и рядом что-то переменилось: за ихним столиком оказался дядька в очках, расшитой косоворотке и белых штанах; сильно моргая, он свистящим шепотом, с привизгами, читал похабные стихи. Парни сгуртовались вокруг него, гыгали и наливали ему водку. — Ладно! — вдруг сказал Бобик. — Снимаемся, братва, пора. Паша, ты в порядке? Иди, иди, дядя. Чеаэк, эй!.. Официанту он заявил, показывая в спину удаляющегося очкастого: — Что же вы делаете, товарищи дорогие? Смотрите, как напился гражданин. Немедленно рассчитайте его, и пускай идет домой. Мало ли что может случиться — отвечать хотите? Голос его был так многозначительно низок и внушителен, что официант поспешно закивал, рассчитал почти точно и тотчас побежал к столику, где сидел дядька в косоворотке. Они вышли на улицу. Сэр сразу потянул Пашку за рукав рубахи, повел во двор. Там в узком темном коридорчике, в проеме между стенами, встали друг против друга: с одной стороны — Сэр и Пашка, с другой — Бобик и Фикс. — Эй, мужики! Мы чего это, мужики? — пьяно загорланил Пашка и сразу заткнулся, почувствовав острую боль в боку от удара Сэриного локтя. Он крякнул, закорчился; разогнувшись, увидел, что Фикс спешит к выходу на улицу. Тут же, выхватив кого-то с освещенного солнцем асфальта, он затащил человека в темный коридорчик. — Ай! — проверещал очкастый дядька в косоворотке, когда на скулу его обрушился тяжелый кулак Бобика; отлетел к стенке и как-то юрко, бочком, упал на землю, к ногам парней. Те склонились над ним и зашарили по карманам. — Мужики, мужики… вы чего, мужики?.. — бубнил все еще не протрезвевшей Мурашов. — Ничего, — сказал Бобик, распрямившись. — А ты как думал? Теперь тикай, а то пропадешь, заметут. Ты нас не знаешь, в случ-чего, мы тебя тоже. Тикай, Мураш! — Они втроем быстро пошли к выходу на светлую улицу. — Эй, я с вами! — Пашка догнал их и пошел рядом. Милицейский свисток затрещал тонко и отдаленно, когда они стояли на трамвайной остановке. Пашка дернулся, заозирался, но Сэр сказал, не повернув головы: — Не дрейфь ты, дурак. Ну кому он нужен, подумай, пьяный ханурик? Да ему и не поверят, скажут: напился, потерял деньги или пропил, а теперь хочет на кого-то свалить. Здесь главное — ничего не брать, кроме денег, попробуй опознай, чьи они, твои или чужие? Так что наше дело чистое. Давай, лезь! — он подтолкнул Мурашова к остановившемуся перед ними вагону. В своем поселке они слезли, Бобик зашел в магазин, вернулся с водкой, пивом, закусками, и вскоре уже пили в дровянике у Фикса. — Что ж ты, Мураш? — спросил Бобик. — Давай, махни чуток! Вспрысни благое дело. На вот червонец и не трухай, а в случае чего подходи к нам, помощь будет и все такое… Мурашов взял стакан с водкой, отпил немного, остальное выплеснул на пол и мучительно, косорото улыбнулся: — Ну, как же! Известное дело… друзья по гроб. У нас, воров, так… вместе воруем, вместе пьем. Мы ведь воры, а, парни? Ка-эк мы его дернули!.. У нас, у воров, дела идут очень прекрасно… — Невидяще глядя перед собой, он двинулся к двери. Бобик перехватил его руку, сунул в ладонь десятку. Но Пашка разжал пальцы, и бумажка упала на пол. — Да он окосел, видать, Пашунька-то наш! — засмеялся Фикс. — Как бы не так! — угрюмо хрюкнул Сэр. — Дай-ко я ему дюбну по кумполу, пусть говорит, что он задумал, сучара… Но Бобик заявил: — Не шуми. Пашка не донесет, он свой, поселковские законы знает. Но — фрайер, оказывается! Ладно, иди, иди, Паша, мы тебя сегодня не тронем… Всякий раз, когда Мурашов после вспоминал о том, что приключилось в тот вечер, ему становилось тяжело, тошненько. Ведь кто бы что мог плохого подумать про ту троицу! Так они и жили в поселке, и никто из них не пропал, как пропадали блатные, только Сэру дали однажды год за пьяную драку, он отсидел, вернулся и снова воцарился в поселке. Фикс и Бобик женились, в тридцать девятом году, приехав в отпуск, Мурашов встречал их с женами, с детьми, они уважительно здоровались с ним: красные командиры были тогда в почете, а Пашка учился в училище. Что с ними стало потом, с началом войны? Да то же, поди, что и с другими мужиками: ушли на войну, и — жив ли хоть один? Они, наверно, сразу позабыли, как били очкастого беднягу и тащили у него деньги, глядели на то, как на лихую молодую выходку, даже чуть не шутку, а вот Мурашов не забыл, и время от времени зудело в душе: а помнишь, как ты грабил? И потом бежал по улице? И пил на те деньги вино в дровянике? «Так ведь я ни о чем не знал, — лихорадочно начинало отрабатывать сознание. — Я вышел, глядь, а они… И я его не стукнул ни разу. Ну, бежал. Ну, пил. Так что мне была за охота отвечать ни за что, за других?» И сам собою следовал ответ: — Ну, не суетись, успокойся. Надо честно: бежал, пил. Вор. Когда его принимали в партию в училище, Мурашов хотел рассказать про этот эпизод из своей жизни, однако одумался, даже разозлился на себя: какого хрена? Скоро выпуск, а тут все может поломаться из-за какой-то глупости. Ну, и кому от этого станет легче? Армии, которая потеряет почти готового командира? Обществу?.. Живи и не дури! Ах вы, мужики-мужики, поселковские франты, отчаянные людишки, ухари… …Но куда, куда же девался радист, младший лейтенант Гриша Кочнев?10
Медленно ползло время в выжженных развалинах. Оставаясь целый день один со своими думами, Мурашов мрачно перебирал события, что привели его сюда, на окраину чужого города в чужой стране… Уроженца города, сержанта-молдаванина, майор Перетятько нашел все-таки в одним из госпиталей, привез его в разведотдел и даже хотел включить третьим в мурашовскую группу, но скоро отказался от своей затеи: парень оказался глуповат, любил порассуждать, к тому же имел в городке много родни, которая знала, что он работал в уездном комитете комсомола и эвакуировался вместе с городским активом. Далеко ли тут до беды — стоит только попасться на глаза дурному человеку! Вариант отпал, и Мурашова с Гришей Кочневым засадили учить город по плану, составленному сержантом и майором Перетятько. По правде, на это не ушло много времени: что там было учить! Три райончика с немногими улочками; одни сержант знал лучше, другие хуже; центр со школой, рынком, префектурой, тюрьмой, зданием пожарной команды, домом, где размещалась городская власть и уездные службы: землемерная, ветеринарная, налоговая, санитарный врач и прочие. Надо еще было выучить фамилии известных в городе лиц; фамилии, имена, характеристики бывших друзей и знакомых сержанта — все старая, понятно, информация, трехлетней давности. Поди узнай теперь, кто жив, а кто нет, кто остался на старом месте, а кого унесло в другие края, кто равнодушен, кто вздыхает о прежнем времени, а кто помогает фашистскому режиму, кого он устраивает. Были неконкретные, полудостоверные сведения о том, что летом сорок второго года в городе обнаружили и разгромили подпольную организацию. Снова вопрос: в каком объеме разгромили? Остались ли хоть сочувствующие? Как изменился моральный климат в городе после этого? Конечно, сигуранца[3] не могла не использовать такого повода, чтобы ужесточить режим, запугать людей. И Перетятько, и Мурашова интересовали главным образом три улицы, три дома на них, трое живущих в тех домах людей. Сержанту знать о них не полагалось, поэтому расспросы шли сужающимися, концентрическими, осторожными кругами — три круга, три улицы, три дома. С теми людьми в спешке, суматохе первых дней войны, эвакуации, успели-таки провести работу, оставить их как связи до лучших времен. Можно себе представить всю сложность ситуации: выбрать в донельзя ограниченное время нескольких сочувствующих, но таких, кто не был на виду, не ходил в активистах и деятельных помощниках, чтобы и подозрения не пало на них у новых властей. Как бы там ни было, дело сделали, и теперь трое жителей городка значились в списке у подполковника Лялина: учительница Аурелия Гуцу, возчик маслосырзавода Петр Плугатару, механик городской водокачки Василе Бужор. Три человека — целая группа. С офицером-разведчиком и радистом — большая сила. Ну пускай, по военным временам, кого-то не окажется на месте: двое, даже один — это пристанище, информация, поиск данных для передач. Так рассчитывали. Да чего-то, видно, не рассчитали… К глинобитной старой хатке возчика Мурашов вышел довольно уверенно, по крепко сидящей в голове карте города. Дом стоял на окраине, в конце улицы, и капитан подумал, что это удобно — меньше глаз от соседей. На низеньком крылечке сидела девочка лет пяти и сшивала два цветных лоскутка. — Ты Плугатару? — спросил Мурашов. Она подняла лицо, кивнула. — Как тебя зовут? — Юлия. — Где твой отец, Юлия? Он работает? Девочка вскинула руку, словно заслоняясь от солнца; вскочила и убежала в дом. Оттуда послышался ее быстрый, взахлеб, разговор. В дверь выглянула молодая еще женщина с широким лицом. — Кто вы? Что хотите? — Мне нужен Петр Плугатару. — Моего мужа уже два года нет в живых. Он погиб на фронте. Кто ты такой? Если из его бывших дружков — почему не знаешь об этом? Вот это да-а… Мурашов сдернул шапку, вздохнул: — Мир его душе… — и вдруг спросил: — А… на каком фронте он был? — Кто его знает! Где-то под Одессой. Тогда в город пришло много извещений. «Так ведь он воевал в фашистской армии, у румын!» — сообразил капитан. Ну, все верно: пришли румыны, началась мобилизация… Вот чепуха: человек, к которому он шел, считая своим, погиб, оказывается, с оружием в руках сражаясь против него, Мурашова, против его страны. Погано сделалось на душе. Вдова исподлобья, тяжело глядела на него. — Простите! Я нездешний, из Буджака, приехал по делам. И не знал, что Петра взяли в армию. Мир его праху! Он поклонился, хотел идти, но женщина жестом остановила его: — Постой! Сходила в дом, вынесла рюмку и кусок хлеба с салом. — Помяни его. Мурашов перекрестился: «Да успокоит его господь!» — выпил, вытер ус. «Что ж, — решил он. — Второй заход начну отсюда же». — Давно не бывал я здесь! Как пришли немцы с румынами, так и не бывал. Стало опасно ездить. Поймают — отберут лошадь, кэруцу[4] да еще и изобьют. А сегодня приехал по казенной надобности, привез сукно. Да… раньше у меня здесь было много друзей, было с кем выпить и поговорить. Не только с твоим Петром. Этот еще… как его… с водокачки… Василаке, да! — Бужор? — Да, да! — Ты и его не найдешь сейчас: Василаке и еще шестерых арестовали еще до того, как погиб мой Петр. Радио они слушали, какие-то листки печатали, ветеринар с ними был, скот травил, что в Румынию собирались отправлять. Их всех повесили на базаре, на площади. Так что не ищи Бужора, напрасно будешь искать. Еще один… Мурашов мотнул головой, с трудом улыбнулся: — Ну и крепка твоя цуйка, хозяйка! Так и ударила в затылок. Говорил мне отец: «Не пей на зное!» До свиданья! Вот так. Двух явок из трех уже нет. Про учительницу капитан не стал спрашивать у вдовы Плугатару: дочка ее, Юлия, была еще маленькая, так что она могла и не знать школьных работников. А еще — боялся сбить последнюю надежду, вдруг тоже скажут: ушла, уехала, пропала, нет ее… По данным разведотдела, Аурике Гуцу было тридцать четыре года. Разглядывая ее фотографию — пышные волосы, длинный тонкий нос, губы в ниточку, сощуренные глаза, — майор Перетятько заметил: «Наверно, тоща, як та килька…» Характер в ней читался жесткий, резкий. Она была незамужем. «И нэ вийдэ! — слова того же Перетятько. — Кому вона така нужна?..» Так ведь и здесь ты оказался неправым, майор Гавря! Когда Мурашов позвонил у палисадника учительского домика — аккуратного, обихоженного, в зелени, — дверь на крыльцо резко распахнулась, и мужчина в галифе, в начищенных сапогах прокричал высоким голосом: — Что тебе надо, простолюдин?! «Ишь ты!» — беспокойно подумал капитан, громко сказал: — Мне нужна госпожа Аурелия Гуцу. — Ты что, чей-нибудь родитель? Из деревни? Тогда приходи в школу и разговаривай там! Чего ходишь домой? Ну, говори! Я передам ей. Чего, ты не знаешь меня? Я учитель гимнастики, господин Ион Штефанеску! Появление его — Мурашов сообразил — не сулило ничего хорошего. Однако он упрямо произнес: — Мне нужна госпожа Аурелия. Мужчина метнул на него свирепый взгляд и ушел в дом. Вскоре на крыльце показалась Гуцу. Она действительно была очень тощая, да еще и на полголовы выше своего избранника. Тот тоже вышел следом, но не спустился к калитке палисадника, как она, а остался стоять наверху, расставив ноги и уперев руки в бока. — Что вам угодно? — У вас перед войной училась моя сестра, Надя Флориану! — так, чтобы мог слышать учитель гимнастики, громко сказал Мурашов. — Сороковой — сорок первый годы, вы должны помнить эту девочку. Она велела передать вам привет и рассказать, как она живет. — Надя? Флориану? Я не помню такую… — неуверенно произнесла Гуцу. — Вам привет от бэде Захарии Траяна, — тихо, глядя ей в глаза, сказал Мурашов. Захария Траян — это был секретарь уездного комитета партии. Глаза учительницы быстро сощурились, губы — в ниточку. «Вот вы откуда», — прошептала она. Тут же улыбнулась беспечно — одними губами, не распуская прищура, и крикнула стоящему на крыльце молодцу: — Ступай домой, Ион! Это родня моей бывшей ученицы. У нас хороший разговор. — А мне это интересно? Она лукаво хохотнула: — Ты так и хочешь узнать, как живут другие молодые девушки. Не смей! Я твоя единственная девушка. Ушел, грохая каблуками. Лицо учительницы стало спокойным, надменным. — Никаких Захариев, никаких Траянов. Больше я не должна вас видеть. — А… в чем дело? — В том, что я уже полтора года живу с Ионом. Он согласен на мне жениться. Вы не знаете, что это такое для женщины моего возраста и моей внешности. — Не понимаю… — И не поймете, не старайтесь. Это по уму только женщине. У вас другое на уме. Вы ведь мужчина и — солдат, видимо? Так вот: если Ион узнает, что я когда-то… проявила слабодушие и согласилась работать на вас, он, сам отведет меня в сигуранцу. Он верит в победу румынской армии. И я верю. Я верю теперь во все, во что верит он. Поэтому уходите и оставьте меня в покое. — В своем ли вы уме, госпожа Аурика? — с тоской спросил Мурашов. — Вы что, какая победа румынской армии? Скоро здесь будут наши войска. Ведь узнают же все. Спасайтесь вы, бросайте этого… кавалериста, помогите мне. — Как вы… ах!.. — Гуцу судорожно выдохнула, длинными тонкими пальцами обхватила свое худое горло. — Как вы смели… такое сказать мне… Чтобы я… бросила Иона. Уходи немедленно! И не смей, не смей! Я уйду вместе с ним! Или пускай нас убьют вместе! Я люблю его. И он меня любит. Он мой муж, понял?! Уходи!! Она заплакала, резко всхлипывая, закидывая голову. Истерика. Хлопнула дверь, с крылечка побежал к госпоже Аурике учитель гимнастики; Мурашов понял, что надо уходить. Но прежде чем пришло осознание всех размеров случившейся с ним беды, мелькнула мысль: умница женщина, волевая, образованная, — и вот, пожалуйста, превратилась в ничтожество, подстелилась тряпкой под лакированные сапоги опереточного хлыща и ничего уже не слышит, ничего не хочет понимать. Эх, бабы, бабы!..11
До слуха притаившегося в яме Мурашова дошел дальний гул; он очнулся от мыслей, высунулся наружу и оглядел небо. С запада на небольшой — километра два с половиной — высоте к городку приближался самолет. Рокот его моторов и потревожил капитана. Он шел чуть в стороне от селения и был хорошо виден. Наша «пешка», средний пикирующий бомбардировщик Пе-2. Машина летела неровно, совалась туда-сюда в стороны, неглубоко ныряла вниз. А вокруг нее вились, деловито жужжа, два туповатых веретенца, похожие на обрубки «фокке-вульфы». Били по моторам, плоскостям, хвосту, свечками взвивались вверх, проскальзывали перед носом, снова заходили. «Т-т-т-т-т-т-т-т!» — падал на землю стук пушек и пулеметов. От «пешки», из кабин штурмана и стрелка-радиста, тоже хлестали дымные трассы. «Шуруй их, ребята, в душу, в селезенку, в сердце мать!» — сипел Мурашов внезапно пересохшим горлом. Фашистская пара, сделав завод сверху, проскочила и ушла вперед. Когда бомбардировщик находился на кратчайшем расстоянии от капитана и сделался ему отчетливо виден, произошло что-то странное: сверху на тонком фюзеляже, между хвостом и кабиной пилота и штурмана, показалась фигура человека. Она возникла торчком, затем согнулась и скользнула по фюзеляжу, между двумя распластанными килями. Что же это такое? Над фигуркой раскрылся парашют, и тогда Мурашов понял: один из летчиков, стрелок, покинув экипаж, пытается спастись от смерти. Но ведь самолет еще не горит! И командиры его борются за машину. «Ах ты, г-гад!» — Мурашов стукнул кулаками из всех сил по твердой земле. Один из «фокке-вульфов» лег на крыло, перевернулся и с маху, в повороте, ударил очередью по куполу. Он вспыхнул — человек камнем полетел вниз. «Сами решили его наказать, — догадался капитан. — Правильно, труса никто не любит. Да-а, не хотел бы я такой смерти…» Лишенный защиты сзади, самолет был обречен. Он шел теперь строго, торжественно, не отклоняясь от курса. И вдруг, когда «фокке-вульфы» вошли, словно коршуны, в широкий круг над ним, готовясь к последнему заходу, «пешка» проворно клюнула носом и понеслась к земле. Видно, летчик решил попробовать спастись пикированием. Истребители зажужжали и ринулись следом. Бомбардировщик стал выходить из отвесного полета; по пологой кривой, взревев моторами, он снова полез вверх. Тотчас один из «фокке-вульфов» подвесился сверху машины, хищно перевалился, словно бы собираясь вскочить преследуемому на загорбок, и — впил длинную точную трассу прямо в кабину. Взлетели осколки, самолет стал задирать нос; лег кверху брюхом, как в мертвой петле, но в верхней точке ее сорвался, кувыркнулся и, жутко воя моторами, вошел в штопор. Высота была маленькая, и скоро он врезался в землю. — Молодцы, ребята, хорошо воевали, — сказал Мурашов. — Вечная, как говорится, память. А этой сволочи, что вас бросил, осиновый бы кол в спину вколотить, да только он уже тоже неживой. К густому черному столбу, вставшему над упавшим самолетом, поехали из города несколько мотоциклов, крытая машина-фургон. Два мотоцикла на ходу оторвались и пострекотали дальше в степь, к месту падения парашютиста. Инструктор, готовивший Мурашова к прыжку, рассказывал, во что превращаются те, у кого не раскрылся парашют. «Маленький делается… все кости всмятку… и шуршит…» Трудно представить! А еще сегодня погибший стрелок был среди своих, разговаривал с друзьями, сидел с ними за одним столом. Но сам-то он не был своим, только притворялся. Притворялся так, что ему верили, что никому и в голову не приходило: он — трус, способен бросить в жестокую минуту командиров — пилота и штурмана. Как полетели осколки от их кабины! И они, только что бывшие живыми… А делали они, похоже, одно с ним, капитаном Мурашовым, дело: разведку. На бомбежку днем «пешек» не выпускают в одиночку, без сопровождения, прошло то время. Только разведчиков. Парни ходили в далекий рейд и погибли. Так ведь погибли смертью храбрых, после жестокого боя, разве плохо? И ребята-то, наверно, были совсем молоденькие, младшие лейтенанты. А он — капитан, с первых дней на войне, три ордена — сидит тут себе тихонько, как мышка полевая, ждет. Чего, кого ждать? С другой стороны — кому нужна твоя бесполезная смерть? Но ведь может быть и плен. Плена Мурашов боялся больше смерти. Так-то все так, только кому нужна и твоя бесполезная теперь жизнь?12
Бесполезная, бесполезная… Мимо него по ямам, руинам, по черной, так и не сумевшей зазеленеть и зацвести земле бежали к месту падения самолета мужчины и женщины, ребятишки. Пошел туда и Мурашов. Солдаты и жандармы уже успели выставить оцепление, и подойти близко было невозможно. То, что осталось от самолета, чадило запахом горящего железа и ничем не напоминало большую крылатую машину — так, груда хлама. Да отломился при ударе об землю и отлетел в сторону обломок хвоста с разнесенными по концам килями. Жители городка толпились неподалеку. Некоторые были возбуждены, громко рассказывали про бой, показывали, как летели самолеты, другие стояли тихо, некоторые крестились. Поодиночке, группами, поглазев на обломки, шли обратно. Дети, жужжа, гонялись друг за другом, изображая воздушную схватку. Мурашов протиснулся сквозь гудящих обывателей, встал на границе оцепления и глядел на груду горелого металла. Вдруг толпа колыхнулась, по каким-то причинам шарахнулась, и крайние толкнули капитана за ту незримую черту, которую переступать было нельзя. Он не успел даже понять, что произошло, как получил тяжелый, больной удар в грудь и упал. Еще не ощутив толком боли, он подобрался, встал на колени. Увидал перед глазами обитый железной планкой край приклада, впалый рот под кривым носом и услыхал гневный, гнусавый голос: — Пе!! Пе-е-пе!.. Мурашов со стоном, на четвереньках побежал из круга, и люди расступились, чтобы пропустить его. Но полицай бросился за ним, пнул и свалил опять. Затем цепкими руками поднял за одежду и швырнул изо всех сил в толпу. Капитан снова упал; тут его втащили внутрь, прикрыли. Он слышал еще, как лопотал полицай: «Пе-е! Пепе-е!..» — а когда поднялся, увидел, как тот, стоя на цыпочках, вертит головой — видно, снова выглядывал его. Мурашов выбрался из толпы, остановился и закашлял, растирая ноющую от удара грудь. К нему подошли мужчина с женщиной, закачали головами: — Ну и Пепе! Никакой жалости. Бьет и бьет людей, дали ему на это волю. Вы ему теперь не попадайтесь, он вас запомнил, Пепе очень злопамятный, он многим у нас принес горе. — Что это за такой Пепе? Он, по-моему, и говорить-то толком не умеет. Ну, зверюга! — морщась, сказал Мурашов. — Не умеет, не умеет! — словоохотливо подтвердил мужчина. — Он ведь немой! Вы нездешний, из села, видно… Чудо, что он вас не задержал, не отвел в префектуру. Не сообразил. Положено охранять — он и охраняет. Только вы смотрите, лучше убирайтесь сразу подальше. — Что за чудеса: стражник — и немой! — Они рады и таким, не больно люди идут, особенно теперь… А Пепе — он тихий-тихий был, с матерью жил, все так и думали: дурачок, да еще немой, жалели, потом смотрим: в форме стал ходить. Посчитали сначала, что это так, для смеху ему выдали… Теперь вот не до смеха стало. В любимцах у префекта числится, тот уж знает, что ему лучше собаки здесь не найти. Что повесить, что расстрелять, что избить до полусмерти, отобрать что-нибудь, обыскать — на это Пепе первый. — Пе-е! Пе-е-пе! — визгливо доносилось из оцепления. Мурашов вспомнил лицо стражника: белесые волосы, глубокие маленькие глаза, горбатый большой нос, вдавленный, словно у старика, мокрый рот… Тьфу! Не дай бог, привидится во сне такая гадина. Ладно, погоди, разберутся еще с тобой… Постанывая, кашляя от боли, Мурашов двинулся в город. Возвращаться сейчас в яму, лежать там, вжавшись, — нет уж, черта с два! На твоих глазах погибли ребята-разведчики. Тебя ударил, опрокинул на землю вонючий немой полицай. Словно что-то нечистое, невиданное на фронте коснулось мурашовской души. И тот полицейский на рынке, надзиратель, которому он совал водку… На войне часты были случаи, когда полицаев, власовцев, предателей стреляли без суда, не доводили до плена, а тут ты не можешь такому выродку даже дать в рыло. Дашь — погибнешь. Не слишком ли великая цена? Нет, ему жизнь тоже не задаром далась. Он шел, глядя себе под ноги, держался возле заборов и вздрогнул, услыхав из маленького глухого проулка, возле которого проходил, окрик: — Э! Ком хир, мамалыга! Рослый молодой немец в эсэсовской форме нес откуда-то на спине железный котел. Окликнув Мурашова, он сбросил котел на землю и сделал повелительный жест: подойди! Вынул пачку сигарет, утер пот: видно было, что он изрядно устал от своей ноши. Протянул пачку Мурашову: кури! Тот мотнул головой, пряча взгляд. Внутри у него все стонало от напряжения. Немец усмехнулся, похлопал его по плечу, сказал: — Курт. Майн наме ист Курт. Унд ви хайст ду? Капитан понял, что солдат вовсю пытается высказать свои добрые по отношению к нему намерения, пытается узнать имя в обмен на свое и выдавил сипло: — Фе-дор… — Ха! Фе-одор! — довольно сгорланил солдат. Бросил сигаретку, затоптал ее в землю и показал Мурашову на чан. Жестами изобразил, что его надо взять на спину и нести, как нес он. Мурашов сделал угодливое лицо, послушно закивал и пошел вокруг котла, как бы приноравливаясь удобней ухватить его. Тем временем он огляделся. Окрест не маячило ни одного человека. Промелькнула и минула вход в проулок небольшая компания, возвращавшаяся с места падения самолета, и — снова тишина. Капитан поддернул шаровары, нагнулся и ухватил ручку надежно укрытого на поясе пистолета. Отвел предохранитель. Солдат глядел на него снисходительно: его забавляло, видимо, как тупой забитый молдаванин подходит к столь пустяковому делу, как переноска тяжелой вещи. Так же угодливо ухмыляясь, Мурашов зашел за его спину, быстро вытащил пистолет, приставил к плотному сукну мундира и выстрелил. Выстрел получился приглушенным, но силой его немца бросило к забору, возле которого он и лег, неловко повернув в сторону Мурашова изумленное, испуганное лицо. — А ты как думал! — бормотал капитан, засовывая оружие обратно. Вокруг по-прежнему не было ни души. Он плюнул, толкнул ногой котел и двинулся из проулка. Так же понурившись и пыля постолами, он шел к центру. Лишь там, подойдя к лепившемуся возле рынка навесу, под которым привязывали лошадей и волов едущие в город крестьяне, Мурашов поднял голову и огляделся. Тотчас напротив, у входа в чахлый городской садик, он увидел радиста, младшего лейтенанта Гришу Кочнева. Гриша курил, прислонясь к забору, и — не сдвинулся с места, не махнул рукой, не улыбнулся, хоть по задержавшемуся на мгновение взгляду капитан понял: радист узнал его.13
Гриша подвернул ногу при приземлении. Уже над землей парашют порывом ветра кинуло вбок, тут же он почувствовал удар, боль в правом колене, охнул, и — его понесло по кукурузному полю. Стебли, листья, початки били, по лицу, резали руки, когда он пытался ухватиться, остановиться. Потом ветер переменился, смял купол, бросил обратно, на радиста. Он лежал на спине и не мог подняться — так сразу стреляла в колено боль. Однако руки работали, и он подтягивал, подтягивал стропы, пока не коснулся гладкого, скользящего в руках купольного шелка. Тяжелый купол шел с трудом, не давался, но все-таки Гриша собрал его, хоть убил много времени. Начало светать. Правое колено опухло. Он пытался встать на здоровую ногу, чтобы хоть оглядеться, но неизменно тревожил больное колено и со стоном опускался обратно. Где капитан? Ночь была облачная, ветреная, их могло раскидать друг от друга далеко. На открытом месте можно было, как уговаривались, обозначиться огоньками и найти друг друга… Но в кукурузном поле, лежа, хоть сколько махай фонариком, не будет толка. Когда готовились к операции, Гриша, говорил о прыжке уверенно, небрежно, как о незначительной детали, и невольно передал это настроение Мурашову. Тому не хотелось выглядеть мнительным, чересчур осторожным перед младшим лейтенантом: в конце концов, он строевой командир, тоже понюхал пороха, чего ему бояться? Да и знал по опыту, что всех вариантов боя не предусмотришь, искусство командира — быстро ориентироваться в меняющейся обстановке и принимать верные решения. Какие — подскажут чутье и опыт. Сам радист трижды прыгал на лес, и все разы удачно. Но два раза — к партизанам, на костры, там нельзя было потеряться, и один — уже в разведгруппе. Все тогда было благополучно, они быстро нашли друг друга, а последующее четырехмесячное сидение в лесной землянке, в одиночку, с постоянным нервным, тягостным, изматывающим ожиданием «ходоков», несущих данные для передач, начисто выхлестнуло переживания, связанные с каким-то прыжком. То, что случилось с Гришей, можно назвать только так: не повезло. Случай наложил лапу на события, на человека. И все-таки, пока солдат не в руках врагов, он надеется. И радист думал, что обойдется, свет не без добрых людей, удача еще проклюнется, напомнит о себе. Он знал ситуации, когда разведчики вынужденно вступали в контакт с местными жителями, и те укрывали их, помогали налаживать связи. Грише шел двадцать второй год, до войны он успел окончить семь классов и три курса радиотехникума. Школа радистов, работа у партизан, разведотдел. Мать (отец погиб на Волховском фронте), две бабки, дед, сестренки-близнецы, семиклашки, — все это далеко, на другом конце планеты, в тихом деревянном городке над Волгой… Там он когда-то с отличием окончил семилетку, уехал в Москву, в техникум. Ему нравилась спокойная, вдумчивая, сосредоточенная работа. И чистая. Вообще чтобы кругом была чистота. Он не был сильно брезглив, повидал на войне грязь, однако умел проходить мимо нее, не запачкавшись. «Гриша! — сказала ему как-то повариха в партизанском отряде. — Ты бы хоть влюбился. Красивый парень такой, кудрявый, а ходишь, словно свою антенну проглотил: прямой, строгий, со всеми на „вы“. Девушки обижаются. Что это ты — боишься нас, что ли?» «Нет, я просто не хочу и не смогу в этой обстановке, — признался он. — Мне кажется, если даже я встречу здесь девушку — красивую и соответствующую мне по душевным качествам, — я все равно не смогу в нее влюбиться. Хочется, чтобы все это было красиво, чтобы можно было хорошо одеться, пойти в кино, на вечер, потанцевать под патефон. Чтобы уж быть в уверенности, что ни ты ее, ни она тебя не оставит — по причине внезапной смерти. Понимаешь?» «Чистюля ты!..» — презрительно бросила ему девчушка и убежала. «Может быть…» — он пожал плечами. Солдатом, затем офицером Гриша считался отличным: дисциплинированным, педантичным — из тех, на кого можно положиться в любых условиях. И смелым. У партизан случалось бывать во всяких переделках, и никогда к нему не было претензий. Однажды он даже заменил в бою убитого командира взвода. Имел награды: орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «Партизану Великой Отечественной войны» второй степени. Капитан Мурашов, с которым ему предстояло выполнять задание, нравился Грише; даже окопная настороженность, объясняемая теперешней близостью к высокому начальству, даже оттенок пренебрежения, с каким Мурашов относился к Грише и Перетятько, называя их «генштабистами», не могли рассеять уважения, вызываемого к себе хмуроватым чернявым капитаном. Больше всего радиста удивило, с какой легкостью тот болтает по-молдавски. Молдаване, с которыми сводили его для проверки и практики, принимали Мурашова за своего. Прожив некогда в стране всего год, строевым командиром, он свободно овладел простонародным диалектом, со всеми замысловатыми оборотами, шутками, двусмысленностями. Конечно, Гриша в своей работе повидал людей, которые отлично говорили по-немецки и в этом смысле нисколько не уступали капитану. Но это были люди или выросшие в немецкой среде, или прошедшие специальную языковую подготовку. Сам радист считал себя абсолютно неспособным к языкам: пытаясь в свое время выучить немецкий, он затвердил массу слов, свободно стал переводить тексты, а разговаривать так и не смог научиться. Будто темная шторка висела в мозгу и задергивалась сама собой, лишь в дело вступал язык.14
К утру нога одеревенела. Гриша не мог даже шевелить пальцами на ней. Лежал на спине и тихонько охал, задыхаясь от боли. Лишь только она стихала, он переваливался на живот и полз, ломая стебли, но скоро выбивался из сил. Вдруг кукуруза зашелестела, затрещала; среди стеблей возник низенький, толстый, дюжий мужичок в красной рубахе, грязных желтых галифе, в постолах. Лицом он был обширен, одутловат, вид имел решительный и злой. — Ун осташ рус? Чине дракул те-а адус пе лотул меу? Ян те уйтэ кытэ стрикэчуне мьай фэкут ын попушой! Да чине ва рэспундэ? Чине мь-а плэти пердериле, ей?..[5] Гриша, опустив пистолет, повертел головой: «Не понимаю…» Мужик осклабился, наклонился к нему — и тотчас, упав на руку, стал выворачивать оружие. Отбросив его в сторону, выпрямился, самодовольно попыхтел; выдернул из штанов сыромятный ремешок, перевалил закричавшего радиста на живот и начал проворно связывать ему руки. Затем он ушел, и вскоре явился с двумя стражниками; один из них взвалил радиста к себе на спину и под Гришины стоны и ругательства потащил к дороге, где стояла телега. На тряской дороге Гриша потерял сознание и пришел в себя только в тесном кабинете. Он лежал на полу, один человек сидел за письменным столом, а другой — обок его. Сначала сидящий за столом стал что-то говорить — кажется, задавал вопросы; видя, что пленный безучастен, заговорил по-немецки. На нем была черная форма, петлицы, жгутик на плече. Гестаповец. Он сделал жест, и вступил второй — переводчик. Он сказал по-русски — с сочувствием: — Как ваша нога? — Болит… — морщась, прохрипел Гриша. — Дайте попить… Немец кивнул. Переводчик бросился к радисту с графином и стаканом. Гриша попил, и ему стало легче, в голове просветлело, зато резче обозначилась боль в ноге. — Я — гауптштурмфюрер Геллерт, — сказал немец. — Наше ведомство изъяло ваше дело из сигуранцы. Там, правда, тоже работают профессионалы, и неплохие, но долгое сидение в провинции сушит мозги, люди начинают лениться, допускают грубые просчеты, в итоге — терпят неудачи даже в несложных делах. Да и мы, честно говоря, теряем доверие к румынам, что-то они начали сникать, падать духом… Да… Так вы, как я понимаю, русский радист? Радист-разведчик? — Да… Геллерт погладил блестящий бок стоящей на столе рации. Голос у него был сильный, но интонации — не резкие, а доверительные. Переводчик же — в черных штанах навыпуск, в расшитой рубашке с витым шнурком на шее — говорил тихо, лез, что называется, в душу. — Это отлично! Это отлично… Мне нравится ваше поведение. Не запираетесь и, я думаю, не будете лгать в дальнейшем. Впрочем, это было бы смешно! Вдруг человек, которого взяли с передатчиком, с парашютом, стал бы говорить, что он случайный прохожий или еще что-нибудь такое… А говорить правду в такой ситуации — это всегда умно. — Ну ладно, — голова снова закружилась, и младший лейтенант с трудом произносил слова. — Допустим, что так… скажу вам правду… Или не скажу… Что это может теперь изменить? Наши скоро будут здесь. Все равно вам смерть. И ничего не зависит ни от моих ответов, ни от ваших вопросов. — Можно предположить, что вы правы, — гестаповец похрустел пальцами. — Но неизменным должно оставаться наше отношение к долгу. Служебный долг есть служебный долг, мы не можем забывать о нем ни в каких обстоятельствах. Так что не будем отвлекаться и вернемся к беседе. — Сначала доктора… Я… не могу. Снова замельтешило перед глазами… Очнувшись, Гриша увидал стоящего перед ним на коленях и щупающего ногу старого человека в очках, в сером новом костюме. Пощупал, подавил, покивал, затем обхватил йогу за лодыжку, стал приноравливаться. Вдруг словно граната разорвалась в колене — Гриша вскинулся и страшно закричал. «Май ынчет… Май ынчет… Уйте-акум е бине…»[6] — бормотал доктор. Вскоре он ушел, что-то наказывая переводчику и униженно кланяясь немцу. — Ну, как теперь? — спросил гауптштурмфюрер. — Не знаю… Больно еще… но уже не так… — Не волнуйтесь, самое страшное позади. А вы, наверно, думали, что мы только пытаем, избиваем, морим голодом и жаждой? Чепуха. Мы стараемся работать на сознательности, на взаимопонимании. И я, черт возьми, доволен, что вытащил вас из сигуранцы, разговариваю с вами, могу что-то сделать, в конце концов. Фамилия, имя, отчество? — Ну, допустим, Кочнев, Григорий Алексеевич. И что дальше? — Не врете? — немец подошел, наклонился, заглянул в глаза. — Будем думать, что нет. Сами же сказали, что нет смысла что-то скрывать, все равно исход войны предрешен. Нет, я доволен, доволен нашим контактом! Да вы меня буквально спасли. Если бы вы знали, что такое жить без настоящей работы в этом пыльном, убогом, кукурузой пропахшем городишке, среди грязных скотов, среди здешней пугливой и ничтожной аристократии, их визгливых, тупых жен и дочек! Изо дня в день одно и то же, одно и то же… Я начал уже бояться профессиональной деквалификации. Значит, фронт. Третий Украинский? — Да. — Ну, к этому мы еще вернемся… Цель вашей выброски — сбор информации о местности, войсках, вооружении? — Очевидно. — Но здесь же ничего нет! Ни железной дороги, ни даже речушки, чтобы заправить танки или машины. Гарнизона — кот наплакал, почти одни румыны да местные жандармы. Впрочем, этого-то вы как раз и не знаете, сколько и кого… Следовательно, разведка полосы наступления. Да или нет, отвечайте! — Не знаю, меня в такие тонкости не посвящали. — Так, так. Сколько вас было в группе? — Я один. Больше никого. — Ну, мы же, кажется, договорились, — скривился Геллерт. — Не делайте сейчас ошибки, лучше подумайте. — Я был один. — Гм… Шифры, частоты? — Шифров нет. Открытый текст. А частоты… зачем они вам? Без моего почерка, моего ключа на них все равно появляться бесполезно. А я на вас работать не нанимался. Гестаповец что-то резко скомандовал — и переводчик ушел, вернулся, привел двух солдат с носилками. — Вас унесут в камеру, — сказал он. — Допрос будет продолжен завтра. Вы, я вижу, большой хитрец. Это может вам повредить. Господин гауптштурмфюрер дает вам время на раздумье. Помните о ноге! Если не хотите ходить оставшуюся жизнь как это… коленками назад. Подвал, ватный комковатый матрац на полу, шаткая табуретка… Верх зарешеченного окошечка на уровне земли, да еще козырек снаружи — так что ничего нельзя увидеть, только слабый свет идет оттуда. Немецкий солдат принес чашку какого-то хлебова из кукурузы, ложку, хлеб, кувшин с водой. Гриша поел. Был уже вечер. На другой день Геллерт снова вызвал его. На этот раз радист, хоть и хромая, пришел в кабинет сам. — Ну, так сколько же вас было? — спросил гестаповец. — Я один. — Неумно, неумно… Так же, как с шифрами и частотами. Но хорошо! В таком случае — адреса явок. Ведь если бы вы были один, вам должны были дать эти явки. Разведчиков не забрасывают без связи. — Они сами должны были найти меня. Я не знаю ни их имен, ни адресов. — Где найти? В кукурузе? — На рынке. Я должен был приходить на рынок, по нечетным дням, в обеденное время, и ждать. — Что за болтовня! Вы же радист, нелегальщин, не знаете языка. Я гляжу, вы начали снова испытывать мое терпение. Хорошо. Я терпеливый. Другой бы уже переломал вам кости, отбил внутренности и выщелкал зубы. — Вам-то что мешает так сделать? — О-о, мальчик метит в герои. Он желает пострадать… за идею, да? Чтобы проклятый фриц видел, как он умеет умирать. Не спешите. Это все совсем не так увлекательно и очень больно. А я — я ведь говорил уже вам? — гуманист. При том — вы мне нужны здоровым, с непопорченными лицом и телом. Чтобы мы могли вместе работать на рации, пойти на явки или на встречу с вашими товарищами, сколько их там было… Сколько, ну? Один, два? — Нисколько. — Так. Даю вам пять дней. После чего вы примете наконец свой венец мученичества. Что делать, вы же сами этого хотите! Но прежде вы пройдете испытание голодом и жаждой. А это ужасно. Мне интересно узнать ваш характер. На каком круге вы сломаетесь? — Ни на каком. — Ну, мой друг, не надо зарекаться. Вы сломаетесь, это обязательно, я ручаюсь. Я слышал много интересного про русских, хоть сам и не бывал на Восточном фронте, не встречался с ними, всю войну прослужил в Венгрии и Румынии. Вы первый экземпляр, и я с любопытством стану следить за вашим превращением. Вы превратитесь в зверя, мой милый, а звери не держат секретов, у них все на виду. Ступайте и думайте, думайте.15
Гриша вернулся в подвал. В тот день ему не принесли уже ни баланды, ни хлеба, ни воды. На следующее утро, приведя радиста на допрос, конвоир привязал его веревкой к намертво вделанной в пол железной табуретке. Затем появились Геллерт с переводчиком, солдат принес им хлеба, вина, какого-то невероятно душистого супа в красивых тарелках, тушеного мяса в горшках… Кочнев сидел, молчал, только безостановочно глотал слюну. А те разговаривали, смеялись, ели, пили вино и не обращали на пленного никакого внимания. То же повторилось на другой день. На третий день Гриша начал стонать и ругаться, на четвертый — только хрипел, на пятый, ощутив запах супа, — потерял сознание. Утром шестого дня гауптштурмфюрер показал лежащему пленнику на громоздящийся на столе узел грязной ткани: — Гляньте сюда, Кочнев. Это парашют вашего коллеги. Испачкан, весь в земле, но это не имеет значения. Важно, что он перед вами. Если бы вы знали, сколько стоило труда найти его в степи! Но я понял, что вы сдадитесь только перед убедительными доводами. Я отдам его на экспертизу вместе с вашим, однако нас ее выводы уже не должны особенно тревожить. Теперь отпираться от того, что вы были не один, бессмысленно. Притом вспомните, что сегодня срок моего ожидания кончается, и к вам могут быть применены меры физического воздействия. Станете молить о смерти, а ее не будет. Я постараюсь, чтобы вы протянули как можно дольше. Ну же, решайте! Значит, Паша живой. Где-то здесь. Работает. А я попался, дурак. А может, и у меня все обойдется? Попробовать схитрить, обмануть их… Что они знают? Бросить крючок. Запутаются, факт. Что из того, что они будут знать больше, чем им полагается. Все отрицать, как раньше, бесполезно — парашют-то вот… Что бы я им ни сказал, ничего уже не изменится. Пашу я им все равно не дам. Ну, скажу частоты. Там все равно примут только мою руку. Во время передачи дам сигнал о работе под контролем. Ну что ж, попробуем. Тихонько, тихонько закидывай крючочек… чтобы не сбухал поплавок… на! Он с трудом приподнялся на локте, поднял голову. — Я… хорошо… дайте мне поесть… Пить… — Если вы не будете упрямиться и держать язык за зубами, вам немедленно дадут куриный бульон и чай. Ну, что вы хотите сказать? Сколько вас было? — Двое. Я и один капитан. Левушкин Сергей Дмитриевич. Все явки у него. Мы должны были освоиться, и я… начать передачи. Все… больше не могу… Геллерт похлопал его по щеке. — Сейчас вас накормят и напоят. Что, плохо быть голодным, а? Я же говорил: это ужасно. Особенно, когда едят у тебя на глазах. Но вы молодец, выдержали весь срок. Удивительно. По дороге сюда я с печалью, поверьте, думал о том, что произойдет с вами, если вы и сегодня не захотите говорить. А потом я сказал себе: «Нет, это невозможно! Он еще молодой и не такой глупый, чтобы не сознавать, что его ждет». Верно, Кочнев? — Да, да… — покивал головой Гриша. — Ну дайте же поесть, негодяи. Он пил, захлебываясь, теплый бульон, и Геллерт благодушно поглядывал на него. — Сегодня отдыхайте и поправляйтесь. Завтра займемся делами. Солдат-конвоир приносил в камеру то бульон, то кашку, то яйцо всмятку, то густые сливки, то молоко, то крепкий чай. К полудню Гриша встал, потряс одрябшими руками: н-да, ушла силушка… Трижды появлялся врач-молдаванин, делал вливания в вену. За ночь он хорошо выспался, однако когда появился в кабинете перед глазами Геллерта, тот поморщился: — Не сказать, чтобы вы сильно посвежели за эти сутки. Раньше брились каждый день? — Когда как. Но обычно — да. — Курт, прибор! Извините, руки мы вам свяжем сзади, а переводчик подержит голову. — Зачем это? — Обычная предосторожность. Вдруг вы захотите покончить с жизнью, вырвете у солдата бритву и разрежете себе горло? — Зачем себе? Если уж резать, так или солдату, или вам, или переводчику. А меня после этого и так убьют. Немец засторожился: — Мне вдруг показалось, что я в вас что-то недопонял. Вы что, не боитесь смерти? Фанатик? Разве вы не могли, в таком случае, умереть от голода? — Так ведь вы бы не дали. А мучиться-то зачем? — Да, конечно, у каждого человека свой предел… Что ж, будем считать это вашей не очень удачной шуткой. — Зачем шуткой? Руки-то вы мне не в шутку собираетесь связывать. — Я же сказал: это вынужденная мера, — дернул головой гестаповец. — И закончим на этом! — Ну, перейдем теперь к главному нашему разговору, — сказал он, когда Кочнева побрили и солдат ушел с прибором. — Как нам найти вместе этого вашего капитана и людей, с которыми он должен установить связь. — Но я, правда, не знаю явок! — воскликнул Гриша. — Уговор ведь какой был: мы встречаемся после высадки, находим место, где я должен сховаться с рацией и ждать. А он идет по адресам, проверяет людей, определяется с жильем. Вечером или ночью мы переносим туда рацию. Вот и все. — Все неконкретно, все как песок между пальцев… И ничего не дает нам. Вы можете описать этого… Левушкина, да? Дать его словесный портрет? Есть у него что-то запоминающееся? Во внешности, может быть, какие-то физические аномалии? — Нет у него ничего такого. Худощавый, рост средний, возраст тридцать-тридцать пять, смугловатый такой, усы… Пройдешь — не обратишь внимания, короче. Молдавским владеет в совершенстве. — Что, знает его с детства? Или учил? — Он служил в Молдавии до войны. У него на языки способности. Он говорил: месяц хожу, учу слова, слушаю, потом начинаю помаленьку калякать, а в конце второго месяца толкую свободно. — Способный парень. Одет крестьянином, как и ты? — Ну… под местного жителя. — На какие имя, фамилию документы? — Не имею понятия. Как-то… ряну, мяну, вяну… Попробуй разберись в ихних фамилиях! Нет, правда! Мне-то ведь это и не нужно было, зачем? — Что же теперь — делать поголовную проверку по всему городу с вашим участием? Особых примет нет. Как его искать? Только проверка. Но у нас нет для этого нужного контингента хороших военных или полицейских сил. На румын и местных жандармов плохая надежда. Начнут грабить, бить и забудут про дело. Капитану не надо будет даже прятаться, они все равно его не заметят. Пауза. — Что ж, — продолжил Геллерт. — Выходит, господин радист, что вы нам и не особенно нужны. Радиоиграми и прочей хитрой атрибутикой занимается совсем другое ведомство, наше дело — найти и обезвредить. И меня не оставят в покое, покуда я не приму всех мер по задержанию второго разведчика. Ход событий контролируется нашими вышестоящими службами. Передать вас им, что ли? — Что от этого изменится? — Ну, я хотя бы разделю ответственность… А проще всего было бы вас расстрелять. Оправдание тому всегда можно найти. Но я вас поднял сегодня из пепла, и мне вас жаль. Вы сейчас стоите на краю страшной пропасти, младший лейтенант, это я вам заявляю со всей ответственностью. Осознайте ситуацию. В такие моменты мозг работает четко, память обостряется. Неужели нет ни места, ни имени, за которые мы могли бы зацепиться? — Я слышал однажды вполуха, как с Левушкиным разговаривал наш майор из разведотдела. Так вот, в этом разговоре они несколько раз произнесли слово «рынок». Все у меня этот рынок в голове крутится. — О, это важно! Вот видите! И что еще крутится у вас в голове? — Ну… что все правильно. Рынок для него — главный центр, основная точка. Он же работает под крестьянина или под местного жителя. Для интеллигента центр — обычно другое понятие, а для простого человека — то самое, рынок. Он там может с кем угодно встречаться, и никто не заметит. — Но на рынке дежурят полицейские и есть наши агенты, они нам докладывают о посторонних. — Не всякого постороннего можно выделить. Я же говорю: он по виду обыкновенный молдаванин, да еще зачуханный. — Я понял. Я понял ход ваших мыслей. И начнем сегодня же. Какой вы грязный, однако! Надо его переодеть, — обратился Геллерт к переводчику. — В такую же одежду, только чистую. И помыть. Хотя — не вызовет ли чересчур чистый вид подозрения у вашего товарища? — Не надо было тогда меня и брить! — Что жалеть о сделанном! Значит… если он не захочет к вам подойти? — У меня ведь и у самого есть глаза и ноги. — Хороший ответ. И что же вы ему скажете? — Что велите. — Отлично! Вы подвернули ногу приземляясь, вас подобрал крестьянин, сочувствующий красным, вы живете у него в селе и сегодня приехали в город под видом его глухого родственника, в надежде встретить этого капитана Левушкина. — Мы разговариваем, а вы, значит, в это время подбираетесь и — цап-царап? — Какая чушь! — гауптштурмфюрер развеселился. — Этот разведчик для нас вообще не главная фигура, нам надо выйти на явки, обезвредить подполье, без него он сам ничего не стоит. Рации у него нет. Без вас и без них он — нуль, понимаете? — Можно, я буду находиться где-нибудь не на самом базаре? — спросил Гриша. — Там жара, вонь, не продувает, а я еще плохо себя чувствую. — Жара, не продувает… что за слова для солдата! Но какая-то доля истины тут есть. Капитан может увидеть вас, затерявшись среди других людей, вы ему чем-нибудь не понравитесь, и он уйдет. Прежде чем прийти еще, много раз подумает. — Но ведь ему нужна рация! — Своя жизнь и жизнь агентуры важнее рации. От калитки в городской сад хорошо просматриваются и вход, и выход с базара. И там есть тень, это важно для тебя. («Вот уже и на „ты“, — подумал Гриша. — Я теперь для него подчиненный, пешка. Ну, ладно…») Будешь стоять и смотреть. Увидишь — сразу иди к нему. Может быть, капитан захочет поехать в деревню, посмотреть, как ты устроился. Мы организуем такую поездку. Иди мойся и переодевайся, а я займусь своими делами.16
Через два часа Гришу вывели во двор здания, посадили в зашторенную легковую машину и повезли. Геллерт сидел рядом на заднем сиденье и давал через переводчика указания: — Судя по опросу жандармов и рыночных агентов, ничего особенного, бросающегося в глаза за последнюю неделю не зафиксировано. И незнакомые не терлись на глазах. Значит, этот капитан осторожный и хитрый человек. Если это так, он не поведет тебя сразу на явку: тебя долго не было, и ты нуждаешься в проверке. Но ему нужна рация! Стало быть, и ты ему нужен. Он начнет форсировать твою проверку, понимаешь? Мы все время будем рядом, будем организовывать встречи и давать дополнительные инструкции. Сегодня прибывает человек для разработки порядка и текстов ваших радиопередач и их контроля. Будем, таким образом, работать втроем. Ну, дальше… Используй интуицию, свое понимание момента. Не вздумай делать глупости, за каждым шагом будем следить очень тщательно. Машина остановилась; гестаповец вытолкнул Кочнева на дорогу, сказал: «С богом!» — и лимузин унесся, фырча мотором. В вялом, знойном мареве на Гришу двигалась лошадь с телегой; в вознице он узнал кряжистого мужичка, нашедшего его на кукурузном поле и сдавшего жандармам; в другом, сидящем на телеге, — самого жандарма, который тащил его с поля. «О, старые знакомые!» — подумал Гриша. Кэруца остановилась. Полицейский, одетый на этот раз в крестьянский костюм, показал жестом: садись, мол, рядом. — Чтобы я сидел рядом с тобой, живоглотом? — сказал младший лейтенант. — Или вот с этим? Ну уж извините, не дождетесь. Много чести. Лучше я рядом пешочком пойду. Крестьянин что-то гневно крикнул, глядя на него, и хлестнул лошадь. Подвода тронулась; Гриша поплелся сзади. И жандарм спрыгнул с телеги, пошел рядом. — Ругается, — по-русски заговорил он, показывая на крестьянина. — Ругается, что ты… как это… тебе не надо разговаривать. Ты глухой. Надо молчать. Я мало-мало знаю русский язык, работал у красных, строил казарму, был десятник. У меня был начальник, большо-ой командир, майор. Майор Горшков. Высо-окий. Он давал мне благодарность. — Вместо благодарности-то надо было пулю в лоб тебе залепить. — Э-э, пулю! — стражник усмехнулся, прищурился. — Никто не знает, какая пуля и когда залепится. Лучше садись в кэруцу, осташ.[7] Потеряешь силы. Мне сказали, ты долго голодал. Зачем мучаешь себя? Ведь сегодня может быть еще много дел. Садись в кэруцу. И не говори. Ты глухой. Голодание и вправду давало себя знать: пройдя за телегой совсем немного, Гриша уже еле тащился. Жандарм криком остановил подводу, помог радисту забраться на нее. Гриша лег на устланное соломой дно. Сердце бешено колотилось от усталости. Он перевернулся на живот, упер лоб в доску и заплакал. Какая дурацкая история! И то, что он едет сейчас, трясется в компании этих двоих… Они были пострашнее самого Геллерта. Потому что они предатели своего народа. И считают его таким же, как они. Они играют в одну с ним игру. Надо только на нее однажды решиться, дальше все будет просто. За тебя подумают, тебе подскажут. Разработают текст, проконтролируют сеанс связи. И нечего притворяться опытным разведчиком, хитрецом и хозяином положения. Просто так во спасение работает мысль: думаешь, что кидаешь крючок другому, а глотаешь его всегда сам. …И вот он стоял у калитки в городской сад, под зеленым пыльным деревом, когда увидел спускающегося вниз по улице капитана Мурашова. Гриша не переменил позы; огляделся, продолжая курить. Геллерт с переводчиком, в кепи, мятых провинциальных костюмах, изображая местных франтов, вели неторопливый разговор на ступеньках парикмахерской, метрах в двадцати. Еще один гестаповец в штатском сидел в садике, за забором. У этого обзор был отличный, и он был самым настырным, радист все время чувствовал на себе его взгляд. Четвертый валялся в грязной траве у штакетника, изображая пьяного селянина. Да… это случай! На то, что капитан появится, Гриша никак не рассчитывал. Вот холера! И идет как ни в чем не бывало. Правда, был он не один, пристроился к компании возвращающихся с окраины людей. Недавно где-то там, сбоку, пролетели самолеты, и Кочнев слышал взрыв. Подходя к большой, под навесом, коновязи, Мурашов сбился с шага, и Гриша понял, что капитан увидел и узнал его. «Не останавливайся, не мешкай! Засекут!» Капля пота щекотно скатилась по спине. Гриша уже дернул рукой, чтобы вытереть подолом рубахи лицо, но опомнился: немцы могут принять жест за сигнал и насторожатся. Капитан тем временем за коновязью подошел к телеге и стал дергать колесо, словно проверяя, хорошо ли оно сидит на оси. Однако взгляд его Гриша все время чувствовал на себе. «Молодец, Паша!» Радист заплевал сигарету, опустил руку с окурком — так, чтобы кисть не видел сидящий в садике. Чуть повернулся корпусом от стоящих у парикмахерской, словно бы меняя позу, и, отбрасывая окурок, резко махнул ладонью. Возвратился к прежнему положению. Мурашов все понял. Он деловито попинал обод, сморщился, подвинул шапку на лоб. Пошел из-под навеса, свернул в сторону шумного базара, скоро Гриша увидел его выходящим из других ворот. И скрылся в ближайшем проулке. Ну прощай, Паша. Довелось-таки свидеться. Гриша вспомнил, как в июне сорок первого, перед тем как начаться войне, он, сдав сессию в техникуме, приехал в свой городок. Пошел в сад и так же стоял у входа. Только тогда, там, под тем садиком текла внизу Волга… Ладно, пора! Он оттолкнулся от столбика и двинулся к парикмахерской. — Что такое? Что с тобой? — раздраженно спросил Геллерт. — Ничего… Пойдемте, герр, обратно в ваши застенки. Никто не придет. Я сочинил. Наврал, короче говоря. Можете отправлять того, кто приехал радиоигру налаживать. Просто хотел перед тем, как ваш венец надеть, чистым воздухом дохнуть, белый свет увидеть, людей… Все увидел, теперь нормально… Готов, делайте, что хотите… Немец вскинулся, черты его омертвели. Словно слепой, он провел раздвинутыми пальцами по лицу Кочнева от волос до подбородка. Прошептал: «Гадина… Гадина…» Резкий, разрывающий живот удар опрокинул радиста на землю. Геллерт подскочил и твердыми, как дерево, носками туфель стал пинать его в пах. К нему присоединился переводчик.17
Что же произошло с Гришей Кочневым? Жест его, уловленный Мурашовым, был скор, однозначен и не оставлял никаких сомнений. Уходи отсюда, от меня, и скорей! Попался, значит, попался… Как можно ему помочь? Да разве можно — помочь? Как пойдешь к нему, к этой калитке в садик, не зная, с какой стороны ждать опасность? Да, здесь не фронт… Там на случай возможного окружения, пленения капитан всегда носил на поясе противотанковую гранату. Рванул, да еще выждав такое время, чтобы поразило как можно больше врагов, — уже, считай, жил и погиб не даром. Будь он проклят, этот городишко! Да, только так можно сказать о любом пригорке, любой деревне, хуторе, участке, которые приходится брать солдатам в бою. Все они проклятые, потому что стоят крови. А без них не обойтись, за каждый, хочешь не хочешь, надо воевать. Гриша, чистый Гриша! Не пил вина, не любил девушек… Капитан добрался до своего убежища, сел в яме. Это что же такое, господи!.. Вернулся со своей конюшни цыган, принес хлеба. Мурашов вяло сжевал кусок, запил водой. Старик настроился посидеть вместе, затеял разговор, но капитан молчал, и тот уплелся, кряхтя, в свою землянку. Потом Мурашов тяжко задремал и во сне летел и летел куда-то на зыбком маленьком самолете; инструктор — это был убитый сегодня немецкий солдат — крикнул из передней кабины: «Приготовиться!» — и он вылез на крыло. По команде «Пошел!» бросился вниз, и тотчас у него оборвался купол. Под гулкий хохот с уплывающего вдаль самолета Мурашов летел в бездну и думал: «Сколько же мне еще осталось жить? Наверно, полминуты. Не так уж мало…» А кости начали крошиться, сами собой, еще в воздухе, и он весь зашелестел, и чем дальше вниз, тем становилось страшнее… Мурашов вскочил и завертелся в яме. Долго не мог опомниться. Фу, дурь какая… И вдруг вспомнил весь прошедший день и горько застонал, кусая губы: по летчикам с упавшего самолета, по радисту Грише Кочневу… Стояла темная, звездная ночь. Вдали светили фарами мотоциклы, ходили патрули с фонариками. Когда-то, в голодное время, отец отвез десятилетнего Пашку на зиму в деревню, к своей матери. Муж у нее в гражданскую пропал неизвестно где, и она жила одна. Бабка была суровая старуха, даже жестокая, умела поставить себя на людях, тащила на горбу большое хозяйство: в нем были и лошадь, и корова с телушкой, и курицы, и всякий крестьянский инвентарь. Горбоносая, темная лицом, она работала с утра до ночи, и Пашка работал вместе с ней, да еще и бегал в школу за три версты. Конечно, она по-своему и жалела, и любила его; иногда, гладя по голове, говорила: «Ты, Павлик, в нашу кровь пошел, в мою родову». Это было очень высокой похвалой, потому что про деда она и слова хорошего ни разу не сказала, считая его пустяшным мужиком. На единственной фотокарточке видел Пашка курносого, кудрявого, толстогубого русака. «Не верю я, что он военной смертью почил! — говорила бабка Дуня. — Это все его гармошечки, да кудри, да бабочки, да винцо куда-то унесли…» Пашкиного отца она считала дедовым продолжением и тоже недолюбливала, хоть тот и был ее единственным сыном. Две дочери ее, мурашовские тетки, жили далеко: одна в городе за мастеровым, другую заезжий ухорез-кооператор увез аж куда-то под Архангельск. Они не гостились у строгой матери, и она не ездила к ним, была равнодушна к их детям — своим внукам. Так же бабка Дуня, впрочем, была равнодушна к Пашке — до тех пор, пока мальчик не прожил у нее зиму, и она не приникла к нему одинокой душой. И после любила на свете только его одного. Наверно, и сейчас любит. Если жива. Ведь ей семьдесят три года. Легко ли жить в деревне одной в таких годах, да еще в тяжкую военную пору? Последнее письмо от нее он получил в марте, там на обрывке серой бумаги большими буквами было накорябано: «Пашинька милой воин храни тибя господ ты один у меня берегись внучок молюся денно и нощно…» И Мурашов писал ей даже регулярнее, чем домой. Наверно, если жива, опять пластается перед иконами, молит бога за Павлика. Судя по письму, она еще не знала к тому времени о смерти сына, старшего Мурашова. А после — ни весточки. Молилась бабка страстно, исступленно и изнуряла той зимой себя и Пашку, вечерними предыконными бдениями. Он еле заползал потом на печку. И засыпал. А через час просыпался, вылезал из постели и спрыгивал на пол. Бабка к тому времени уже спала на своей кровати, прочно и глубоко. Он надевал штаны, катанки, рубаху, шапку, запахивал старый зипунчик, в котором когда-то бегал еще его отец, и выходил на крыльцо. Голубой снег лежал на земле и на крышах темных изб. В лесу сипло и высоко вибрировал волчий голос. Шар луны катился по небу. Пашку сразу прохватывал холод, но он долго не уходил в избу. «Господи, превеликий! — восторженно думал он. — Пусть все злые люди умрут. Пусть Зорька хорошо отелится и принесет телушку. Пусть учительница не ругает меня за то, что намазал в тетрадке. Пусть папка не будет пить и гулять, а мамка не будет плакать…» Звезды помигивали сверху, луна катилась дальше своею дорогой. Порой взухивала где-то буйная частушка. Скрипя снегом, Пашка поворачивался на крыльце и кланялся на четыре стороны света. Ему казалось почему-то, что так надо, чтобы мысли его долетели до бога. Визжала дверь, мальчик вступал в темные сени, оттуда в дом, где было тепло, пахло опарой для завтрашнего хлеба. Он раздевался, лез на печку и засыпал. На душе было спокойно. Изба сразу отгораживала его от других домов со снежными крышами, от леса с голодными волками, от черного неба с луной и звездами. Такими были Пашкины вечера в маленькой уральской деревушке. Здесь вот, в дальней Бессарабии, куда занесла его судьба, — тоже черное небо по ночам, и звезды мигают, катится луна, — а даже и не подумаешь сравнить… Тогда, в середине лета, за Пашкой приехал отец, чтобы отвезти домой, в город; бабка шла рядом с телегой, в которой они сидели, до самых деревенских ворот. Там она остановила лошадь, поцеловала Пашку, перекрестила его. Поцеловала и перекрестила сына. Отъехав немного, Пашка оглянулся. Бабка Дуня стояла и глядела им вслед. Такой он ее и запомнил надолго: в платке, со скорбным сухим лицом, кисти рук, темные от работы, холода и зноя. И долго после не мог привыкнуть к домашнему мельтешению, вранью, приходам отца под утро, реву младшего брата Васьки, крикам и плачу матери. Он изменился за год, повзрослел, и все это стало ему чужим. Вера в бога помаленьку исчезла, но жил он как бы на особицу, на отшибе в своей неугомонной семейке. Только лет уже в сорок пять отец стал смирять свой веселый гулевой нрав. Один из лучших заводских токарей, он жил, казалось, лишь работой и волей. И улетали куда-то заработки, Мурашовы жили плохо. Однажды сестра Верка дошла за хлебом в магазин, и люди нашли ее лежащей возле тротуара без памяти. Оказывается, девчонка по дороге потеряла деньги и так испугалась, что упала в обморок. Мать Мурашова была дочкой уездного аптекаря. Отец когда-то соблазнил ее и уговорил уехать тайком от семьи вместе с ним жить в большой город. Скоро началась война, отца мобилизовали, и ей пришлось вернуться обратно, уже беременной. Что там выпало на ее долю в родном доме — неясно, покрыто мраком. Когда отец вернулся в семнадцатом, приехал и увидал ее — боязливую, тихо ходящую, тихо говорящую, с глазами вечно на мокром месте, — он сказал ее отцу и матери: «Вы что же с девкой сделали? Разве она такая была? Что теперь делать — мой грех, мне за него и отвечать. Собирайся, Лиза, и сына собирай. А к вам — ни я, ни она больше ногой не ступим. И вы к нам не приезжайте, не приходите». И всю жизнь он их не признавал и перенес свою нелюбовь на материну сестру, Пашкину тетку, Серафиму. Та вышла замуж за инженера, переехала в город, и муж ее работал на одном заводе с Мурашовым-старшим. Но так они и жили чужими, хоть недалеко друг от друга. Однажды прибежала тетя Сима, вытащила Пашку из компании ребят, играющих на улице, и повела к себе домой. «Пойдем, Павлик, милый, — льстиво говорила она. — Я тебе гостинец дам и кого-то покажу». У нее в горнице он увидел сидящих на диване чистеньких благообразных старичка со старушкой, у старичка были седые усы и бородка, одет он был в чесучовый костюм с жилетом. При виде Пашки захлипал, засморкался в платок. Старушка толкнула его в бок, оглядела Пашку, не подзывая: «Фу, как грязен, оборвыш… Видно, верно ты говоришь, Сима: опустилась Лиза так, что ниже и некуда. Злонравия достойные плоды, что ты скажешь! Все-таки классики порой удивительно точны в определениях. Надо ей помочь, как-никак она наша дочь. А мальчик пускай идет, дай ему конфет». Он схватил конфеты и убежал, раздал их ребятам. Вечером того же дня, лежа в постели, слышал, как отец с матерью говорили в крохотной, отгороженной ширмой кухне, и отец сказал необыкновенно суровым голосом: «Знай, Лиза: если возьмешь у них хоть копейку — не увидишь меня больше в этом доме. Никогда. Ты поняла?» «Да господи, Андрюшенька…» Она заплакала, и Пашка понял, что мать сейчас трясет согласно головой и ловит отцовские руки: все-таки у нее не было на свете человека ближе и дороже его, и ничто не могло заставить согласиться на разлуку с ним. И вот отца уже нет, Васька погиб на войне, Верка замужем, имеет свою комнату в соседнем бараке, а сама мать живет вдвоем с Нонночкой, дочкой капитана Мурашова…18
Под утро Мурашов забылся, и тут же разбужен был старым цыганом. Тот ткнул его в бок: — Вставай! Мурашов вскинулся: — Что, что такое? — Гляди! — цыган показал корявым пальцем в сторону крайних домов. Капитан высунул голову из ямы и увидел стоящего у изгороди человека. В черном полицейском мундире, с винтовкой за плечом. Он стоял неподвижно и вглядывался в развалины, в некогда испепеленную огнеметом местность. — Кто это? — Это немой полицай Пепе, — забормотал дед, и в голосе его слышался страх. — Он недаром пришел, стоит и смотрит, я знаю эту собаку. Он кого-то ищет. Надо ждать беды. Может быть, он охотится за тобой? Тогда уходи, оставь быстрее это место. А то и нам будет плохо. — Да с чего бы ему знать, что я ночую здесь? Этот Пепе всего только раз видел меня, и то мимоходом. — Значит, все-таки видел! Ну, тогда он тебя найдет. Ты не знаешь, какой у него нюх. — Что же он не идет сюда? — Наверно, боится. Чует, что здесь есть люди, но не знает, кто и сколько, и боится. Ах, какое несчастье, что он появился! Во всем городе людям нет от него покоя, а теперь он еще взялся за бедных бродяг. Самое страшное — Пепе ничего не берет, от него нельзя откупиться. Самая свирепая собака в префектуре. — Не надо так нервничать, мош. Скоро сюда придут русские осташи, и Пепе не станет. — Не знаю, не знаю никаких русских осташей. Кому есть дело до бедных цыган! Им надо выжить и сохранить Михая, дорастить его до мужчины, чтобы сохранился род. Смотри, смотри, уходит! Полицейский повернулся и пошел по улице. — Что творится, что творится! — бурлил старик. — После того как два года назад повесили на площади каких-то злодеев, была тихая жизнь, а теперь… Вчера днем кто-то застрелил немецкого солдата, а вечером эсэс и полицейские окружили квартал, где это произошло, и забрали в тюрьму всех жителей: женщин, детей, стариков — всех. Я знаю, это заложники, они оттуда уже не выйдут. Сердце Мурашова сжалось мучительно, больно. — Пусть будет проклят тот, кто это сделал. Пусть бог отплатит ему на том свете неслыханными муками за то, что сгубил невинных. — Неправильно говоришь, — сипло сказал капитан. — Дурак ты, мош. Ведь идет война, тот человек убил врага. А в смерти других — и женщин, и детей — виноват тот, кто затеял войну. Ведь ни летчик, бросающий бомбы на город, ни артиллерист, обстреливающий селение, не знают, в кого попадут: в солдата или в ребенка. Но дело свое они все равно обязаны делать, иначе противник их победит. Так-то… — Что мне, что тем невинным до твоих слов? — Да замолчи ты! — Тебе лучше уйти отсюда, — дед затряс седой грязной гривой. — Бери свой мешок и убирайся. Зачем этому месту новое горе? Пепе ищет тебя, а пострадать можем мы. Если не уйдешь, я передам домнуле надзирателю, что ты говорил про русских осташей, и он отведет тебя в тюрьму. — Куда ты меня гонишь, мош? — горько спросил его Мурашов. — В степи меня подстрелят или схватят стражники, или боярские помощники, или кулаки. — У тебя же — ты говорил — есть пропуск на запад. Ну и иди туда, к себе. — Есть пропуск… А если мне надо в обратную сторону, на восток, к Днестру? — Выходит, ты обманул власти, выдавшие тебе этот документ, и даже самого домнуле? — деда аж перекосило от волнения. — Что ты заладил свое: домнуле, домнуле! Трусишь, мош! Я уйду. Только скажи — куда? Или помоги мне. И забудь. Спросят — скажи: был и исчез куда-то. Наверно, ушел своей дорогой. А если меня поймают, тебе не поздоровится, будешь отвечать за укрывательство опасного преступника. А что оставалось делать! Приходилось страховаться, пугать старика, ведь задержи капитана или немой, или любой другой полицай — вмиг организуется запрос в указанное в документе село: действительно ли проживает в нем такой-то Федор Подоляну, верно ли, что убыл тогда-то, с такой-то целью, в таком-то направлении… Дальше уж закрутится то, что и представить невозможно. — Хорошо! — сказал цыган, тяжело дыша. — Бери свой мешок и пойдем вместе. Я знаю один дом, где раньше принимали и укрывали пришлых людей. Теперь хозяйка не занимается этим, боится. Но она жадная, а деньги у тебя есть. Только надо не начинать с малого при договоре, а назвать сразу большую сумму. Тогда у нее не хватит духу отказать. Пошли! Я накажу жене, чтобы она сегодня никуда не ходила, а оставалась здесь с Михаем, на всякий случай. Мало ли что! Зачем-то ведь приходил этот немой. А потом пойдем к бэдице[8] Анне, она укроет тебя, и будешь ждать у нее своих русских осташей. Переулками, переулками они вышли к небольшому дому с садиком. Цыган оставил Мурашова на улице, взял у него пропуск со справкой, постучался и вошел. Вскоре на крыльце появилась низкорослая, широкая в кости женщина лет пятидесяти пяти с морщинистым, замкнутым, ничего не выражающим лицом. Она с полминуты вглядывалась в капитана, затем снова скрылась за дверью. Старик выкатился из дома потный, растерянный. — Сошла с ума! Просит восемьсот лей. Такие деньги! Я говорю: «Опомнись, бэдица, такие деньги!» А она отвечает: «Такие времена, мош. В другие времена я беру меньше». У Мурашова были такие деньги. Но отдав их бэдице, он сам оказывался почти без гроша. Оставалось разве что на пару ковриг мамалыжного хлеба. Выбирать, впрочем, не приходилось, и он согласно кивнул. — Она требует деньги вперед. Покачав головой: «Ну, акула!» — капитан достал из сумки деньги и все их протянул мошу, оставив себе две маленькие бумажки. В сенях заскрипели половицы — видно, тетка следила в щель за этой операцией, подглядывала, чтобы цыган не уворовал часть денег. Подхватив с земли мешок, Мурашов двинулся было за дедом устраиваться на новом месте, однако тот остановил его: — Э, не торопись! Анна велела приходить только поздним вечером или ночью, когда стемнеет. Она не хочет, чтобы соседи видели тебя входящим в этот дом. — Ну, а сейчас куда мне прикажешь? — зло спросил Мурашов. — Не знаю. Иди куда-нибудь, пересиди день. Не трогай только больше меня и моей семьи. Я ведь помог тебе, чего ты еще хочешь? И он ушел. Мурашов же побрел по улочкам, сам не зная куда. Надо было как-то скоротать время до вечера, по возможности — не на людях. У одного из домов чахлый хромой молдаванин подколачивал забор. Капитан подошел к нему и остановился. — Купи шапку, добрый человек! Мужчина распрямился, помял сдернутую Мурашовым с головы баранью шапку. — Что просишь? — Ну, что… Ты сначала скажи, добрая шапка? — Как сказать… — он поскреб ногтем в том месте, где был немного выщерблен мех. — Смотря чего за нее просить. Денег у меня все равно нет, а на обмен я бы взял. Дал бы немного хлеба, сыра. Или у меня есть ношеные ботинки, постолы. Я ведь сапожник. Хочешь так? — Что дашь, то и ладно. — И, не дожидаясь ответа: — Понимаешь, я иду домой, в свою деревню, из дальней экономии. И вот встречаю вчера на дороге односельчанина, а он говорит: у тебя, Федор, родилась дочка! Ей уже две недели. Ай-яй-яй! А я спешил, думал успеть к родам. Что делать! Зайду, думаю, в город, возьму хоть вина, выпью за ее здоровье и счастливую жизнь. И денег нет — то, что заработал, отобрали в жандармском посту. Приду домой, крикну: принимайте, жена и дочка, какой есть, и скажите спасибо, что вернулся живой! Это у меня первый ребенок. Мужчина подхромал к калитке, распахнул ее: — Проходи. Эй, Мария! Приказал худой маленькой женщине, похожей на девочку-подростка: — Собери нам на стол в саду. У этого человека большая радость, поняла? Идем! За столом Харлампий — так звали хозяина, — разлив по кружкам домашнее вино, сказал грустно: — У нас вот нет детей. Врачи сказали: Мария не может их иметь. Я, когда узнал это, стал гулять с другими женщинами. А потом бросил. Чем, думаю, она виновата? Зачем добавлять ей страдания? Что ж, будем жить одинокими и умирать одинокими. — Сейчас война, — осторожно произнес Мурашов. — Война, много сирот… — Что сироты! Сироты — не свои дети. Не как у тебя. Ну, поднимай за свою дочку! Полностью, полностью вылей в рот! Вот так! С выпитого вина, с бессонной ночи в голове у Мурашова быстро зашумело, помидоры не хотели браться в руки, выскальзывали из пальцев. — Ну, и как же ты решил ее назвать? — допытывался сапожник. — Нонна. — Как… Нонна? Брось, Федор, это плохое имя, совсем не молдавское. Назови ее хорошим именем, по-нашему. Аурика, вот как ты ее назови! Капитан бодливо повел головой: — Нет. Нонна, и все. Не надо мне никаких Аурик. Была уже одна Аурика… да скурвилась, и наплевать на нее. Пускай будет Нонна. — Аурика — это что, знакомая твоя была? — Да, знакомая.Над Днестром, да над Днестром,
Ай, девушки гуляют…
19
К развалинам капитан приближался осторожно, будто к опасному месту. Но не встретил по дороге, не увидел на окраине никого — ни жителей, ни полицейских, ни солдат. На пустырь ложились сумерки, и в них на фоне взломанной землянки с вывороченной крышей терялась сгорбленная фигура старого цыгана. Дед сидел, оцепенев, над телом маленького Михая и гладил его восковое неподвижное личико. Чуть поодаль грузным кулем лежала мертвая старуха. Мурашов подошел, тронул цыгана за каменное плечо, сказал: — Надо похоронить их, мош. Я помогу тебе. — Нет, — ответил тот. — Я сам. Надо звать попа. Нет, пускай столяр сколотит гробы, я повезу их в церковь. — Зачем? Они же невинно убиенные, им и так все грехи простятся. Старик поднял голову: — Ты не должен был приходить сюда и говорить со мной. Где твоя совесть? Это из-за тебя убили мою жену и моего внука. До того, как ты появился, мы жили спокойно и нас никто не трогал. Ты привел Пепе, привел полицейских. Теперь мне уж все равно, жить или не жить. И все равно, убьешь ты меня или нет. Но я хочу отомстить. Так давай схватимся. А живой похоронит всех мертвых. Он вскочил и кинулся на капитана. Жилистыми скрюченными пальцами сразу полез к шее. Мурашов инстинктивно сильным ударом отбил его руки, вскрикнув: «Да что ты, мош?! Опомнись!» Однако дед, хрипко дыша, подступал снова и снова, пытался обхватить его за поясницу, свалить на землю. Мурашов дал ему подножку, цыган упал, и он придавил ему спину коленом. — Ну вот что, мош, — сказал он. — Моей вины в том, что погибли Михай и твоя жена, нету. Их фашистские прислужники убили, они такие же звери, как хозяева. Дай им волю, они вообще всех бы поубивали. Фашист, он фашист и есть, от него ничего хорошего ждать не приходится. Их, а не меня давить надо. Ну ладно, прощай. А если я и вправду в чем-то перед вами согрешил, тогдаизвини, это не со зла. Прощай, мош! Он быстро зашагал в сторону степи. Старый цыган поднялся с земли, схватил горбылину из разрушенной крыши и побежал за ним следом. Но сил уже не осталось, он быстро выдохся, упал и громко завыл, кусая руки.20
«Что за проклятое место! — думал Мурашов. — Разве отсидишься у бэдицы Анны, когда творятся такие дела!» Он вышел к восточной окраине города, к Ямам, чтобы переждать здесь ночь, и утром, когда ночные мотоциклисты уедут отдыхать, а утренние еще не успеют приступить к обязанностям, двинуться в путь. Он был готов ко всему. Если станут задерживать, у него есть шесть патронов в пистолете. Там поглядим, кто кого. В крайнем случае — будет смерть за смерть. И то хлеб. А может, ему все-таки повезет и он доберется до своих? Все расскажет. Да, не выполнил задание. Так получилось. Явок нет. Гришу взяли. Что-то он сможет рассказать сам — гарнизон, топографическая оценка местности. Ну, пусть накажут, если найдут какую-то вину! Зато он будет среди своих. Не то что в этом городишке, где беда может выскочить из-за любого угла и любое твое действие может повлечь смерть других людей. В старых глиняных разработках сохранились еще ветхие остовы больших сараев, где сушили кирпичи; рельсы, поворотные круги для вагонеток. Как везде в таких местах — запустение, высокая сорная трава. Мурашов хотел в одном месте опуститься в нее, нагнулся — тотчас в серой вечерней хмаре выметнулось вверх тело змеи, ее головка поднялась над примятой травой, зашипела, завибрировала раздвоенным язычком. Капитан отпрянул, кинулся прочь, содрогнувшись от ужаса и отвращения. Он вырос в краю, где эти твари никогда не водились, и не выносил их вида. Сколько их было в степи, когда он летом сорок второго топал к Сталинграду со своей ротой! Потревоженные гудением земли, близостью людей, машин, они так и шныряли под ногами. А когда наступила осень, стало еще хуже. В тех местах, где они должны были залечь на зиму и спать, шла война. Замерзающие, среди огня и взрывов, они искали укрытия и тепла. Но кругом не было другого укрытия, кроме блиндажей, траншей и окопов, и другого тепла, кроме тела живого человека. И утром бойцы и командиры просыпались порою в неожиданном соседстве: одному гад заполз в рукав телогрейки, другому нырнул под нательную рубаху, на грудь, третьему опоясался вокруг шеи… Не всех удавалось снять нормально, иные кусали людей. Он прилег за небольшим взгорбочком, где трава была выкошена. Положил под голову мешок и попытался уснуть, но не смог. Видно, днем, у сапожника Харлампия, выспался основательно. Снова ночь под открытым небом! Солдатская да бродяжья доля. А как пахнет кругом. Все-таки у степи, у степных городов свой запах, ни на что не похожий. Мурашов усмехнулся, вспомнив, как врал сегодня молдаванину про рождение ребенка. Надо же, что только не придет в голову, когда приспичит. Пока они там пили и спали, на выжженный пустырь пришли люди и старательно, со знанием дела целясь, стали убивать мальчика-цыганенка и его бабку… Как те, наверно, бегали от них, старались укрыться, падали в ноги… А эти смеялись и настраивались на верный прицел. Как же казнить самих вас, какую придумать лютейшую смерть? Да, здесь гибель еще более жестокая, чем на фронте. Потому что не знаешь, откуда придет и какое примет обличье. Потом перед Мурашовым, без всякой связи с предыдущими мыслями, всплыло лицо учительницы Аурики Гуцу. Как она говорила, вся дрожа и сжимая горло: «Чтобы я… бросила Иона! Я уйду вместе с ним! Или пусть нас убьют вместе! Я люблю его!..» И глаза ее нестерпимо светились. Впору позавидовать глупому, ничтожному жоржику в галифе.21
Мурашов женился в училище, на втором — последнем — году учебы, на Райке Сомовой, машинистке из училищной канцелярии. Райка была ладненькая русая девчушка, е неплохим голосом, она пела на концертах и нравилась многим курсантам. Но выбрала все-таки его. Началось с танцев, с разговоров, затем, раз за разом, он стал ее провожать, ходить с ней в кино. Восьмого марта они встретились на вечере в Доме Красной Армии, и, провожая ее домой, он сказал: — Выходи за меня замуж, Рая! Она остановилась, поглядела на него: — Как-то ты… не так это сказал. Будто бы даже сейчас это для тебя не самое главное. Зачем хоть я тебе, а? Он развел руками: — Ну, как зачем… Ты хорошая девушка, нравишься мне. А мне уж скоро двадцать пять, пора обзаводиться семьей. В гарнизоне жена нужна. Без нее остается только службой заниматься или с молодыми стрекозлить, водочку с ними пить. Это для меня неподходяще. Райка вдруг заплакала: — Эх, ты! Ну хоть соврал бы, что ли: люблю, мол, тебя… Павел сопел растерянно. — Ладно, иди уж, увольнительная кончается… — Так ты пойдешь за меня? — Ступай, поговорим еще об этом, успеется… Возвращаясь в училище, он думал: чего она хочет? Каждая девушка естественным образом должна стремиться выйти замуж. За нормального человека, с которым можно было бы жить без особенных тревог. Вот оцени с этой точки зрения человека, делающего тебе предложение, и принимай решение. Ну, любовь… Обязательно ли ей быть? Жизнь длинная, придет и любовь. А так Райка нравится ему, она простая, находчивая в разговоре, когда поет, ей хлопают многие люди, даже училищное начальство. Сколько курсантов хотело бы с ней дружить. Значит, ее выделяют среди других. Она и сама выделяется! Разве плохая жена для командира Красной Армии? В субботу он пришел к ней на работу, в канцелярию. — Ну как ты, что надумала? — Что надумала… Бери завтра увольнение и пойдем ко мне домой. Эх, Паша ты, Паша, Пашенька… — тут же в коридоре, никого не стесняясь, она поднялась на цыпочки и поцеловала его. Он разволновался, до воскресного вечера все валилось из рук. Жила Раиса вдвоем с отцом, заведующим райбанком. Афанасий Иванович встретил их в костюме, при галстуке. — Знакомься, папа, это мой жених. — Павел Мурашов… — он пожал короткую сухую ладошку. Райкин отец носил очки, редкие русые волосы зачесывал назад, к затылку. Роста он был одного с дочерью — Мурашову по брови. Квартира — кухонька, небольшая комнатка, и все. Зато отдельная. За столом выпили немного; соблюдая приличия, поговорили о международных делах, затем Афанасий Иванович стал задавать разные вопросы. — Вы… э… откуда родом? Ага. Так, так… Отец, мать кто, кем работают? — Отец — токарем на заводе, а мать шьет дома. Швея, короче говоря. — Так-так… Рабочий класс, да… Еще кто в семье? — Сестра и брат. — Яс-сно… Кладите вот селедочку… Рая, поухаживай за Павлом. А лет вам сколько, извините? — Я с пятнадцатого года. — О, порядочно… Поздно учиться пошли? — Со срочной службы. — Что, нравится военная профессия? — Нравится, не нравится… Пока военные нужны, надо кому-то и служить. — Ну да, ну да, какой разговор! А в перспективе на что рассчитываете? — Какие могут быть перспективы у курсанта? — начал раздражаться Мурашов. — Стать комвзвода — вот для него самая ясная перспектива. А потом — кто его знает? — может, кривая и в генералы вывезет, а может, и до ротного с трудом дотянешься. — Нет, вы меня правильно поймите, Павел: Раечка моя единственная дочь, и хочется, чтобы все у нее было нормально. Может быть, вам стоит подождать? Ты окончишь училище, прослужишь полгода, год, и тогда… — Чего ждать? Хочет Рая — пускай сейчас за меня выходит. Мало ли что может случиться, если мы друг друга из виду потеряем. Когда они вышли потом на улицу, Мурашов сказал: — Вроде как папаша не очень доволен твоим выбором. Он, я так понимаю, хотел бы тебя за директора завода или хоть за майора отдать. — Где их найдешь, таких-то, да неженатых! — хохотнула Райка. — Ничего, Паша, держи хвост морковкой, тебе не с ним жить!22
Свадьба у них получилась довольно скучная: пришли двое то ли друзей, то ли сослуживцев Афанасия Ивановича с женами, какая-то дальняя родственница, тихая пьющая тетка; заведующая канцелярией — Райкина начальница; три подружки по самодеятельности. Ребят из мурашовского взвода пришлось пускать за стол по очереди, иначе не позволяла теснота. Рядом с новобрачными сидел, ворочая глазами и отпуская шуточки, грозный начальник курса бритоголовый подполковник Ахметшин. Так что со стороны все выглядело почтенно. Не было родителей Павла, они послали письмо: поздравляем, желаем счастья, целуем молодую, примите благословение; отца-де не отпустили с работы, их цех делает срочный заказ, мать жаловалась на простуду, что кашляет с зимы и боится еще больше заболеть. Приехала сестра Мурашова Верка, она работала учеником бухгалтера в заводоуправлении, уже начала невеститься, и ей свадьба брата была интересна. Он-то знал, в чем действительно дело, и носил печаль и обиду в себе, никому не показывал и не высказывал. Коснись дело той же Верки или младшего брата Васьки, отец с матерью наизнанку бы вывернулись, пошли бы на что угодно, забыли бы все болезни и рабочие заботы, — а приехали. Пашка же всегда был для семьи отрезанным ломтем, а когда ушел в армию — тем более. Может быть, все наладилось бы между ними, вернись он после службы домой, на завод, — так ведь и этого не случилось. Скорее всего, мать уговаривала съездить поглядеть на новую родню, на невестку, а отец сказал так: «Надо будет — сами приедут. Наглядишься еще досыта! У нас лишних денег на дорогу да на подарки нет». Когда гости стали расходиться со свадьбы, Верка ушла к тихой родственнице; исчез и Афанасий Иванович. Молодые остались вдвоем. «Ну что, будем убирать посуду?» — Павел кивнул в сторону стола. «Сейчас бегу, муженек! Может быть, мы с тобой, Пашенька, всю эту ночь будем посуду мыть да на полки ставить? Иди сюда, красный командир!» «Слушай, — сказал он ей утром. — А дальше как? Я — в казарму, ты — сюда? Будем вприглядку друг с другом жить? Нет, я в принципе не возражаю, до выпуска два месяца, можно и потерпеть…» «Еще чего! Эту-то квартиру ты куда девал? Подавай рапорт начальству как женатый человек, и обоснуемся здесь». «Так ведь отец…» «Отца пока не будет». Она обрисовала ситуацию: оказывается, у Афанасия Ивановича была сожительница, и он мог уйти на время жить к ней. «Если хочешь знать, квартира вообще может стать нашей. И жили бы как короли». «Небось, ты уже и короны заказала?» «Не шути, Паша, это серьезно». Что это серьезно, Мурашов убедился в вечернем разговоре с Афанасием Ивановичем. Тот пришел домой («Заскочил на минутку!» — объяснил он), расположился на диване, упер кулаки в колени: — Павел! За последнее время я имел кое-какие контакты и навел кое-какие мосты. Все это — ради тебя и Раечки. В училище о тебе отзываются неплохо. Ударник учебы, недавно вступил в партию, командир отделения… Скажи: где ты сам намерен служить? — Дело военное — куда пошлют. — Я слышал: ты дал согласие на Дальний Восток? Там же тайга, тяжелый климат, далеко от центров. — Все равно служить надо. Что там, что в другом месте. И потом — люди же живут! Мы их не лучше. — Пускай туда едут несемейные. Зачем семью-то туда тащить? — Я не люблю пустые разговоры. — Есть возможность оставить тебя здесь, в училище, командиром взвода. Все-таки большой город, я буду вам помогать, и с жильем никаких проблем. Такая квартира на первых порах — это ведь мечта! — Велика ли честь — из училища да снова в училище? Такому командиру доверия мало. Курсанты любят тех, кто приходит из войск. Нет, это не для меня. Сначала надо послужить. — Да тебя, гляжу, еще уламывать надо. Что ж, Раиса, дочь, тогда за тобой слово! И вдруг Райка поддержала мужа: — Надоело мне здесь. Ты старый, папка, привык к одному месту, а нам свет хочется увидеть. Нет, поедем, Паш, я согласна. Только не на Дальний Восток, ну его совсем. Куда-нибудь на Украину. Где яблоки. Хочу пожить гарнизонной дамой. — Так квартира… — Что ты пристал со своей квартирой! Живи в ней вместе со своей Натальей Петровной. Мы свою получим. Из этого разговора Мурашов сделал вывод, что тесть у него — мужичок хитрый и деловитый. Подъедет к кому надо и добьется своего, несмотря на скромную должность. Да, не повезло ему с мужем для дочери! Подстегнуть бы к нему такого же шустрягу, чтобы было с кем разводить шу-шу-шу. И делать дела. Ладно, хоть Райка не лезла в эту мелочевку, слушала только Пашу. Однако получилось так, что Мурашов поехал служить в Киевский Особый округ. Павел был уверен: или это тесть умаслил кого-то, или сама Райка сходила к училищному начальству тайком от мужа. Она же знала всех в училище и могла найти такую лазейку. Но он не трепыхался особенно на этот раз, рад был, хоть отвертелся от жизни под боком у тестя.23
23 июня 1940 года они с Раисой приехали в полк, расположенный в зеленом украинском городке, и только он принял взвод — полк подняли в ружье и двинули к молдавской границе. Сначала слилась воедино и обозначилась ранее рассредоточенная живая плоть дивизии, затем они вошли в большие массы войск, пересекшие Днестр и идущие дальше, к Пруту. По дороге часть подразделений выходила из потока, оставалась в селениях. И полк, где служил Мурашов, встал гарнизоном в небольшом уездном городке. Вскоре к командирам поехали семьи; примчалась Раиса. «Ты теперь, Пашенька, бывалый воин, — заявила она. — Надо же, после училища — и сразу такой поход! И самое главное — без боев, вот это славно!» «Хорошо, если дружественный народ, есть соглашение между государствами, а если нет?» «Ну, что об этом думать! Пусть всегда будет только так…» Они сняли комнату у добрых, порядочных старичков-молдаван и стали жить. Жизнь гарнизонной дамы пришлось Райке по вкусу, по душе; после ухода мужа на службу она еще спала, потом готовила обед, ходила по подругам, читала книжки, а вечером бежала на репетицию. Она и здесь продолжала участвовать в самодеятельности, и даже позже, беременная, на седьмом месяце, пела в хоре командирских жен на первомайском вечере. Они мало бывали вместе: днем он находился на службе, а возвращаясь с нее, уже не заставал жены дома, она была в клубе и появлялась лишь к ночи. Мурашов оставался в доме с глазу на глаз с хозяевами — дедом Константином и бабкой Надей. Старики ни слова не знали по-русски и общались с постояльцами с помощью жестов. «Нет, так тоже негодно», — решил Павел. Он завел тетрадь и записывал в нее каждый день по тридцать-сорок слов. Через три недели он уже понимал почти все, что говорят хозяева. Оставалось самое главное и самое трудное: уловить связи между словами, склонения, интонацию, обороты, сам стиль чужой речи. На это ушел еще месяц. И однажды утром Мурашов обратился к деду с довольно сложной и длинной фразой: он готовит посылку, не поможет ли мош Константин подобрать хорошую молдавскую рубашку для отца? Старик аж остолбенел: ты говоришь по-нашему? Зачем же ты молчал и притворялся? Не доверял нам, следил? Мурашов пытался объяснить, что язык освоил только здесь, но дед не поверил, обиделся и стал держаться отчужденно. Молва об успехах лейтенанта докатилась до командира полка, и он как-то вызвал взводного в штаб. «Говорят, свободно толкуешь по-молдавски?» «Так точно!» «Молодец. Давай-ка вот что: сдашь взвод старшине и принимай роту в… — он назвал большое, около двухсот дворов, волостное село в тридцати километрах от уездного центра. — Там комроты попивает, запустил дело, не может найти контактов с местным населением. Иной раз суется решать вопросы, в которых ничего не понимает. Посоветуйся с политруками и берись». «Товарищ подполковник! Во-первых, я сапер. Во-вторых, у меня нет опыта командования даже взводом, а вы говорите — на роту. Нет, я не подхожу, не может быть и речи». «Что такое?! — закричал комполка. — Вы где находитесь? Как стоите?! Я покажу сапера! Я отучу не слушаться приказов!»24
Мурашов уехал командовать ротой. Райка осталась в гарнизоне, ей скучной показалась жизнь без подруг, без самодеятельности, среди людей, не понимающих ее языка. В роте и взводные, и старшина были люди холостые, поэтому семейных контактов тоже не предвиделось. А Павла новые заботы захватили так круто, что он иногда и по две недели не заглядывал в полк, хоть по штату ему теперь полагалась лошадь, и он много времени проводил в седле. Потом началась осень, распутица, слякотная зима, — все реже случалось провести ночку с Раисой, в ее жарких, опустошающих объятьях. По весне она как-то поскучнела и в конце мая сказала мужу: «Паша, я поеду рожать к отцу. Там хоть он у меня есть, да его Наталья Петровна. Неможется мне тут, тоскливо стало. Тебя нег да нет, а другие — ну их, надоели…» «Да ну, Рай! Чего ты скисаешь? Тоже, командирская жена! Здесь полк, однасемья, любой о тебе позаботится, а там — кому ты нужна, кроме отца да его подруги? Вот дадут отпуск, тогда поедем вместе. Брось дурить, Рай!» «Не отговаривай, Паша. Я знаю, где мне лучше. А в отпуск — буду тебя ждать. Может, уж и не одна». Быстро собралась, он проводил ее на поезд — и отбыла. Мурашов не переживал особенно из-за ее отъезда: мало ли какая блажь придет в голову беременной женщине! Многие тоскуют в гарнизонах, особенно в; строевых, линейных частях, где у мужей полно служебных забот. Потом появляются дети, семья обрастает каким-никаким бытом, и все приходит в норму. Так и Райка — небось обкатается. Сам он остался продолжать свою хлопотливую деятельность на посту ротного командира. С утра до ночи на ногах, и всегда голова полна забот. Большинство дел надо решать только самому, начальство далеко, и оно не любит, когда донимают по мелочам. А для новоиспеченного ротного что ни дело, то проблема. Начать хоть с того, что все три командира взводов состояли в должности взводных по два-четыре года. Выходит, что их обошли, назначив, его. Как не быть обидам? Бывший ротный оказался хоть и крикуном, но со слабым характером, подраспустил подчиненных: бывало, что красноармейцы шлялись днем по селу без дела, ходили в самоволки, не гнушались чарочки. Командиры тоже были не без греха, поэтому на многое закрывали глаза. Мурашова встретили настороженно, и он растерялся вначале, не зная, с какой стороны взяться за дело. В полку и батальоне тоже не торопили, выжидали первое время, однако ясно было, что это ненадолго. Дело сдвинулось с места, когда он начал говорить с сержантским составом, — тут, кроме власти и авторитета командира, за него сработало еще солдатское прошлое, служба на границе в тех же младших сержантских должностях. Его приняли за своего, поняли, что он хочет и требует, — и это оказалось самым емким, действенным. А когда увидели, что он говорит с крестьянами, сельсоветчиками, основателями совхоза, организуемого в помещичьем имении, на их родном языке, как на своем, вникает, старается разобраться в чужой жизни, его признали и командиры, и красноармейцы. Потихоньку наладилась боевая учеба, дисциплина. Люди подтянулись. «В чужой стране веди себя так, чтобы граждане держали за образец!» — требовал Мурашов. Через неделю после Раисиного отъезда в село пожаловал сам командир полка и учинил роте проверку по всем линиям. Съездил в сельсовет. Все сошло благополучно. На построении подполковник зычно вынес благодарность личному составу, а Мурашову сказал: «Хорошо, лейтенант, так и держи. Большое дело делаешь. Если так пойдет, к октябрьским праздникам на доску Почета тебя поместим. И к званию представим, чтобы соответствовало должности. Но это все потом. А теперь… ну чем мне тебя отблагодарить? Благодарность вынес… так ведь у тебя жена на сносях, что тебе эта благодарность! И зиму вы с ней, считай, врозь прожили. Отпуска отменены, сам знаешь… Но побывку постараюсь все-таки выхлопотать. В штаб дивизии пришел запрос: послать несколько командиров на трехдневную учебу по теме: новинки минного дела в армиях вероятного противника. По твоей специальности, совсем невредно будет обновить знания. Обязательно поедешь». «Есть мне время по каким-то курсам разъезжать…» «Ты меня, видно, не понял, лейтенант. Я ведь раньше сказал: на побывку. Чувствуешь, где учеба-то будет? И жену увидишь. Или ты по ней еще и соскучиться-то не успел?» «Почему не успел? Обязательно успел…»25
Все было как раньше, они жили снова вдвоем: Райка и Афанасий Иванович. Тесть обрадовался мурашовскому приезду даже больше, чем сама Раиса. Если она вообще была ему рада. Она стала хмурой, улыбалась словно нехотя, гладила мужа по щеке не ласково, а скорее снисходительно. А Афанасий Иванович при виде его закричал: «А-а, командир роты! Поздравляю с высокой должностью! Я так и знал, что ты долго не засидишься внизу». «Да это случайно получилось…» — слабо трепыхнулся Павел. «Ничего случайного не бывает, не бывает, запомни, дорогой мой». Мурашов удивился: неужели для Райкиного отца так важно, в какой должности он служит? Разве в этом дело? Афанасий Иванович впервые в тот вечер напился пьяный у Павла на глазах, обнимал его и высвистывал тонким голосом: «Мы красс’ армия! Ура! Крас’ командир — это самая почетная служба. У меня Паша… крас’ командир…» Он долго шумел, не ложился. Уже заполночь Райка угомонила его, и супруги пошли посидеть вдвоем на кухне. «Что-то ты хмурая какая-то», — заметил Мурашов. «Тяжело мне, Паша…» «Понятно… Первая беременность — это дело не простое». «Не только это…» «А что, что такое?» — встревожился он. «Да ничего. Лучше не спрашивай сейчас. Да… Быстро ты примчался, как только я далеко оказалась. А когда рядом была — и не вспоминал. Летел в такую даль… хотел увидеть, что ли? Или — любишь меня, Паша?» «Да вот командировка случилась, понимаешь». «А-а, командировка…» Он недоумевал: что случилось? Чего она опять хочет от него? И так кончилась как-то незаметно эта короткая поездка, и он укатил обратно. До начала войны, когда он вернулся в роту, оставалось всего три дня. Потом было отступление — в зное, пыли, под бомбежками, с тяжелыми боями. И не раз он вспоминал и благословлял Райкину мысль уехать перед родами к отцу, в центральную Россию. Куда бы она поехала отсюда, как добиралась бы до тылов? Да наверняка еще родила бы по дороге. Даже жутко подумать. Когда и здоровому человеку, ничем не обремененному, не всегда выпадало остаться живым в той обстановке. Эвакуацию командирских семей провели спешно, но неизвестно, многим ли довелось добраться до тыла, тем более что и понятие-то «ближний тыл» утеряло прежний смысл в боевой обстановке, противник мог появиться везде, в самом неожиданном месте. Да еще и самолеты, висящие над дорогами… К Оргееву мурашовская рота вышла в составе восьми человек, сам он был ранен в руку, но держался. В боях за этот город его шарахнуло уже более основательно: сзади разорвался снаряд, Мурашова оглушило, опрокинуло на землю, и три осколка ударили в спину. В санбате вытащили осколки, перевязали лейтенанта и отправили за Днестр. Оттуда в числе других тяжелораненых его отправили транспортным самолетом в глубь Украины, а дальше поездом — за Москву, на Волгу. Поправлялся он медленно: головные боли, судороги, вдобавок открылась рана на руке. Только в середине сентября он смог продиктовать и отправить письмо отцу с матерью и Раисе. За жену он переживал больше всего: как же, ведь она должна была родить еще в конце июня! Но сначала пришел ответ от родителей: они писали, что потеряли его, беспокоились, и хорошо, что он все-таки живой, а раны заживут; сообщали всякие домашние и слободские новости. И еще он прочитал: «Да, Павлик, ты ведь теперь отец. 2 июля пришла телеграмма от свата Афанасия Ивановича, что родилась дочка, то есть ваша с Раей дочка, а нам внучка. А потом мы получили письмо от самой Раи, что дочь она назвала Нонной, но что же сказать, видно, это имя вы сами ей выбрали, а мы не станем спорить и говорить свое. Она очень переживала, что в тех местах, где ты служил, шли большие бои…» Прочитав письмо, Мурашов ходил сам не свой, то радовался: дочка родилась, такое чудо! — то тревожился: как-то они там? — то удивлялся: что за блажь была назвать девочку непонятным, во всяком случае, нерусским именем — Нонна? Ведь они договорились дать дочке имя Катя, а если будет мальчик — Андрей. Весточка, которую он получил вскоре от Раисы, была довольно короткой: «Павел, мы с папой очень рады, что ты жив и поправляешься. Наша дочь Нонночка растет хорошо, когда смеется, у нее ямочки на щеках, все говорят, что она похожа на меня. Пока я не работаю, но жить становится все тяжелее, наверно придется пойти на службу, обратно в училище или куда, я не знаю. Желаем тебе скорее выздороветь. До свиданья. Рая». Вот так. Ни «целую», ни «желаю видеть», ни «твоя». «Рая», и все тут. Здоровье Мурашова в это время пошло на поправку, и он сел за обстоятельное письмо жене. И в день выписки получил ответ: «Паша, не сердись и извини, но мы не будем с тобой больше вместе никогда. Конечно, сейчас война, и не надо бы военному узнавать такое, но ты же сам хотел этого и просил, чтобы я все объяснила. Да если бы я не приехала сюда и не почувствовала старое, я бы так не написала. Паша, я любила капитана Казакова, ты его знаешь, преподаватель топографии в училище. Между нами ничего не было, но я готова была на все, чтобы он обратил на меня внимание. В тот день, Восьмого марта, я встретила его в училище, отозвала в сторону и сказала о своем чувстве. Он ответил, что у нас ничего не выйдет, у него двое детей, и разводиться с женой он не собирается. А связи в училище, где все на виду и ничего нельзя утаить — дело опасное и ненужное. И ушел. А я стояла, как оплеванная. Отпросилась домой с работы, остаток дня проревела, а вечером пошла в Дом Красной Армии, чтобы развеяться. Когда ты предложил выйти за тебя замуж, я сначала растерялась, потом хотела посмеяться над тобой. Но я к тебе хорошо относилась как к человеку, и еще — меня задело и удивило, что ты не сказал, что любишь меня. Просто — что тебе двадцать пять лет и тебе надо жениться, а я тебя в этом смысле устраиваю. И я подумала: какого черта? Так и ходить, униженной Казаковым, а этот хоть не будет, может быть, лезть в душу. С этой поры старалась думать только о тебе. Папа был против, он хотел сделать мне партию, но я его убедила. Ты не говорил со мной о своей любви, не хотел даже соврать, и я почувствовала, что это меня тоже унижает. Тебя будто не касалось никакое чувство, ты жил только своими делами. Потом вообще уехал от меня балакать по душам со своими подчиненными и молдаванами. Можешь возразить, что я ходила вечерами на репетиции. Да, ходила и все думала, что ты однажды запретишь, устроишь скандал, скажешь, что хочешь видеть меня вечерами рядом с собой. Но ты был равнодушен. Когда ты уехал командовать ротой, я крепилась, веселилась на людях, а по ночам плакала одна, потому что тебя не было. Мне захотелось на родину, где я жила совсем другим человеком, а еще — увидеть Казакова. В твой приезд на учебу я еще надеялась на что-то, а под конец поняла: бесполезно. Ты бессердечный человек, Паша. Делаешь только то, что положено, что надо, что прикажут. Дал ли ты душе волю хоть раз? Нет. И дочку свою я назвала по имени дочки капитана Казакова. Когда ей было две недели, я пошла в училище, чтобы его встретить, но мне сказали, что он уже на фронте. Это было для меня великое горе, но я сказала себе: ну и что же, что его нет? Ведь я его люблю, разве мало? Вот так, Паша. Я все решила написать честно, чтобы уж обрезать все концы и надежды. Зачем? Когда так получилось, не стоит возвращаться назад и начинать сначала то, что противно. Вышли сюда заявление о разводе. Девочка будет при мне, я ее выкормлю и воспитаю, а после войны разберемся. Я устроилась кассиром в кинотеатр, папа тоже работает, так что за нее не беспокойся. Не пиши больше и знай: старого не будет. Прощай. Рая».26
В запасном полку его спросили: «Товарищ лейтенант, в каком качестве желаете продолжать службу? Вот тут в ваших документах первая запись — „Командир саперного взвода“, вторая — „Командир стрелковой роты“. Очень нужны и те, и другие. Решайте быстрее!» «Давайте, пойду на роту». «Желаете быть общевойсковым командиром? Похвально, похвально…» «Да мне все равно. Может, в пехоте хоть меньше на брюхе ползать буду». Ему действительно теперь было все равно. Мурашов принял роту, через неделю в бою под Можайском ему прошило пулей легкое, и он снова надолго угодил в госпиталь. Оттуда он послал Раисе денежный аттестат и просил выслать в письме две фотокарточки, ее самой и дочки. Обратно вернулся один аттестат, на нем чернилами написано было: «адресат выбыл». Мурашов сделал запрос в милицию по месту жительства, оттуда пришло сообщение, что Мурашова Раиса Афанасьевна проживает по старому адресу. Значит, сама выслала обратно аттестат и сама написала эти слова. Для Мурашова это было страшным ударом. Еще целых два года он таскал по фронтам и госпиталям свой тяжкий груз. А в конце сорок третьего, на Ленинградском фронте, получил от матери такое послание: «Паша, к нам приезжала Рая с вашей дочкой Нонной. Паша, Рая показалась мне совсем не такая, как на карточке, где вы сняты вместе. Лицо красное, голос хрипит, курит. Но одета неплохо. Она сказала, что ушла от тебя, у нее сейчас совсем другая жизнь и вы даже не имеете переписки. Отца у нее то ли посадили, то ли он сам добровольно уехал, в общем, живет теперь на Севере и работает рабочим. Я хотела ей дать номер твоей полевой почты, но она отказалась, сказала, что это для нее все отрезано. А потом стала просить, чтобы мы взяли на время Нонночку и она пожила у нас. Вот ведь что было, Паша! Ну мы с отцом не могли отказаться, все-таки она твоя дочь и наша внучка, уйдет с матерью и может потом вообще потеряться и где ее станешь искать? Тем более, что мы получаем довольствие по твоему аттестату. Когда мы согласились, она отдала нам дочкино свидетельство о рождении, попрощалась и ушла. А куда и зачем уходит, не сказала. И больше не была. Она ведь даже не знала, жив ли ты. Нонночка тоже была одета неплохо, и с собой у нее был узелок с платьицами, штанишками, чулочками и ботинками. Теперь она живет с нами, но, Паша, должна тебе сказать, что девочка не очень хорошая, с дурными привычками, врет, рассердится — может стукнуть об пол что чашку, что блюдечко и ругается плохими словами…» Мурашова аж пот прошиб, когда он читал это письмо в холодном блиндаже. Девочка нашлась, живет с его матерью и отцом! Но что же такое стряслось с Райкой? Ну, пускай идет своей дорогой. Для него теперь главное — дочка. Надо звать друзей, сообщить о радости. Только вот проглотить это материно: «Девочка не очень хорошая…» Она не она будет, если не кольнет Павла хоть в одном письме. Он ответил ей так: «Ну, мама, зачем ты написала „девочка не очень хорошая“? Ей ведь всего два с половиной года. Воспитай ее! И не заставляй меня лить здесь горькие слезы из-за твоих слов, когда и так кругом огонь и смерть. Я знаю, ты пытаешься сделать мне больно из-за гибели Васи, но пойми еще раз, что я в ней нисколько не виновен, там нельзя было никого найти и ничего сделать…» Младший в семье, Вася, любимец отца и матери, погиб под Сталинградом, простым солдатом; мать считала, что Павел, будучи командиром на том фронте, мог найти брата, определить в свое подразделение и спасти от смерти. Глупое рассуждение. Когда идут такие сражения — до родни ли, да и что может сделать в таких делах какой-то командир роты!27
Под утро, подъезжая к Ямам, прошумела мотором машина. Шум потерялся в оврагах, нарытых когда-то людьми. Мурашов заворочался, но не проснулся. Лишь когда приглушенно защелкало, он встал. Осторожно вылез на взгорбок. Машина, пыля, катила уже к городу. Капитан подошел сверху к оврагу, в котором она только что стояла, и, осыпая сухую глину, начал спускаться. На том месте, где кончались следы колес, он нашел пустую бутылку из-под водки. Понюхал — запах свежий. Двигаясь к почти отвесной стене оврага, Мурашов увидал на желтой земле поношенный постол, самодельный башмак из кожи, и подобрал его. Повертел в руках, вгляделся. Этот постол он узнал бы из тысяч других! Когда шли по аэродрому к будочке, где разведчики ожидали вылета, радист Гриша Кочнев зацепил ногой валявшуюся проволоку и порвал свой башмак. Сам майор Перетятько пошел к сапожнику из батальона аэродромного обслуживания, принес оттуда шило с зацепочкой на конце, вар и моток грубых ниток. Вот же он, шов… У Мурашова перехватило дыхание. Возле края оврага глина была свежая, словно ее только что рыхлили. Он стал руками разгребать ее и уже на глубине сантиметров восьми увидел запачканную желтую пятку. Склонившись, стал рыть рядом — там была нога в постоле. Гриша! Мурашов выпрямился, оглядел место расстрела. Красным пятнышком лежал невдалеке детский башмачок. Судя по полосе взрыхленной земли, рядом с радистом было закопано еще несколько человек. Видно, вместе с Гришей убили и жителей квартала, где был найден мертвый солдат. Мурашов заровнял вырытые им ямки и пошел, шатаясь, прочь из оврага. Прощай, Гриша! От той садовой калиточки ты передал последний привет. Прощайте, незнакомые люди. Простите, если можно… Капитан по перемычке между оврагами поднялся к месту, где спал и где остался его мешок. И лишь сел, опустив голову, как услыхал резкое, визгливое: — Пе-пе! Пе-е!.. Обернулся — полицай стоял рядом и целился в него из винтовки. «Ну и бес! Видать, верно у него нюх собачий!» Мурашов встал, поднял руки. Немой довольно оскалился, и лицо его из-за этой улыбки казалось еще более жестоким. Он опустил оружие, держа палец на спуске. Двинул стволом: ну, пошел! Мурашов указал взглядом на мешок, но Пепе издал такой гнусавый пронзительный вопль, что капитан понял: полицай до смерти боится его. И чуть-чуть только одно неверное движение — застрелит без всяких раздумий. «Однако… да, это попал! И — кому, главное! Тьфу ты!..» С поднятыми руками он взошел на небольшую горку. Немой был все время настороже; мелко ступая, он приблизился к месту, где лежал мешок, и поднял его. «Пе-е-пе!» — новое движение винтовкой. Надо идти. Будь ты проклят, образина неладная! Ну-ну, не надо… Пусть он образина, пусть немой, а вот сумел же найти и взять тебя, капитана Советской Армии, комбата, здорового мужика без изъянов… Но с раздражением и злостью пришел азарт, тело налилось силой, все нервы обострились и стали необыкновенно чуткими. Как на фронте, в том отрезанном для него мире. Он ступал все тише и тише, стараясь как можно больше приблизиться к немому полицаю. И вдруг обернулся вбок и слегка кивнул, словно давая кому-то знак. По идее, Пепе тоже должен был, хоть на мгновение, отвлечься в ту сторону, однако смотреть, что там делает полицай, было уже некогда. Или пан, или пропал! Мурашов пружиной кинулся в ноги полицаю. Над его головой сгрохотал выстрел, пуля ударилась о сухую глину и отлетела куда-то недалеко. Пепе упал и завизжал. Капитан вывернул у него винтовку. Немой отгребал от себя руками, словно пытался оттолкнуть неизбежное. Слюни летели изо рта: «Пе! Пе! Пе! Пе-пе-е!..» «Что, сволочь, жить захотел? А те, кого ты убивал да в тюрьму таскал, не хотели? Умей хоть умереть достойно, гад!» Мурашов наклонился и взял его за горло. Он даже не почувствовал сопротивления тела: пальцы сделались, как обхваты железных клещей. Полицай побил ногами, выгнулся и затих. «Ну, врешь… — подумал Мурашов, стоя над убитым врагом. — Я отсюда не уйду. Гриша, Михай с бабкой, летчики, жители с того квартала… как их оставишь? Надо что-то делать. Бить надо собак. Они у меня еще умоются». Капитан скинул труп вниз, на могилу расстрелянных, лег над обрывом, положил рядом винтовку с вынутыми из карманов Пепе патронами и стал ждать, когда приедет машина с новыми жертвами. Он теперь знал, что ему надо делать в этом городке. Прошел день — машина не появилась, вообще никто не появился ни на дороге, ни в окрестностях. Изъятая у полицая кукурузная лепешка еще больше обострила голод, но самой мучительной была жажда. На исходе дня Мурашов понял, что сидение здесь может оказаться бесполезным: кто знает, когда появятся палачи с жертвами? Врагов надо искать. Он закопал винтовку и около полуночи стучал уже в дверь дома, где жила бэдица Анна. — Кто это? — донеслось наконец из сеней. — Я, бэдица. Тот человек, что отдал тебе деньги за приют. Я был со старым цыганом, помнишь? — Нет, не помню. Иди прочь! Уходи! — Не надо шутить такими делами, тетка. Это опасно. — Опасно, опасно! Сейчас все опасно. Зачем я только связалась с этим цыганом… Тебя никто не видел? — Что за разговоры… Открывай! Тетка снова ушла в дом, и Мурашов увидел, как засветилось окно за занавеской. Визгнул пол в сенях, и в появившемся между дверью и рамой зазоре возникла сначала керосиновая лампа, огонек ее нежно лизал изнутри стекло, затем обозначилось лицо бэдицы. Она взяла капитана за руку и повела за собой. — Проклятые люди, — ворчала она. — Нет и нет мне от них покоя. Старая разбойница! Это не люди, а их деньги не дают тебе покоя. Запах теплого человечьего жилья окутал Мурашова. На столе стоял кувшин с водой, и он выпил его одним махом. — Где ты был, где пропадал, ундэ, рэтэчешть а тыта,[9] что такой голодный? — голос тетки подобрел. — В каких был краях, какую искал добычу? Ты добрый мужчина. Сейчас я дам тебе хлеб, сыр и вино. А потом в подвал. Мурашов съел все, выпил вино, и его потянуло на сон. По лесенке следом за бэдицей он спустился в подвал. Там возле одной земляной стены стоял шкафчик из старого дерева, уставленный разным хламом. Анна повозилась около него и вдруг, ухватившись за бок, потащила на себя. Шкафчик повернулся, словно дверь, и открылся обделанный деревом лаз. — Иди туда! — бэдица показала на лаз. — Иди, не бойся. Еще у моей матери скрывались добрые ребята. Сиди тихо! Там есть ход в сад. Если придут искать, уходи по этому ходу. Ты пойдешь завтра на свои дела? — Когда стемнеет. — Днем я принесу тебе еду. Ну, лезь! Сорвешь крупную добычу — не забудь бедную старую тетку Анну. Мурашов втиснулся в лаз. Сзади раздался скрип задвигаемого шкафа, и стало совсем темно, исчез питающий мрак скудный керосиновый отблеск. Метров через шесть лаз кончился, капитан выполз на земляной пол. Зажег спичку — пламя повело вбок. Вот она, вытяжка, уходящая из стены вверх неширокая жестяная трубка. Капитальное убежище… Небольшой грубый стол, две табуретки, две накрытые коровьими шкурами деревянные лежанки. В головах — кожаные подушки. «Вот я и попал в настоящее подполье!» — невесело усмехнулся Мурашов. Полез по шаткой лестнице к деревянной дыре, тоже обшитой досками. Всунувшись в нее почти по пояс, он нащупал закрывавший ее сверху щит и сдвинул его. На лицо посыпалась земля, видно, наложенная бэдицей для маскировки. Капитан поднялся выше, голова его оказалась в саду, среди травы и корней. Шелестели листья, множество звезд обрамляло деревья. Повел рукой — вот ветка, другая, потом казанки пальцев ткнулись в железо. Бочка. Мурашов поставил щит на место и стал спускаться обратно. Засесть здесь, дождаться наступления и после прихода наших заявиться к бэдицэ в капитанской форме… Вот будет для нее сюрприз так сюрприз. Конечно, хитрая и жадная тетка живо повернет это обстоятельство себе на пользу: у нее укрывался советский офицер! Но сидеть в надежной яме так просто — это шалишь! Свою войну он уже начал. Пока в городке есть полицаи, немецкие и румынские солдаты — он среди врагов. А врагов надо убивать. Каждый убитый — помощь своим войскам, своему батальону. Завтра он начинает свою охоту за ними. Есть нож, есть пистолет, можно натворить дел!28
А в ночь, когда они вылетели с Гришей, в небе были высокие облака и дул ветер. Перетятько то садился на железное сиденье рядом с ними, то вскакивал и бежал к кабине, стоял там между креслами летчика и штурмана. «Ты успокойся, посиди, — сказал ему Мурашов. — Чего ты мешаешь ребятам?» «Пусть чувствуют контроль! — отвечал майор. — А то завезут еще, с ними бывает…» Бывает, все бывает… Инструктор по прыжкам рассказал Мурашову недавно случившуюся в этом отряде историю: сразу после ночной выброски разведгруппы в эфир ушла радиограмма — в ней радист открытым текстом сообщил, что произошла ошибка в определении района десантирования: они были сброшены не на лес, а на открытую местность, на окраину города, в место расположения немецкой части. Группа ведет бой. Это сообщение пришло, когда самолет еще находился в воздухе. После посадки и заруливания на стоянку экипажу по радио приказано было оставаться на местах. К транспортнику подъехали два «виллиса», несколько офицеров из них прошли в кабину. Вскоре летчиков под конвоем куда-то увезли. Суд трибунала был коротким и безжалостным. Офицеров приговорили к расстрелу, а сержантов из экипажа перевели в другие части. Сочувствия к расстрелянным, во всяком случае у Мурашова, рассказ не вызвал: зевнули, что-то напутали, недоучли, а в результате погибли люди, целая группа, сорвалась долго и тщательно готовившаяся операция. На войне за такие дела нельзя не карать, и карают сурово. В этой каре урок другим: глядите и помните! Вот во что могут вылиться забвение приказа, халатность и небрежное отношение к обязанностям. Мурашов сам дважды в бою расправлялся с трусами и никогда не имел по этому поводу никаких сожалений. Таков закон боя! Об одном из них, молоденьком солдате Рочеве, замполит сказал: «Эх, парень, парень! Мальчишка, из темной деревни, первый бой… вот и дал деру, дурак…» «Боец, находящийся в атаке и видящий в панике бегущего в тыл солдата, — тяжело отчеканил Мурашов, — не знает, мальчишка это или нет. Он только видит, что человек бежит. И думает: что такое? Атака сорвалась? Или передние ряды попали под кинжальный огонь? Может, пора уже падать, зарываться? Или тоже бежать обратно? И не смей больше жалеть их. Матери Рочева пусть сообщат: погиб там-то. Без „смертью героя“. И без „смертью труса“. А то затравят старуху… А в донесении укажи, как было». Возвращаясь от летчиков, Перетятько подсаживался то к радисту, то к капитану и начинал «разряжать обстановку». Мурашову сказал, например: «Я все письма вам хранить буду. В сейфе! Так что ты не волнуйся, Паша». «А я не волнуюсь. Мне ведь никто, кроме матери, не пишет, да и та редко». «Да ну! — удивился майор. — Ты, слушай, не сочиняй! Чтобы по тебе, такому кудрявому, чернявому, не сохли бабы — это ты брось, пожалуйста. Неужели ты, почти разведенный, за всю войну так и ни с кем и не закрутил?» Что делать — за всю войну у Мурашова была только одна женщина — сварщица Тася из города, где он лежал последний раз в госпитале. Их завод шефствовал над госпиталем, и однажды Тася появилась в мурашовской палате. Она и еще трое женщин. Принесли скудные подарки: каждому по пачке папирос и кулечку печенья. Младшую из четверки — сконфуженную, хихикающую девушку — сразу взяли в оборот два долечивающихсялейтенанта, тетки постарше сели к койкам лежачих раненых и завели с ними обстоятельные беседы; Тася сразу подошла к Мурашову. «У вас что, одни офицеры лежат?» «Да, это офицерская палата». «Я и гляжу — вроде почище, народу меньше… Все образованные, наверно?» «Какое уж такое особенное образование… Потери среди офицерского состава большие, училища не возмещают, иных готовят на курсах прямо при дивизиях, а там образование большой роли не играет. Отбирают просто смышленых солдат, чаще сержантов, тех, кто сможет, по мнению комплектующих курсы и непосредственного начальства, принять взвод и командовать им». «А если не сможет, все-таки?» «Совсем тупых отчисляют; зато уж когда шлепнули на плечи по звездочке, тогда спрос другой. Спросят и за себя, и за солдат, и как воюешь, если что не так — могут взять в такой оборот, что и костей не соберешь…» «Объясняете мне, словно путной, — закокетничала Тася. — Будто я что-то понимаю… Вы тоже из таких будете, да?» «Нет, я кадровый, окончил училище еще до войны. Старший лейтенант Мурашов, командир роты». «Старший лейтенант? И воюете с самого начала? Все командиром?» «Даже больше — в такой же должности начал войну, в какой состою сейчас. Вы хотите сказать, что на фронте люди быстро растут? Кто ведь как. Тоже везение надо. Я вот шестой раз в госпитале — какой тут может быть рост? Живой — и то ладно». «Да, это главное! — согласилась Тася. — А жена, дети, родители есть у вас?» «Отец с матерью. Больше никого». «Не успел, что ли?» «Успел… да все как-то перекурочилось, ничего теперь не разберешь». «Ну ничего, — Тася погладила его по плечу. — Сейчас многим тяжело, время такое. Мне вот с пацаном легко, думаешь? Я сварщица, у меня работа тяжелая, в цехе с утра до вечера, а он один без меня целый день, пятилетний мальчишка. Вся душа, бывает, изболится за него. А то, бывает еще, кольнет сердце: что-то с ним в этот миг случилось! Возьмешь держак и шва не видишь, глаза слезы застилают…» «Он еще не сирота, — сказал Мурашов. — Вот сирот-то военных я повидал — это уж да… От их вида хочется бить врага еще крепче». «Давай хоть познакомимся. А то калякаем, друг друга не зная. Тася. А тебя, значит, Павел. Вот и ладно. Ты давно лежишь-то?» «Порядочно наберется. Через неделю, наверно, выписывать будут. И — опять вперед». «Если хочешь — загляни перед отъездом, я оставлю адрес. Только после девяти, раньше я с работы не бываю». Мурашов обвел взглядом палату — никто не обращал на них, сидящих рядом на койке, внимания, оно отвлечено было девчушкой и пожилыми тетками. «Ты… что, серьезно?» «А что? Я ведь в свои двадцать пять лет не собираюсь в монашки записываться. Ты мне понравился, ну вот и ладно. Сколько разговариваем, я от тебя ни одной глупости, ни одной шуточки пакостной не услышала. Вот и приходи». «Завтра! Я уйду отсюда вечером, постараюсь». «Завтра так завтра». Подготовку к визиту Мурашов начал еще днем: насобирал денег, уговорил особо доверенную нянечку сходить за вином и провизией на рынок, договорился насчет формы, два-три комплекта которой постоянно имели хождение среди выздоравливающих офицеров. Вечером оделся в палате. «Мужики! У кого есть погоны?» Ему принесли лейтенантские, артиллерийские. «Сойдут!» Руку еще кололо в раненом предплечье, когда он взбирался на забор, отгораживающий госпиталь от городской улицы. Тася жила в одноэтажном заводском бараке, с длинным коридором. Открыла на стук: «Ой, здравствуй. Как нашел-то?» «Да вот, нашел…» Он снял у порога сапоги и прошел в комнату. Там, за столом, сидел мальчик и ел картошку, макая в соль. «Вкусная картошка-то? — спросил Мурашов. — Ведь свежая!» «Ага. Мы с мамкой недавно копали». «Павел! — донеслось из кухни. — Ты чего-нибудь принес?» «Ну, как же!» — он поставил на стол вынутые из карманов галифе бутылку вина, банку рыбных консервов и крохотный круг колбасы. «Вот что, — Тася взяла банку. — Это я отнесу соседке — старушке, у которой Сашка будет сегодня ночевать. Бабка голодает, двух сыновей у нее убили, а снохи не помогают, у самих семьи большие. Пускай перед сном с Сашкой полакомятся. Мы с тобой и без этого не пропадем, верно?» «Нет разговоров», — ответил Мурашов. Тася отвела мальчика, и они сели за стол. Она часто терла глаза, они у нее были красные, слезились. «Нахватаешься за день от сварки, — объяснила она, — вот и болят». «Ну что ж, первый тост, — сказал Мурашов, — положено за женщин. За них! За тебя, Тася». Они чокнулись и выпили. У нее было курносое скуластенькое лицо, нос в веснушках, мягкий круглый подбородок. Покачала головой: «Как метель эта война. Поднялась и крутит, крутит, холод, голод, все перемешалось. Иная баба за двух человек ломает, а иной мужик хуже бабы — устроился, окопался и ни черта работать не хочет. Еще и утащить норовит. У вас там, на фронте, Паша, нашего брата тоже, поди, хватает?» «Да есть… Вот уж кому не надо бы там быть, так не надо. Они с одними мыслями на войну идут, а к ним совсем с другими стараются подлезть. Мужик ведь дичает, бесшабашным становится. Но есть которые и приспосабливаются, и себя отстаивают, и воюют неплохо…» «Как-то после войны снова привыкать ко всему станем? От многого ведь отвыкли». «После войны… Во-первых, дожить еще надо. Мне, во всяком случае. Во-вторых, если на гражданку пойду, тогда жизнь снова, как мальчику, начинать придется». «Что, боишься? Ничего не умеешь, кроме как стрелять да командовать?» «Ну, почему же? У меня специальность хорошая есть, до армии я на пневмомолоте работал, в кузнечном. Ничего, как-нибудь пристроюсь». «А как с семьей быть? Отец с матерью невесту еще не ищут?» «Семья — это тяжелая для меня дума. Первая жена не стала со мной жить, почему — не знаю, пропала вместе с дочкой. С тех пор как-то… не очень я к вашему брату. Вот если бы ты дождалась меня, Тася! Какое у тебя лицо хорошее. Я бы на тебе женился, ей-богу! На одном заводе будем работать. А, Тась?» «Да что ты, чудачок! — она расхохоталась. — Ой, ну и чепуха! Пригласила мужика, называется. Ты, думаешь, ко мне первый из госпиталя прибежал? Вот так-то… Но это бог с ним, можно забыть, можно замыть. Главное — я своего мужика жду и буду ждать. Если ему тут на меня не наплетут и не откажется, станем жить, как раньше». «Вон что… А вдруг не вернется?» «Вернется. Он на Северном флоте служит, шофером на базе. В атаки не ходит, так что есть верная надежда». «Может, хоть напишешь мне?» «Нет, не надо, Паша. Пока здесь — приходи, привечу. А дальше — не надо». Она встала со стула, подошла к Мурашову, прижалась мягкой щекой к его щеке. «Вообще ты очень хороший мужик. Ну, давай любовничать, наше время короткое…» Они провели вместе ночь и больше не виделись. …Легкий Як-6 нырял в ямы, дребезжал моторами. Мурашов наклонился к майору: — Я не пойму только, откуда такая уверенность, что именно наша армия будет брать этот городишко? Сделают перегруппировку, нарежут другую полосу, и — все. — Ты кончай эти настроения. Что там начальство решит — нас не касается. Мы делаем свое. Кому бы что ни нарезали — все равно наше будет. Он подошел к кабине, о чем-то потолковал и обернулся к радисту и капитану: — Давай готовься, ребята. Кажется, подъезжаем.29
Мурашов проснулся и насторожился. Сквозь толщу земли ему послышались тяжелые шаги по полу, грубые мужские голоса. Кто-то ходил в доме бэдицы и разговаривал. И ее голос доносился в подвал, только не слышно было слов. Он вылез в ведущий к погребу ход, толкнул закрывающую отверстие дощатую заслонку. Бесполезно. Заперто. Прислушался. Говор слышался, но слов нельзя было разобрать. Внезапно все стуки исчезли и стало тихо. Мурашов пробрался обратно в конуру, отведенную ему для ночлега, и попытался выбраться наверх. Однако и верхний люк не поддавался, его придавили чем-то сверху. Вот так оказия! Капитан опустился на лежанку и стал обдумывать положение. Может быть, тетка донесла властям, что у нее скрывается неизвестный человек? Но тогда до него добрались бы уже, а тут — тишина… Часа четыре прошло, прежде чем стукнула заслонка, и теткин голос долетел из подвала: — Эй, ундэ рэтэчешть а тыта, слышишь меня? — Это ты приперла меня сверху, бэдица? — Что же мне было делать! Сегодня утром в город вошло большое войско. Румынские солдаты. Их отправили жить по домам. Ко мне поселили двоих. Я испугалась и поставила сверху бочку, чтобы ты не стал вылезать у всех на глазах. — Где они сейчас? — Куда-то ушли. Поспали немного и ушли. — Войско идет к фронту, к Днестру? — Я не знаю. Они только что из Румынии. — Оружие у них есть? — Да, такие короткие ружья, что часто стреляют. Сиди тихо и никуда не шляйся. Они уйдут завтра утром. — Солдаты сказали, когда вернутся? — Да. Часам к пяти. Будут отдыхать, а вечером пойдут, в кино. — Сколько сейчас времени? — Двадцать минут пятого. — Мне надо выйти, бэдица. — Не смей и думать! Сиди тихо. Я принесла тебе поесть, возьми. Ногами вперед Мурашов нырнул в лаз. Отжал стенку вертящегося шкафа и оказался в подвале, перед испуганной теткой Анной. — Зачем ты сюда пришел?! — злобно завопила она. — Тихо! — капитан достал из-под ремня пистолет и показал ей. — Только вздумай пикнуть. — Ты хочешь их ограбить? — глаза бэдицы сверкнули в темноте. — Не делай этого. Ведь они солдаты, у них ничего нет. Грабить солдата — большой грех, разве ты не знаешь? Потом, ты ограбишь и уйдешь, а я что скажу им? Меня отведут в тюрьму. Не надо меня подводить, ведь я помогла тебе. — Будешь слушаться, все обойдется хорошо. Лезь туда! — Мурашов подтолкнул тетку к лазу, ведущему в конуру, где он провел ночь. — Не упрямься, я не шучу с тобой! Пыхтя и ругаясь, Анна втиснулась в отверстие. Капитан последовал за ней. Надо было торопиться. В убежище он отрезал своим острым ножом кусок кожи от подушки, плотно свернул его и засунул тетке в рот — вместо кляпа. Связал ей руки. Наказав еще раз сидеть тихо, если хочет остаться живой, капитан вернулся в подвал и задраил люк, задвинул его шкафчиком. Вылез в горницу, опустил подвальную крышку. В сенях убрал дверь с засова. Сам покинул дом и притаился за старой сарайкой в саду. Скоро прогрохотали ботинки — солдаты вошли в дом. Мурашов слышал сквозь открытую дверь, как они переговаривались между собой. — У этих молдаван никогда не было порядка. Оставила дом открытым, а сама куда-то ушла. Долго ли до беды! — Наверно, она ушла куда-нибудь недалеко. К соседям. — Если к соседям, она бы увидела, как мы вернулись, и прибежала домой. Скорее всего, она в саду. Я схожу за ней. — Не вздумай баловать с ней там под деревьями. Она старая, это можно делать только ночью. — Ха-ха-а… Раздались шаги, и тотчас рядом с углом, за которым притаился Мурашов, возник профиль молодого солдата. Он не успел увидеть капитана, даже сада, где собирался искать хозяйку, — Мурашов молниеносно схватил его за горло, и тот забился в его руках, пуская пену. Затем втащил труп в сарайчик, сдернул с него китель, натянул на себя; тихо двинулся в дом. Второй солдат, почувствовав движение неподалеку, крикнул: — Это ты, Киореску? Нашел хозяйку? Он стоял за столом, спиной к двери, и что-то чистил. Капитан ударил его ножом под лопатку. Пачкая кровью половицы, вытянул из дома и тоже положил в сарае. Сходил, закрыл на засов дверь. Теперь надо было решать с теткой. Мурашов отодвинул бочку, стоящую на щите верхнего лаза, спустился вниз. Бэдица задыхалась от ярости, ворочала глазами. Он вынул кляп из ее рта, развязал руки. «Давай за мной, тетка!» Она вскарабкалась наверх, пожмурилась от света. — Чтобы тебя разорвало на мелкие части! — шипела она. — Я думала, ты ограбил меня, пока не было солдат. Но тебе не найти моих денег. И хоть что со мной делай, я не дам тебе их, не покажу. Что ты задумал еще, отвечай, разбойник, пакостник! — Не шуми, — сказал ей Мурашов. — Ведь тебе же было сказано. Он привел ее к сараю и открыл дверь. Бэдица охнула, захватила лицо. Ноги перестали ее держать, она грузно опустилась на землю. — Что ты наделал… Что ты наделал… О-о, беда, беда-а-а!.. — Тебе надо уходить, тетка Анна. — Куда, куда я уйду? Разве тут можно скрыться? — Уходи, куда хочешь. Я должен был их убить. На крыльце послышались шаги, и кто-то постучал в дверь. Тетка вздрогнула, лицо ее обтянулось, руки обреченно повисли. Мурашов больно ткнул ее в спину, сделал повелительный жест. — Кто там стучит? — визгливо крикнула бэдица. — Открой, хозяйка, — раздался мужской голос. — Мне нужны твои постояльцы. Они ведь дома? Капитан мотнул головой, указал в сторону города. Анна закивала, лицо ее приняло осмысленное выражение. — Их нет, они ушли! — Куда? — удивился мужчина. — И когда они успели? Ведь договорились, что я приду к ним, мы условимся насчет вечера и тронемся вместе! — Ничего не знаю. Господа солдаты вернулись и сказали мне, что уходят в город дотемна. Они только выпили немножко вина. Солдат выругался и затопал с крыльца. — Вот видишь, — сказал Мурашов бэдице. — Все будет хорошо, как сейчас, только не надо трусить. Она встала, криво усмехнулась, хоть кисти рук ее по-прежнему тряслись, и пошла в дом. В горнице, где было свалено в углу солдатское снаряжение, капитан обнаружил два автомата, в каждом подсумке — по паре снаряженных запасных рожков; четыре противопехотных гранаты с длинными ручками. «Вот это хле-еб!» — обрадовался он. Бэдица стояла в проходе между горницей и кухней и смотрела, как он укладывает гранаты и рожки в солдатскую сумку. — Сожги этот дом, — вдруг сказала она. — Когда я уйду, ты сожги его. Лучше ночью, чтобы я успела спрятаться. — Где же ты станешь жить, бэдица, когда сюда придут наши осташи? — Сожги! — она упрямо топнула ногой. — Чтобы от него и от тех солдат в сарае остался только пепел. — Тоже правильно. При наших тебе дадут другой дом. Я постараюсь, если останусь живой. Да тебе и так дадут. Ты уже заслужила. — Не надо. Лучше буду остаток жизни нищей, свободной бродягой. Может быть, ваши осташи не станут стрелять их на дорогах, как немцы? Черт с ним, с этим домом! Прощай, ундэ рэтэчешть а тыта! Ты храбрый воин и правильно делаешь свое дело. Настоящий разбойник, эх! В окно Мурашов видел, как она с небольшим узлом, переваливаясь, шла по улице. Надо было тоже поторапливаться. Мурашов переоделся в солдатскую форму, привычно надел ботинки с обмотками. Все не так страшно! Особенно когда при тебе целый арсенал. Главное — не обратить на себя внимание, а в больших скоплениях народа это нетрудно. Ведь тетка сказала, что в город вошло большое войско. Документы и деньги из обоих кителей Мурашов сунул к себе, в один карман. Так. Пора идти. Он надел пилотку, глянул в зеркало. Нормально. Автомат за спиной, солдатская сумка на боку. Надо только запереть изнутри дом, чтобы кто-нибудь любопытный не зашел и не поднял шума раньше времени. Мурашов укрепил засовом дверь, перелез через садовый забор и оказался на улице. По ней издалека, приближаясь к капитану, двигались трое солдат, и он поспешил от них в другую сторону: мало ли, может, здесь разместили один взвод, и все солдаты знают друг друга. Тогда недолго вызвать подозрение. Нет, скорее в центр, где больше народа! Точного, определенного плана действий у Мурашова не было. Он рассчитывал, что обстановка сама подскажет, когда автомату стрелять и убивать врагов, гранатам рваться и тоже убивать. Сегодня никто не останется неотомщенным: ни летчики, ни расстрелянные жители, ни цыганенок с бабкой, ни радист Гриша. «Я им умою рожи-то!» — думал Мурашов по дороге.30
Наверно, окажись капитан профессиональным разведчиком, с обширной специальной подготовкой, рассчитанной на длительное обживание в месте заброски, он вел бы себя иначе. На грани разумного риска, но с ясным осознанием того, что в любой момент может оказаться в гестапо или сигуранце; он ходил бы среди людей, изучал их, слушал разговоры, выделял недовольных, искал бы ниточки разгромленного некогда подполья, просчитывал тысячи ситуаций и, возможно, сумел бы и легализоваться, и найти верных помощников для действий в решительный период. Вряд ли это было так уж трудно, тем более что война катилась к одному концу, и исход ее не оставлял сомнений для мало-мальски соображающего человека. Беда в том, что такой гибкости и приспосабливаемоести мышления у Мурашова не было и не могло быть, по самой сути его предыдущего военного бытия. Суть командной, да и любой другой жизни на передовой — четко поставленная задача и столь же четкое ее выполнение. Если можешь — перехитри врага, только подумай сначала, не дороже ли это тебе обойдется, чем открытый бой. И главное — убей противника столько, сколько сможешь. Этим ты приблизишь победу. Ни тени, ни отзвука прежних тревог, неуверенности не осталось на душе у капитана Мурашова, лишь только он ощутил, что хорошо вооружен для боя и может выполнять прежнюю свою солдатскую задачу — убивать врагов. И тем приближать победу. «Я им умою рожи-то…» Первое, что он увидел, вступив на городскую площадь, — качающийся на виселице труп старого цыгана. Седая кудрявая борода веялась на ветру. Старые пальцы босых ног изогнуты последним невероятным напряжением. Фанерка на груди: «Он покушался на жизнь стража порядка». Не ускоряя и не замедляя шаг, чтобы не обратили внимания, капитан прошел мимо и почувствовал, как тысячи мелких иголок впились в самое сердце. Мош, мош! На чью же это жизнь ты покушался, старый человек? Не на своего ли лучшего друга, домнуле надзирателя? Только вот — не хватило, видно, уже силенок… Где бьется и тоскует теперь твоя душа? Пусть она успокоится, мош, хоть немного, посчитаемся и за ее тоску, и за многое еще другое… А кругом, если присмотреться, происходила обычная жизнь тылового городка. Ходил задумчиво полицейский с винтовкой за плечом; три молодых румынских офицера в желтых мундирах о чем-то говорили и хохотали; пучеглазый торговец продавал вино и мамалыгу; скрипела телега с сухими шкурами; женщины судачили между собой; ребятишки, играя, с криками возились в пыли; тощая бродячая собака скулила у забора, пуская слюну… Пышная, ярко одетая молдаванка шла по площади, щелкая семечки, в сопровождении низенького, ей по плечо, гражданина Королевства, со сладкой улыбкой на злом лице. Гражданин шел резво, махал руками, и взгляд его метал огонь — видно, чрезвычайно цопкий был тип. Целью Мурашова было теперь: сделать рекогносцировку,[10] уяснить обстановку, выбрать место для боя и при первом удобном случае этот бой провести. Тут могли быть подходящими разные варианты: идущая строем рота солдат или просто скопление военных в одном месте. Однако не стоило и нервно торопиться: надо уж так стукнуть, чтобы стало действительно больно. Поддашься настроению — и можешь разменяться на мелочи. Решение пришло, когда он остановился возле небольшого дощатого кинотеатрика. Там с афиши весело скалились зубастые летчики в шлемах, затаенно улыбалась пышноволосая блондинка, и падал, пуская дым, самолет с красными звездочками на крыльях. «Музыкальный фильм о жизни, дружбе, любви и боевых подвигах летчиков одной эскадрильи героического рейха» — так значилось в афише. Сеансов было объявлено два: «18–00 — для гражданского населения, 20–00 — для военнослужащих». Экая удача! Вечер, темнота, толпа праздной солдатни… Надо проникнуть в кинотеатр, устроить там взрыв, а когда румыны в панике попрут оттуда, — успеть встретить их у выхода… Так. Сеанс начнется через час с небольшим. Успеть бы сделать мину. Надо, надо успеть! Мурашов вернулся на площадь и вошел в разместившийся внизу двухэтажного дома магазинчик под вывеской: «Разные товары Негоицэ». Плешивый толстогубый продавец откуда-то сбоку выбежал за прилавок: — Что угодно господину солдату? — Мне нужен будильник. — Есть несколько прекрасных венгерских будильников. У нас здесь, к сожалению, этот товар не пользуется спросом. Кто привык вставать рано, тот встает и так, а кто долго спит, тому тоже не нужен никакой будильник. А что, господина солдата плохо будят на службе? А? Хе-хе… — Будят, как положено. Перестаньте болтать! — Слушаюсь, слушаюсь, господин солдат! Всего триста двадцать лей. Завернуть, да? Мурашов открыл бумажник, посчитал найденные у убитых солдат деньги. — У меня двести семьдесят три леи, — сказал он. — Больше нет. Но мне очень нужен будильник. — Что же делать! Я не могу торговать в убыток. Без будильника капитан все равно не уйдет из лавки, хоть пришлось бы для этого убить продавца. Но это уж — только на самый край. Может подняться шум, и все сорвется. Да и чем виноват торговец? Хотя, если рассудить, частная лавочка, акула, холуй, ненужное лицо в будущем государстве. — Я… я занесу. Плешивец замотал головой. Тогда Мурашов вынул из кармана массивный, оставшийся от прежнего владельца никелированный портсигар с выдавленной на крышке панорамкой богатого шпилями и острыми крышами города и протянул: — Вот, дам в придачу. Торгаш осмотрел вещь, цокнул языком: — Как вам не жалко, господин солдат? Ведь это подарок. И стоит немало. Лучше пойдите и возьмите взаймы остальные деньги. Я, так и быть, подожду вас, не буду закрывать магазин. Мурашов взял портсигар, прочел на обратной стороне: «Дорогому Георге от верной любящей Мариуцы». Отдал обратно. — Если устраивает, забирайте. Это не мое. Я нашел. Начинался вечер, на площади стало больше солдат и девушек. Низкое солнце светило в спину повешенному цыгану, розово подсвечивало рубаху. Мариуца. «От верной любящей…» Как это радист Гриша говорил: «„Твоя, твоя!“ — мне пела Мариула…» Не дождешься ты, Мариуца, своего Георге.31
В придачу к будильнику Мурашов выпросил за портсигар моток бечевки и квадратную досочку с масляной аляповатой картиной: возле деревни на лужку парни и девушки пляшут народный танец «Жок». Впрочем, то, что на ней нарисовано, не имело значения для капитана, доска нужна была ему для другой цели. Теперь требовалось укромное, тихое место, где можно было бы сосредоточенно, не отвлекаясь, заняться делом. Мурашов смекнул: дом тетки Анны недалеко, минут семь ходьбы, и, если еще не «засвечен» по какой-то причине, то лучше его нет. В центре не спрятаться, в любой момент может помешать кто угодно: любопытные, праздный офицер или даже патруль. Нет, возле дома бэдицы не грудились люди, никто не знал еще, что случилось час назад за его забором и стенами. Капитан перелез через забор и устроился за домом, чтобы не видели с улицы. Достал подобранную по дороге ржавую проволочку, потер ею о скобу, счищая ржавчину. Разложил гранаты. Так. Взрыватели все на месте. Осторожно, прижав рычажок на ручке, вынул чеку из одной гранаты, вставил вместо нее проволочку и загнул ее с обеих сторон. Снял заднюю стенку будильника, сложил вчетверо нитку и один конец привязал к стерженьку, приводящему в действие механизм звонка. Другой — к проволочке. Теперь для того, чтобы сработал взрыватель, надо было, чтобы стерженек в определенное время качнулся, потащил нитку, и та выдернула из отверстия проволочку с разогнутым предварительно концом. Мурашов проверил несколько раз — все нормально. Шухер должен получиться хороший. Он намертво привязал бечевкой к доске гранаты и будильник, проверил еще раз проволочку — не разогнулась и не выпала бы по дороге! — выпил на кухне у бэдицы воды и, жуя на ходу найденный там же хлеб, пошел теперь уже прямо к кинотеатру. Солдат возле него было много. Полк, не меньше, вошел утром в городок. Еще и в кинозал, поди, не попадешь. Есть ведь и здешние части: запасной кавалерийский эскадрон, при котором кормился старый цыган, да солдаты из комендатуры, да охранный взвод эсэсовцев. Крепко придерживая сумку, Мурашов протолкался ко входу. Там стоял патруль, наблюдая за порядком. «Слушай, как мы туда все влезем?» — спросил капитан у курившего сигарету солдатика. «Говорят, потом будет еще один сеанс, — ответил тот. — Да ребята не все пойдут в кино, кому охота там преть в духоте. Сейчас зайдут желающие, а остальные все разбредутся — кто искать и пить вино, кто играть в карты, кто на танцы в сад. Но я схожу, посмотрю эту картину, еще успею на танцы». «Идем вместе! — предложил ему Мурашов. Вдвоем, конечно, было сподручнее. — Идем, там угостимся. У меня есть две фляжки с вином. На, выпей! Хозяйка выставила нам две больших бутылки, чтобы война обошлась для всех удачно, и мои друзья остались доканчивать вино. А я решил пойти развеяться». Солдатик приложился к фляжке с бэдицыным вином и захлюпал. Оторвался, покивал благодарно головой, похлопал влажными глазами. Тут прозвенел звонок, и они, уже как два товарища, пошли ко входу. «Проходи, проходи спокойно! Не толкайся!» — кричал офицер, начальник патруля. Маленький кинотеатрик всасывал внутрь негустую солдатскую струю. Надо было не выказать настороженности, не вызвать подозрений у патруля; для этого лучше всего спрятаться за разговором, и Мурашов, фыркая, стал рассказывать солдату: «Наш капрал подбирается к хозяйке: говорит, что если у него все выйдет, он заставит ее выставить еще бутыль вина. Но мы смеялись, когда он это говорил: разве с такого вина может выйти что-нибудь приятное для женщины? Только наоборот…» Солдат согласно кивал и подсмеивался, видно, ему нравился новый друг. В зале Мурашов кинулся занимать место в средних рядах, чтобы больше был радиус поражения от разорвавшихся гранат. Ему удалось сесть в самом центре зала. Солдатик устроился рядом, боязливо поглядывая: вдруг придет офицер и сгонит? Но офицеры расположились двумя рядами ближе к экрану. «Ты откуда? — допытывался сосед. — Не из автороты? Из взвода связи? Мне кажется, я видел тебя со связистами». «А ты сам?» «Из минометной батареи». Сообразив по опыту, что батарея эта — единица в стрелковом полку довольно обособленная, вряд ли солдат из нее имеет обширный круг знакомств, Мурашов бросил: «Я из первого батальона, автоматчик». «Из батальона капитана Рэндулеску? — обрадовался солдатик. — У меня там в третьей роте служит земляк, Петря Думитреску. Мы с ним из-под Ботошан. Ты знаешь его?» «Кто же не знает Петрю Думитреску! Но давай поговорим после, когда кончится кино. Найдем Петрю и пойдем ко мне. Там выпьем и потолкуем». Тот радостно закивал. «Не надо было мне с ним связываться, — подумал Мурашов. — Вон какой попался любопытный. Не дай бог, начнет вязаться, когда стану уходить. Надо что-то придумать…» — Тихо! — крикнули от кинобудки, и зал затих. Тотчас погас свет, затрещал аппарат, и на экране появилось изображение. Сначала шла хроника. Антонеску награждал солдат; потом немецкая подводная лодка торпедировала корабль, видно было, как люди прыгали с него в воду, вдруг судно стало кверху носом, и — черный столб на месте гибели; вот экипаж лодки вкусно жрет, утирая пот и улыбаясь в объектив, вот его встречают на базе, играет оркестр, дамы машут, плачут, и какой-то мальчуган бежит по пирсу навстречу бородатому папе. Отец подхватывает его, целует, тоже трет глаза… «Любишь своего-то… сволота поганая…» — у Мурашова аж челюсти свело от ненависти. Потом танкисты отличились где-то: сначала был бой, горели наши танки, лежали мертвые бойцы. А после боя веселые солдаты играют на губной гармошке, рядом едут на танках, высунувшись по пояс из люков, их товарищи, тоже смеются, машут руками; танк остановился, немцы вышли из него, подошли к костру, сели на корточки и начали жрать с довольными улыбками… Под конец показали, как раненый солдат проводит отпуск в деревне, среди родных и земляков. Тоже улыбки, пейзажи, рассказы отпускника. Даже в этом коротком сюжете герой ухитрился дважды пожрать: утром — в кругу семьи, и вечером — с друзьями, за пивом. Все хорошо снято, на первоклассной пленке. «Ну, жрите, — злобно думал Мурашов. — Сегодня рыгнется вам…» Журнал кончился, побежали титры фильма, зазвучала музыка — то нежная, то суровая. Возникла идущая точным строем эскадрилья «Юнкерсов», парни с мужественными профилями на фоне кабинных переплетов двигали рулями, что-то четко барабанили по радио, по ним стреляли с земли вахлаки-красноармейцы, комически бежали в страхе среди взрывов. Понеслись бомбы, земля внизу усеялась пятнами. Сбили советский истребитель, в кадре мелькнуло искаженное ужасом лицо летчика. Затем возник какой-то бар, там пела завитая блондинка… Дальнейшее Мурашов воспринимал уже на уровне невнятного экранного мельтешения, ему было не до сюжета. Время подпирало, и надо было готовиться. Еще у бэдицы, когда готовил мину, капитан поставил будильник на девять, на время, когда с начала сеанса пройдет час. Люди увлекутся картиной, немного устанут и меньше обратят внимания на его уход из зала. Ему же надо будет, после выхода из фойе, обойти кинотеатр снаружи и встать наготове у выхода. Вслед за взрывом в зале начнется паника, все уцелевшие валом, топча опрокинутых, понесутся к двери на улицу. Отличная возможность! Он встретит их с автоматом и запасными рожками. А потом попробует уйти — сначала к землянке, где жила цыганская семья. Отдышится там, и — в степь, на восток! И пусть хоть один патруль задержит его. Подстрелят возле кинотеатра или по дороге — ну что же, чему бывать, того не миновать, по крайней мере здесь, в этом городишке, он сделал все, что смог, что оказалось по силам. Сосед сопел, хохотал в смешных местах. Тайком от него Мурашов заглянул в сумку, сквозь выпуклое стекло будильника увидал стрелки. Без пятнадцати. Пора.32
Он встал, тронул соседа за плечо. «Что, куда ты?» «Надо выйти. Приперло, бывает». «Вот какое вино выставила вам хозяйка! — затрясся солдатик. — Такой же результат будет у вашего капрала!» Сзади шикнули, минометчик замолк и поджал ноги, пропуская Мурашова. Солдаты глухо ворчали, когда он выбирался из своего ряда. Оказавшись в узком проходике, капитан облегченно вздохнул: ну, слава богу! Раздвинул застывших возле двери солдат, которым не досталось мест, и вступил в фойе. Тотчас же его окликнули: — Рядовой, подойдите сюда! Начальник патруля манил из угла пальцем. Рядом застыли двое солдат. «Этого еще не хватало…» Чеканя шаг, Мурашов приблизился, вытянулся. Если сейчас что произойдет, спасения нет, он не успеет даже схватиться за автомат. Но, подумав об оставленной в зале мине, успокоился, Сторожким, быстрым взглядом обложенного зверя стриганул по маленькому дощатому зальцу. Никого, кроме патруля, нет. Значит, еще не все потеряно. Нож можно успеть достать. У входа, правда, покуривал, опершись на стену, некто белесый в черном гестаповском мундире, фуражке с высокой тульей. Но ни на патруль, ни на Мурашова он не реагировал. — Куда вы отправились? Почему покинули кинозал? — Извините, господин лейтенант, необходимо стало выйти. — Разве вам не зачитывали приказ по армии? Где запрещается покидать зрелищные мероприятия для военнослужащих до их окончания во избежание участившихся диверсий? Где вы были, когда ваше подразделение знакомили с этим приказом? — Я… господин лейтенант… — язык Мурашова еле ворочался, он понял, в какое положение угодил и вид имел по-настоящему обалделый. — Простите, господин лейтенант, видно, я был в наряде… или не знаю где… — Глядите-ка, «не знаю где»! Молдаванин? — Так точно. Бессарабец. — Заметно, — лейтенант подмигнул патрульным. — Ступай и терпи. Мурашов вскинулся: «Есть!» — четко повернулся и исчез в зрительном зале. Патруль настроился уже лениво позубоскалить о нерадивых, бестолковых солдатах-молдаванах, когда человек в гестаповском мундире вдруг спросил звучным голосом: — Лейтенант, почему вы не проверили документы у этого человека? — Господин гауптштурмфюрер, — растерянно ответил офицер. — Я подумал, что нет необходимости строго спрашивать с отсталого бессарабца. По говору можно понять, что он из захолустной молдавской деревни. И мне кажется, что я его знаю, видел раньше в полку. — Он никогда не служил в вашем полку, и перестаньте болтать! Немедленно организуйте два поста у выходов из кинозала. Чтобы мышь не прошмыгнула! Имейте в виду, что дело серьезное и может иметь очень жесткие для вас последствия. И посты снаружи у всех дверей. Выполняйте!33
Человеком в гестаповском мундире был гауптштурмфюрер Геллерт. Он понимал, что патруль винить особенно нельзя, что и сам поздно спохватился, когда солдат уже ушел в зал. Геллерт пришел к кинотеатру потолкаться среди румын, глянуть, что представляет из себя этот сброд, который намерены использовать на передовых позициях. Ленивые, трусливые, грязные свиньи… Главный удар, конечно, примут за них немецкие дивизии, а они только будут ждать момента, когда можно задрать руки. Скоро, скоро начнется, и черт знает, чем кончится. Может случиться такая катастрофа, какой рейх еще не переживал. И реален шанс так и остаться, истлеть в этой степи, пасть от руки если не русского солдата, так оголтелого дезертира. Здесь все может случиться. Немыслимая страна! Потолкавшись среди румын, Геллерт пришел в еще более тяжкое, дурное состояние духа и зашел покурить в фойе, очищенное патрулем от солдатни. И здесь он увидел этого человека. Сам выход его из, зала гауптштурмфюрер пропустил, и обратил на него внимание, только когда тот громко затопал к патрулю. Солдат шел спиной к нему. Лицо Геллерт схватил лишь в короткое время поворота и следования обратно в кинозал. И дрогнул, спохватился уже после того, как спина солдата исчезла в темном проеме. В аккуратной с детства, оттренированной службой памяти четко возникло небольшое пространство перед городским садиком, нешумный рынок за забором, русский радист у калитки, сам он, стоящий с переводчиком возле парикмахерской, мужичок с лицом солдата, только что плевшего что-то патрулю… В свитке, бараньей шапке, постолах, он появился со стороны улицы, по которой тек ходивший смотреть на упавший красный самолет народ. В одном из проулков, мимо которых шли тогда люди, позже обнаружили солдата, убитого умело и коварно. Мужичок зашел под конский навес, что-то поделал там с телегой, с удрученным видом вернулся на спаленную зноем улочку и — исчез в рыночной калитке. А вскоре после его ухода задурил, заморочил голову радист. Стал смеяться и все смеялся, даже после, плюя зубами, рычал: «Хы-га-а… Ну, ловко, ловко я… спасибо тебе, паскуда немецкая, за то времечко на воле, что ты мне организовал… Хы-га-а…» Еще бы не спасибо! Теперь Геллерт понял, что имел в виду радист. Вот где всплыло лицо, отмеченное и зафиксированное какой-то клеткой памяти. Слились в единый ход событий смерть солдата, появление мужичка возле рынка, безрассудный поступок радиста. Однако как разведчик оказался именно здесь, в кинотеатре, среди солдат румынской части, задержавшейся на день в городке? Может быть, разложение войск? Это очень опасно, да и трудно в это поверить. Ведь надо внедриться в подразделение, стать своим человеком, разобраться, что к чему в сложном механизме части. И никто его поначалу укрывать не станет, следовательно, необходимо приткнуться во взвод, отделение, попасть в списочный состав. Для этого надо иметь как минимум верных людей, а их у русского не могло быть в этом полку, ведь вчера еще никто не знал, что он по дороге на фронт остановится в городке. Однако этот… гауптман, да… здесь, среди румынских солдат, смотрит кино! И пытался только что выйти. Ну, достать мундир — не такая большая проблема, его можно снять с убитого солдата, купить у расторопного унтера-хозяйственника… Вопрос в том, зачем он здесь оказался? Не затем же, в самом деле, чтобы поглядеть немецкий фильм. Хотел выйти на середине сеанса… Оставалось предположить: что-то он там оставил. Оставил и — поспешил покинуть кино. Ну, положим, так. Только зачем, ну зачем, кому это надо?! Какой смысл разведчику, офицеру рисковать жизнью, чтобы убить несколько человек из слабой, деморализованной армии, абсолютно духовно не настроенной ни на какие сражения, готовой побежать или сдаться при одном виде русских танков? Что-что, а настроения среди румынских солдат были известны Геллерту очень хорошо. И изменить их не удавалось даже самыми жестокими репрессиями. Наоборот, командование и пропагандистский аппарат могут использовать диверсионный акт для провокации вспышки антикоммунистических настроений в ротах. Нет, разведчик не может пойти на такую нелепую выходку. Стоп, гауптштурмфюрер! Что значит — не может?! Ты только что видел его перед собой, и он пытался выйти. И не знал при этом, что есть приказ, запрещающий покидать сеансы для военнослужащих. Вот где у него вышла осечка… Он вернулся в зал и теперь снова сидит… с чем сидит? Ах, он же был без сумки, хоть и с автоматом… Значит, все-таки диверсия. Ну что ж, взрывай это баранье стадо. Оно того заслуживает. Лично он, гауптштурмфюрер Геллерт, не даст и полка румын за одного немецкого солдата. А впрочем, надо попробовать взять разведчика. Поразбираться в характере, логике мышления. Если удастся, конечно. А не удастся, так не удастся. Спишется на обстоятельства. Господи, да не бесполезно ли это все? Предчувствие близкой смерти легким ядом проникло в кровь, затруднило на мгновение работу сердца и мозга и — ушло, исчезло, изгнанное волевым усилием. Бесполезно или нет, надо действовать, что-то предпринимать. Как ни презирай румын — служебный долг есть служебный долг, его надо выполнять до последнего часа. Как того требуют партия, фюрер, дисциплина. Геллерт оттолкнулся от стены, на которую опирался, и окликнул начальника патруля.34
Вернувшийся на свое место Мурашов услыхал, как прошел возле стены, пригибаясь перед экраном, устремился к выходу и застыл там парный патруль. Оглянулся — еще двое встали у двери в фойе. В чем дело? Неужели его засекли? Тогда почему не взяли там, в фойе, в самых удобных условиях? Но ясно одно: отсюда уже не выйти. После кино начнется проверка документов, фильтровка… на что рассчитывать? А если охота действительно за ним, могут подстрелить, и все. Тогда задуманное вообще превратится в бессмыслицу. Если, сев обратно на место, Мурашов просто передвинул стрелки будильника вперед, чтобы перевести дух и обдумать положение, то теперь он снял нитку с рычажка, обмотнул ее вокруг пальца. Тяжело, оказывается, помирать в темноте, не в бою, без ребят, без батальона… Там, конечно, хорошо теперь управляются и без него. В боях, маршах состав начинает меняться, и, может статься, настанет время, когда некому будет вспомнить, что существовал еще и такой комбат, как капитан Мурашов. А ведь непросто оно ему далось, комбатство… В прошлом году, в ноябре, батальону, где он командовал ротой, поставлена была задача любой ценой взять высотку, перед которой они топтались добрый месяц. Мурашов вызвал перед атакой двух самых метких стрелков роты, ефрейтора и младшего сержанта, и сказал: «Анисимов, видишь пулеметное гнездо вон там, у немцев? Не туда смотришь! Вот, правильно… Это будет твое. А вон то — твое, Дурдыев. В атаку вы не идете. Но имейте в виду: чтобы нам этих точек было не видно, не слышно! Подавить наглухо, чтобы там никто головы поднять не мог! Пока сами не ворвемся в первую траншею». «А… потом нам что делать?»— спросил бесхитростный Анисимов. «Потом… — хмыкнул Мурашов. — Потом ноги в руки, и — поспешай-поспешай! Товарищи ждут, скучают!» С задачей стрелки справились: оба станковых пулемета на время атаки были подавлены. И все равно до первых траншей рота добежала сильно выбитая — около трети ее осталось на поле. Но добежала! А две другие залегли под сильным огнем, понесли большие потери и вынуждены были отойти на старые позиции. Мурашов держался двое суток: немцы организовали мощный фланговый перекрестный огонь, не давая пойти новым штурмовым группам. Его долбили минами, забрасывали гранатами, атаковали, пытаясь выбить, заставить откатиться… Рота — к концу в ней осталось пятеро — держалась, да, впрочем, куда было деваться? Идти вперед — нет сил, обратно — расстреляют на открытом месте. Тут хоть траншея, худенько, да можно спрятаться. Гарь, смрад, тумканье взрывов, стеклянная резь в глазах… Когда обобрали патроны и гранаты у всех — своих и чужих — трупов, остались одни ножи, и хотели уж прощаться перед последней рукопашной, услыхали рев орудий на своей стороне, и земля вокруг их траншейки дрогнула от взрывов. Это была артподготовка, во время которой началась атака высотки силами уже двух батальонов. К вечеру те батальоны ушли далеко вперед, обогнув часть траншейки, где оборонялся Мурашов со своими бойцами. Они поели, поспали и сели пить холодную водку на том же, но очищенном похоронной командой месте. Вдруг Мурашов заметил идущую к ним с той стороны, куда развивалось наступление батальонов, группу офицеров. Приказал четверым своим подчиненным: «Встать! Смирно!» — и двинулся навстречу. Это были командир дивизии с заместителем, командир полка. Комдив крепко пожал Мурашову руку, обнял его: «Молодец, старший лейтенант! Как ты за них зацепился. По самому центру, по огню шел, а ведь — довел, смотри! Дам, дам орден. Ребят, — он показал на вытянувшихся бойцов, — тоже представь. Молодцы, ох, молодцы… Ты вот что, постой-ка — не слишком ли долго на роте-то ходишь? Из кадровых небось?» «Из них, — ответил Мурашов. — А в ротных служу, если не соврать, — с сентября сорокового года». Полковник плюнул, свирепо выругался. «Д-дожили! — яростно крикнул он. — Ну, у меня руки до всего не доходят, а ты-то куда глядишь?! — это уже к командиру полка. — Ладно, старший лейтенант, жди. Такая служба за мной не пропадет. Сегодня отдыхайте, а с утра ступайте в часть». На следующий день Мурашов принял батальон в другом полку. За тот бой он получил орден Отечественной войны, один боец — Красного Знамени, двое — Славы, и один — Красной Звезды. Вот так обернулась для него та атака, те двое суток. Батальон он принял без всяких страхов, ибо в батальонной кухне разбирался к тому времени уже вполне прилично, и уверен был, что уж он-то и дорос до него, и заслужил право им командовать. Хотя, конечно, масштабы были совсем другие, одних офицеров в подчинении — не шутка! — больше полутора десятков. И служба, соответственно, более сложная и более деликатная, чем на роте. Надо себя поставить, выработать стиль поведения, отношения и с теми, кто наверху, и с подчиненными. Мурашов поначалу занялся было их отлаживанием, но потом бросил, поняв однажды, что на войне — не отношения главное, не то, как ты себя с кем поведешь. Главные выводы делают все-таки по боевым действиям, по тому, как ты умеешь их организовать. И подхалим, шаркун, в обычное время обольстивший бы многих, запросто попадает под суд, а предмет шуточек,грубиян и хрипун — растет и растет и выходит в большие командиры. На войне не замажешь и не перекрасишь цвета, там белое — всегда белое, а черное — всегда черное. Обмануться можно только на самых первых порах. Получив капитана, Мурашов впервые задумался о своем будущем. Если повезет остаться живым до конца войны, стоит ли уходить из армии? У него шесть лет только довоенной выслуги, а на войне один год идет за три, много ли останется до пенсии? И можно выйти в приличных чинах, старшим офицером, ведь должность комбата — и то подполковничья. Взять у матери Нонночку, поселиться в дальнем гарнизоне… А может, повезет еще и с женитьбой. Мечты эти Мурашов вспомнил, сидя с самодельной миной в кинотеатре небольшого бессарабского городка, и горько вздохнул. Так и не увидел он дочки! Только на фотографии, что лежит сейчас где-то вместе с документами и личными вещами. По ней судя, девчушка походит на Райку. Не повторила бы только материну судьбу…* * *
Ну, так. Кажется, пора. Сейчас вспыхнет свет. Что еще? Да, жизнь… Если по большому счету — жалеть не о чем. И нет страдания о себе. Исчезла тоска. Только усталость безмерная. Разогнуть проволочку-чеку… Начнется следствие вокруг взрыва, заварится каша. Побегут мундиры по мазанкам, затрещат в Ямах выстрелы. Но что делать! Что же делать… Простите, если виноват. Он положил ладонь на гладкое тело гранаты и почувствовал холод железа. Пальцы его всегда были необыкновенно чутки к металлу.1986
Последние комментарии
49 минут 32 секунд назад
2 часов 3 минут назад
3 часов 9 минут назад
4 часов 17 минут назад
16 часов 16 минут назад
16 часов 29 минут назад