

Часть первая Непослушный мальчишка



Глава первая
Солнце взошло давно и стояло уже близко к зениту, но пока что ему не удалось коснуться земли ни одним из своих сверкающих копий. Круглое, словно бубен, грязноватобагровое, как лицо мятущегося в жару больного, оно лишь на мгновенье показывалось из плотной завесы пыли и снова исчезало за ней, тусклое и бессильное. Могучие деревья отчаянно взмахивали ветвями, чуть не до самой воды клонясь под напором ветра; казалось, еще немного — и они сломаются или, вырванные вместе с корнями, тяжело опрокинутся в арык. Пытаясь отстоять свою кибитку, Перман перебросил поверх нее веревки с грузом и, подперев шестом перекрытия купола, подвесил к нему на веревке полмешка пшеницы — все, что у него оставалось. Черная, видавшая виды кибитка, трещала от напряжения и, словно пытаясь взлететь, отчаянно хлопала кошмой, закрывавшей дымовое отверстие. Пока что ей не удавалось взвиться в небо, — предки завещали Перману огромный опыт борьбы со стихиями, и он сейчас пустил в ход все свое искусство? И как ни отчаянно скрипели опоры, как ни хлопала вверху кошма, Перман не особенно беспокоился — он был уверен, что кибитка выдержит. Меред, старший сын Пермана, сидел чуть живой от страха. Стоило кошме хлопнуть посильнее и чуть громче заскрипеть опорам, как он весь сжимался и, уставившись на дымовое отверстие круглыми от ужаса глазами, плотнее прижимался к отцу, пытаясь с головой укрыться под его шубой. Зато младший его братишка Сердар совсем не испытывал страха. Он не только не пытался прятаться, но больше всего на свете хотелось ему сейчас выскочить из кибитки, побегать, покричать, один на один схватиться с ветром… — Бабушка, дай мне свой платок! Пойду поиграю! Да разве бабушка пустит? Сразу начинаются уговоры: — Нельзя, деточка, нельзя, миленький. Там снаружи темно, буря, песок так и бьет в глаза!.. Выйдешь из кибитки, а повелитель ветров хвать тебя за руку и утащит! — А куда он утащит, бабушка? Куда он меня утащит? — Ну… Туда, к себе… Откуда он ветры выпускает. — А это он ветры выпускает? — Конечно, он, Мирхайдар, отец — ветров. — А много у него ветров? — Много… Они у него в горне запрятаны. У Мир-хайдара горн есть, как у кузнеца Беки, только еще больше. Приоткроет он горн чуть-чуть — маленький ветер будет. А распахнет во всю ширь — сильный на волю вырвется. Захочет — и бурю устроит… Сердар посидел, подумал. И опять стал проситься на улицу. — Я ж тебе сказала, сынок, нельзя — Мирхайдар утащит. — А пусть! Я сам с ним пойду! Помогу ему все ветры выпустить. Все, сколько есть! Посмотреть хочется, что будет! Меред задрожал и тесней прижался к отцу. — Не выпускай все ветра. Не надо! Кибитку унесет! Отец с матерью засмеялись, а бабушка Аннабиби очень серьезно, сказала: — Так не годится, сынок. Нельзя открывать горн Мирхайдара. Выпустишь ветры — обратно не загнать. Так и будут гулять по белу свету… — Ну и что?! Пускай гуляют. А что Меред боится, так он всего боится! Меред презрительно скривил губы, вступать в спор с маленьким не было никакого смысла. Сердару хорошо, он родился после той бури. Не видел, как ободрало кибитку, как унесло все кошмы… Кибитка стояла голая, один остов, а бабушка кричала страшным голосом. Он тогда совсем маленький был, а помнит, как она кричала. С тех пор он и стал бояться ветра. А больше он ничего не боится, Сердар врет. Хвастается своей смелостью!.. — Иди, иди к Мирхайдару! — сказал Меред. — Я-то убегу, в арыке спрячусь, а тебя пускай ветер уносит! Подхватит — и на небо! — Ну и что?! — Сердару и впрямь ничего не было страшно. — Я там на небе поймаю Буркудова коня, вскочу на него, буду скакать да в колотушку бить! Знаешь, дождь какой устрою — ливень! Арык до самых берегов затопит. Где спасаться будешь? — А ты? — А мне что? Я на небе — там дождя нет. Буркудов конь выше туч скачет! А тебя вода унесет! — Мам! — не выдержал Меред. — Скажи, чтоб он про страшное не говорил! — А вот я ему всыплю сейчас! — И мать сердито глянула на Сердара. Некоторое время мальчик сидел молча. Но терпения у него хватило ненадолго. — Бабушка, открой дверь, я выйду! Ну я только погляжу! Открой! — Нельзя открывать. Ворвется ветер в кибитку, надует ее и унесет. — Пусть. А я усядусь на самый верх и полечу, как на ковре-самолете! Меред, выпучив глаза, из-под отцовской шубы глянул на брата. — Спятил, да? Тебя ж на край света унесет! — Вот и хорошо! Налетаюсь досыта! — Я смотрю, — с улыбкой сказал Перман, — нашего Сердара ничем не испугать! А, Меред? — приподняв полу шубы, он ласково взглянул на сынишку. Тот обиженно шмыгнул носом. А Сердар опять взялся за свое: — Бабушка, пусти поиграть!.. Пусти на улицу… Пусти… — Нельзя, родненький, — терпеливо увещевала старушка. — Унесет ветер нашу кибитку, что делать будем? — Новую поставим! Новую… Легко сказать! Знаешь, сколько денег надо на новую? А где они у нас, деньги-то? — В сундуке. Я сам видел — много! Хочешь, давай посчитаем? Бабушка искоса глянула на невестку. — Ты что ж это, милая? Разве детям деньги показывают? Докажи ему теперь, что денег нет! — Нечего и доказывать, раз видел… — А зачем допускать такое? Он же ребенок — пойдет да расскажет людям. Подумают, и правда деньги… — А пусть… — Нельзя так, невестка. Знаешь, какое сейчас время. Не сегодня-завтра на летние пастбища откочуем, все добро аллаху на попечение. Зачем же людей искушать? — А, матушка, не печалься зря! Сколько лет лежали твои сокровища и теперь никуда не денутся! — Ладно вам, — благодушно заметил Перман. — А то получится, как с тем пожаром… — С каким пожаром? — встрепенулся Сердар. — Расскажи! Расскажи про пожар! Перман усмехнулся: придется рассказывать, от Сердара так просто не отвяжешься. — Один человек выдал замуж дочь. А когда она через положенное время вернулась в отцовский дом, вдруг занялась маслобойня. И сразу вся как есть сгорела. Стали дознаваться, что да как, а молодая и говорит: я, мол, подожгла. Когда маленькая была, жмыхом раз объелась, уж больно у меня живот болел. Засомневалась я: приедет, думаю, за мной ваш зять, захочет жмыха поесть и будет Мучиться, как я тогда. Вот и надумала: сжечь жмых вместе с маслобойней. — Да что ж она такая глупая? — удивилась жена Пермана. — Ей бы сказать мужу, предупредить… — Видно, не надеялась на него. Боялась, что соблазнится. Вот я и гляжу, — Перман усмехнулся, — как бы наша мать не удумала сундук сжечь от греха. Пускай, мол, лучше сгорит, чем ворам доставаться! Сердар посмотрел на отца, кинул взгляд на мать и понял, что они подшучивают над бабушкой. Ему стало жаль старую, он положил ей голову на колени и, заглядывая в глаза, спросил: — Бабуля, не будешь поджигать сундук? Не будешь, а? А ветер крепчал. Все сильнее хлопала наверху кошма, остов кибитки скрипел, трещал, кибитка раскачивалась, того и гляди — повалится!.. При каждом сильном порыве ветра бабушка громко обещала повелителю ветров чурек, и Сердар подумал, что этих обещанных чуреков набралось уже на целую выпечку. То ли повелитель ветров сердился на бабушку и не хотел принимать ее жертвоприношения, то ли еще почему, но Мирхайдар гнал на их кибитку один ветер за другим, и каждый новый был сильнее и злей предыдущего. Тогда бабушка решила, что один бог лучше, чем тысяча пророков, и стала молиться. Не отрывая глаз от дымового отверстия, она громким голосом стала читать заклинание против ветра: «О аллах, сотворивший вечер и ночь! О аллах, вселенную сделавший цветником! О аллах милосердный, спаси и помилуй нас, прими в жертву от рабы твоей выпечку чуреков!» Проговорив эти слова, она молитвенным движением провела по лицу. Спрятавшийся под шубой Меред повторил ее движение. — Бабушка, теперь он успокоится? — спросил трусишка, осторожно выглядывая из-под шубы. — Успокоится, детка, успокоится… — Старушка вздохнула. — Теперь обойдется… Сердар примолк, огорченный, — его не очень-то обрадовало это сообщение. Чего хорошего, если ветер затихнет? Не по душе ему были тишина и покой. Гул ветра, испуганный шум ветвей, отчаянный скрип кибитки — в этом было что-то необычное, заманчивое, то, что так настойчиво влекло его на улицу. Наверное, именно поэтому он раньше других услышал звуки, доносившиеся снаружи. — Приехал! Кто-то приехал! — радостно воскликнул Сердар и бросился к двери. Чуткое ухо мальчика уловило звук «чош», заглушенный порывом ветра, — какой-то человек остановил осла возле самой кибитки. Едва Сердар отбросил крючок, ветер с силой распахнул обе створки двери; мальчика отбросило на середину кибитки. Мгновение, и кибитка наполнилась ветром, надулась. Отчаянно заскрипели опоры, забилась, заголосила старуха: — Рухнет! Сейчас рухнет! Детишек выносите! Детишек! — кричала она, изо всех сил ухватившись за нижнюю решетчатую часть кибитки. Мать в темноте пыталась отыскать детей. Мереда она нащупала сразу, он лежал ничком, с головой укрывшись отцовской шубой. А младший… — Сердар, где ты? Сердар! Новый порыв ветра сорвал обшивку с задней стенки, стало светлее, и мать увидела, что младшего в кибитке нет. — Отец! Сердара нет! Сердар давно уже был на улице. Он вел сражение с ветром. Распахнув полы халата, он рвался навстречу посланнику Мирхайдара, стараясь, чтоб тот поднял и понес его. Но ветер не собирался этого делать. Он не только не стал поднимать Сердара, а поднатужился и отшвырнул наглеца. Наверно, мальчик угодил головой о камень, потому что не сразу сумел подняться. Потом все-таки вскочил, побежал… Теперь он бежал по ветру, решив перехитрить упрямца. И ветер сдался, он больше не пытался опрокинуть Сердара, он помогал ему бежать. Скоро, мальчик скрылся из виду, растворившись в пыли. Перман молча смотрел на пару мертвых овец, которых чабан только что сбросил с седла. — Дохнут? — спросил он. — Дохнут, — чабан махнул рукой. — Не к добру эта буря. Плохая примета. Перман вздохнул. — На все воля аллаха. Год змеи, ничего не поделаешь… Должна она выпускать свой яд. — Воля аллаха, это конечно, — неопределенно заметил чабан. — А все-таки буря не к добру. Он сел на ишачка и исчез в облаке пыли. А Сердар, растопырив руки, снова и снова наступал на ветер — он жаждал схватки, и покладистость противника, покорно подталкивавшего его в спину, была ему совсем не по душе.Глава вторая
Через несколько дней Перман пригнал из отары нескольких истощенных овец, нужно было, чтоб мальчики попасли, выходили их. Сердар согласился с радостью, а Меред сказал, что он не чабан, не будет он овец пасти. — Не говори так, Меред-джан, — бабушка укоризненно покачала головой. — Чабан — это почетная должность. Самые лучшие чабаны становятся святыми — пирами! — Бабушка, а что такое пир? Конечно, это опять спросил Сердар, ему ведь до всего дело. — Пир? — бабушка немножко подумала. — Сейчас я тебе объясню, сынок… Вот если чабан всю свою жизнь честно ухаживает за скотиной, не ленится пастбище потучней выбрать, не бьет, не ругает животинок, такой чабан становится пиром. Вот Муса, покровитель овец, чабаном был! И стал святым. А Зенги-баба стал святым покровителем коров. А Вейис-баба — святым покровителем верблюдов… — Бабушка! А если я буду пасти наших овечек еще лучше, чем они, стану я святым? Я знаешь… — Но бабушка уже закрыла ему рот рукой. — Чего ты? — Сердар завозился, пытаясь выбраться, сбросить ее руку. — Чего я такого сказал? Я хочу святым стать! И хорошо буду пасти! Лучше, чем святой Муса! — Молчи, сынок, не богохульствуй, аллах накажет! — За что?! Я же хорошо пасти буду. Лучше, чем Муса! — Нельзя быть чабаном лучше, чем святой Муса. На то он и святой, покровитель овец, — ну как же ты не понимаешь?! Лучше святого быть нельзя. Ты вот старайся, паси сорок лет овец, холь их, береги, палкой не замахивайся, словом грубым не обижай, и аллах тебя наградит — достигнешь своей мечты… Чего ни пожелаешь, все тебе аллах предоставит. Сердар посидел, подумал, но слово «мечта» было ему не очень-то понятно, поэтому, помолчав, он снова начал донимать бабушку вопросами: — Ты про овец сказала и про коров. И еще про верблюдов. А ослиный пир кто? Кто святой покровитель ослов? — Нет у них святого покровителя. Шайтан их покровитель! — А шайтан тоже раньше был чабаном? — Что ты! Шайтан сам чабана убил. — Расскажи! Бабушка, расскажи, как он убил? Старуха укоризненно покачала головой, но все же начала устраиваться поудобней. — Видно, конца твоим вопросам не будет. Все-то знать тебе надо! До всего тебе дело. Ну ладно, слушай… Шайтан, он в прежние годы был великим книжником… — А чего это такое — книжник? — Ну вот — опять! Книжниками таких людей зовут, которые больно много учатся. Книжки всякие разные читают… — А… Ну ладно, рассказывай. — Ну вот. Был, стало быть, он великим книжником. И стала его одолевать гордость, что, значит, он-то ученый, а другие люди — не ученые. И начал он перед людьми заноситься: нет, мол, среди вас таких, чтоб в учености меня догнали. Вот гордился он, гордился, фордыбачился, фордыбачился, и перестали его люди уважать. В пословице-то знаешь как сказано: ученым-то стать легко, человеком стать трудно… Да… Ну вот, стало быть, пока тот книжник ученостью своей гордился, один молодой паренек подрос, тоже ученый, книг перечел — пропасть, и стал этот молодой книжник старому на пятки наступать — догонять то есть. Начал старый книжник на молодого напраслину возводить: не настоящий, мол, он ученый, и совсем даже он не ученый, а просто безумец. Не верят шайтану люди, ученый он, говорят, настоящий ученый. И решил старик другое средство применить — он ведь, старый-то книжник, еще и колдовать мог — напустил он на молодого книжника дракона. Лезет дракон на молодого, страшный такой, из пасти огонь пышет, а молодой книжник обвел вокруг себя три черты, дракон одну перешел, другую миновал, а как к третьей подобрался — все, кончилась его сила, ложится и голову на землю кладет. Злится, шипит, огонь из ноздрей пускает, а перейти ту черту не может. — А почему, бабушка? — Сердар во все глаза глядел на старуху, глаза у него блестели от возбуждения. — А потому что тот сильно ученый был. Слово такое знал — заклинание. А ты не перебивай, дальше слушай, дальше еще занимательней! — старушка, как это каждый раз с ней случалось, сама увлеклась своим рассказом. — Вот, стало быть, не вышло ничего с драконом, наслал старый книжник на молодого книжника тигра лютого. А тот, молодой, опять — вкруг себя три черты. Рычит на него зверь, беснуется, а он сидит себе — хоть бы что, только заклинания читает. Все три черты тигр преодолел. Бро-снлся к книжнику и в ту же минуту из тигра в котенка превратился, ластится к молодому книжнику, трется… — Вот это да! — Сердар заерзал на кошме, ближе подвигаясь к старушке. — Рассказывай, бабушка, рассказывай дальше! — А дальше, сынок, случилось такое. Появился вдруг из облака огненный таган, вот такой, как в очаге стоит, только большой очень и из чистого огня. Полетал, полетал над народом — старый книжник он ведь при всем народе искусы эти молодому устраивал — и опустился в сторонке. И вышли из того огненного тагана трое нездешних людей и — прямо к старому книжнику. Хотел он их околдовать, чтоб замерли на месте, да не тут-то было, — у тех, с неба, колдовство посильнее оказалось. Схватили они книжника, сунули в огненный свой таган и унесли на небо. — А он не сгорел? — Сгореть-то он не сгорел… — бабушка вздохнула. — В шайтана превратился. Наказал его аллах. Шайтаном стал, ишачьим пиром. Не зря ведь в пословице говорится: не рой другому яму, сам в нее упадешь. — Бабушка снова вздохнула и погладила мальчика по голове. Слушать бабушкины рассказы любили оба внука, только Сердар, блестя глазами от возбуждения, то и дело тормошил старушку, засыпал ее вопросами, а старший его брат сидел, приоткрыв рот, и молча таращил глаза — сказки почти всегда были страшные. — Бабушка! — снова подал голос Сердар. — А как шайтан убил чабана? Расскажи! — Как убил-то? Ну слушай, как убил… Вернулся, значит, тот злосердный книжник на землю — теперь уж он не просто книжник был, а шайтан в обличье книжника — и стал он людей сбивать с пути истинного. Многих сбил, и подошла очередь одного чабана. И так, и эдак подбирается к нему шайтан, а все без толку — благонравный очень был тот чабан и в вере крепок. Умаялся с ним шайтан и решил на хитрость пойти — на то ведь он и шайтан, чтоб всякие хитрости знать да уловки, — надумал он ишаков на бунт подбить — животных совратить с пути истинного. А ослы у чабана мирные были, тихие такие, спокойные, ходят себе, травку молодую пощипывают… И вдруг взбесились, да все разом. Сначала друг дружку лягали да кусали, а потом и на чабана набросились. Набросились и залягали его насмерть. Пришлось шайтану самому ишаков пасти. От того случая и поговорка пошла: разжирел осел, хозяина лягать начал. Они ведь чумовые, ослы эти: другой раз всю ночь орет — никакого угомону на него, а чего орет, и сам не знает… — А почему они так? — Как почему? Я ж говорю: пир-то у них — шайтан, он их и подбивает. Сердар немножко подумал. — Бабушка! А у петухов? Петушиный пир тоже — шайтан? Они ведь тоже среди ночи голосят, спать не дают. — Вот уж про петухов не скажу… Не знаю про петухов. А много у тебя еще товару — в твоем мешке с вопросами? — бабушка усмехнулась и почесала голову. Внук не ответил, что-то напряженно обдумывая. — Бабушка, мы про козу забыли! Кто козий пир? — Хватит, сынок, про козу завтра. — И бабушка, закряхтев, стала решительно подниматься с кошмы.Глава третья
Сердару и Мереду крепко повезло с бабушкой. Ничья бабушка не знала столько сказок и преданий, сколько эта шестидесятилетняя женщина с ясным молодым умом и прекрасной памятью. Внуки не сомневались, что запас сказок и преданий у нее неистощим, и, скорей всего, не ошибались, потому что Аннабиби, сама того не замечая, нередко начинала сочинять сказки. На следующий день Сердар прямо с утра, едва напились чаю, начал приставать к бабке: — Бабушка, ты про козу обещала. Помнишь — вчера не рассказала? — Разве не рассказала? — старуха прекрасно помнила, на чем прервала вчера свой рассказ, но ей хотелось, чтоб внук попросил, напомнил. — Не рассказала! Про ослиного пира рассказала, а про козьего — нет. — Так ведь он у них один, общий. Шайтан. — И у коз шайтан? А разве они тогда вместе с ослами паслись, когда чабана убили? — Нет, не паслись. Шайтан не был их чабаном, он сразу пиром стал. — А так разве бывает? Ты же сама сказала: умелые чабаны, которые хорошо смотрят за скотиной, становятся потом святыми пирами. А теперь говоришь — не пас шайтан коз! Как же он их пиром стал? — А, детка! На то он и шайтан. Он и без чабанства пиром стать сумеет. Он все может, он знаешь какой всесильный!.. — Нет, бабушка, ты что-нибудь перепутала! Просто, наверное, козий пастух плохим чабаном был, пира из него не получилось. Вот шайтан и воспользовался. Бабушка не стала возражать, и Сердар удовлетворенно замолк — он обязательно должен был все уразуметь, все понять, все поставить на место. — Никогда нельзя обижать невинного, — назидательно сказала бабушка, — забили ишаки насмерть хорошего чабана — он запросто мог бы стать их святым покровителем, — получили шайтана. — А козы? А козам за что такой покровитель? — Козам?.. Да ведь они тоже не без греха… И про коз есть предание. Бабушка повозилась немножко, налаживая свою прялку, уселась подле нее, вздохнула… — Коза, сынок, заносчивое животное, очень заносчивое, и больше всего достается от нее овцам — они ведь животинки тихие, безответные… Вот как-то раз начала такая спесивая коза приставать к овечке. «Я, говорит, тебе не чета, я по склонам брожу, по горам хожу, свежей травкой питаюсь, цветами весенними наедаюсь… Под самым небом бываю, захочу, подпрыгну, небо рогом достану, да боюсь только насквозь пропороть. Набью я живот свежей травкой, лягу на пригорке, ветерок прохладный шерстку мою шелковистую расчесывает. А ты что? На гору взобраться и то ума нет, и шерсть у тебя спутанная, как кошма. И травки свежей ты отроду не видала, всегда ешь, что от меня останется…» Овца — животинка тихая, где ей спорить с дерзкой козой, пошла она к своему пиру — святому Мусе, говорит: «Мне коза житья не дает, день и ночь измывается». — «Ничего, — говорит овце святой Муса, — поди к козе и напомни ей, что как зима придет, она и козы не минует». Пришла овца к козе, сказала ей про зиму. А та, озорница, поднялась на ножки, потянулась, а потом как выкатит глаза да как скакнет! «Не боюсь, говорит, я твоей зимы! Я сто зим пережила и не заметила. Видала, какая у меня шерсть? Это тебе с твоей жалкой шерстишкой страшно, тебя снег до самых костей пробирает. А мне что: встряхнусь — снег с меня враз слетает. Только пыль снежная во все стороны! — Встряхнулась коза. — Видишь, говорит, какой у меня пух легкий? Как мотылек летает… Ты меня с собой не равняй. И уходи. Уходи отсюда, ты мне ветерок заслоняешь. А хочешь, стой. Я могу и повыше взобраться, там еще свежей. А ты иди к подружке да сунь ей голову под вонючее брюхо!» — Бабушка, а правда, почему овцы в жару всегда голову друг под дружку прячут? Козы на холм взбираются, а овцы улягутся рядком и головы — друг под дружку? — А потому, детка, что у овец на голове шерсть коротка, тепло пропускает. Ты замечал, как отец одевается, когда в поле с серпом идет? Халат надевает ватный, на голову — шапку мехом внутрь. Плотная одежда, она, сынок, солнечного жара не пропустит. Человек потеет, тело у него прохладное делается, а плотная одежда прохладу эту сохраняет. Так и овцы. На теле-то у них шерсть хорошая: длинная, густая, а на голове плохонькая, жиденькая, короткая, солнце напечь может. Вот животинки и прячут головы. — Выходит, они умные? — Да нет, сынок, не очень-то они умные. Они все больше друг на дружку смотрят: что одна делает, то и все. Вот натяни перед отарой овец веревку черную. Перепрыгнет одна, а потом, хоть убери веревку, все овцы, все до единой на этом месте подпрыгивать будут. Уж если тут нет возможности скакнуть, они чуть подальше отойдут, только все равно подпрыгнут. Поэтому, как надо отару через арык переправить, чабан одну овцу перебросит, а остальные сами сиганут. Овцы они такие, дружные они очень. У них ведь ни рогов, ни зубов, только и защита, что друг за дружку держатся. Бараны это да, эти боевые. Иной рогач саданет корове головой под бок — ребро переломит. Был у нас один такой — бодучий! Погнался раз за девушкой — у соседа дочка была, взрослая уже девушка, — хорошо, она скотовода дочь, повадки бараньи знала, бежала, бежала от барана, а потом как свернет в сторону, а тот напрямик садит. Так и спаслась. — А что, бабушка, до смерти забодал бы? — Ну до смерти, может, и нет, а хорошего мало. — Бабушка, а я видел того барана? — Нет, сынок, тебя тогда еще не было. — А Меред был? — Меред?.. Постой, сынок, нитка у меня оборвалась. Бабушка ссучила оборвавшуюся нить, и прялка снова негромко зажужжала. — Меред, должно быть, уже был тогда, только маленький, не помнит… — Бабушка! А что, может, коза и правда лучше овцы? Может, она не зря перед овцой похвалялась? — А пускай похваляется, овца все вынесет. Она терпеливая, выносливая. Иной овце волк курдюк вырвет, а она, бедняжка, даже и не блеет. А коза, та трусиха. За ухо ее потяни, сразу орать начнет. И люди ведь так, сыночек. Один терпеливый, безответный, как овца, а другой кичливый да трусливый. Мужественный человек поднимет упавшего, руку ему подаст, а трусливый да кичливый еще и ногой пнет. Зато уж, коли сам в беду попал, крику не оберешься. Бабушка отставила прялку, налила себе в пиалу темного, как краска, зеленого чая. Сердар замолчал. Все равно, пока бабушка не напьется чаю, рассказов не будет, надо ждать. Наконец бабушка отставила пиалу. — Бабушка, что было потом? Когда зима наступила? — Когда зима наступила? Плохо пришлось козе, когда зима наступила. Повалил снег. Коза, гордячка, в сторонке легла, к отаре не подходит. Утром встала, встряхнулась, овцы глядят: снег и вправду сразу с нее слетел. Смотрит она на овечку гордо: «Ну, что я говорила? Ты со мной лучше не равняйся. А то рассержусь, пойду впереди и всю траву твою поем да потопчу!» — Ох, бабушка, до чего ж эта коза противная!.. — Да уж куда противней. Только, не зря пословица есть: не хвались, пока не перепрыгнешь. Вот, стало быть, ушли в тот день с неба тучи, и в ночь ударил мороз. Небо все в звездах, ветер с востока — как ножом режет, снег скрипит под ногами… До полночи коза терпела, в сторонке лежала. Потом видит — плохо дело, уж не до жиру, быть бы живу. Встала, понурилась, бороду свою свесила — идет к отаре. «Овечки, подружки! Мы ведь с вами сестры родные. Пустите погреться — пропадаю!» — «Что это ты, сестрица, — спрашивает одна овца, — или ветер тебе не нравится? Ты ж всегда радовалась, что он тебя по шерстке гладит?» — «Ох, сестрицы, это не тот ветер, этот прямо как ножом режет! Продрогла я! Согрейте меня. Пусть какая-нибудь на меня ляжет!» Просит коза, молит, а сама бородой трясет, да так жалобно… Пожалели ее овцы, легла одна на козу, согрела ее. А утром, как спал мороз, потеплело малость, коза опять за свое: «Ноги болят — сил нет! Вчера улеглась на меня какая-то, чуть не раздавила. Дышать нечем. Всю ночь промучилась, глаз сомкнуть не могла». — Подлая она, эта коза! — Сердар покачал головой и вздохнул. — Да, детка, — согласилась бабушка. — Твоя правда. Не зря говорится: честному помоги, труса подлого прогони. Никогда не будьте, детки, такими, как эта коза, гордыми да неблагодарными. — Бабушка! А потом-то как? Не одумалась коза? — Где там одуматься! Коза она и есть коза. Отогрелась, поела, давай опять к овечке приставать: «Какая же ты бесстыжая! Через арык прыгаешь, хвост выше головы задираешь!» А овца хоть и не умела спорить, а на этот раз нашлась. «Чего ж, говорит, ты меня хвостом попрекаешь? Твой-то всегда кверху задран». — Ну и что? Сдалась коза? — Какой там сдалась: они ведь бесстыжие. Им наплюй в глаза — все божья роса. — Давай, бабушка, перебьем наших коз! — Нельзя, сынок. Овцы голодные останутся. Козы в отаре нужны. А что бахвалятся они да чванятся — пускай. У бахвала привязь короткая. Овца ведь козу потом все равно уела. — Расскажи скорей, как овца козу уела! — Ишь как тебя забрало! — Аннабиби тихонько засмеялась. — Хорошим ты, сынок, чабаном будешь. — Я, бабушка, козьим пиром буду! — Пиром?.. Не надо тебе, сынок, пиром быть. Чабаном будь. Ты слушай, как они дальше спорили, коза с овцой. Коза овце говорит: «А у меня борода есть!» А овца ей: «Толку-то в твоей бороде! Кто хочет, ухватит за бороду да и лупит! Прошлую зиму твоя борода ко льду примерзла — помнишь? Ты из проруби пила. Я ж тебя вызволила». Вроде бы сдаваться надо козе, приперла ее овна к стенке, да не на ту напали — опять пыжится коза. «Что, говорит, у тебя за шерсть: даже веревки не совьешь — козью добавлять приходится!» — «Это правильно, — говорит овца. — Моя шерсть на веревки не годится, она на ковры идет. А как добавят в нее твоей — только ослу на путы!» Разозлилась коза. «Раз, говорит, ты такое про меня болтаешь, я сейчас стишки про тебя сочиню! На весь свет опозорю!» — «Давай, — говорит овца. — Я тоже попробую. Посмотрим, кто кого осрамит!» Тряхнула коза бородой и давай частить:Горы для тебя — преграда,
Без мостка арык широк.
Верещишь ты вместо пенья,
Точно волк вцепился в бок!
Не люблю крутые скалы,
На равнине мне не тесно,
Блею так, как мне пристало,
Не пою чужие песни!
У тебя полно врагов,
Ты нехороша собою,
Шерсть лохмата, нет рогов,
Слишком молоко густое!
Ты, коза, совсем невежда!
Ну к чему твои рога?
Шерсть моя дает одежду,
Варят сыр из молока!
Глава четвертая
Осень шестнадцатого и весна семнадцатого года выдались на редкость засушливыми. Молодая зелень пробилась лишь местами, слабая, чахлая, и вскоре засохла. Пастбища стояли голые — ни былиночки, в зубах поковырять нечем. Скотоводы хорошо знали эти зловещие приметы голода — тревога ползла по становищам. Перман велел сыновьям пасти отощавших овец, отыскивая уцелевшую в низинках зелень. Сердар с охотой взял в руки посох чабана, зато старшего сына Перману никак не удавалось приохотить к делу. Будить его поутру было настоящей мукой. Не обращая ни малейшего внимания на слова будившей его матери, Меред преспокойно почесывал живот, не давая себе труда даже открыть глаза. Если его насильно сажали в постели, он так и сидел с закрытыми глазами, а стоило будившему его человеку отойти, тотчас же валился и засыпал, даже не натянув одеяло. Мать и уговаривала его, и ругала, и бить пыталась — результат был один. Однажды, когда все попытки растолкать маленького ленивца так ни к чему и не привели, мать взяла и намазала ему лицо арбузной патокой. Намазала и стала смотреть, что будет. Мухи, только что проснувшиеся с восходом солнца, мгновенно облепили Мереда. Мух было столько, что казалось, они не только здешние. Из соседних селений слетелись все мухи на этот нежданный-негаданный пир. Любой, в ком хотя бы теплилась жизнь, должен был вскочить и прогнать их. Меред не пошевельнулся. Не выдержала мать — подошла и платком вытерла ему лицо. В другой раз мать вылила ему на голый живот пиалу холодной воды — парень даже не дрогнул. Он уже давно не спал, просто выжидал, пока Сердар отгонит овец подальше. — Вставай, паршивец! — закричала мать. — Целое ведро сейчас на тебя вылью! Меред не шелохнулся, только чуть приоткрыл глаза: возьмет ведро или нет. Взяла. Опрокинула на него. Меред вскочил и с душераздирающим воплем бросился на улицу, чуть не сбив с ног бабушку. — Ты что ж это над ребенком измываешься?! — набросилась старуха на невестку. — Долго ли напугать? Не приведи бог заикой станет! Получив неожиданную поддержку, Меред заревел. Ревел он долго, обиженным баском, время от времени поглядывая на мать. Та сидела в своем углу, злая, опустив голову, на сына она не смотрела. Она понимала, что старуха не права, но спорить со свекровью не решалась: хозяйкой в доме была не она, а мать мужа. …Так и росли в семье у Пермана два сына, нисколько не похожие друг на друга. Сосали одну грудь, ели из одного котла, грелись у одного очага, а даже и не скажешь, что братья. Перман не отличал ни одного из них, ни тому, ни другому не отдавал предпочтения. Он никогда не ласкал сыновей. Но и не бил. Провинившегося старался вразумить, объяснить, в чем его проступок. Иногда казалось, что он равнодушен к детям. Это было не так. Перман не потакал капризам сыновей, но любил их ровной и крепкой отцовской любовью: он только не давал им садиться себе на шею, как делают это некоторые излишне чадолюбивые родители. Мать была другая, нетерпеливая, короткая на расправу. А бабушка металась между отцом и матерью — все ей казалось, что мать обижает мальчиков, а отец, ее сын, не очень-то любя сыновей, во всем потакает жене. Бабушка бросалась защищать внуков в любом случае, даже если видела, что ребенок виноват. Как наседка, защищающая цыплят от коршуна, готова она была телом своим закрыть внуков от собственной их матери. Не будь этого, может, и Меред вырос бы другим… Туркмены обычно с детства приглядываются к ребенку, оценивают его способности, стараясь понять, что ждет маленького человека. Как правило, наметанный глаз не обманывает бывалых людей. Когда старики говорили о детях Пермана, они неизбежно приходили к выводу, что надеяться он может только на младшего. — Трудолюбив в бабушку, шустер — в мать. А старший и ленив, и упрям, даже и не поймешь в кого. Не будет от него проку. Сбудутся ли предсказания стариков — как знать? Длинна дорога жизни, длинна, и много на ней развилок и поворотов. День сменяется ночью, ночь — днем, и у каждой ночи, у каждого дня припасены для человека неожиданности. Такова жизнь… …Постепенно Перман перевез домой всех своих овец. Сердар каждое утро угонял на ближнее пастбище полсотни полуживых овец. Он быстро научился пасти их; вовремя перегонял, посвистывал животным, бросал перед ними свой посох — все делал, как заправский чабан. Иногда, чтоб чувствовать себя настоящим чабаном, он даже брал на пастбище ослика и пса Акбара. Как-то раз, когда матери удалось переупрямить Мереда и он шагал рядом с Сердаром, злой, полусонный, покачиваясь из стороны в сторону, Сердар вдруг сказал: — Хоть бы волк появился! Спустили бы на него Акбара и — следом!.. Меред, мигом очнувшись, вытаращил на брата глаза. — Ты что — сбесился, серого поминать?! Ведь явится! — И хорошо! Погоняемся за ним! Акбар любого волка… — Не поминай! Ты что — нарочно? — Нарочно. Хочу, чтоб явился! — А этого хочешь?! — Меред развернулся и влепил брату оплеуху. — Дерешься? Дерешься, да? А бабушка что говорила: будем драться — никогда настоящими чабанами не станем. — А я и не собираюсь им быть! Подумаешь — чабан! А помянешь еще раз серого, в рожу дам! Ну? — Меред поднял руку и устрашающе двинулся на брата. — Буду поминать. Буду! — А ну попробуй! — Волк! Волк, иди сюда! Вторая затрещина оказалась внушительней первой. Но Сердар не заревел. Размахивая маленькими кулачками, он бросился на обидчика. Меред был на несколько лет старше и заметно сильнее брата, зато Сердара только раззадорь. Пощады просить он не собирался, лишь носом шмыгал все чаще. Но слишком неравны были силы, и, чувствуя, что ему не устоять, Сердар бросился к посоху. Меред заметил его маневр и кинулся наперехват. И вдруг сел на землю и завопил: — Ой, умираю! Помогите! Сердар, уже схвативший свою огромную палку, остановился в нерешительности, словно чуткая, настороженная ярочка, И вдруг увидел кровь. Кровь лилась из ноги его брата. Он сразу забыл про обиду и, отшвырнув посох, бросился к Мереду. — Чего ты, а? Чего ты, Меред? — мальчишка поглядел на ногу брата, и его даже затрясло — кожа между первым и вторым пальцем насквозь была пропорота сучком. Меред, насмерть перепуганный, ревел во все горло, Сердар вторил ему тихонько, но слезы текли ручьем — ему до смерти было жаль брата. На крик подоспел отец. Присел возле Мереда, осмотрел его ногу и сказал наставительно: — Сам виноват. Все из-за своей лени — чепеки обуть поленился. Как ее теперь вытащишь? Давай домой отнесу, может, мать сумеет. Он взвалил сына на спину и понес. Сердар семенил следом. Ступня Мереда с торчащим меж пальцами сучком была у него прямо перед глазами. Он вдруг ухватил сучок двумя пальцами и дернул. Меред взвыл не своим голосом. — Вот она! Не кричи — вытащил! — Сердар с торжествующим видом показал брату окровавленную палочку. Отец понес всхлипывающего мальчишку домой, а Сердар вернулся к овцам.Сердару нравилось пасти свою небольшую отару. Больше всего любил он смотреть на молодняк. Как забавно скачут козлята — никогда не подумаешь, что из таких веселых прыгунов могут вырасти хитрые и зловредные козы. Сердар в ту весну крепко сдружился с этими малышами. Многих он попросту спас в ту трудную весну. Отощавшие матери не подпускали их, не давали сосать, а Сердар удерживал их, заставляя кормить своих детей. Наверное, малыши чувствовали, что Сердар любит их. Стоило ему прилечь на бугорке, они весело карабкались на него или тихонько укладывались рядом. Сердар все меньше играл с мальчишками, маленькие ягнята и козлята с грустными глазами, жалобно блеющие от голода, были теперь его приятелями. Совсем ему не было скучно пасти овец. Но не долго продолжалась его дружба с ягнятами и козлятами, не довелось Сердару стать настоящим чабаном. Скотина, истощенная бескормицей, все больше хирела, хворь одну за другой косила овец. Немногих уцелевших пришлось продать — перевелась Перманова отара. Караван бедности вплотную подошел к кибитке Пермана. Он был скотоводом, всю жизнь прожил средь этих пастбищ, но теперь пасти было некого. Надо было переезжать, начинать новую жизнь. Перман решил податься к родным, они давно уже жили от земли.
Глава пятая
Невесело встретило их новое место. Видно, горькая судьба, с недавних пор начавшая преследовать семью Пермана, раньше своих жертв добралась туда. Совой сидела она на тюйнюке[1] их кибитки, не давая спокойно спать по ночам. Много бессонных ночей провел Перман, пытаясь понять, как должен теперь жить, но ему так и не удалось распутать узелка, которым завязано было их счастье. И Перман растерялся, он уже не пытался бороться с судьбой, ему казалось, что он летит вниз с высокой скалы и зацепиться не за что. Жена, давно уже прихварывавшая, на новом месте окончательно слегла. Ночами, слушая приглушенные стоны жены, Перман в отчаянье думал, что получается у него как в поговорке: если уж не повезет, так и конь в пути падет… Старая бабушка молилась по ночам аллаху, прося его пощадить невестку для внуков, не сиротить детей, молила взять ее старую, никому не нужную жизнь. Все ночи подряд проводила старуха в молитвах и заклинаньях, но, видно, оставил их аллах своей милостью — невестка слабела с каждым днем. Мереда, вроде бы боявшегося всего на свете: и ветра, и темноты, и шума деревьев, почему-то не очень страшила болезнь матери. Ночью он не слышал ее стонов, а днем, если она начинала сильно стонать, уходил на улицу. У Сердара все получилось наоборот. Отчаянный озорник, не боявшийся ни волков, ни ветра, ни самого повелителя ветров Мирхайдара, он совсем потерялся и сник, когда понял, что мать тяжело больна. Он забыл игры, даже силой нельзя было сейчас выгнать его из дома, он не отходил от матери. Мать крепилась, стараясь не показать свои страдания, но стон невольно вырывался из запекшихся губ, и мальчик приникал к ней, прижимался лицом к ее лицу, умоляюще смотрел на нее. — Ну что, мамочка, что? Болит, да? Ну скажи, где болит? Может, что сделать, а?.. Мать с трудом поднимала иссохшие руки, клала сыну на голову. — Ягненочек ты мой дорогой, — чуть слышно говорила она, поглаживая стриженый затылок. — Я так… Просто… спросонья… Не очень… у меня болит… Пойди поиграй с ребятами… Сердар понимал, что мать говорит неправду, хочет утешить его. — Я не хочу. Я уже играл. Вот поправишься, тогда я пойду… Тебе попить надо, я подам… Может, тебе еще чего? Ты скажи, что тебе нужно. Ну, скажи! Мать ничего не отвечала, она только гладила и гладила стриженую макушку, изо всех сил прижимая к себе голову сына, чтоб тот не увидел ее слез.Прошло несколько недель. Сердар по-прежнему неотлучно находился при матери. — Сынок, — сказала она как-то утром. — Подави-ка мне пальчиком ногу. Вон там внизу, чуть повыше пальцев. Сердар испуганно поглядел на мать, подвинулся к ее ногам. — Я надавил, мама. — Получилась там ямочка? — А если получилась, что? — Да ничего особенного. Глубокая ямка? — Глубокая… Это плохо, мама? Мать не ответила. С трудом подняв костлявую руку, закрыла ладонью глаза. Но все равно мальчик видел: из-под руки матери катятся по щекам слезы. — Мама! Мамочка?! Почему ты плачешь? Не плачь! Что с тобой, мама?! — Ничего, сынок, ничего… — Мама! Ну что ты, мама?! — Ах! — рыдания вырвались из иссохшей груди женщины. — Сиротки вы мои бедные! Не ждала, не чаяла, что оставлю вас малыми сиротами. Бедные вы мои, горемычные!.. — Она с головой накрылась одеялом, и онемевший от ужаса Сердар долго еще слышал ее сдавленные рыдания… В тот день ему не дали побыть подле матери. Сосед взял его за руку и увел к себе. Мальчик тихо сидел в углу кибитки и молча смотрел на свои ноги. Перед глазами у него стояло худое, без кровинки лицо матери. Это было ее лицо, такое, каким он привык видеть его последнее время, но что-то в нем было чужое, незнакомое. А в дом, где лежала умирающая, уже начали собираться соседи. «Прости меня, Амандурсун!» — говорил каждый, подходя к ее постели. Женщина чуть заметным движением век давала знать, что прощает. Потом веки ее перестали двигаться, она вздрогнула и затихла. Горестные причитания женщин и мужские громкие рыдания вдруг вырвались из кибитки. Сердар вскочил. «Мамочка!» — крикнул он, бросаясь к двери. Ноги не слушались, они были тяжелые, словно к ним был привязан мельничный жернов. Мальчик запнулся, упал… Вскочил, побежал, опять упал… А Меред как ушел утром с ребятишками, так и не показывался. Его искали, мать хотела проститься, но не нашли — ребята играли где-то далеко. Меред явился лишь тогда, когда плач и рыдания наполнили всю округу. Упал возле двери и закричал: «Мамочка! Мама, на кого ты меня покинула?» Он плакал долго и вроде бы все делал, как положено, и все-таки в горе его почему-то не верилось — не было в его громких воплях ни ужаса, ни тоски, ни отчаяния… К вечеру мать похоронили — покойника положено в тот же день предать земле. После похорон Сердар не спал всю ночь, задремал только на рассвете. Первое, что он увидел, выйдя утром на улицу, было развешенное на кустах одеяло матери. Больше она никогда не укроется этим одеялом. Оно еще долго будет жить, мамино одеяло, а мамы не будет… Он шел и шел, думая об одном и том же, пока не дошел до арыка. Сел на мостике, свесив ноги. Сидел, смотрел на быструю воду. Вода несла какие-то сучочки, овечий помет, каких-то жучков, немножко похожих на навозных… Жучки копошились в воде, судорожно перебирали лапками, но выгрести против течения не могли, вода, быстро сносила их вниз. Все куда-то уносится, исчезает… И вдруг мальчикупришло в голову, что мать умерла потому, что они приехали сюда, бросили родные пастбища. «Там бы она ни за что не умерла!» Он сам поражен был своим открытием, в истинности которого не сомневался. И ненавистно стало ему все вокруг. Все здесь чужое, противное. И люди здесь злые, и тень от деревьев жидкая… И ягоды у тутовника горькие. И соловьи всю ночь спать не дают. Плохо здесь! Не хочет он здесь! Сердар вскочил, словно что-то обожгло его, и побежал. Он бежал все быстрей и быстрей, словно главное сейчас было — подальше уйти от этих ненавистных мест. Так не останавливаясь, он пробежал километров восемь. Спрыгнул в сухой арык, долго бежал по дну его и, только поравняшись с брошенным становищем, вылез наконец из арыка и пошел потихоньку. Вот наконец его место, знакомое до последней кочки. Здесь он пас овец, играл с козлятами и ягнятами. Вот тополь, огромный, как чинара, они каждый раз отдыхали здесь с матерью, когда возвращались от дяди. Он всегда веселел, слушая приветственный шум огромных ветвей. Сердар подошел к тополю, сел в тени под его развесистыми ветвями. Нет, не так он теперь шумит, спокойно и равнодушно подрагивают его ветки, они не склоняются к нему, не спрашивают, почему он так грустен, не стараются подбодрить, успокоить… Чужой он, нет ему дела до Сердара… Мальчик побрел дальше. Вот место, где стояла их кибитка. Да, тут она стояла. Круглый, чуть вдавленный след почти совсем затянут песком… Вот здесь было место отца, лежали его вещи, а здесь, в глубине кибитки, всегда сидела мать. Рядом стояли сундуки и бурдюки. Волосатые, раздутые. Это когда добрый год. Ничего нет, пустое место. Глиняный очаг, сложенный отцом перед кибиткой, развалился. И вокруг ни одной кибитки: не выдержав тягот бескормицы, все откочевали кто куда в поисках куска хлеба. Уезжали не сразу, порознь, следы некоторых кибиток совсем уже занесло песком, другие еще видны… Сердар долго стоял, смотрел, думал. Потом отвернулся, вздохнул и пошел прочь. Впервые он по-настоящему ощутил, что в жизни, кроме радости, кроме игр и бабушкиных сказок, есть горе, печаль, тревога. Взрослые часто говорили об этом, жаловались, вздыхали, иногда плакали. Сердар понимал, что им плохо, но не мог этого ощутить — радость жизни переполняла его, закрывая печали доступ к его сердцу. Сейчас он переживал горе, огромное горе, первое в его жизни. Теперь он знал, что это такое. Но вместе с этим новым знанием к нему вдруг пришла уверенность, что он одолеет все, что сил у него хватит. Ощущение этой невесть откуда взявшейся силы даже несколько озадачило Сердара, ему казалось, что в этом есть что-то нехорошее, что-то похожее на предательство. «Не думай плохого, мама, — тихонечко прошептал мальчик. — Это не потому, что я мало любил тебя. Я тебя больше всех на свете люблю. И всегда любить буду». Домой он шел тихо, медленно. Не потому, что был босиком — кожа на его ступнях давно уже огрубела, не чувствовала ни острых, как камни, кусков засохшей глины, ни сучков. Если Сердар торопился, он мог бежать босиком даже по зарослям колючки, только пальцы поджимал сильнее. Сердар шел и думал. Он так был увлечен нелегкими своими мыслями, что не обращал ни малейшего внимания на артиллерийские выстрелы, доносившиеся со стороны Байрам-Али. В последние дни соседи все чаще поговаривали о том, что война подходит к их дому. Сердар уже привык к этим разговорам и не обращал внимания на далекие залпы. Правда, сейчас залпы эти казались совсем не далекими.
Глава шестая
Заболел Меред. После смерти матери он недолго предавался печали, по-прежнему допоздна возясь с ребятами, и вот вдруг заболел. Меред метался в жару, а бабушка плакала, растирала ему голову и призывала всех святых сжалиться над ее внуком. Наверное, у ребенка был тиф. Скорей всего и температура у него была под сорок, но в те времена туркмены и не подозревали о существовании градусника. Они не знали ни докторов, ни лекарств. Если организм у больного был сильный, он побеждал болезнь, если болезнь оказывалась сильнее, беднягу вскорости уносили на кладбище. Сердар смотрел на брата — Меред бредил, метался — и понимал, что тот может умереть, исчезнуть: он теперь знал, что это такое, он уже видел смерть. Сердар подошел к бабушке и тихонько сел возле нее. Меред широко открытыми глазами смотрел куда-то сквозь него — Сердара он не видел. Вдруг он схватил бабушку за руку, хотел сесть… Старушка запричитала и, в который раз перечислив всех святых, уложила мальчика, поправила ему подушку. Меред затих, смежил веки. Бабушка осторожно распрямила спину. — Иди на улицу, Сердар, — шепотом сказала она. — Иди, родной, нечего тебе тут мучиться. Хватит еще и своих мук… Сердар вышел на улицу. Пушечные залпы слышны были совсем рядом, — казалось, стреляют у самого села, за крайней кибиткой. Теперь можно было различить и другие звуки, похожие на шум только что хлынувшего ливня, — от взрослых Сердар знал, что это стреляют из пулеметов. Война приближалась к селению. И хотя никто из жителей не мог знать, что эшелоны, один за другим идущие на Байрам-Али, наполнены отступающими белыми, зловещие слухи о том, что приближаются какие-то неведомые, непонятные «большевики», уже несколько дней передавались из уст в уста. Началось бегство. Торопливо сбивали гурты; встревоженно мычали коровы, блеяли овцы, ошалело брехали собаки; скотину надо было как можно скорее угнать от войны — в глубь песков — подальше от железной дороги. Грузили на арбы добро, вьючили на ишаков продовольствие, соль, посуду. Ценные вещи — ковры, украшения — прятали, зарывали. Мурсал-ага, старейшина того ряда, в котором стояла кибитка Пермана, был человеком зажиточным. Пока он закопал добро, пока уложил на арбы все, что счел нужным взять с собой, пока усадил обеих жен и всех ребятишек, соседи давно уже уехали. Только кибитка Пермана одиноко стояла посреди брошенного становища. — Постой-ка, — сказал Мурсал-ага арбакешу, — Пермана надо поискать… — Чего он тебе понадобился? — проворчала с арбы старшая жена. — Видишь, не собирается. Не хочет он уезжать! — Так у него ж парнишка занемог… Надо сказать, чтоб с нами ехал. Нельзя ж вот так — бросил, и все. Ведь сюда большевик идет! — А он что — маленький, сам не соображает? — Мало ли что… Все-таки родственник… — Родственник!.. — Женщина недовольно натянула на рот яшмак [2], отвернулась было, но не выдержала и опять принялась за свое: — Если он родственник, чего ж он тебе не помог? Ты с утра пуп надрывал, добро в джугару таскавши, — он что, не видел?! Садись, поедем! — Вот что. Я сейчас принесу Мереда. Положим мальчика сюда, на арбу. — Ты в своем уме?! Да я сейчас же слезу! И детей сниму! От него зараза! Хочешь, чтоб твои дети заболели?! — Не бросать же им больного ребенка… — не глядя на жену, пробормотал Мурсал-ага и направился к кибитке Пермана. — Зачем бросать? — закричала вдогонку жена. — Пускай все остаются. Добра у них — на курицу навьючить, а сами в джугаре отсидятся! Мурсал-ага обернулся, нерешительно поглядел на арбу, потом — на кибитку Пермана. — Давай хоть старуху захватим… Жена сердито взглянула на него и, закрыв рот яшмаком, отвернулась. Сердар стоял рядом и молча слушал их разговор. В кибитке тоже все было слышно. И когда Мурсал-ага велел Сердару позвать отца или бабушку, Перман сам вышел из кибитки. — Ты, стало быть, с детишками останешься, — не глядя на Пермана, сказал Мурсал-ага. — Больной, ничего не поделаешь…. Если, не приведи бог, солдаты, в джугаре спасайтесь… А мать твою я возьму. Скажи, чтоб садилась на арбу. — Спасибо. Считай, что она уже на арбе. — Ну нельзя так, сосед. Пусть хоть старуха едет. — Езжайте, езжайте! — И чего ты упрямишься, Перман?.. — Долго ты его умолять собираешься?! — не выдержала старшая жена. — Не маленький, знает, что делать. Садись да поедем! — Нишкни, дурная баба! — Мурсал-ага грозно поглядел на жену и обернулся к Перману: — Давай тогда младшего твоего заберем. Садись, Сердар! — Сердар тоже никуда не поедет. Останемся всей семьей. Что будет, то и будет. А вы езжайте. Не задерживайтесь… — Перман повернулся и пошел к кибитке. Арба медленно тронулась с места. Сердар стоял на дороге и смотрел вслед уезжавшим. Потом сел на землю, взял палочку и стал рисовать какие-то линии, прямые и изогнутые, — получился казан. А сбоку написал: «Самый, мой близкий родич — мой казан». Сразу и не поймешь, с чего мальчику взбрело на ум рисовать казан и почему вспомнил он эту пословицу… Может быть, именно сегодня, сейчас он впервые понял ее смысл?.. Широко раскинувшееся село опустело, затихло. Не мычали коровы, не блеяли овцы, не слышно было человеческих голосов. Только выли брошенные хозяевами собаки. Сердар вошел в кибитку. Поглядел на брата… Меред весь горел, лицо у него было багровое, губы потрескались. Он тяжко, прерывисто дышал и все время просил пить. Бабушка то и дело подавала ему воды — вода была сырая, из арыка… Сердар сел возле бабушки, вздохнул. Старушка на мгновение перестала обмахивать Мереда, одной рукой прижала к себе Сердара и сказала: — Вот так, детка, все уехали, а бедняку, видно, пропадать… Стрельба-то все ближе… — Старушка встревоженно глянула на Пермана. — Как бы большевики эти не накрыли нас тут… — Ну, а что можно сделать?.. — Если в джугаре его спрятать? — Да он и тут, в прохладе, еле дышит. Пропадет он там на жаре! — Да ведь большевики-то вот-вот… — Это конечно… — Давай вот что, сынок. Возьми-ка ты Сердара, укройся с ним в арыке, а я с Мередом останусь. Какие они ни есть, большевики эти, а ведь люди же. Неужто старуху с больным дитем не пощадят? Она не успела это сказать, как послышались шаги. «Все! Большевик идет!» — прошептала бабушка, вся помертвев. Дверь отворилась, и в кибитку заглянул молодой парень с винтовкой на плече. — Вам что, жизнь надоела? Чего сидите? — Да что ж делать-то, миленький! Не можем мы подняться — больной у нас. — Бегите! Бегите, пока не поздно! — Да куда? Куда бежать-то? — Куда глаза глядят! Большевики подходят! Все жгут все рушат! Всех убивают: и людей, и собак, и скотину! — Да что ж они, не люди?! — Какие там люди! Дэвы одноглазые! — парень припал ртом к ведру с водой и стал жадно пить. Вытер рукавом губы, поднялся и уже в дверях повторил: — Бегите! Бегите, пока не поздно! — Дядя! — вдогонку ему крикнул Сердар. — А ты разве не большевик? — Э, дурень! Был бы я большевиком, стал бы я с вами разговоры разговаривать! Пристрелил бы — и вся недолга! Парень быстро вышел из кибитки. Со всех сторон на него бросились собаки. Не останавливаясь, он на ходу пристрелил одну. Во вторую не попал. Собаки разбежались… Чем ниже клонилось к закату солнце, тем чаще мимо кибитки проходили люди с винтовками. Они шли и поодиночке, и по двое, по трое… Все они бежали от большевиков. Бабушка уже устала слушать рассказы о зверствах большевиков, она смирилась с судьбой, мысленно отдав себя и свою семью на милость божью. Решили не прятаться, сидели в кибитке возле больного мальчика и ждали, что будет. Ночью стрельба прекратилась, а с рассветом пушечные залпы послышались уже с другой стороны. Они становились все глуше и постепенно затихли. — Бабушка, не стреляют больше… — сказал Сердар. — Да, сынок, не стреляют. Большевики вперед пошли… — Вперед… — Перман безнадежно махнул рукой. — Мары-то у них в руках остался. Не миновать нам беды… Слышал, что джигиты вчера говорили? — Я слышал, только… Неужели они всех, всех убивают?! — Спаси нас, всемилостивый! — воскликнула бабушка. Меред вздрогнул от ее выкрика, мутными невидящими глазами оглядел кибитку и снова смежил веки. — Аллах милосердный! — тихонько бормотала бабушка. — Всю жизнь свою я всякий вечер открывала дверь, чтоб кибитку не миновало счастье. Как же так получилось?.. За что караешь нас, всеблагой? Да, старая, не зашло счастье в нашу кибитку. — Перман сокрушенно покачал головой. — Даже и сверху не заглянуло. Сидим беззащитные, как бараны. Любой может прийти да пристрелить… Может, и правда уйти? Унесем Мереда в джугару!.. Пойду погляжу, как там… Перман вышел на улицу и очень быстро вернулся. — Двое каких-то ходят! В кибитках двери ломают! Спасаться надо! Он бросился к Мереду, хотел поднять. — Не тронь! — бабушка отстранила сына. — Помрет он, если тормошить будем! Бегите с Сердаром, я тут! Не сделают они мне ничего! Бегите, бегите! — повторяла она, выталкивая Пермана из кибитки. Тот ухватил Сердара за руку, они бегом миновали шалашик, стоявший против кибитки, и бросились в заросли джугары. Оттуда, из джугары, им было хорошо видно, как два военных человека, один высокий, другой низенький, с винтовками за спиной ходили по их порядку, одну за другой взламывая двери кибиток. Подсунут под замок лезвие топора, повернут, замок и отскочит. Делали они это умело, быстро, видно, наловчились. Открыв дверь, они ненадолго исчезали в кибитке, а через некоторое время выходили и брались за следующую дверь. Перман не видел, как они обшаривали сундуки, но не сомневался, что именно этим занимаются в кибитках солдаты. Не пропустив ни одной кибитки, грабители подошли наконец к кибитке Пермана. — Ну, старая! — широко распахнув дверь, хриплым голосом сказал высокий солдат. — Говори, где соседи добро попрятали?! Золото, серебро! У тебя-то взять нечего — в кармане вошь на аркане, а сосед — видно, что богатый. Показывай, где он добро зарыл! Быстро, а то порешу! — бандит выхватил из кармана пистолет. — Сынки, милые! Да откуда ж мне знать?! Ни днем ни ночью от внука не отхожу — видите, в жару мечется!.. — А пропади ты вместе со своим внуком! Стой! — Солдат схватил бабушку за косу и одну за другой стал срезать с нее серебряные монеты. — Не шевелись, а то горло перережу! — Сынок! — заголосила бабушка. — Не тронь подвески! Не бесчесть старуху! Отдай! — Вот тебе подвески! — солдат ткнул ее в грудь кулаком. Старуха упала, борук[3] с нее свалился, она сидела на полу, растерзанная, лохматая, как старая кукла. — Бабушка! — простонал Меред, пытаясь подняться. — Папа! В проеме двери стоял Перман — не мог он усидеть в зарослях, слыша, как кричит его мать. — А, явился, буржуй проклятый?! — заорал длинный солдат. Другой бросился к Перману и изо всех сил дал ему кулаком в скулу. Потом крикнул: «Руки вверх!» — и выстрелил поверх его головы, чтоб напугать посильнее. Пер-ман поднял руки. Солдаты прикрутили его веревкой к опорам кибитки. — Говори, где спрятано золото! — кричали солдаты, тыча пистолетами ему в голову. — Говори, а то пристрелим, как собаку! Поначалу Перман, напуганный выстрелами, хотел было отдать бандитам добро, спрятанное его родственниками. Они его бросили, а он из-за их ковров да побрякушек жизни лишиться должен! — а потом вдруг взяло его упрямство: пускай убивают, ничего я им не скажу! Солдаты начали избивать Пермана. Из разбитого носа ручьем текла кровь. Голова кружилась — один из солдат оглушил его чем-то тяжелым. — Не знаю я… Не знаю я никакого золота… — твердил Перман разбитыми губами. — Не знаю… Ничего не знаю… Послышался конский топот, кто-то спешился возле кибитки. В кибитку ворвался Сердар. — Вот они! Здесь! — он с воплем выскочил наружу. — Они здесь! Они папу моего убивают! В кибитку вбежали трое солдат, на них были фуражки со звездами. — Бросай оружие! Руки вверх! Теперь уже руки пришлось поднимать тем, кто только что заставил поднять руки Пермана. — Кто такие? — Красноармейцы мы… — Какая часть? Фамилия командира? Спрашивал только один, он, видно, был за командира. Солдаты, избивавшие Пермана, молчали. — Бандиты вы, а не красноармейцы! — сказал командир и прикладом винтовки ткнул в спину одного из грабителей. — Воруете, убиваете, а сваливаете на красноармейцев, беляки проклятые! Связать их! — приказал он красноармейцу-узбеку. Приказ был выполнен. Веревка, которой бандиты только что прикручивали Пермана к решетке, теперь связывала их руки. Перман вышел из кибитки и долго смотрел вслед своим освободителям; они ехали вдоль улицы, гоня перед собой двух бандитов. — Рядом со злом его враг ходит! — сказал Перман и сплюнул на землю кровь. Не очень-то он разобрался в том, что произошло. Но одно Перман запомнил крепко: большевики — не грабители и не убийцы.Глава седьмая
В начале двадцатого века, и особенно в десятых годах, в туркменских селах, как и повсюду в Средней Азии, одна за другой стали открываться так называемые новометод-ные школы, в которых детей учили не молитвам, не заставляли зазубривать Коран, а объясняли, как устроен мир. Учителями в таких школах были обычно татары. Учить детей в школах нового метода царское правительство запрещало, выступая в данном случае заодно с реакционным мусульманским духовенством. Поэтому дети, посещавшие новометодные школы, вынуждены были учиться как бы нелегально и брали с собой в школу как светские, так и религиозные учебники. Если в селе появлялся незнакомый человек, который мог оказаться царским чиновником, дети занимались по учебникам духовной школы. На старом месте и Сердар, и Меред учились в новометодной школе, и Сердар, чуткий и восприимчивый ко всему новому, быстро овладел грамотой, научился читать и писать. Там же, куда они теперь переехали, новометодной школы не было, и мальчики стали ходить в мектеп — начальную духовную школу. Молла Акым рассаживал учеников полукругом: лучшие, в том числе и Сердар, сидели на почетном месте — справа от моллы, те, кто учился похуже, — соответственно сидели дальше, а тем, кто числился в лентяях, надлежало сидеть у дверей, там, где, входя в комнату, ученики складывали обувь. Перед моллой всегда лежали три-четыре тутовых лозы, длина которых позволяла достать любого ученика, в том числе и тех, кто сидел у дверей, — им-то как раз и доставалось обычно больше других. Стоило молле взмахнуть прутом, и мальчики ежились и хватались за спину — они не знали, на чью спину опустится сейчас лоза. Вот в такой школе учились теперь Сердар и Меред. Как-то раз, идя в школу, Сердар увидел на улице худенькую девочку с золотистой прядью на голове. Остальные волосы были выбриты, как это и положено делать, чтобы косы потом росли густые и ровные. Девочка держала в руках птенца. Она держала его так осторожно, словно боялась, что любое прикосновение может причинить птичке боль. — Хорошенький… Бедненький… — говорила девочка и нежными бледными губками чуть касалась мягкого пушка. Видно было, что ей жаль пичужку. Почему-то Сердар не смог равнодушно пройти мимо. Сначала он все оглядывался, смотрел на девочку. Потом повернулся и подошел к ней. Очень уж красивые были у нее волосы. Он видел всякие: черные, русые, совсем светлые, а вот таких, золотистых, ему никогда еще не приходилось видеть. — Чего ты с ним делаешь? — спросил Сердар. Девочка резко обернулась к нему. Глаза у нее тоже были необычные. Не черные, не карие, не серые, даже не желтые, как у кошки, а какие-то… Не поймешь, какого они цвета, коричневые не коричневые… Очень красивые глаза… — Как тебя зовут, девочка? — Мелевше. И имя какое — Мелевше — Фиалка!.. Подходит ей это имя… Как в песенке поется: «Ах девушки, фиалка — лучший из цветков…» Вот бы такую сестренку!.. Мимо проходил Гандым, они вместе учились у моллы Акыма. Остановился, с любопытством поглядел на Сердара — чего это он с девчонкой возится? И вдруг увидел птенца, которого Мелевше бережно держала в ладонях. — Ну-ка! Дай поглядеть! — он протянул руку. Девочка испуганно отпрянула. — Не дам, ты задушишь! Гандым и разговаривать не стал — вырвал птенца из руки, и все. — Отдай! — закричала девочка. — Отдай, ты его замучаешь! Но сколько ни упрашивала его Мелевше, мальчишка будто и не слышал ее слов. Глаза ее налились слезами, Мелевше заплакала. Слезы катились по розовым щекам, она вся содрогалась от внутренних рыданий, но гордость не позволяла девочке плакать громко, и она не издавала ни звука, только судорожно хватала ртом воздух. «От-д-д-ай!.. — она вытерла глаза и умоляюще взглянула на Гандыма. — Отдай мою птичку!» Гандым засмеялся и повернулся к девочке спиной. Этого Сердар уже не мог вынести. — Отдай птенца! Чего ты ее реветь заставляешь? — А пускай не ревет! Ее, что ли, птенец? — Конечно, ее. Она поймала! — Раз у меня в руках, значит, мой! Ясно? Мелевше поняла, что Сердар за нее, и с надеждой взглянула на защитника. Это придало ему силы и смелости. Он грозно двинулся к Гандыму. — Отдай птенца! Гандым попятился. Сердар крепко ухватил парня за запястье руки, в которой тот держал птичку. Гандым немного опешил, пораженный такой решительностью, и, казалось, победа была уже близка, но в последний момент Гандым исхитрился и свободной рукой мгновенно оторвал птенцу голову. Оторвал и бросил на землю трепещущее тельце. Мелевше широко раскрытыми глазами глядела на обезглавленную птичку, в агонии бьющую крылышками. — Что ты сделал?! Что же ты сделал?! Сердар и сам не заметил, как у него сжались кулаки. Он со всего размаху ударил Гандыма в поддых. Тот дал ему сдачи. Бой затянулся, силы оказались равными, и ни тот, ни другой противник не имел явных преимуществ. Так они и дрались до самой школы, а Мелевше стояла и смотрела им вслед. Мальчишки, направлявшиеся в школу, разумеется, видели драку, и кто-то наябедничал молле. Когда мальчики, войдя в классную комнату и почтительно поприветствовав моллу, попросили разрешения сесть, он разрешил им занять их места. Открыли книги, урок начался. Тогда молла Акым взял самый толстый из лежавших перед ним прутов, немножко подержал его на ладони, как бы прикидывая, правильно ли выбрал, и изо всей силы хлестнул Сердара. «Ты, негодник, затеял драку?! Я знаю, ты первый драчун! Все зло в тебе, супротивный!» Приговаривая эти слова, молла, продолжал хлестать Сердара. Тот распластался на полу, чтоб прут легче касался тела, съежился, но не кричал — терпел. Отлупив Сердара, молла Акым принялся за Гандыма. Несколько ударов тот выдержал, но потом вдруг вскочил и бросился вон из класса. — Держите его! — закричал молла. — Сердар! Хашим! Держите негодника! Гандым что было сил гнал по улице. За ним неслись Сердар с Хашимом и чья-то дурашливая собака, не выдержавшая зрелища погони. Так они и бежали вереницей. Гандыма надо было поймать, потому что — и мальчики это прекрасно знали, — если они не приведут беглеца, прутья, предназначенные Гандыму, будут гулять по их спинам. Ловили они его на совесть, но Гандым бегал очень быстро. И если бы он не споткнулся вдруг, ни за что бы им его не изловить. Но Гандым упал, Сердар навалился на него, а тут подоспел и Хашим. Беглеца схватили за руки и поволокли в школу. Гандым упирался, просил отпустить его — он дрожал от страха, но преследователи его были неумолимы. Тогда Гандым перестал переставлять ноги, и Сердару с Хашимом пришлось волочить его, как неживого. Но тут у Гандыма почему-то пошла кровь из носа, и Сердару стало жаль его. — Давай отпустим, а? Вон и так кровь идет. — Отпустим!.. Молла так спину разрисует!.. Все прутья об нас переломает! — А, плевать! Пускай ломает!.. — Братишка! Сердар! Хашим, милый! — завопил Гандым, почуяв близость избавления. — Отпустите, ради аллаха! Не ведите меня к молле! Лучше сами убейте! Не могу я больше терпеть — с прошлого раза спина вся в болячках. Сердар и Хашим молча переглянулись. — Ты как хочешь, — сказал Сердар. — А я больше не могу его мучить. И так весь в крови… Пускай молла лупит — плевал я на его прутья!.. Брось его! Пойдем! Хашим вздохнул, постоял немножко, переминаясь с ноги на ногу, потом махнул рукой. — Иди к матери, пускай кровь с тебя смоет… — сказал он, не глядя на Гандыма. Тот, еще не веря в избавление, шмыгнул носом, растерянно поглядел на Хашима, потом — на Сердара… Мальчики повернулись и медленно побрели к школе. Гандым поглядел им вслед, а потом сел и закинул голову, чтобы унялась кровь.Глава восьмая
Больше Гандым в школе не появлялся. Молла Акым пробовал посылать за ним, но мальчик, которого он послал, сказал, что Гандым совсем не будет больше ходить в школу, что, когда ему было сказано, чтоб приходил, он громко, во весь голос обругал и школу, и моллу Акыма. Молла Акым ничего на это не сказал, но потом весь урок вздыхал и бормотал себе под нос: «Ну, попадись ты мне в руки, негодник!..» В конце концов Гандым появился. Родители так его допекли, что мальчику уже начало казаться, что дома еще хуже. Когда он, остановившись в дверях, произнес положенное: «Здравствуйте, почтенный молла!», молла Акым благосклонно кивнул ему, разрешая сесть, а сам направился к двери. Гандым сразу сообразил, что неспроста молла запирает дверь, и, ошалев от ужаса, закрыл глаза и во все горло начал выкрикивать урок. Молла Акым вызвал двух самых сильных мальчиков и коротко приказал: — В фалаку ею! Надо сказать, что, кроме избиения прутьями, в старометодиой школе с воспитательными целями применялась и так называемая фалака — одна из разновидностей дыбы. А поскольку молла Акым был не больно грамотен и учил главным образом смирению и послушанию, то он не только постоянно грозил ученикам фалакой, но доеольно часто пускал ее в дело. Выполняя приказание моллы, мальчики схватили Гандыма и как теленка, обреченного на заклание, поволокли к фалаке. Но ужас перед жестоким наказанием придал Гандыму силы — он визжал и орал, так орудовал кулаками и ногами, что помощникам моллы никак не удавалось всунуть его ноги в отверстия дыбы. — А ну, Сердар, помоги им! — крикнул молла. Сердар сделал вид, что не слышит, и еще громче начал выкрикивать слова заданного урока. Остальные мальчики, напуганные происходящим, тоже принялись раскачиваться, на все лады выкрикивая непонятные слова. — Сердар! Ты что, не слышишь?! — разозлился молла. — Помоги им! Сердар отвернулся и стал еще прилежней раскачиваться из стороны в сторону. Видя такое дело, Меред вскочил с места, схватил веревку и, сделав на конце петлю, мигом захлестнул ею обе щиколотки Гандыма. Сердар дернул его за полу халата. — Сядь! Куда лезешь?! — громко прошептал он. Меред, увлеченный борьбой, не глядя на брата, ударил его локтем в грудь. С троими Гандым справиться уже не мог, ноги его оказались прочно зажатыми в отверстиях дыбы. Веревка, протянутая с противоположного конца комнаты, вздернула его в воздух, и несчастный мальчик повис вниз головой. Толстым концом влажного прута молла начал с силой бить его по ступням. Гандым завопил. От боли, от ужаса, от отчаяния он кричал так, что немыслимо было слышать. Сердар захлопнул книгу и бросился к молле. — Простите его, почтенный молла! — сказал он и заплакал. Молла Акым в гневе обернулся, собираясь хлестнуть наглеца прутом, но слезы в глазах лучшего ученика почему-то вдруг разжалобили его. Молла кашлянул и знаком велел мальчикам отпустить Гандыма. Однако Сердар, вместо того чтоб обрадоваться, набычился, исподлобья глянул на моллу и, вытерев слезы, которых уже стыдился, ни слова не говоря, направился к двери. Из школы Сердар вышел решительно, почти что выбежал, но чем ближе он подходил к кибитке, тем медленнее становились его шаги. Он не знал, что сказать дома, если спросят, почему он так быстро вернулся. Если он объяснит все как было, отец и бабушка не поймут его: ведь не его же били! Как им объяснить, он не знал. И все равно Сердар не жалел, что ушел из школы. Почему не жалел, он объяснить не мог, но уверен был, что поступил правильно. Дойдя до арыка, Сердар остановился. Долго стоял он в густой тени ивняка, смотрел, как течет вода, слушал, как кукует кукушка, спрятавшаяся где-то в кроне одинокого тутового дерева… Голос у кукушки был печальный, и так настойчиво жаловалась она кому-то на свою судьбу, что Сердар невольно вспомнил предание, рассказанное бабушкой. Раньше кукушка была мальчиком-сиротой. Не было у него ни отца, ни матери, и пошел он в услужение к баю. Пас байских лошадей, добывая кусок хлеба для старой своей бабушки. И вот однажды пропали два байских коня. Мальчик исходил всю округу, но найти коней не сумел. Вот сидит он и плачет: «Что мне теперь делать? Как я оправдаюсь перед баем? Чем буду кормить свою бабушку?» И тут, откуда ни возьмись прямо на него скачет бай. Испугался мальчик, вскочил, взмахнул руками и полетел — вдруг превратился в кукушку. Сидит он на сучке и кукует: «Ку-ку, нет коней! Ку-ку, нет коней!» А бабушка слышит его голос, а где он, не видит. Кричит ему бабушка: «Где ты? Где ты?» А он ей в ответ: «Ку-ку, нет коней! Ку-ку, нет коней!..» И пошла старая бабушка по горам, по долам искать пропавшего внучка. Ходит, ищет, зовет его… А он, как услышит бабушкин голос, хочет ответить, здесь, мол, я, рядом, а уж не может по-человечески-то. Только у него и выходит: «Ку-ку… Ку-ку!»… А почему Гандым не превратился со страха в птичку? Он чуть не насмерть перепугался, наверное не меньше того мальчика. Может, потому, что ног не смог вытащить из фалаки?.. А что, если бы стал он кукушкой, летал бы сейчас и проклинал моллу Акыма? И не стало бы мальчика по имени Гандым, была б только безымянная птица. У того мальчика, что стал кукушкой, тоже ведь раньше было какое-то имя… Сердар сел под деревом и прислонился спиной к теплому шершавому стволу. Не хотелось ему идти домой… Неподалеку, в байском саду, утопающем в ярком весеннем наряде, вовсю заливались соловьи. Воздух наполнен был ароматом цветов. Сердар всегда любил слушать соловьев, и цветы он очень любил, но сейчас соловьиные трели не достигали его слуха, уши мальчика полны были оглушительными воплями подвешенного на дыбе Гандыма… Перед глазами то появлялось его лицо, красное, потное, с вытаращенными от ужаса глазами, то распухшие ступни, покрытые синими полосами… Но соловьи все-таки заставили Сердара забыть обо всем на свете. Сердар прикрыл глаза и стал слушать… И как всегда, когда слушал он соловьиные трели, предание, рассказанное бабушкой, снова пришло ему на память… Когда-то, в давние времена, жила-была красавица девушка. И был у нее любимый — молодой, пригожий парень. Оба они были музыкантами, и так умели они играть, что, слушая их, люди забывали обо всем на свете. И никак не могли решить, кто из них лучше играет. Когда слушали девушку, думали, она лучше, слушали парня, думали — он… Тем и добывали они себе хлеб, потому что оба были из бедняцких семей и не было у их родителей ни скота, ни земельных наделов. И вот молва о замечательных музыкантах достигла ханского двора. Приказал хан привезти их на той: пусть развлекают своей игрой гостей. Целый день и целую ночь играли замечательные музыканты, услаждая хана и его гостей. А когда на следующее утро они собрались покинуть той, хан сказал: «Парень пусть уезжает, а девушка должна остаться — я решил жениться на ней». Услышав ханский приказ, девушка с парнем впали в великую печаль. Приблизились они к хану, и каждый сыграл ему свою лучшую песню. И понял хан, что невозможно их разлучить, что соединила их великая любовь. И тогда приказал он повесить парня. Но когда приговоренного подвели к виселице, он превратился в соловья и улетел от своих палачей. А девушка, не желая стать женой немилого, пришла к родителям того парня и превратилась в розу — пышный розовый куст расцвел возле их дверей. Соловей прилетает, садится на розовый куст и сладостным своим пением тешит обездоленных стариков… — Чего это ты сбежал? — голос брата оторвал Сердара от мечтаний. Он вздрогнул, но ничего не сказал, даже не взглянул на Мереда. — Зазнался? Думаешь, раз лучший ученик, так молла будет умолять тебя вернуться? — Убирайся! Иди к своему молле! Подлизывайся к нему. Помой ему ноги перед намазом. Можешь потом вылакать эту воду! Только все равно — лучшим тебе не быть! — Это ты мой, чтоб на дыбу не попасть! — Не бойся: моя нога в дыбу не попадет. Не придется тебе еще раз молле услужить. Сердар поднялся и пошел к дому, Меред поплелся за ним. Всю дорогу братья не разговаривали. Старший делал вид, что вовсе и не хочет говорить с Сердаром, он все пыжился, как бычок, объевшийся люцерны. А возле кибитки не утерпел: — Ну ты чего злишься? Твою, что ли, ногу я в фалаку сунул? Лезешь не в свое дело. На том ишаке твоего вьюка не было! — Нет, был! — Тогда чего ж ты ему не помог? — Старший брат мой помог! Меред промолчал, — нечего ему было сказать, только скривил в ответ рожу. Пришли в кибитку. Каждый забрался в свой угол, сидят — насупились. Бабушка сразу поняла, что дело неладно. — Что, ребятки, никак поругались? Сердар промолчал, только носом шмыгнул. А Меред словно только и ждал вопроса. — Вот, бабушка, Гандым озорничает, в школу не ходит, моллу ругает… Молла Акым решил его наказать, велел Сердару, чтоб помог, а он не захотел. Я помог молле, а он меня всю дорогу ругал за это! — Меред обращался к бабушке, а сам то и дело поглядывал на отца — очень уж ему хотелось, чтоб тот отлупил или хотя бы как следует отругал брата. — Сердар, — ласково сказала бабушка. — Надо делать, как велит учитель. Ты должен быть почтительным с моллой. — Не буду! — проворчал Сердар. — Вот слышишь, бабушка? Вот так же он и с моллой! Он говорит, что и учиться не будет! Перман был сильно не в духе — дела последнее время шли все хуже и хуже. — Не будешь?! — угрожающе произнес он, поднимаясь с места. Сердар молчал. Отец подождал немного. Ответа не было. Перман подошел к сыну: — Ты что молчишь? Язык отнялся? Отвечай, когда спрашивают. Сердар не произнес ни слова. Не шевельнулся… Отец дал ему пощечину. Потом другую. Сердар потер щеки, отвернулся и беззвучно заплакал. Он не произносил ни звука, хотя рыдания душили его. Он не хотел, чтоб отец видел его слезы. Отец не увидел их. Он не заметил слез Сердара и не подозревал, что творится в его душе.Глава девятая
Перман лежал, привалившись спиной к тощей охапке дров, брошенной у входа в кибитку. Взял прутик, разломил его, бросил. Поднял другой, опять разломил, бросил… Не в силах выбраться из-под тяжкого вьюка раздумий, он то и дело глубоко вздыхал и один за другим ломал прутики… Смерть жены, падеж овец, неудача с посевами пшеницы — беды и невзгоды одна за другой ложились на его плечи, пригибая к земле, не давая распрямить спину. То время, когда он владел тремя десятками овец, обменивая их шерсть на зерно и масло, когда он доил своих овечек и лакомился свежим гуртом, сделанным из овечьего молока, казалось теперь Перману счастьем, мечтой, сновиденьем… Заросла та тропинка к счастью. Теперь вот сиди, вспоминай да вздыхай потихоньку… За годы войны и разрухи многое в селе изменилось. Арыки, которые много лет никто не очищал, заросли, запрудились, и гнилые болота, образовавшиеся на месте запруд, превратились в рассадник комаров. Комаров было великое множество, и после заката солнца невозможно было от них спастись. Людей начала мучить лихорадка, чуть не в каждой кибитке тряслись в ознобе, стонали в жару больные. Хлопок не сеяли уже много лет, и поля заросли сорняками. За землями, на которых раньше сеяли пшеницу, тоже не было никакого ухода, и они пришли в полную негодность. Взяв в аренду у одного из дальних родственников кусок такой вот запущенной, неухоженной земли, Перман решил попытать счастье — посеял пшеницу. Ничего из этого не вышло — земля оскудела, да и какой из Пермана земледелец? Родич, сдавший ему в аренду землю, вместо того чтоб испытать раскаяние или хоть посочувствовать, только подсмеивался над его неудачей. «Его дело — овец пасти, тут еще может быть прок… Не за свое дело взялся, пускай теперь и расхлебывает». Он посмеивался, старался все обратить в шутку, но Перману было не до шуток. Как говорится, кошке — игрушки, а мышке — слезки. Из-за постигшей Пермана неудачи никто больше не соглашался давать ему землю в аренду, да он и сам прекрасно понимал, что земледельца из него не выйдет. Сердар — единственная его гордость, сын, на которого он так надеялся, не оправдал отцовских надежд. Думал, выучится Сердар — все так хвалят его за смекалку, сообразительность — станет моллой, а если сын обмотает себе голову чалмой моллы, и отец сможет наконец вздохнуть свободно. Не тут-то было. С того проклятого случая, как молла наказал чужого мальчишку, нет у Сердара тяги к учению. Не хочет в школу ходить, то и дело увиливает. Может, из-за того, что по щекам его отец нахлестал? Может быть… Теперь сколько ни жалей, сделанного не воротишь. Вспять пошло колесо его жизни… А ведь какой толковый ребенок!.. И не только молла говорит, его и так видно, что башковитый парень, отметил его аллах своей милостью. Что ж с ним такое случилось? Может, сглазили его, больно много хвалить стали? Надо матери наказать, пускай амулет пришьет парню к рубашке… И чего Сердар тогда в этот скандал встрял? Кузнец коня кует, а лягушка ногу сует… Зачем было лезть? Не тебя бьют, не брата твоего… Давили Перману на плечи тяжелые мысли, к земле гнули. Правда, ходили слухи, будто советская власть за народ, что будет скоро бедному люду облегчение, но он не больно-то верил слухам. Не слухи, не разговоры были ему сейчас нужны. Ему нужно было, чтоб бедность, столько лет державшая его железной своей рукой, выпустила бы наконец ворот его ветхой рубахи. Но советская власть не могла пока что помочь Перману. Послевоенная разруха многих сделала безработными и неимущими. Тысячи, десятки тысяч людей лишились земли, скота, хозяйства. В городах толпами ходили безработные с праздно висящими руками, голодным взглядом и пустыми животами. Работы не было. Не оставалось ничего другого, как податься в просторы Каракумов пасти байские отары. Как ни тяжела была мысль о многомесячной разлуке с семьей, с родной кибиткой, ничего другого придумать Перман не мог. Перман раскрошил последний прутик, неторопливо поднялся и вошел в кибитку. Сердар сидел возле бабушки и смотрел, как она прядет. Перман с грустью и нежностью взглянул на сына. — Сынок… Зря ты вот так бездельничаешь… Ходил бы ты в школу, а? Ну побил молла какого-то бездельника — какое тебе до этого дело? Он ведь молла, учитель, и поругает, и побьет — это только на пользу… — Правильно, — закивала головой бабушка. — Отец тебе верно говорит. Радоваться надо, если молла бьет. Места, где ударит его прут, уже не коснется адский огонь. Пусть бьет, сынок! Пусть бы и тебя посек, страшного тут ничего нет. Ты, детка, иди в школу. Прямо с завтрашнего дня и ступай. Будешь ходить, а? Сердар молчал. — Ну что ж ты упрямишься, сынок? — Перман говорил мягко, терпеливо. — Так нельзя, так нехорошо, бабушку надо слушать… Ты ж не хочешь, чтоб она тебя каждый день ругала. Вот я теперь в пустыню уеду. Приезжать не смогу, разве что разок-другой в год… Я должен знать, что все тут у вас в порядке… — Понять должен — не маленький, — бабушка вздохнула. — А то что ж у нас получится: отец в чабанах, а на тебя никакой управы нет? Нельзя так, миленький. Выходит как в поговорке: у счастливого дитя с годами умнеет, у несчастного умом скудеет. — И бабушка, сокрушенно покачав головой, вытерла рукавом глаза. Перман молчал, внимательно наблюдая за сыном. Упершись одной рукой в пол, опустив голову, Сердар не произносил ни звука. И бабушка замолчала, у нее уже не было сил уговаривать внука. Сердар молчал совсем не потому, что хотел досадить отцу и бабушке. По правде сказать, он уже давно забыл про фалаку, и Гандыма ему сейчас совсем не было жалко, просто не хотел он идти в школу моллы Акыма. Не хотел, и все. Он не знал, почему так случилось, почему у него нет больше ни малейшего желания учиться. Он хотел чего-то другого, а чего, и сам не понимал. Почему же мальчик так переменился? Может, на него повлияла смерть матери? Может быть, виной тому бедность? Или дело в несправедливости моллы? А может быть, школа моллы Акыма давно уже опротивела Сердару и случай с Гандымом был лишь последней каплей, переполнившей чашу его терпения? Он решил, и вернуть его в школу было все равно что прилепить к стеблю оторвавшуюся от него спелую дыню. Перман стоял над сыном, молча разглядывая его. Мальчик казался ему молодой лозой: торчит, прямая, как карандаш, и поди угадай, куда, в какую сторону склонит ее ветер. «Поручаю его тебе, всеблагой!» — мысленно произнес Перман и вышел из кибитки. Путь его лежал в пустыню к байским отарам. Бедность вела туда Пермана на крепкой привязи — нужно было добывать хлеб для детей.Глава десятая
Мучительный полуденный зной уже несколько ослабел, но женщины все еще прохлаждались в тени кибиток. Сегодня девушки и молодухи собрались в кибитке моллы Акыма. — Болтали, будто советская власть запретит вторую жену брать, — сказала одна из женщин, — пока что не похоже… — Может, еще и запретит. — Ничего она не запретит! — решительно заявила Дойдук — жена моллы. — Вон вчера увезли из соседнего села девушку, молоденькая, по четырнадцатой весне. А муж — старик беззубый. Вот вам и запрет! Не могут Советы отменить закон пророка! — Зря вы так говорите, элти[4] — бойкая молодуха, соседка Дойдук, усмехнулась. — Думаете, нарушат Советы закон пророка — пророк явится и схватит их за грудки? — И чего вы этот закон защищаете? — поддержала молодуху одна из девушек. — Вы-то больше других новым законам радоваться должны. Молла Акым как пить дать вторую жену взять хочет, момента подходящего ждет! — Не говори так, милая, грех это! — бездетная жена моллы в испуге ухватилась за ворот платья.. — Держись не держись за ворот, а надумает муж подружку тебе привести, ничего ты с ним не поделаешь! Дойдук обиженно отвернулась. Притихли и остальные, Сердар подошел к кибитке. Мальчик шел медленно, неохотно, он бы рад совсем не подходить, да бабушка послала его к элти с поручением. Сердар знал, что, когда девушки и молодухи собираются вот так с рукоделием посидеть, посудачить, они чувствуют себя свободно, ведут вольные разговоры и не больно-то радуются, если им помешают. Стоит появиться какому-нибудь парнишке, сразу начинают подтрунивать, в краску вгонять. Но все равно пришлось подойти. Элти ничего, поздоровалась, как с человеком, а другие, конечно, тотчас за свое: — Молодец наш Сердар-хан, хоть и лентяйничает, учиться не желает, а вежливость не забыл — здоровается. — У него память хорошая. А учиться он нехочет, потому что не женят его, правда, Сердар? — И чего ж его отец не женит? — Невесты достойной не найдет! Вот так они и болтали, кому что на язык придет. Сердар отмалчивался. Он уже привык к тому, что его ругают. Все кому не лень попрекали его за то, что бросил школу. Особенно старики — прямо хоть на глаза не показывайся. «Без дела болтаешься, паршивец! Отца своего позоришь! Человек мучается, кусок хлеба вам добывает, а ты, верзила этакий, собак гонять решил? Чтоб завтра же в школу шел!» Нередко за такими наставлениями следовала увесистая оплеуха. Раньше, когда Сердар посещал школу моллы Акыма, старики привечали его, хвалили за усердие, за понятливость, прочили большое будущее: не только моллой, бог даст, ахуном [5] станет. И будет в селе свой ахун, глядишь, и мечеть появится… Наверное, потому и гневались теперь на него старики — не оправдал надежд. Последнее время Сердар и сам себе был не рад. Скучно. С маленькими играть не интересно, а сверстники в школе. Подойдешь к ним, как из школы идут, а они намаются за день в сплошном гудении голосов, им не то что играть, и говорить-то не хочется. Прийти домой, поесть и опять за зубрежку, а то не миновать завтра розги… Так и получалось, что большую часть дня Сердар проводил в одиночестве. Тоскливо было ему, трудно. Чего-то ему не хватало, чего-то жаждало его сердце. А вот чего? Иногда его начинали мучить угрызения совести — ведь не взял его отец в подпаски, хочет, чтоб учился, но все равно заставить себя пойти в школу к молле Акыму Сердар не мог. Гандым тоже давно уже отстал от школы — с того самого дня, как ноги его попали в дыбу. Он тоже пребывал в одиночестве, тоже скучал, но попреков ему доставалось меньше, способностями он особыми не отличался, и особых надежд никто на него не возлагал. Их роднило с Сердаром одинаковое положение и ненависть к молле Акыму. Мальчики часто спорили, даже дрались, но что касается ненависти к молле, тут они были единодушны. Как-то раз, разгорячившись проклятиями, которые оба они долго сыпали на голову моллы, Гандым крикнул, сверкая глазами: — Пошли! Разорим его бахчи! — А при чем тут бахчи? — удивленно сказал Сердар. — Дыни-то чем виноваты? — Тебе бы все рассуждать! Чем были виноваты мои ступни, когда он их в дыбу загнал?! Сколько дней я ходить не мог! Даже домой на ишаке привезли. Молла сам привез. А с ишака отец снял. — Неужели такая боль? — Ха! Прямо насквозь, по всему телу! Я тогда недели две ползком ползал! — А отец с матерью что? Неужели моллу не ругали? — Нет… Пускай, говорят, пойдет в зачет тем мукам, что всем нам на том свете терпеть. Ругать? Разве они будут моллу ругать? Сам, говорят, виноват, учителя слушать нужно. — Да… — Пойдем, Сердар! Пойдем на бахчу! Хоть чем-нибудь ему досадить. Разорим бахчу и убежим! Сердар потянулся. — Пойти, что ли?.. — Пошли! — Гандым решительно схватил его за руку. Они перешли арык, протекавший на краю села, и свернули налево — узенькая тропка вела к бахче моллы Акыма. Едва они ступили на тропку, на большаке, за арыком, показались три вооруженных человека. — Басмачи… — прошептал Гандым, взглянув на Сердара. — Вот живут люди! Этим молла Акым не сунет ноги в дыбу! — Зато советская власть им покажет! — Ну да!.. Видал, какие под ними кони?! А пятизарядки! Глаз острый, сердце крепкое. Каракумы просторные — никогда их большевикам не поймать! — Будто у советской власти коней нет! Или пятизарядок? У нее, если хочешь знать, и пулеметов хватает! — Да… — не слушая Сердара, мечтательно протянул Гандым. — Чем позволять какому-то молле ноги твои в дыбу совать, сесть бы на лихого коня да винтовку в руки! Помрешь, так хоть в седле, не на карачках! — Это конечно… Только ведь нет у нас ни коней, ни винтовок… Басмачи ехали не спеша, опустив винтовки дулами вниз. Хромовые сапоги, красные шелковые халаты, мерлушковые шапки, а главное — быстрые, как огонь, кони и винтовки за плечами, — мальчики не могли оторвать глаз от всадников. Один из верховых подъехал к броду, стал поить коня. Двое других чуть поодаль ждали своей очереди. И тут вдруг из-за кустов вышли на дорогу два парня. — Ох ты! — ужаснулся Сердар. — Охранники идут. — Это не охранники! Без формы. И оружия нет! — Нет, они охранники, я знаю! — Ну тогда сейчас будет!.. Затаив дыхание, мальчики следили за тем, что происходит на дороге. Парни подошли к всадникам, ждавшим очереди на водопой, спокойно поздоровались, перебросились с ними несколькими словами. И вдруг оба разом сдернули верховых с коней. Одному даже удалось схватить винтовку басмача. Но вскинуть винтовку он не успел, пуля третьего, того, что был у водопоя, свалила парня. Раненый пополз к винтовке, но басмач опередил его. Другой басмач прикладом сбил с ног его товарища и выстрелил упавшему в голову. Все трое ускакали. — Видал? — спросил Гандым, растерянно поглядев в лицо Сердару. Они бросились к раненым. Вокруг уже собиралась толпа: мужчины, женщины, ребятишки…Глава одиннадцатая
Кровавая сцена произвела на мальчиков сильнейшее впечатление. Реагировали они на событие по-разному и каждый день принимались спорить. Гандым был полностью на стороне басмачей. Сердар горячо возражал ему. Последний раз они даже поругались. — Все-таки здорово басмачи их разделали!.. — мечтательно произнес Гандым. — Подумаешь, герои! С безоружными… — А чего они лезли? Да если б у меня кто винтовку отнял, я б!.. — Хватит тебе, Гандым! Надоело! — Надоело? Про басмачей надоело? Давай про моллу Акыма! Как он по ступням бить умеет! Сердар исподлобья взглянул на приятеля, поднялся и ушел. И сколько Гандым ни кричал ему вслед, Сердар не вернулся. И вот сейчас сидит он один в кибитке. Тоска смертная, но к Гандыму идти не хочется. Все противно. И родная кибитка опротивела, пустая какая-то, словно чужая… Делать нечего. Просился подпаском в пустыню, бабушка не пустила. В школу идти — сил нет. Пробовал раза два, даже книги брал, все равно с полдороги поворачивал. А спроси почему, не знает. Заблудился он, дорогу потерял… Для того чтоб посоветовать что-то мальчику, помочь ему найти свой путь, надо было понять, что творится в его душе; отыскать конец нити и распутать клубок. Бабушке это было не по силам. И вот сидит паренек в кибитке. Тоскливо, муторно, а что нужно делать, он не знает. Вот он лениво поднялся с кошмы, потянулся. Зевнул во весь рот. Поглядел по сторонам, потом вверх, на тюйнюк. Без смысла, без цели… Почему так случилось? Почему мальчик, способный, восприимчивый, любознательный, сидит и зевает и жизнь идет мимо него? Разве нет ничего, что могло бы заинтересовать, расшевелить его? Есть! Обязательно есть! Надо только найти, встретить это интересное. А пока он словно молодой тополек, выросший на голой равнине: с какой стороны окажется ветер сильней, туда его и согнет…Глава двенадцатая
Утром, задавая корм курам, жена моллы Акыма заметила, что трех ее пеструшек не хватает. Решив, что прожорливые курицы отправились куда-нибудь недалеко подкормиться, элти принялась громко звать их: «Цып, цып, цып!..» Куры не появлялись. Женщина стала кричать еще громче, опять нет. «Вот проклятущие! — в сердцах ругнулась элти. — И брюхо-то — в щепоть ухватишь, а все никак не набьют! Целый день за кормом охотятся!» Она подождала еще немножко, приберегая для беглянок остатки корма. Петух забегал то с одной, то с другой стороны, голосил во все горло, выпрашивая зерна. — Замолчи, чтоб ты сдох! Совсем бы тебя кормить не надо, раз за женами смотреть не желаешь! Трех кур прозевал! Все за кормом рыщешь, обжора! Вот где их теперь искать? Молодая женщина стояла, опустив на шею яшмак, и растерянно озиралась, не находя своих несушек. Наконец разозлившись не на шутку, элти закричала во весь голос: — Цып, цып, цып, цып, цып!!! Из соседней кибитки вышла пожилая женщина. — Ты бы немножко потише, элти… Не приведи бог, молла услышит… Кричать незачем, если куры здесь, и так придут. — Чтоб они пропали, приблуды, и молла вместе с ними, — элти уже раззадорилась не на шутку. — Вот куда они запропастились, чтоб их чума свалила? Может, сдохли, лежат где-нибудь, скрючившись? Трех штук нет, а? — Придут, куда они денутся. Да чем же петух виноват? Чего ты на него злобствуешь? Чуть ногу палкой не перебила! — А потому что его недогляд! Ему не то что ногу, ему голову отвернуть мало! Трех жен проморгал! Какой он после этого петух? — элти отвернулась и сделала вид, что прикрывает рот яшмаком. Соседка усмехнулась: накричалась вволю, а теперь рот яшмаком прикрывает: «Смотрите, какая я скромная!» — Как бы там ни было, дочка, а кричать на все село тебе не пристало. Куры того не стоят, чтоб из-за них в грех впадать. Ты же не нищая какая… Жена моллы. — Вам хорошо говорить… — элти всхлипнула. — Ведь все три несушки. Каждый день по яичку… — Велика-беда! Из-за такой малости слезы лить! Не обеднеете, дай бог здоровья молле! Да и найдутся они… — Соседка ласково улыбнулась элти, и та, всхлипнув, кивнула ей, благодаря за сочувствие. Соседка обошла вокруг двора, поспрошала у соседок, поглядела на следы возле курятника. Следов было много: птичьи, собачьи, ребячьи… Ничего подозрительного она не обнаружила. А молодая жена моллы никак не могла успокоиться. Вскоре уже полсела знало, какие у нее были замечательные несушки, — каждый день приносили по яичку. И главное — смирные были, ручные, никуда со двора не отлучались. Весть эта, переходя из уст в уста, вскорости достигла стариков. Те встревожились: в селе никогда ничего не пропадало. Конечно, курица — не конь, не верблюд, но воровство есть воровство, и старики всерьез принялись обсуждать пропажу. Вор был, да видел-то его один аллах. Значит, надо думать, кто бы мог пойти на такое дело. Скорей всего, не случайно пропали именно куры элти, кто-то хотел насолить молле. Вор, конечно, будет скрываться. Только ничего не выйдет — рано или поздно вор себя обнаружит: черное на белом всегда видно. Преступник будет найден. Если он окажется молодым, они позовут его к себе вместе с его родителями и пристыдят. Если вор взрослый человек, позовут его и тоже постараются усовестить. Если он украдет во второй раз, они велят ему забирать свою кибитку и откочевывать. Пускай живет один, как сова. Наказание одиночеством — тяжкая кара, но он заслужил ее. Пусть кража невелика, это не главное. Что верблюда украсть, что иголку — нужна рука вора. И Горбуш-ага, произносивший приговор от имени старейшин, погладил свою бороду. Присутствующие одобрили его слова.Глава тринадцатая
Хашим был тонкий и длинный, как цапля. Шустростью он особой не отличался, за озорство бит бывал редко, но сидел в школе у самых дверей, и розга моллы Акыма частенько гуляла по его спине. Тогда Хашим, хоть и был он не быстрого ума, сообразил подкладывать под халат попонку, ту самую, что кладут под седло, и жизнь его стала немного легче. Однако молла прознал как-то про его хитрость, отобрал попонку и излупил парня, как собаку. Больше Хашим в школу не пошел. Бросив школу, Гандым и Хашим подружились. Иногда они и Сердара брали в свою компанию, но тот все был как-то особняком. Предпочитал в одиночестве сидеть в кибитке, чем околачиваться по улицам. Последнее время он стал самым настоящим домоседом, и бабушка окончательно решила, что мальчика сглазили. Как-то раз, когда Сердар, по обыкновению, один сидел в кибитке, к нему вдруг вошел один из старейшин — Горбуш-ага. — Ну что, Сердар-хан, посиживаешь? — спросил он, вглядываясь в лицо мальчика. — Посиживаю… — А чего ж со сверстниками своими не играешь? — Так… Не хочется. — А может, не «так»? Может, причина есть? — старик пристально, не отводя глаз смотрел на мальчика. Сердар опустил голову — опять сейчас будут его ругать за школу. — Голову опускать нечего! Не поможет! Ну, смотри мне прямо в глаза! Почему краснеешь? — Кричите, вот и краснею. — Кричу!.. А ты, я гляжу, совестливый. Зачем тогда кур воровал, раз такой стыдливый? — Каких кур?! — Не знаешь? — Не знаю. — Молчи, бесстыдник! И чтобы сейчас же куры элти были в ее курятнике! Иначе голову оторву! Понял? — Не брал я никаких кур! — Ах, ты еще и отпираешься?! Выходит, ты настоящий преступник. Вор ты! Мальчик заплакал. Вообще из Сердара не просто было выжать слезу, он даже под розгами никогда не плакал, но слово «вор» оскорбило его до глубины души. Однако спорить со стариком не положено, и Сердару оставалось лишь молча вытирать слезы да с ненавистью поглядывать на обидчика. Когда бабушка вошла в кибитку, Сердар сидел один и рыдал. Старушка бросилась к нему, обняла. — Что с тобой, деточка?! Мальчик так и зашелся в рыданиях. — Да что ты, хороший мой? Что с тобой, мой ягненочек? Скажи своей бабушке! Скажи, кто тебя обидел! — Она прижала к груди голову внука, гладила его, успокаивала. Мальчик начал затихать. — Ну? Что ты, деточка? Скажи, что? — Ничего… — Если б ничего, стал бы ты слезы лить? Ты у меня не плакса. Может, маму свою вспомнил, а? Ну скажи, почему ты плакал? — Бедные мы, потому и плакал. — Хо, нашел о чем плакать!.. Хватит, что я от нее, от бедности проклятой, всю жизнь слезы лила! — Я не потому… Бедные мы, вот он и говорит: «Вор!» — Кто говорит? — Горбуш-ага приходил. «Ты, говорит, кур украл… у элти… Не отдашь — голову откручу!» — Миленький! А может, ты и правда взял? Может, курочки захотелось? Сознайся, сынок, скажи! — Да не воровал я, бабушка! Я сколько уже дней из дому не выхожу. — Ах ты, господи боже мой!.. А все потому, что в школу не ходишь. Ходил бы в школу, сочли бы разве тебя за беспутного? В нашем роду никто на чужое добро не зарился! — Не буду я учиться у моллы. Нечему мне у него учиться — он меньше меня знает! Только драться умеет. Он меня до смерти забьет! — Что ж, детка, на то он и молла. Он учитель, ему виднее, как надо с вами. Ну что ж… Я тогда пойду к Горбушу. Только если взял кур, прямо скажи, не срами бабушку. Не пристало мне на старости лет врать. — Бабушка! Да когда ж я тебя обманывал? Я только от старика и узнал, что кур украли. Неужели и ты не веришь?! — Мальчик вскочил, бросился к двери. — Уйду! Не буду я жить с вами! Вором считают… Потому что мы бедные!.. Мамочка! Мама, милая, видела б ты, как позорят твоего сына!.. — Сердар опустился на кошму возле двери и заплакал горько, навзрыд. — Уйду, — повторял он сквозь рыдания. — Уйду куда глаза глядят… — Успокойся, родименький! Утешься, мой сладенький! Я сейчас. Я скажу ему, старому. Напраслину возводить не годится. Не плачь! Бабушка с решительным видом вышла из кибитки. Немного погодя, когда Сердар уже утих, наплакавшись вдосталь, ему показалось, что кто-то окликнул его. Потом он услышал явственно: «Сердар!» Похоже, его звал Хашим. Сердар не больно-то жаловал этого парня, не зная даже почему. Но сейчас, после того как его оскорбили, он рад был приходу Хашима. — Иди сюда! — сказал он, высовываясь из кибитки. — Чего в кибитке делать? Пойдем лучше со мной, Гандым велел привести тебя. — А он дома? — Нет, в другом месте. Где в другом месте, Сердар допытываться не стал. Все равно, лишь бы уйти из этой опостылевшей вдруг кибитки. Уйти, чтоб никто не видел, чтоб снова не назвали вором. Они прошли до края села, спустились в сухой арык и, немножко пробежав по нему, увидели Гандыма. Гандым сидел на корточках у небольшого костра и деловито раздувал шапкой огонь. Когда приятели подошли, он шмякнул шапкой оземь и, воздев вверх руки, заплясал: «Шашлычок! Шашлычок! У нас будет шашлычок! Будет славный шашлычок!» — Чего ты? — спросил он, заметив, что Сердар выпучил глаза на куриные тушки, нанизанные на вертел. — Очнись, друг! Сейчас курятинки пожуем! — он цапнул Сердара за пояс, несколько раз крутанул вокруг себя, потом схватил валявшуюся в пыли шапку и скова принялся махать ею над углями. Сердар не произносил ни слова. Ему было тошно, он понимал, что ребята украли кур, но он так давно не ел мяса, а от подрумянившихся куриных тушек шел такой дух… Не было у него сил отказаться от угощения и уйти. Он глядел на кур, как промерзший и оголодавший кот глядит на свежее мясо, готовый броситься на него и вонзить когти в розоватую мякоть; он тоже готов был выхватить из костра румяные тушки и мгновенно уничтожить их: рассудок и совесть отступили перед доводами пустого желудка. Гандым взял курочек за ножки, положил рядком у костра. — Вот шашлычок! Готов шашлычок! Закусим, а потом помолимся, чтоб и молле с женой хоть что-нибудь перепало! Ну, берите! Три руки одновременно протянулись к угощению, и каждая ухватила по курице. Месяцами не видевшие мяса мальчишки вмиг обглодали их и стали высасывать косточки. Только теперь вместе с приятной тяжестью в желудке Сердар вдруг почувствовал раскаяние. Он сидел, опустив голову, не в силах посмотреть в глаза приятелям. — Ну чего ты? Чего скис? — спросил Гандым, хрустя куриной косточкой. — Не вкусно? А может, тебе моллу жалко? — Нашел кого жалеть! — Хашим махнул рукой и зашвырнул подальше обглоданную косточку. — Дело сделано, мясо съедено! Поглядеть пойти, как бы кто не накрыл нас! Пойду взгляну! Хашим исчез. — Ну чего ты? — Гандыму не по нутру было, что Сердар загрустил. — Я думаю, что теперь будет. Виноград съели, а веточки-то остались… — А мы их выбросим — и дело с концом! — Ты попробуй в село вернись! Кроме как об этих курах, других разговоров нет. Ко мне уж Горбуш-ага приходил. Верни, говорит, кур, иначе, говорит, хуже будет. — А ты ему что? — встревоженно спросил Гандым. — Что я, сказал, что не брал я никаких кур. — Ну и опять так скажешь. — Теперь я так не могу. Я ведь бабушку к нему послал, ей тоже поклялся, что кур в глаза не видел. Выходит, я бабушку обманщицей сделал? Так нельзя. Приду домой, скажу бабушке, чтоб шла к элти, — пускай за меня прощенья просит… — Ты что, обалдел?! — Гандым вскочил с места. — Да я тебе за такое!.. Сердар, ни слова не говоря, занял оборонительную позицию. — Пошлешь бабушку к элти, пошлешь? — Гандым медленно подвигался к Сердару. — Пошлю! — Сердар упрямо вздернул голову. — Балда! Так тебя элти и простит! — Пускай не простит, все равно пошлю! Гандым молча съездил Сердара кулаком в ухо. Тот дал сдачи. Мальчишки сцепились, как петухи, но силы были равны, и ни тому, ни другому не удавалось одолеть противника. Наконец Сердар удачной подножкой подсек Гандыма и прижал его к земле. — Хашим! — заорал тот. — На помощь! Он хочет рассказать про кур! Хашим!!! Хашим подскочил сзади, схватил Сердара за ногу, Гандым выбрался из-под него и начал лупить кулаками: — Дай ему, Хашим! — кричал он. — Дай ему! Бей предателя! — Хашим не хотел бить Сердара, он старался разнять их с Гандымом. И тут на берегу арыка появился Горбуш-ага. — Ну, свинячьи дети, попались? — старик спустился в арык и каждому отвесил по оплеухе. Подавленные неожиданностью его появления и неотвратимостью возмездия, мальчишки даже не пытались бежать. — Ты что ж это, поганец, клялся давеча, что в глаза этих курочек не видал?! — Горбуш-ага показал на гору куриных косточек. — Может, ты и не ел? Ну, говори! Отвечай, гаденыш! Сердар молчал. Горбуш-ага взялся за Хашима. — Как только ты, цапля длинная, покликал его, я сразу учуял, что нечисто дело. Ты его совратил, паршивец? Курочки захотели? Вкусно куриное мясо? Вкусно? — Горбуш-ага повторял свои вопросы, а сам одну за другой раздавал мальчишкам затрещины. — Бей, дедушка Горбуш! Бей! — Хашим ревел, размазывая по щекам слезы. — Хоть до смерти убей, только не говори никому! Не веди к старикам! Не позорь! Мы больше не будем!.. Гандым молчал, исподлобья поглядывая на старика. Лицо его, измазанное куриным жиром, показалось Горбушу-ага нахальным. — Ты у них заводила! Ты? Думаешь, можно воровать — и все будет шито-крыто? Я знаю. Все ваши разговоры знаю. Ты парней воровать подбил! — И Горбуш-ага всерьез принялся за Гандыма. Гандым не стоял, словно каменный, как это было с Сердаром, он хоть и не посмел убежать, но старательно отворачивался, пытаясь получить поменьше. Однако своими маневрами он только хуже обозлил старика, и оплеух ему досталось больше, чем другим, а рука у Горбуша-ага была тяжелая, не хуже, чем у молодого. — Ну вот что, негодники, бить я вас больше не хочу — устал. Сейчас пойдете со мной, возьмем ваших родителей и вместе с ними будете держать ответ перед стариками! Пусть старики придумают вам наказание. И пусть позор ляжет на головы ваших отцов! — Не надо, Горбуш-ага! — в один голос завопили Гандым и Хашим. — Накажи сам, не веди к старикам! Ведь мы первый раз! Мы больше не будем! — Гандым с Хашимом плакали и упрашивали старика, а Сердар по-прежнему отмалчивался, словно язык проглотил. — Ты чего молчишь, а? — А чего говорить? — Будешь еще воровать? — Я не воровал. — Ел ворованное? — Ел. — Ну и какое тебе дать наказание? — На это ваша воля. Горбуш-ага успешно применил все три метода воспитания, отмеченные в истории человечества: побои, угрозы и наставления. Отлупив мальчишек и припугнув их судом стариков и позором, он незаметно перешел к наставлениям. В результате этого воспитательного комплекса мальчишки дали слово, что никогда больше не будут воровать, а главное — что вернутся в школу. Только в этом случае Горбуш обещал простить их, не водить к старикам и не позорить перед всей деревней.Глава четырнадцатая
Время было тяжелое, но все равно наряду с такими бедняками, как Перман, вынужденный бродить по Каракумам за байскими отарами, были люди, живущие в полном довольстве. Как раз в то время, когда Перман пас в песках овец, один из его родственников устраивал той по случаю женитьбы сына. Той был большой: приглашены были не только все родственники и односельчане, но и именитые люди со всей окрути: ахуны, ишаны, муфтии. А вот про Пермана не вспомнили. В большой шестикрылой кибитке на самом почетном месте разместились ишаны и ахуны — высшее духовенство. Сбоку от них, ближе к дверям, сидели моллы и муфтии — слуги божии пониже рангом. Самое крайнее место среди них досталось молле Акыму. По уровню учености его вообще не следовало бы допускать на ковер для образованных людей, но учитель, никуда не денешься, и волей-неволей приходилось оказывать ему известное уважение. Молла Акым пригласил с собой на той Сердара: лучший ученик, пусть посидит, послушает умных людей, поучится обхождению и разговору. Всего неделю назад Горбуш-ага, как собаку, излупил Сердара возле костра, где он с приятелями уписывал ворованных кур, а сейчас Сердар сидел на ковре с именитыми людьми, а Горбуш-ага — у дверей, на песке, причем и это место мог запросто потерять, и потому, не желая рисковать, предпочитал не подниматься. А вот если бы Сердар встал и ушел, его место все равно осталось бы свободным — никто из простых людей не мог занять место, предназначенное для людей ученых. Вроде бы получается, что Сердар здесь более уважаемый человек, чем старый Горбуш-ага? Во всяком случае сам Горбуш-ага нисколько в этом не сомневался. Причем радовался, что мальчик сидит на почетном месте. Ведь это значило, что в будущем Сердар станет ученым человеком, может быть, даже ахуном. Но тогда, может быть, Сердар с течением времени вправе поднять руку на Горбуша-ага? Нет, ни в коем случае. Горбуш-ага — старик, он прошел большой жизненный путь, одолел дальние дороги, и он всегда останется для Сердара старшим. В кибитку, отведенную для почетных гостей, вошли два новых гостя: молодой ахун Джумаклыч и председатель сельсовета. На председателя сельсовета никто особого внимания не обратил, и место ему дали у самых дверей, а вот Джумаклыч-ахуна встретили как подобает. Встали, приветствуя его, уступили ему почетное место. — Раньше, бывало, увидишь царского старшину в красном халате, — прошептал один из стариков, сидевших на лучших местах, — понимаешь, что перед тобой начальник. Одна печать чего стоила! А этот… — старик поглядел на председателя сельсовета и поморщился. — Печать! — усмехнулся его сосед. — У этого за пазухой тоже печать лежит — в грязной тряпице завернута. От советской власти ему большое доверие. — Подумать только! Ну, если у большевиков все начальники такие, плохи у них дела! Я бы такому и за ослом смотреть не доверил! Сердар не отрывал глаз от молодого ахуна. Это был человек средних лет, высокий, стройный, с приятным лицом; в густой его бороде сквозила чуть заметная седина. Одет был ахун необычно: халат на нем был, но под халатом была надета косоворотка, подпоясанная кожаным ремешком. Сердар не отрываясь смотрел на открытое, оживленное лицо ахуна Джумаклыча, так не похожее на постные, глубокомысленные лица священнослужителей, любовался расшитым воротом его косоворотки и перламутровыми пуговками на ней. Как хотелось Сердару иметь такую рубаху! Правда, это было не безопасно — когда один из мальчишек явился в школу в рубашке-косоворотке, молла Акым крепко отхлестал его розгой. Сердар слышал об ахуне Джумаклыче немало плохого: говорили, что он сбился с пути истинного, стал поганым еретиком, идущим против веры пророка. Разговоров этих Сердар наслушался вдоволь, и в нем жило какое-то предубеждение против ахуна. Но сейчас, глядя на красивую окладистую бороду, на белое, еще не изборожденное старческими морщинами лицо, Сердар чувствовал, что ему очень нравится этот человек. Приятно было слушать его голос — он говорил так спокойно, неторопливо, вежливо. А вот почему на нем такая рубаха? Ведь моллам и ишанам, окончившим медресе, нельзя носить рубаху со стоячим воротником. Разве потому, что он кончил медресе не в Хиве, а в Уфе и там разрешают? Не может же такой ученый человек не понимать, что грешно, а что дозволено… — Я гляжу, вы, досточтимый ахун, ремешком подпоясались, — не без ехидства заметил один молла; рода он был захудалого, но зато очень стар и потому почитал себя достойным всяческого уважения. — Да, ремешком… Раз уж мы едим мясо животных да еще и пальчики после того облизываем, почему бы нам не воспользоваться и их шкурой? Допускать, чтоб добро пропадало, — большой грех, уважаемый молла. — Это так, если добро, это правильно, но ведь кожа-то в город попадает. Кто знает, какие там руки ее касаются… — Ну если нельзя надевать ремень только потому, что его касаются неизвестно какие руки, тогда и матерчатый кушак не годится. А вы изволите носить его на вашем уважаемом теле… — Но в данном случае неизвестно главное: не из шкуры ли поганого животного сделан этот ремень. — Нет, уважаемый молла, этот ремешок изготовлен из коровьей или из телячьей шкуры. Из свиной кожи такие вещи не делают. Она идет только на обувь, — и ахун Джумаклыч поглядел на свои мягкие сапоги. Один из пожилых ишанов, сидевший на самом почетном месте, хорошо понимая, что ахун Джумаклыч — человек высокообразованный и спорить с ним как по светским вопросам, так и по вопросам религии под силу только человеку ученому, а ввязавшийся в спор молла отнюдь не из грамотеев, решил перевести разговор на другую тему. — Дошло до нашего слуха, что уважаемый ахун Джумаклыч намерен открыть школу и обучать в ней мальчиков? Верны ли эти сведения? — Ваши сведения абсолютно верны, ишан-ага. — И какая же это будет школа? — Это будет школа, в которой дети станут изучатьреальный, окружающий их мир. — Стало быть, светская школа? — Да, школа науки. Некоторое время ишан сидел молча. Потом откашлялся и снова стал задавать вопросы: — Царь Николай, как известно, запрещал в землях мусульман открывать светские школы. А новая власть разрешает. Как это понимать? — Царь Николай заинтересован был держать народ в невежестве. А советская власть желает открыть глаза народу, который столетиями держится в спячке. — Хм… Но ведь и царь был русский, и эти… советские тоже русские. Он говорил: «Нельзя открывать», а эти говорят: «Открывайте!» Какая-то тут неясность… — А это зависит от того, как смотреть. Одни смотрит и видят неясность, а другим все, наоборот, очень ясно. Вот мы с вами оба туркмены. Оба закончили медресе, получили одинаковое образование. И тем не менее и чувства, и понятия о вещах у нас с вами совершенно разные. Есть немало вопросов, по которым мы никогда не придем к соглашению. Причем чем настойчивей будем мы углубляться в суть вопроса, тем глубже станут наши противоречия. Вот так, досточтимый ишаи-ага. С вашего позволения мы пойдем? — и ахун Джумаклыч взглянул на председателя сельсовета. Дело в том, что он и председатель сельсовета намеревались здесь, на празднестве, потолковать со стариками об открытии новой школы. Большинству стариков, мнение которых интересовало Джумаклыча, места в кибитке не хватило, и они расположились на земле у входа. Но можно было не сомневаться, что и там он не сможет потолковать с ними по душам — в присутствии такого количества высоких духовных лиц ни один из стариков не осмелится выразить согласия. А раз так, ни Джумаклы-чу, ни председателю сельсовета незачем было засиживаться на тое. Они ушли. Некоторое время в кибитке было тихо. Потом заговорил молла, тот, что завел разговор про ремешок. — Чего-то он замышляет, этот ахун… Не зря начальство с собой водит. — Ну и начальство! — Неужели в каждом селе такой? — В селе! А думаешь, которые в городе сидят, лучше? Одна голытьба! — Неужели власть у них прочная? — Надо думать, Николай вот-вот объявится… Не сгинул же он бесследно. — Подождите, может, еще англичане вернутся. Столько оружия у них — пропадать ему, что ли?.. Все эти и подобные им высказывания исходили от именитых гостей, занимающих почетные места в кибитке. Те же, кто сидел у дверей, помалкивали, и трудно было сказать, что они обо всем этом думают. Молла Акым тоже помалкивал, робея в присутствии стольких ученых людей, но под конец все-таки не выдержал. — Этот ахун намерен открыть в селе школу, в которой дети будут сидеть на особых, парных стульях. Он уже набил ими дом Серхен-бая. — Какие такие парные стулья? — Зачем они нужны? Молла Акым в глаза никогда не видел парт, поэтому промолчал. А заговорил вдруг Горбуш-ага: — Это не стулья… Не такие, как мы знаем. Там скамейка, двое на ней сидят. А перед ними доска. Грудью опереться можно… — А зачем все это нужно? — искренне удивился ишан. — Ну как же. Мальчики садятся на скамейку по двое. Внизу ноги есть куда поставить. И ящик есть — книги, тетради положить… — И удобно на этом сооружении сидеть? — Очень удобно! Я пробовал, — с гордостью сказал Горбуш-ага. — Видите, что получается… — не глядя на старика, насмешливо произнес ишан. — Уж если седобородый человек говорит «очень удобно», чего же ожидать от детей? Разве кто-нибудь помнит теперь, что удобства в этом бренном мире — залог вечных мук на том свете? Бедный Горбуш-ага сквозь землю готов был провалиться. Сердар искоса глянул на него и, увидев, как виновато потупился старик, отвернулся — ему было жаль Горбуша-ага, он уже не помнил, что несколько дней назад старик здорово отлупил его. А вообще трудно было Сердару разобраться во всех этих разговорах, суждениях… После того как самый уважаемый, самый именитый из гостей, как мальчишку, отчитал старого Горбуша-ага, разговоры на некоторое время прекратились. Никто не решался нарушить тишину. Потом снова заговорил ишан: — Сначала эти люди привезли сюда свои скамейки. Потом они привезут кровати. У них одна цель — перетянуть на свою сторону мальчиков. Когда они покончат с мальчиками, они примутся за девочек. Дочерей ваших они тоже перетянут на свою сторону. И останется несчастным туркменам дать женам зонтики в руки и сопровождать их по улицам! А это будет конец. Конец нашей святой вере! — Не приведи господи! — О боже! — Избавь и помилуй, всеблагой! — Да, люди, да! Пришло время призывать милость божью. Храните свою святую веру. Только мусульманская вера, только вера Мухаммеда является истинной верой, опорой земли и неба. Исчезнет вера, и земля лишится красоты, а небо — своей опоры. И сокрушится небо, и падет на землю свод небесный! Молитесь, люди, молитесь! Гости молитвенно воздели руки и, раскачиваясь из стороны в сторону, начали призывать бога. На Сердара слова такого большого ишана произвели огромное впечатление, он тоже испуган был его словами. Только очень ему было жалко, что во время этого разговора ахун Джумаклыч отсутствовал — вот что бы он ответил ишану?..Глава пятнадцатая
Ахун Джумаклыч и председатель сельсовета решили собрать стариков — надо было решать вопрос со школой. Старики явились на приглашение, пришел на собрание и молла Акым. Он, как и другие священнослужители, крепко недолюбливал молодого ахуна, называя его заблудшим, сбившимся с пути истинного еретиком. Теперь же, когда молла узнал о намерении этого умника открыть в селе новую школу, он всей душой возненавидел Джумаклыча. Но, зная, сколь велика его ученость и как уважают его в народе, молла Акым не решился открыто выказывать своего недоброжелательства. Напротив, придя на собрание, он с особым почтением поздоровался с ахуном Джумаклычем, согнулся перед ним в глубоком поклоне и немножко постоял так, смиренно сложив руки. Ахун Джумаклыч, казалось, не придал его поведению особого значения, приветствовал моллу Акыма с должным почтением и так же, как и стариков, расспросил о здоровье, о жизни. После этой недолгой, но весьма обстоятельной беседы ахун начал главный разговор. Джумаклыч не выкрикивал лозунгов, не жестикулировал кулаком, как принято это было у ораторов того времени, он говорил мягко, негромко, словно продолжая беседу о самочувствии и о погоде. — У меня к вам, уважаемые старейшины, только одно дело. Я должен задать вам вопрос, которого вы еще ни от кого не слышали, должен обратиться к вам с просьбой, с которой к вам никто еще не обращался. Пришло новое время, началась новая эпоха. И новую эту эпоху создают люди. Самые умные, самые мудрые, самые знающие и уважаемые люди. Мудрейший из мудрых — Ленин. Советская страна огромна, просторы ее бескрайние, но где бы ни находился человек в этой стране, если он прислушается, он обязательно услышит голос Ленина. И если он постарается, если напряжет ум, то поймет, чему учит Ленин. А кто поймет, куда, к какой цели зовет людей Ленин, тот уже никогда не заблудится. Уважаемые старейшины! Новая эпоха — это бурный поток, это сель, устремившийся с гор в равнину. Плыть против этого потока нельзя, тот, кто попробует сделать это, погибнет. Нельзя грудью загородить путь приближающейся эпохе, она все равно сметет любого. Я уже много говорю, а многословие не на пользу беседе. Пусть лучше слов будет мало, но каждое из них должно быть весомым, как полено из саксаула. Только тогда будет от них столько же пользы, сколько жара от саксауловых углей. Долгие разговоры на такую тему бессмысленны: культура — не вода, а головы человеческие — не самовары, чтоб можно было заполнять их культурой, как самовары — водой. Со временем вы все поймете. Может быть, не очень скоро. Слишком долго были мы птицами с завязанными глазами. Нам теперь надо сесть, снять с глаз повязки. Оглядеться и поразмыслить. Много веков мы спали, натянув на голову одеяло бездействия и безучастия, настало время сбросить его. Теперь вот что я хочу сообщить. Я намерен открыть в селе новую школу. Новую советскую школу. Пусть те дети, которые хотят ходить ко мне, ходят ко мне, те, которые хотят ходить к молле Акыму, пусть ходят в старую школу. Пусть поступают, как хотят, а вы и родители не должны препятствовать детям. Вы согласны, молла Акым? Молла Акым прекрасно понимал, что, если говорить об образованности, он против ахуна Джумаклыча все равно что верблюжонок против верблюда. И потому, когда ахун в присутствии стольких аксакалов обратился к нему со словами: «Вы согласны, молла Акым?», он растерялся, у него словно бы дым зеленый взвился над головой. Молла Акым взглянул на стариков бессмысленно, как смотрит вокруг человек, накурившийся терьяка, и, сам того не заметив, произнес: «Мы согласны». Но старики сидели молча, словно окаменевшие, и молла, испугавшись, что ответил не так, как должно, тоже вдруг как бы окаменел. Мертвая тишина длилась довольно долго. Потом ахун Джумаклыч спросил: — Так что ж вы мне скажете? Согласны вы или нет, чтоб дети ходили в две школы? Старики безмолвствовали. Наконец один из них откашлялся, взял в горсть свою длинную пушистую бороду, погладил ее и спросил: — Чтоб открыть эту вашу новую школу, вам действительно нужно наше согласие или вы спрашиваете так, из уважения? — Нет, не просто из уважения. Школа может быть открыта только с вашего согласия. Насильно советская власть никого в школы загонять не собирается. Все должно быть по доброму согласию. — Ну если по согласию, то открывать не надо. По доброй воле мы не станем учить детей в новой школе. — Конечно, зачем нам еще какая-то школа? Нам и одной хватит! — И отцы, и деды наши обходились одной школой! И мы обойдемся. — Правильно. А то сегодня вы скажете «приводите сыновей», а завтра — «приводите дочерей»! — Лиха беда начало! Старики говорили все разом, не слушая друг друга. Ахун молча поднял обе руки, давая знак, что просит помолчать. Голоса стихли. — Уважаемые старейшины! Меня не удивляет то, что вы говорите. Именно этих слов я и ждал от вас. Послушайте меня еще немного. Когда-то давно был русский царь по имени Петр Первый, мудрый и смелый человек. Он построил прекрасный город Петербург — лучший город в России. И призвал туда богатых и знатных людей со всей страны. «Приезжайте, — сказал он им. — Будете жить в новом прекрасном городе. Будете жить культурно». Знатные люди — бояре — поначалу отказывались, говорили, что не нужны им ни город, ни культура, им и так неплохо живется. Тогда Петр Первый царской своей властью заставил богатых и знатных людей переехать в город Петербург. Приехали они: бороды огромные, одежда старинная, тяжелая и нескладная. Царь повелел открыть на улицах парикмахерские и всем придворным людям приказал сбрить бороды. Те, конечно, ни в какую: борода — главное украшение. Тогда царь Петр издал указ силой брить бороды знатным людям. Стали царские слуги силой приводить бояр в парикмахерские. Приведут боярина, а тот обхватит руками бороду и прямо на землю валится: великим бесчестьем считали бояре лицо свое оголять. С тех пор прошло много поколений русских людей. И все они брили не только бороды, но и усы. И смеялись над дедами, которые так боялись парикмахера. — А может быть, дело в том, что у корня их бороды не было ангела? — А вы думаете, у корня наших бород полно ангелов? Да они наши бороды и нюхать не захотят! При этих его словах большинство стариков коснулись руками бород. — Вот, уважаемый ахун, вы сказали слово «культура». Несколько раз его повторили. А не скажете ли вы нам, что это значит — культура? Ахун улыбнулся. — Давайте попросим моллу Акыма объяснить нам, что такое культура. Молла Акым беспокойно заерзал, и щеки его залило краской. — Не пристало нам высказываться в присутствии столь ученого ахуна, — попробовал было он увернуться от ответа. — Ничего, ничего. Объясните односельчанам, что значит слово «культура». — Культура… — произнес молла Акым и замолк, не зная, что же сказать. Старики поглаживали бороды и ждали ответа — они все желали знать, что такое культура. Молла Акым безмолвствовал. Старикам надоело ждать. — Придется, видно, вам объяснять, ахун, — сказал Горбуш-ага. — Иначе ничего не выйдет… Видно, далеко она ушла, эта культура, не дождаться нам ее. Молла Акым бросил на него свирепый взгляд. — Культура… — произнес он и кашлянул. — Культура — это… Русский царь сказал: брейте бороды — и будете культурными. Значит, культура — это бритье бороды. — Молла Акым вопросительно взглянул на ахуна, но по выражению его лица понял, что не попал в точку. — Или вот еще, когда в одном селе сразу две школы?.. И чтоб они меж собой ладили, тогда будет культура… — Молла Акым помолчал немного и снова вопросительно поглядел на Джумаклыча. — А может, ахун-ага, понятие это превышает наши знания? Нас этому не обучали… — Пожалуй, что так, молла Акым. Культура — понятие сложное. И проявляется она и в земледелии, и в скотоводстве, и в быту, и в отношениях между людьми… Но мы не станем сейчас подробно обсуждать это. Мы ушли от главной темы нашего разговора. Вот я сейчас рассказывал вам, что царь Петр силой навязывал когда-то русским культуру, а они противились всеми силами. Прошло совсем немного времени, и культурные русские люди со смехом вспоминают своих предков, боявшихся всего нового. Давайте, чтоб и с нами так не вышло. Чтоб через двадцать — тридцать лет наши дети, да и мы сами не вспоминали бы со смехом, как противились введению новой школы, как боялись проникновения в село культуры. Давайте же не будем посмешищем для потомков! Старик, первым высказавшийся против открытия школы, погладил свою длинную бороду и заговорил спокойно и уважительно: — Мы, ахун-ага, почитаем вас за человека ученого и имя ваше произносим с почтением. Если бы эти разговоры вел кто-нибудь другой, мы бы и минуты здесь не остались. А вас мы выслушали со вниманием. Теперь с вашего разрешения разойдемся по домам — у каждого ведь дел по горло. Но в знак нашего к вам уважения и душевного расположения просим вас, ахун-ага, в мой дом. У меня там овечка стоит привязанная, с божьего соизволения угощение устроим. Почтите мой дом своим посещением! — Мы вас приглашаем, ахун-ага! — Пожалуйста, ахун-ага, если вы не заняты… Ахун Джумаклыч слегка наклонил голову. — Сейчас у меня срочные дела. Так что простите. Как-нибудь в другой раз… Стуча крышками парт, старики поднялись и вышли из комнаты. Ахун Джумаклыч и председатель сельсовета остались одни.Глава шестнадцатая
Джумаклыч сидел перед окном и читал книгу. Солнце поднялось уже высоко. Шагах в пятнадцати от дома красовались три стройных тополя, за ними начинались кибитки. Те, что стояли одна возле другой, вытянувшись в порядок, были кибитками состоятельных людей, а кибитки бедняков — раскиданы были повсюду, вразброс. Расстроенный своей вчерашней неудачей, ахун Джумаклыч не столько читал, сколькопредавался грустным размышлениям и не очень радостным воспоминаниям. Джумаклыч учился в Уфе и в Казани, получил там высшее духовное образование и звание ахуна. Но в отличие от своих однокашников, которые безвылазно сидели в кельях медресе, полагая, что город — источник всяческой скверны и правоверному мусульманину непристойно даже видеть его, Джумаклыч даром времени не терял. За время учебы он побывал в Москве, в Петрограде, в Киеве. Он даже по морю плавал. И везде, где довелось ему быть, он смотрел, запоминал, спрашивал, жадно впитывая в себя самые разные знания. Во время первой мировой войны Джумаклыч открыл было у себя в доме новометодную школу, но дело не пошло. Сородичи невзлюбили его, прозвав «джадидом», а слово это было тогда равносильно словам «еретик», «отступник». И когда советская власть официально поручила ему открыть в селе государственную новометодную школу, он возликовал, не давая червю сомнения пробраться в его душу. Но старики как холодной водой окатили его. Хотя выдержка помогла ему скрыть отчаяние, он переживал сейчас великое разочарование. Джумаклыч отложил книгу, подпер рукой голову и стал глядеть на кибитки, разбросанные на холме за тремя тополями. — Какая жалкая жизнь, какое безрадостное прозябание… В богатой кибитке горит саксаул, в бедной — хворост… Всю зиму люди сидят и греют ноги. Не успевает бедняк согреть ступни, как хворост уже прогорает. Всю зиму люди заняты только тем, чтоб согреться, как-нибудь перетерпеть холод. И так год за годом, год за годом… А если огня в очаге будет достаточно и живот будет набит досыта, то больше ничего и не надо, это — предел мечтаний… Не нужны нашим людям ни культура, ни знания… Джумаклыч глубоко вздохнул, печальным взглядом снова окинул окрестности и вдруг заметил мальчика. Тот быстро шел по узенькой тропке, ведущей к дому Серхен-бая. Миновал тополя, подошел к дому и, увидев в окне ахуна, вздрогнул от неожиданности. — Заходи, заходи! — Джумаклыч приветливо помахал парнишке рукой. — Салам-алейкум! — негромко сказал мальчик, появляясь в дверях. На вид ему было лет тринадцать. — Валейкум! — улыбаясь, ответил ахун. — Добро пожаловать, заходи! Как тебя зовут? — Меня зовут Сердар. — А отца? — Отца?.. Отца — Перман… — У тебя есть отец? — спросил Джумаклыч, заметив, что последний вопрос несколько смутил мальчика. Парнишка опустил голову, помедлил немного… — Вроде бы есть, а вроде бы нет… — Как это может быть: вроде бы есть, вроде бы нет? — Отец — чабан. Пас в песках отары одного бая… — Ну и что? — Бай увел его. Велел ему гнать овец через границу и увел. — Плохо… Бай поступил очень скверно. Но все равно, рано или поздно отец твой вернется. Не захочет же он вас бросить. — А вдруг бай его не отпустит? — Отпустит. А не отпустит, так он сбежит. Твой отец обязательно вернется! Как ему не вернуться, если его такой сын ждет? — Дай бог! Ахун-ага, а что это такое? — не выдержал Сердар — он давно уже не отрывал глаз от глобуса. — Ты, верблюжонок, не называй меня «ахун-ага». Это звание такое — ахун, профессия же моя — учитель. Можно называть «товарищ учитель». — Товарищ учитель? — Сердар улыбнулся. — Да. Товарищ учитель. Советские люди — все друг другу товарищи. Даже Ленина называют: «Товарищ Ленин»! Сердар чуть заметно пожал плечами. Называть товарищем человека, у которого седина в бороде?.. — А что это такое? — повторил он, указывая на глобус. — Это, милый, изображение нашей земли. Называется такая штука — глобус. — Неужели наша земля такая круглая? — Да, она круглая, — подтвердил Джумаклыч, и Сердар недоверчиво взглянул на него. — Ты что, не веришь? Не верится, что земля круглая? — Не верится… — Почему? — Если она круглая, как быкам рогами в нее упереться? — Землю не быки на рогах держат. — А кто же? Четыре рыжих быка. — Нет. Землю держит Солнце. — Солнце?! Как? Значит, Солнце и Земля связаны? — Связаны. Только это невидимая связь, ее нельзя углядеть, можно лишь чувствовать. — Рассказывать ребенку о солнечном притяжении было делом бессмысленным, и потому вместо продолжения ахун погладил Сердара по голове. — Сейчас ты этого не поймешь, дружок. Вот приходи ко мне в школу, и когда знаний твоих будет достаточно, чтоб понимать трудные вещи, я расскажу тебе, как Земля связана с Солнцем. Сердар молча посмотрел на него и снова перевел взгляд на глобус. — А где змея, что опоясала землю? — Это какая ж такая змея? — спросил Джумаклыч, хотя великолепно знал, что имеет в виду мальчик. — Длинная змея, которая опуталась вокруг земли и свой хвост пожирает. Ест, ест свой хвост, а он опять отрастает. А если хвост перестанет отрастать, она разозлится и сожрет все, что есть на земле! Джумаклыч улыбнулся. — Когда я был в твоем возрасте, я тоже слышал об этой змее. И очень боялся, что хвост не успеет почему-нибудь отрасти и она нас сожрет. Я даже молился, чтоб хвост отрастал скорее… — А теперь? — А теперь я знаю, что никакой змеи не существует. Большие морские корабли много раз объехали вокруг земли, — Джумаклыч крутанул пальцем глобус, — и никакой змеи не нашли. Нет ее. Вот так-то, дружок. Сердар молчал, пристально разглядывая глобус. Поверил он ахуну или нет, этого он и сам еще не знал. — Что ж, тогда, может, и чудо-рыба в Амударье — неправда? — Это какая же чудо-рыба? — ахун снова прикинулся несведущим. — Ну как же, про нее все знают! Один раз по берегу Амударьи шел караван, большой, тяжело груженный. Караван-баши остановил его на привале у реки, в тени деревьев — попить чаю, перекусить. Развели караванщики костер, вскипятили воду, положили заварку… Второй раз наполнили кувшин водой, снова поставили на огонь. И не успела вода вскипеть, как земля ни с того ни с сего стала вдруг сползать в реку… — Подумать только!.. — воскликнул ахун. — Это почему ж так? — А потому что они, оказывается, на рыбе сидели. Она спала сотни лет, а караванщики жгли, жгли костер, прожгли ей шкуру огнем. Рыба проснулась и — в воду. — Так… А как же на ней деревья-то выросли? В шкуру вросли? — Нет. На рыбу за сотни лет песку, илу всякого нанесло… — А… Понятно. И кто ж тебе это рассказывал? — Бабушка. Она много всего знает! — Да видно, что бабушка твоя мастерица рассказывать. Но все эти ее рассказы называются предания, легенды, то есть то, что придумано. Ты не огорчайся, — Джумаклыч похлопал мальчика по спине, — это очень хорошие рассказы, красивые, интересные, но это неправда. Если ты хочешь узнать правду о том, как устроен мир, приходи ко мне в школу. Приходи. Ты станешь много знать, будешь ученым человеком. Сейчас во всей Туркмении нет пока ни одного учителя, который бы кончил не религиозное высшее училище, а настоящий институт. Поэтому приходится приглашать учителями людей, кончивших медресе. Ишаны и моллы ненавидят нас, тех, кто согласен помочь советской власти. А вас, когда вы получите настоящее современное образование, вас уже никто не будет ненавидеть. Вы будете самыми уважаемыми людьми. Ты понял меня, Сердар? — Понял, учитель. А если я один буду ходить, вы станете меня учить? — Лучше было бы привести еще несколько мальчиков… — А сколько? — Ну хотя бы человек пять… — Пять можно! Пять это я завтра! А через неделю и двадцать будет! — Прекрасно. Только верны ли твои слова? — Верны! У меня лживых слов не бывает! Если сказал — все! — Молодец! Джумаклыч захлопнул лежавшую перед ним книжку и положил ее на стол. — Гео… гра… фия… — по слогам прочел Сердар. И повторил: — География. — Ты хорошо читаешь! — обрадовался Джумаклыч. — Я читать умею. Только я не понимаю, что это значит — география. Ахун объяснил, что это такое, и Сердар попросил у него учебник — почитать. Назавтра Сердар обещал вернуть книгу, когда вместе с товарищами придет в школу.Глава семнадцатая
Придя домой, Сердар бережно положил книгу, предварительно погладив ее, потом бросил на кошму подушку, лег на нее грудью и взял книгу в руки. На обложке написано было имя Джумаклыча, и Сердар решил, что книгу написал сам ахун. Произнеся положенное «бисмилла!» — в школе моллы Акыма их учили произносить это слово перед началом всякого нового дела, — Сердар с замиранием сердца открыл учебник. Он перелистывал страницы, разглядывал картинки, прочитывал заголовки. Перелистав книгу до конца, Сердар снова раскрыл ее на первой странице и принялся читать. Написано было интересно, но очень уж непонятно. Сердар прочитал страницу один раз, потом второй, потом третий раз… Вроде стало понятней. Сердар и сам не заметил, как увлекся. Он вдруг забыл все: все свои заботы, беды свои и печали. И про скуку забыл. Мальчик читал, не замечая, как летит время. И только когда с улицы донеслись выкрики: «Счастливо!», «Пока!», он понял, что уже вечереет и ребята из школы моллы Акыма возвращаются домой. Меред, придя из школы, прежде всего бросился к скатерти, в которой хранились чуреки, схватил один и вцепился в него зубами. Он жевал чурек быстро, хотя глотать сухие куски было не так-то легко, а сам исподлобья поглядывал на Сердара — ему хотелось спросить брата, почему тот не был в школе, но для этого надо было перестать жевать. Меред запихнул в рот последний кусок чурека, ни крошки не оставив псу, который стоял рядом, виляя хвостом и умильно поглядывая на него, потом вошел в кибитку и припал к ведру о водой. Утолив голод, напившись, Меред стал прислушиваться к тому, что вполголоса читал брат. Сердар читал что-то непонятное, и даже страшновато немножко было его слушать. — Что это у тебя за книга? Сердар не ответил. — А в школу почему не ходил? Брат снова не ответил, и Меред разозлился. Он завидовал брату черной завистью, завидовал давно. В школу они пошли в один день, но Сердар быстрей всех освоил школьные науки. Он умел читать даже такие книги, которые прежде в глаза не видел, тогда как Меред, не в силах одолеть грамоты, умел лишь повторять заученное наизусть. Сейчас зависть с новой силой вспыхнула в сердце Мереда, и он начал приставать к брату. — Чего это такое читаешь? Земля круглая! Что она, как яйцо? — Как яйцо! Еще круглей яйца! — Чего только не напишут безбожники! Круглая! Любому дураку известно: земля о четырех углах и с каждого угла ее рыжий бык подпирает. — Нет там ни быков никаких, ни коров! Вон в книге нарисовано, какая земля. Круглая она. — Земля круглая? Быков нет?! А кто ж ее тогда держит? — А быков кто держит? — Кто, кто?.. Бог! — Ну а землю солнце держит. — Вот это ляпнул! Солнце землю держит! Ты что, рехнулся? Или совсем с пути истинного сбился, поганым джадидом стал? Бабушка! Бабушка, слышишь, что он несет: земля круглая, быки ее не держат, солнце держит… — Молчи! Мыслимы ли такие слова! — старуха замахала на него руками. — Грех такое говорить. Землю держат рыжие быки, это любому известно. — Бабушка! — Сердар протянул старушке книгу. — Здесь совсем не так написано. Вот и картинка есть — погляди. Вот она, наша земля. Круглая. — Не гляди, бабушка, не гляди! — Меред схватил ее за руку. — Это греховная книга, безбожная! Ее проклятый отступник написал! — Деточка! — бабушка умоляюще взглянула на Сердара. — Не читал бы ты ее, а? Грех великий этакое читать. Я ж тебе сколько раз толковала: землю держат быки. Устанут, начнут с одного рога на другой перекладывать, земля дрожит — землетрясение получается. Покайся, сынок, пока не поздно, признай, что быки землю держат. Ободренный поддержкой бабушки, Меред грозно двинулся на брата: — Ну? Чего молчишь?! Слышишь, что бабушка велела? Сейчас же покайся, богохульник проклятый! Сердар молчал, мрачно уставясь в пол. Меред схватил лежавший перед ним учебник и со злостью отшвырнул его. Книга ударилась о деревянную подпорку кибитки. Сердар вскочил, испуганно схватил книгу… И замер. Несколько страниц было порвано. «Береги эту книгу, — сказал ему ахун Джумаклыч. — Обращайся с ней осторожно, не порви, ее многие должны будут прочесть». Сердар твердо обещал, что книга будет в целости и сохранности, и вдруг… Что он завтра скажет учителю? Мальчик глядел на порванные страницы, и внутри у него все клокотало. Тяжело дыша, он молча подошел к брату и также молча дал ему по уху. Меред вскочил, бросился на Сердара. Тот схватил брата за обе руки, дал ему подножку и опрокинул на пол. Негодование душило Сердара, и если б не бабушка, он здорово излупил бы Мереда. Бабушка растащила их, и теперь каждый сидел в своем углу и обиженно сопел. — Ах вы негодники! Мать умерла, отец в чужих краях бедствует, а вы остались на моей шее, наказание господнее, теперь со света решили сжить? Мать бедная что завещала, умирая? «Живите дружно, жалейте друг друга». А вы? То и дело драку затеваете, матери и в могиле покоя от вас нет. Она, бедная, как на угольях сейчас крутится, она ведь знает, что вы тут вытворяете! — И старушка краем платка вытерла слезы. — Бабушка, не плачь. Не плачь, бабушка… — Сердар и сам с трудом сдерживал слезы — очень ему было жаль бабушку. И маму тоже. — Я ведь знаешь почему? Я учителю слово дал, что не порву книгу… Слово дал, понимаешь? Как я ее завтра отдавать буду? Вон она какая рваная! — и Сердар горько заплакал. — Подумаешь… — проворчал Меред, остерегаясь, однако, подходить к брату. — Внутри порвано-то, он и не увидит. — Не увидит… — Сердар бросил на Мереда ненавидящий взгляд. — А книга от этого целей, да? — Боже мой! Боже мой! — запричитала бабушка. — И все эти беды от еретиков-джадидов. Как я тогда противилась, не велела сыну отдавать детей в ученье к отступникам, не послушали старую, своим умом жить хотят? Захотели, чтоб ученые были, а бабке теперь расхлебывай… Ученые! Уж куда ученей: до того доучился, что земля у него круглая стала. И зачем, всеблагой, дал ты мне долгую жизнь, чтоб мучилась я, глядючи, как внуки мои сбиваются с пути истинного!.. Призови меня к себе, милосердный! Прибери ты меня, несчастную!.. — Вот, — злорадно сказал Меред. — Доволен? Это из-за тебя бабушка плачет. — Не из-за меня, — сказал Сердар, не очень-то, впрочем, уверенно. — Из-за тебя все началось, ты книгу порвал. Меред не ответил. В кибитке наступила тишина. Мальчишки молчали, старуха тихонько всхлипывала. Все трое думали об одном, все трое думали по-разному. Новая жизнь вторгалась в их сознание, по-разному отражаясь в нем.* * *
Назавтра, едва рассвело, бабушка разбудила Мереда. Он схватил полчурека и убежал в школу. Следом за ним так же поспешно ушел из дома Сердар. Старушка обрадовалась — уж не одумался ли, не взялся ли внук за ум, но Сердар отнюдь не спешил к молле Акыму. Он стоял у дороги, поджидая мальчишек, чтоб перехватить их по дороге в школу и отвести к ахуну. С Хашимом и Ганды-мом он столковался без труда, и все вместе они принялись за более прилежных учеников моллы. Один согласился быстро, еще троих удалось склонить на свою сторону угрозами и уговорами, а вот восьмой уперся — и ни в какую. Кончилось тем, что Гандым в сердцах дал ему по уху. — Иди теперь к своему молле! Можешь пожаловаться. Вытирая глаза, мальчишка отошел на почтительное расстояние и уже оттуда крикнул: — Все про вас расскажу! — и припустил наутек.Глава восемнадцатая
Слово свое Сердар сдержал. Количество учеников в школе Джумаклыча с каждым днем увеличивалось, причем соответственно уменьшалось число учеников моллы Акыма. Обстоятельство это повергло моллу в уныние. Если и дальше так пойдет, если все его ученики станут ходить в новую школу, он лишится главного источника доходов, и не очень понятно, чем можно будет возместить потери. При всей своей непросвещенности молла Акым прекрасно знал, что в новой школе детям будет гораздо интересней и они могут сбежать все до одного. Молла Акым потерял сон. Понимая, что всему виной Сердар, что это он перетянул мальчишек в новую школу, молла Акым страстно возненавидел своего лучшего ученика. Как-то раз, когда молла сидел погруженный в свои невеселые думы, зашел племянник, спросил о чем-то. Молла Акым не ответил, просто не услышал вопроса. Потом слова вошедшего вдруг дошли до его сознания, и он испуганно вздрогнул. — Что? Ты что-нибудь сказал, Пудак? — Сказал. А чего ты уж больно задумался? — Да есть о чем подумать… Плохи мои дела, Пудак. Пока жив этот поганец Сердар, не уйти мне от печальных дум. Скоро, наверное, голова лопнет… — А что он тебе дался, щенок? — Щенок!.. Этот мальчишка вредит почище любого взрослого. Это вообще не ребенок, не мусульманское дитя! Скольких ребят он подбил бросить мою школу и перейти в советскую! А те, что остались? Одно название, что ученики: попробуй огрей кого-нибудь лозой… — А что будет? — Ничего. Не придет больше в школу. К Сердару перекинется. Это не ребенок! Исчадие ада! А приструнить некому. Мать умерла, отца занесло неведомо куда… Бабка… Бабка ему не указ. — Ничего. Управу на парня всегда можно найти. Тем более если бабку не слушает… — Нет, уж лучше не надо. С ним только свяжись! Сам знаешь, какое сейчас время, не приведи бог сироту задеть. Советская власть, она не станет понимать, что этот сиротка кому хочешь печенку выест. На мне же потом отзовется! Нет уж, видно, терпеть придется, — и молла Акым с безнадежным видом махнул рукой. — Вон оно что… — задумчиво произнес Пудак. — Я-то полагал, ахун всему виной, а выходит, этот оголец… Зловредный какой мальчишка! — В том-то и дело! Ахун Джумаклыч что ж, он человек уважительный. Собрал стариков, посоветовался. Те говорят, не надо школы, он не настаивал, согласился со старшими. Я думал, на том и делу конец, а негодник этот видишь что устроил… — Молла Акым глубоко вздохнул и погладил свою реденькую бороденку. — Распутство. Портятся дети, на глазах портятся. У них ведь главные-то, кроме Сердара, еще Гандым — тоже хорош поганец, и этот… ну, как его… который тогда кур украл… — Хашим? — Вот, вот, он, чтоб ему пропасть вместе с его именем! Столковались они и наперли на ахуна: открывай, мол, школу, учиться хотим. А тот что ж, тот человек подневольный, ему от властей указание: будут желающие, учи… А Сердар этот, дьявольское отродье, каждый день все новых моих учеников с толку сбивает… — Да как же ты можешь такое терпеть? — Пудак даже трясся от негодования. — Проучить дьяволенка!.. Я его… — Нет, нет! Не лезь в это дело. За них власть стоит. Как-нибудь проживем и без учеников. Будет день, будет пища… — Нет, так не пойдет! — Спорить с моллой Пудак не осмелился, но когда он выходил из комнаты, вид у него был самый решительный.Как уже было сказано, новая школа открыта была в доме Серхен-бая. После того как хозяин покинул дом, все вокруг опустело. Так было пустынно вокруг, что приди сюда попоздней и разнеси весь дом в щепки, ни одна живая душа не узнает. Ночь да звезды — вот и все свидетели. В одну из таких темных ночей, когда люди в селе улеглись и собаки угомонились, возле брошенного Серхенбаем дома появились две тени. Это были Пудак — племянник моллы Акыма — и Муршук — один из учеников моллы, самый старший, самый тупой и самый преданный. Муршук во всем угождал молле, чуть не на четвереньках готов был ходить перед ним. Это он вызвался тогда запихать ноги Гандыма в дыбу. Теперь он тоже решил услужить молле. Сломав замок, Муршук и племянник моллы вошли в байский дом, превращенный в школу. Распахнули двери, внутри стало немножко светлее. Сначала злоумышленники исцарапали железкой классную доску, приведя ее в полную негодность. Потом вытащили на улицу парту, сбросили ее с обрыва в реку. Парта тяжело плюхнулась в воду, потом вынырнула и медленно поплыла по течению. — Плыви, плыви! — сказал Пудак и засмеялся. — Привет передавай тамошним! — Смотри только чал весь у них не выпей! Посмеиваясь, они направились за второй партой, совершенно уверенные, что никто не помешает им делать их черное дело. Они и помыслить не могли, что в кустах притаились ребята. Хашим еще днем случайно подслушал, как Пудак сговаривался с Муршуком, и трое приятелей давно уже поджидали их в засаде. Одно только было плохо — не могли ребята договориться, как действовать. Гандым и Сердар считали, что нужно наброситься на злодеев, а Хашим твердил, что достаточно просто попугать — пусть себе бегут — не хотелось ему ввязываться в драку. — Не испугаются они нашего крика! — яростным шепотом доказывал Сердар. — Не убегут! — А если и убегут? Как ты завтра докажешь, что это они? — петушился Гандым. Хашим молчал, крыть было нечем. — Знаете что, — сказал Сердар. — Давайте так. Мы с Гандымом налетим на них, а Хашим пусть следит. В случае чего будешь свидетелем! Пошли, Гандым! — Сердар вскочил и бегом бросился к дому. Муршук и Пудак выносили уже третью парту. — Вы что тут делаете, а? — грозным голосом закричал на них Сердар. — Парты воруете?! — И, ухватившись за парту, он потянул ее на себя. Муршук, испуганный неожиданным нападением, готов был уже дать деру, но взрослый его сообщник повел себя иначе. Увидев выскочившего из темноты Сердара, он не только не испугался, но вроде даже обрадовался: Пудак уже давно мечтал подстеречь где-нибудь этого щенка. — Пусти, гаденыш! — прошипел он и дал Сердару по затылку. Потом повернулся к Гандыму и так поддал ему, что мальчишка кубарем полетел на землю. Однако он сразу вскочил, и оба, и Гандым, и Сердар, клещами вцепились в парту. Пудак, забыв на время про второго, взялся за Сердара. Оторвал от парты, швырнул на землю и стал бить ногами. Сердар попытался вскочить, но сильный удар снова свалил его на землю. Тут полез в драку и Муршук, успевший уже очухаться от страха. Силы были неравны. У Гандыма шла носом кровь, у Сердара был выбит зуб, но мальчишки упрямо хватались за парту, не желая уступать врагу. Муршук понял, видно, что они не уступят, и стал уговаривать своего сообщника бросить, уйти — черт с ними, с этими партами! Но Пудак, разъяренный упорством ребят, отмахивался от него, как от назойливой мухи. — Мы уйдем, — бормотал он сквозь зубы, оттаскивая Сердара от парты. — Уйдем, только дельце одно сделаем! Я этого отступника, гяура проклятого… Живым он от меня не уйдет! Сперва кур наших крал, теперь решил моллу нищим сделать! Такого прикончить — благословение божие заслужить!.. Сердар с Гандымом, разумеется, слышали все это. Но не верили, не могли поверить, считали, что Пудак просто пугает их. Но даже если б Сердар точно знал, что его жизнь в опасности, он все равно не отступил бы. До потери сознания хватался бы он за окровавленную парту, потому что нисколько не сомневался: если из школы утащат парты, школа закроется и учиться им будет негде. Пудак вдруг отпустил парту, и ребята, решив, что враг отступает, поволокли парту к школе. Они не заметили, как племянник моллы, исчезнув вдруг в темноте, срезал веревку, на которой подвешены были качели, быстро сделал аркан. Мгновение, и он набросил аркан на Сердара. Пособник его, схватив Гандыма, прижал мальчишку к Сердару, спиной к спине, и оба они в один момент оказались опутаны веревкой. Пудак, разъяренный, подтащил извивающихся в путах мальчишек к обрыву и столкнул вниз. Крики, тяжелый всплеск, и все затихло. — Что ты наделал?! — закричал парень, только что помогавший вязать мальчиков. — А ты как думал: шутки шутить буду? Пусть подыхают, проклятые! Беги отсюда! Никто ничего не узнает! — и племянник моллы мгновенно скрылся в темноте. Муршук не побежал. Он бросился к обрыву, взглянул на тихую воду, крикнул: «Что мы наделали?!» — и рухнул на землю. И тут к нему подбежал Хашим.
Глава девятнадцатая
Утром, подходя к школе, ахун Джумаклыч был немало удивлен, увидев на улице возле трех тополей перевернутую парту. Он подошел ближе, внимательно поглядел вокруг и заметил, что срезана веревка от качелей. Встревоженный, ахун быстро обошел школьное здание. Двери были распахнуты настежь. В классной комнате не хватало трех парт, а доска была изуродована так, что писать на ней было невозможно. Джумаклыч вышел на улицу, сходил на берег. Больше он ничего особенного не приметил, но и того, что было, было достаточно для раздумий. Невдалеке, на дороге показались старики. С ними был и председатель сельсовета. Они направлялись к школе. По деревне о рассвета гуляли слухи, один страшнее другого, и старейшины пришли выяснить, что же случилось ночью. Правда ли, что школа ахуна Джумаклыча разорена, а парты выброшены в реку. Пока Джумаклыч объяснял старикам, как обстоят дела, появился молла Акым. Он пришел не один, а в сопровождении Сердара, Ган-дыма и Хашима. Молла был бледен, руки у него тряслись. — Вы звали меня, ахун-ага? — Нет, не звал. — А вот они… — молла бросил боязливый взгляд на Сердара. — Мальчики сказали, что вы велели мне прийти… — Да, учитель, мы так сказали, — сбивчиво, торопливо заговорил Сердар. — Мы сказали неправду, но… Вчера его племянник… племянник моллы Акыма… И Муршук, ученик моллы Акыма, они хотели побросать парты в воду. Мы подстерегли их, хотели помешать, а они избили нас… Мы все равно не отступили, не дали им забрать все парты… Они нас связали и в воду… бросили… Муршук не помогал… в воду. Он только связывать помогал. Потом он сам нас вытаскивал. Хорошо, там неглубоко было, а то бы утонули… Вот поэтому мы и привели моллу… — И Сердар вопросительно поглядел на учителя: правильно ли они поступили? — А где же бандиты? — спросил председатель сельсовета. — Почему их не привели? — Их нет. Молла говорит, племянник не ночевал дома. Сбежали они… Председатель сельсовета, бывший батрак, только еще учился управлять людьми, и выдержки ему пока что не хватало. Поэтому он затопал на моллу ногами и закричал страшным голосом: — Или ты приведешь ко мне племянника, или я тебя самого в тюрьму посажу! Реденькая, недавно начавшая отрастать бородка моллы мелко, мелко задрожала. Он испуганно таращил глаза на председателя и не мог выговорить ни слова. Тогда заговорили старики. Первым сказал свое слово тот самый длиннобородый, который на недавнем совете старейшин прямо заявил, что новая школа не нужна. Он неторопливо погладил бороду и сказал, не повышая голоса: — Что-то ты больно ногами топаешь, комитет… И кричишь громко. К добру ли это? Советская власть, может, тебя и уважает, но народ она уважает больше… — Правильно, больше! — Народ сильней всякого начальника! — Ты не забывай, что Советы и комитеты народ избирает. Не надо этого забывать. И потом, при чем здесь молла Акым? Козу вешают за ее ногу, а не за овечью. Пойми, что я тебе говорю. А теперь, ахун Джумаклыч, слово мое будет к вам. — Старик подождал немного, глядя в лицо ахуне, потом заговорил все так же невозмутимо, вполголоса: — Мы должны почитать ваше ученое звание, и мы почитаем его. Когда решается какой-нибудь вопрос науки, мы не перечим вам, не можем перечить, поскольку нам не хватает учености. Не так давно вы пригласили нас, старых людей, и сказали, что хотите совета: открывать новую школу или нет. Если мне не изменяет память, ни один из старых людей, чье мнение вы хотели знать, не сказал, что школу открывать надо… — Не надо было открывать! — Все говорили: не надо! — Закрыть ее! — Вот видите, что говорят старики. То же говорили они вам и тогда, когда вы спрашивали их совета. И все-таки вы открыли школу. И случилась беда. Если школу не закрыть, могут случиться еще худшие беды. Вам следует послушать стариков и, пока не поздно, честь по чести закрыть… Председатель сельсовета не дал старику договорить. — Ты смутьян! — крикнул он. — Ты борджой! Лишаю тебя слова! — Люди! — дрожащим голосом провозгласил молла Акым. — Не надо таких слов! Не надо препирательств! Я отказываюсь. Я не буду больше учить детей. Пусть ходят в новую школу!.. — Я не борджой, — сказал длиннобородый, выждав, когда молла Акым замолчит. — У моих дверей никогда не кормились такие, как ты. А раз я не держал батраков, значит, я не борджой. Ты был батраком, никто тебя не знал, никто не слышал твоего голоса. А потом тебя назвали председатель, и ты стал председатель. Если я стану борджой только потому, что кто-то назвал меня борджой, тогда я борджой… — Люди! — сказал ахун Джумаклыч, выходя вперед. — Я еще не закончил говорить, — не глядя на ахуна, вполголоса произнес длиннобородый. — Если не закончили, пожалуйста, только прошу вас, без грубых слов. — Верно, грубые слова нам не нужны, — согласился старик и взглянул на председателя сельсовета. — Мы, конечно, не знали, что произошло тут ночью. Мы явились лишь потому, что нам показалось странным: мальчики, дети, идут по селу и ведут перед собой своего наставника, моллу Акыма. Выходит, что эти мальчики теперь старше моллы, что дети будут командовать стариками и все наши обычаи и правила будут преданы забвению. Вы ученый человек и не можете не понимать, что это означает… — Никто не собирается слушать детей! — выкрикнул Горбуш-ага. Длиннобородый старик пристально посмотрел на него. — Почему ты так думаешь, Горбуш? Если они будут говорить от имени советской власти… Они провели моллу через все село. Они вопреки запрещению стариков открыли в селе новую школу. И это ночное происшествие? Это тоже они затеяли. — Ночью они защищали свою школу! Они не виноваты в ночном скандале. — Горбуш, ты или не понимаешь меня, или не хочешь понять. Школу, если она настоящая школа, ни от кого защищать не требуется. Вон школа моллы Акыма. Кому придет в голову взламывать ее дверь? А школа, которую надо защищать, из-за которой в селе пойдут скандалы и смертоубийства, такая школа нам не нужна. — Почему это не нужна? Тебе, может, и не нужна, а мне очень даже нужна. Всех своих сыновей пошлю учиться! — Посылай! — И пошлю! Пускай инджанарами будут! — Тогда уж и дочь отдавай в школу. — И дочь отдам! — выкрикнул Горбуш-ага. Джумаклыч понимал, как оскорблен старик тем, что при народе во всеуслышание упомянута его дочь, и решил, что пора вмешаться. — Старейшины! Мы не намеревались разбирать это дело на таком многолюдном сборище. Есть сельсовет, есть молла Акым, мы потолковали бы и нашли бы правильное решение, не мороча головы стольким людям. Но вы пришли сами, что ж, совет — дело хорошее: как говорится, халат не будет кургуз, если шили его советовавшись. Но есть и другая пословица: больная овца сдохнет, если долго судить да рядить. А мы не хотим этого. Мы не дадим овце подохнуть — это я вам обещаю! — Джумаклыч взглянул длиннобородому прямо в лицо. Тот кашлянул и опустил глаза. — Там, где нет старших и младших, не будет и порядка. Воспитание нужно людям, как воздух, но воспитывать одними наказаниями нельзя. Незаслуженное наказание — это цепь, на которой сидит собака. Стоит ей сорваться с цепи, и она начнет кусать людей. Только ребенок, которого уважают, может по-настоящему уважать людей. — Я думаю, мы не вправе ожидать от детей разумных поступков, если уважаемые почтенные люди, вместо того чтоб осудить виновников ночного скандала, ведут посторонние разговоры. — Ахун Джумаклыч снова взглянул на длиннобородого, и тот кашлянул, погладив бороду. — То, что произошло ночью, преступление. У советской власти есть специальные учреждения, которые занимаются преступниками. Мы посоветуемся и решим, следует ли доводить дело до суда. Есть сельсовет, у пострадавших детей есть родители, посмотрим, что они скажут. Так что пока вы все спокойно можете идти по домам. Люди начали расходиться. Длиннобородый старик взял бороду в горсть и сказал: — Мне думается, ахун, что наше высказывание было не вполне правильным… — Возможно. Подумайте над ним, — сказал Джума-клыч и, отвернувшись от старика, заговорил с председателем сельсовета. Нервно потирая руки, к ахуну подошел молла Акым. Молла был перепуган, лицо у него было белое как стена, руки дрожали… — Простите моего племянника. Он у нас немножко того… неуравновешенный… А учить детей я больше не стану. — Почему же, учите. Никто не требует от вас закрывать школу. А насчет вашего племянника я пока ничего сказать не могу. Даже если его простят родители потерпевших, есть еще и сельсовет, и власти…Глава двадцатая
Джумаклыч оторвал глаза от книги и взглянул в окно. Ветхая черная кибитушка, возле нее топчан, на него навален хворост, рядом привязан старый осел с кургузым хвостом… Из кибитки вышла худая женщина с кувшином в руках и медленно побрела куда-то… «Какая знакомая и какая бесконечно печальная картина! Народ, родной мой народ, никак ты не можешь пробудиться от тысячелетней спячки, от многовековой летаргии… Увижу ли я когда-нибудь, как туркмены, словно изжаждавшаяся отара, жадно устремятся к культуре, или так и умру, не достигнув заветной цели? Пришла советская власть. Она не только провозгласила: „Культуру — народу! Науку — народу!“, она делает все, чтоб мы, старые просветители, могли наконец свободно учить детей, нести в народ знания. Но темные силы живут, и велика многовековая инерция — народ сторонится школы. Только дети, свободные от предрассудков, живые и любознательные, с детской безоглядностью идут мне навстречу. Но черные силы не щадят и детей. Два мальчика едва не погибли, защищая школу, которую уже привыкли считать своей, которую успели полюбить!..» — ахун сокрушенно вздохнул и, положив на стол руки, опустил на них голову. Вошел председатель сельсовета. Понимая, что в разговоре со стариками он вел себя не так, как подобает человеку, облеченному доверием власти, он решил теперь, прежде чем действовать, посоветоваться с ахуном. — Ну как, учитель? Решать надо то дело. — А нашлись виновные? — Нет. — Куда ж они могли деться? — Кто их знает… Прячутся где-нибудь у теток с дядьками. Я считаю, на моллу Акыма поднажать надо… — Это как же так «поднажать»? — Посадить его, пока не найдутся! — Посадить?.. — учитель покачал головой. — Ну ладно, посадишь ты его. А народ соберется и решит выпустить. Как это будет для твоего авторитета? — А ничего! — Нет, так не годится. Во-первых, вполне возможно, что молла и действительно понятия не имел о том, что надумали эти двое. Может, он только утром и услышал о происшествии? А мы его посадим. За что, спрашивается, за какую провинность? За то, что у него племянник с придурью? — Конечно! Пускай отвечает! Джумаклыч покачал головой. — Позволь, председатель, дать тебе один совет: я больше тебя жил, больше видел, больше учился… Если хочешь завоевать уважение народа, никогда не допускай несправедливости. Нарушить закон просто, а вот исправить нарушение тяжело. Люди должны доверять власти, вера народа — главная опора власти. И если кто-нибудь по неразумию, по неумению или — хуже того — в корыстных целях расшатывает эту опору, тот совершает преступление. Что ты так смотришь? Я непонятно говорю? — Значит, по-твоему, не надо трогать моллу Акыма? — Да, потому что народ может счесть это несправедливым. — Тогда что ж?.. Тогда, может, не доводить пока до властей, сами уладим дело? — Я думаю, надо попробовать. Старейшины в селе — большая сила. Они потолкуют с родителями пострадавших, посмотрим, каково будет их решение. — Да понимаешь, больно меня на этого длиннобородого зло берет! Который врал вчера, что батраков у него не было. И ведь нарочно про это сказал — меня уесть хочет! — Это ничего. Не такое еще придется услышать. Ты взялся за трудное дело, и многое придется пропускать мимо ушей. Иначе ты волей-неволей начнешь сводить счеты с обидчиками, а это недопустимо. Надо запастись терпением… Ну вот, легки на помине! — учитель показал рукой в окно. — Старики идут. А кого это они привели? Председатель глянул в окно и усмехнулся: — Те самые. Попались, голубчики. Нашли, значит, старики. — Ну что ж, выходит, действуют еще старые наши порядки. Старики многое могут сделать, и мы должны пользоваться этим в разумных, конечно, пределах. В дверях появились старейшины. — Вот, ахун, привели виновных. Они заваруху устроили, — сказал Горбуш-ага и дал Муршуку две звонких затрещины. Потом повернулся к Пудаку: — Ну а с тобой что прикажешь делать? Прибить тебя — вроде семейный человек! Женатый, дочь нажил… Вот только ума не нажил. А если бы, не приведи бог, утонули ребята?! Ну, что с тобой делать? У, недоумок!.. — И Горбуш-ага в сердцах замахнулся на Пудака. — Дай ему, Горбуш, дай! Не гляди, что женатый! — выкрикнул молла Акым. — Нет, нет, не трогай его, — строго сказал председатель сельсовета. — Мы его сейчас в тюрьму отправим! Пусть в Сибири деревья пилит! — Добрые люди! Простите наши прегрешения, — забормотал Пудак, низко опустив голову. — Мы больше никогда не будем… Муршук вторил ему, вытирая рукавом слезы. — Для первого раза простить бы надо… — сказал один из стариков и просительно взглянул на ахуна. — Нечего их прощать, пускай в тюрьму отправляют! — громко сказал Горбуш-ага, но строгости в его голосе не было — чувствовалось, что говорит он так, для острастки. После основательной проборки и долгих назиданий виновников ночного инцидента отпустили.Глава двадцать первая
Бабушка Сердара сидела за прялкой, когда с улицы кто-то окликнул ее. — А? Кто там, заходите! — Салам-алейкум! — ахун Джумаклыч просунул голову в дверь. — Проходите, учитель! Проходите! — О! Вы еще и прясть мастерица, не сглазить бы! А как глаза, не подводят? — Аллах милостив, и глаза пока еще служат, и руки не отказывают. — Ну, стало быть, все у вас неплохо? — Что ж зря всевышнего гневить, жаловаться не стану… Вот только Пермана нет возле нашего очага. Угнали моего сыночка… — Ничего, сын ваш вернется! Мужайтесь… — Да услышит аллах, ахун-ага! Молитесь за нас, грешных. Вы ведь ближе к аллаху. Садитесь, ахун-ага, сейчас чайку поставлю. — Спасибо, не беспокойтесь. Я к вам по делу. С советом пришел, — и учитель присел на корточки рядом со старухой. — Да будет ваш совет к добру, ахун-ага! — старушка отложила прялку в сторону и приготовилась слушать. — Внук ваш Сердар очень одаренный мальчик. У него ясный ум, прекрасная память. Он намного обогнал всех своих сверстников. Они еще не освоили грамоты, а он уже свободно читает и пишет. А учить его отдельно я не могу. И получается, что сейчас мальчик даром тратит время в школе. А потерянное время все равно что павший от бескормицы скот или кошелек, вывалившийся из кармана. — Да, ахун-ага, это так… — А раз вы это понимаете, я буду продолжать. Вы знаете, Сердар с Гандымом чуть не погибли в ту ночь. Они утонули бы, будь у берега чуть поглубже… — Ах, ахун-ага, есть тому злодеянию какая-то тайная причина. За что люди были так злы на мальчиков, что обрекли их на позорную смерть? Конечно, Сердар-джан, он немножко озорной, неслух он. При матери-то он такой был славный, такой хороший — нарадоваться не могли. А как скончалась бедняга, словно подменил кто ребенка. В школу ходить перестал: не хочу, и все! И главное — играми-то не занимается, все больше дома, подле меня сидит. Вижу, тоскует, томно ему, а на улицу не идет. Спросишь: что, мол, с тобой, — молчит. Даже иной раз страшновато делается… — Это понятно. Вы не могли узнать, что с вашим ребенком. А сказать он не мог, потому что и сам не знал, в чем дело. Зато теперь мы знаем, что ему нужно, о чем его тоска. — Знаете? — старушка просветлела лицом. — О чем же? — Он по учебе тоскует. По настоящей учебе. По умным, хорошим книгам. — Так вы бы дали ему, ахун-ага! У вас много их, книг-то… — Книг мы найдем, бабушка. И учителей найдем. Только придется вам отдать нам своего внука. — Берите, ахун-ага! Делайте с ним что хотите. Как говорится, бить надо — бейте, только не до костей. Лишь бы на путь наставить. Чтоб не пропал понапрасну. — Не пропадет ваш внук. И способности его не пропадут. Значит, решено: я отвожу его в городскую школу, — и Джумаклыч встал. — В городскую школу? Прямо сейчас? — спросила старуха, тоже поднимаясь с пола. — Да, прямо сейчас. Я зашел только для того, чтоб получить ваше разрешение. — Да как же?.. Да я тогда… Мне хоть попрощаться с ним… — Прощайтесь. Вон он ждет за кибиткой. Они вместе вышли на улицу. — Сердар, сыночек… — Старушка дрожащей рукой погладила мальчика по голове. — Стало быть, в город решил?.. Поедешь, да? — Поеду, бабушка. — Да будет светлым твой путь! Да вразумит тебя всеблагой в делах твоих! Да пошлет тебе аллах достаток от дела, за которое ты возьмешься… — торопливо, словно боясь не успеть, говорила старуха. — Старайся, сынок, слушайся учителей своих… Сердар ушел за ахуном, а бабушка долго стояла у кибитки и глядела ему вслед.Как ни хороши были бескрайние просторы степи, они не очень привлекали внимание мальчика — ко всему этому он давно привык, зато в городе, потрясенный новизной увиденного, Сердар, казалось, был оглушен. Удивленно озираясь по сторонам, он то и дело останавливался и, приоткрыв от изумления рот, глядел то на извозчичьи пролетки, то на дома в несколько этажей, то на женщин с темными вуалетками на лицах. Особенно поражали его туфли русских женщин — как они умудряются ходить на таких каблуках? — и забавные крошечные собачки с закрученными вверх хвостами, которых женщины вели на кожаных ремешках. Так, то и дело останавливаясь, а потом вприпрыжку догоняя учителя, — очень уж страшно было Сердару потеряться в чужом месте — дошли они с Джумаклычем до белого двухэтажного дома с большими окнами. — Ну вот мы и пришли! — сказал учитель, отворив синюю двустворчатую дверь. — Это школа, в которой ты будешь учиться. По обе стороны длинного коридора Сердар увидел бесчисленные двери — никогда не видел он сразу столько дверей. Ахун открыл одну из дверей, на ней написано было: «Заведующий». Навстречу ахуну поднялся из-за стола высокий светловолосый и светлолицый человек, они поздоровались, причем Сердар заметил, что заведующий очень приветливо заговорил с его учителем. Говорили они оба по-татарски, и Сердар разобрал не все. То, что речь идет об устройстве его в школу, это он понял. Когда разговор был закончен, заведующий погладил Сердара по голове и спросил по-татарски: — Читать умеешь? — Умею. — Это хорошо. А как тебя зовут? — Сердар. — А отца твоего? — Перман. — Хорошо, — сказал заведующий. Записал в какую-то тетрадь имя Сердара и имя его отца и взглянул на ахуна. — Он неплохо знает татарский… — Да, — сказал Джумаклыч. — Он учился по татарским книгам. Правда, недолго, но он очень способный… И старательный. Правда, Сердар? — ахун с улыбкой взглянул на Сердара. Сердар молча кивнул. — Ну вот, — сказал Джумаклыч. — Ты поступил в городскую школу. Старайся, Сердар. Учиться так же трудно, как копать иголкой колодец. Но ты парень настойчивый, умный, я уверен, что одолеешь учебу. Не скучай. Познакомишься с ребятами, узнаешь новые игры… Смотри только не очень увлекайся ими, грызи гранит науки! Сердар вышел на улицу проводить ахуна и смотрел ему вслед, пока тот не скрылся за поворотом. Прощаясь с отцом, когда тот отправлялся в пустыню, Сердар горевал меньше, чем сейчас, расставшись с учителем. На сердце у него лежал пудовый камень. Сердара уже не занимали дамы с вуалетками на лице и со смешными собачками на привязи. Все вокруг было чужое, враждебное. Ни знакомых полей, ни кибиток, ни пасущихся овец… Высокие — в два-три этажа — дома нависали со всех сторон, давили на него, мешали смотреть вдаль. Сердар вспомнил бабушку, сидящую в уголке с прялкой, вздохнул… Кто знает, сможет ли сын пустыни привыкнуть здесь, в городе, который кажется ему похожим на тесную клетку? Еще ни разу в жизни не спал он не на своей постели. И никого он здесь не знает, никого, ни единого человека! Ребята совсем чужие, стоят, разглядывают его, а подходить не подходят. Наконец один, чернявый, кривой на один глаз, осмелился, спросил издали: — Это кто тебя приводил — отец? — Нет, учитель. — Видно, что хороший человек. А ты не больно горюй — привыкнешь! Здесь тоже люди живут. А не привыкнешь, домой сбежишь! — кривой засмеялся и вместе с ребятами ушел во двор. Сердар снова остался на улице один. Ребята ему не понравились, какие-то не такие они, совсем не похожи ни на Гандыма, ни на Хашима… Чужие. Все здесь чужое. Как захотелось вдруг Сердару увидеть своих приятелей, бабушку, даже Мереда, с которым он так часто дрался. Захотелось вдруг зареветь, громко, от всей души, как ревет разлученный с матерью верблюжонок… Интернат, в который Джумаклыч привез Сердара, рассчитан был на сто человек, но сейчас учеников было не больше двадцати. Брали сюда только сирот или полу-сирот, но все равно родичи неохотно отдавали детей, а те, кого так или иначе удавалось залучить, нередко убегали обратно. Подростки предпочитали ходить за байскими отарами, лишь бы досыта набить желудок: пища, которую давали в интернате, оставляла ребят полуголодными. «Лучше уж быть неученым подпаском, чем ходить с пустым брюхом или набивать его соленой капустой да черным, как глина, хлебом!»
Глава двадцать вторая
Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как Сердар поступил в интернат. Он начал уже привыкать к городу, к новым товарищам, к новым учителям. Трудней было привыкнуть к голоду, к постоянной тоске в животе. Правда, каждый четверг Сердар уезжал домой, чтоб возвратиться в пятницу под вечер, и бабушка припасала к его приезду все что могла, но что могла припасти его бабушка? То немногое, что брал он с собой из дома, Сердар почти целиком отдавал сиротам, у которых совсем не было родных, которым было еще хуже, чем ему.Однажды после уроков всех учеников собрали в зале. Перед скамейками за столом, покрытым красной материей, сидели три человека: заведующий интернатом, один из учителей и паренек, высокий и круглолицый с едва пробившимися усиками. Судя по латаному чекменю, лохматому рыжему тельпеку на голове и простым чокаям на ногах, парень этот был из деревенских. Заведующий школой поднялся со стула. — Спокойней, ребята, не шумите! Сейчас выступит секретарь местного союза молодежи товарищ Чары Веллеков. Мальчишки затихли. Высокий парень встал и несколько раз кашлянул. — Товарищи, меня можно просто называть Чары, — сказал он негромким, чуть хрипловатым голосом. Таким вступлением парень, видимо, хотел расположить к себе ребят, завоевать их доверие. — Прежде всего я должен объяснить вам смысл некоторых незнакомых слов. Мы сейчас объединяем, собираем вместе бедняцкую молодежь, таких, как вот вы, сирот и детей бедняков. Союз молодежи… — А что такое «союз»? — не вставая со скамейки, крикнул Гара Мурти. — Союз — это когда люди являются товарищами, когда они верят друг другу, поддерживают друг друга. Члены союза молодежи… — А что такое «член»? — снова выкрикнул Гара Мурти. — Ты что, нарочно понепонятней стараешься? Гара Мурти был самым болтливым в интернате, вместо языка будто колокольчик подвешен. Ко веем он приставал с вопросами, с расспросами, с разговорами. Его и били не раз, но он все равно не оставлял своей привычки. Но Чары и не думал ругать болтуна. — Тут, товарищи, много будет новых, не очень-то понятных слов, — сказал он и, сняв рыжий тельпек, положил рядом с собой на стол. — Само дело для вас новое. Я для того и приехал на собрание, чтоб помочь вам разобраться… — Тогда надо говорить не собрание, а «урок»! Непонятное на уроке объясняют! Пускай учителя растолковывают! Чары чуть заметно улыбнулся. — А может, сами попробуем разобраться? А? Может, кто-нибудь сумеет объяснить, что значит слово «член»? — Давайте я попробую, — сказал Сердар, поднимаясь с места. — Я так думаю: если съесть мясо овцы или другого какого-нибудь животного, а кости собрать, то скелет уже не будет целый, он будет состоять из отдельных частей, косточек. Каждая такая часть, каждая косточка и будет членом скелета? Правильно? — Очень даже правильно. Садись, молодец! — Чары приветливо кивнул Сердару. — Когда все кости соединены сухожилиями в один крепкий скелет, они тоже вроде бы составляют союз. Члены союза молодежи так же крепко, как кости животного, должны быть спаяны в единое целое. Каждый по отдельности — член, а когда все вместе — союз. Неизвестно, удалось ли Чары объяснить ребятам, что значит слова «союз» и «член». Уж больно непростое это было дело — вместить в сознание детей понятия, обозначающие нечто, чего никогда не было в их жизни. Чары продолжал: — Товарищи, в вашей школе необходимо создать ячейку коммунистического союза молодежи. — Он замолчал, ожидая вопроса: что такое «ячейка», но вопроса почему-то не последовало, и Чары стал объяснять, что означает это слово, взяв для примера пчелиный улей. Это потом, спустя несколько лет, слова «союз», «член», «ячейка» прочно вошли в жизнь, в быт, в сознание молодежи, а на первых порах втолковывать эти понятия было совсем не просто, и не случайно Чары поначалу показался ребятам чуть ли не косноязычным. Когда же парень заговорил о вещах, понятных и доступных, оказалось, что он — прекрасный оратор, скакун, стремительно несущийся вперед. — Товарищи! — говорил Чары не очень громко, но так, что слышно было во всех уголках зала. — Большинство из вас — сироты или же дети бедняков, чьи ясные глаза с детских лет запорошены пылью из-под байских сапог. Ни у кого из вас нет ни богатой родни, ни знатной семьи. Но у вас есть родная советская власть — надежная ваша поддержка и опора, опора всех тружеников, всех бедняков. Советская власть открыла для вас эту школу, где не нужно платить ни за обучение, ни за питание. Советская власть привезла вас сюда из разных сел и селений и посадила за общую скатерть. Вы вместе едите, вы спите в одной комнате. А тех, кто вместе спит, кто вместе ест, у кого общая скатерть и общая соль в казане, мы называем семьей. Вы стали единой семьей, хотя приехали из разных мест и принадлежите к разным родам. Все вы дети единой матери — советской власти. Вы ее любимые дети, вы для нее зеница ока, свет ее очей. Ребята беспокойно заерзали, завздыхали. Чары Веллеков понял, что слова его дошли наконец до слушателей, проникли в ребячьи души. Он замолчал и некоторое время стоял, опустив голову, — думал, как все-таки попонятней объяснить ребятам про комсомол. — Я расскажу вам предание, идущее от наших предков. Один из стариков, умирая, призвал к себе сыновей и дал им два пучка прутьев. «Вот, — сказал он, — после моей смерти возьмите эти два пучка. Один из них разберите по прутикам, переломайте каждый прутик и сожгите. А второй свяжите в метелку и тоже сломайте, но только целиком». Когда старик умер, сыновья, выполняя завет отца, разбросали первый пучок по прутику, сломали их и сожгли. А со вторым, связанным в метелку, они никак не могли справиться — не ломается, и все. Не зная, как поступить, отправились к мудрецу. «Не поняли вы своего отца, — сказал им мудрец. — Он завещал вам быть дружными и сплоченными. Вы видели, как легко было переломать разрозненные прутья, а когда они оказались вместе, никакая сила не могла их одолеть. Если вы будете дружны и сданы, никто вам не страшен. Будете врозь — пропадете». Рассказал я это к тому, что если вы станете членами союза молодежи, то все вместе станете такими крепкими и стойкими, что никто не сможет вас сокрушить. Делая одно общее дело, вы будете действовать дружно и согласно. Одна у вас будет цель, одна дорога. Вы будете лучшими, передовыми людьми. Член союза молодежи должен хорошо учиться, не драться, не говорить бранных слов, быть вежливым — первым здороваться, если навстречу идет взрослый. Если старик или ребенок попал в беду, комсомолец должен помочь ему. Занозил мальчик ногу, плачет, надо подойти, вытащить ему занозу. Заблудился — отвести домой. Словом, быть примером во всех отношениях. Понятно, ребята? — Понятно! Понятно! — послышались голоса. — Понятно-то понятно, да только ты не все сказал, — снова высунулся Гара Мурти. — Все сказал. Тут моим словам и начало, и конец. — Начало-то было, а вот конец ты утаил. — Тогда закончи за меня, а мы послушаем. — И закончу! — Гара Мурти вскочил с места. — Ребята, вы моего деда видели? Старый, чуть не восемьдесят лет. Каждый раз, как приезжает, он что мне твердит? «Учись, сынок, коли в школе задаром кормят, в доме у нас достатка нет, смотри, только бога не хули!» А вот он сейчас слова всякие говорил: «союз», «ячейка», «член», а я думаю, это он так, для отвода глаз, ловушку нам расставляет. Конец у него был про бога, только он его утаил. Чары удивленно пожал плечами. — Не верьте ему, ребята. Не может он знать, что я хотел сказать, чего не хотел. Давайте лучше записываться! Ну, кто хочет записаться в союз молодежи? Чары достал из кармана чекменя листок плотной желтоватой бумаги и зеленые карандаши. Записываться ребята не спешили, но с интересом разглядывали карандаш. Это были не карандаши, а несчастье: жесткие, они только рвали бумагу и все время ломались. — Ну, кто будет записываться? — повторил Чары, постукивая зеленым карандашом по столу. Ребята помалкивали. Чувствовалось, что слова Гара Мурти возымели действие. Сердар встал. — Ты уже записывал однажды мое имя, — сказал он. — Когда приезжал к нам в село. Если надо писать снова, пиши. Чары хотел было сказать, что той записи вполне достаточно, но потом решил записать его снова — надо же кому-то открыть список. Он написал имя Сердара, имя его отца, а рядом для памяти поставил особую пометку. Следом за Сердаром записались еще трое. Потом, немножко поколебавшись, еще трое мальчиков назвали свои имена. — Записывайтесь, записывайтесь! — проворчал с места Гара Мурти. — Сами потом жалеть будете!
Глава двадцать третья
Вскоре после установления советской власти в Туркменистане в Мары открыто было педагогическое училище, готовившее преподавателей со средним образованием. Но учить в этой школе было некого — большинство детей кончали духовные школы, не дающие достаточной подготовки для поступления в среднее учебное заведение. Сердара и еще нескольких наиболее успевающих мальчиков перевели в педучилище. Сердар и там оказался лучшим учеником, хотя не больно-то «грыз гранит науки», так как быстро научился новым играм и никому из сверстников не уступал в борьбе за мяч. Сердар учился, подружился с ребятами, играл в спортивные игры, но иногда, сам того не замечая, он вдруг замыкался, начинал грустить… Бедность, безысходная бедность давила Сердара. Сам-то он не страдал от нее, плохо ли, хорошо ли, но он был сыт, одет, мог учиться, а вот брат и бабушка… Меред учился в школе моллы Акыма и с утра до ночи занят был зубрежкой премудрых текстов. Он не только не мог ничего заработать, даже помочь бабушке по хозяйству у него не было времени. А много ли добудет старушка своей прялкой? Об отце по-прежнему ничего не было слышно; тоска по нему и тяжелые предчувствия когтями стервятника сжимали сердце Сердара. Сердар все больше мрачнел, все реже вступал в игру, разучился смеяться. Даже если что-то и казалось ему смешным, Сердар, вместо того чтоб залиться беззаботным мальчишеским смехом, лишь вяло улыбался… Лицо его, привлекавшее людей открытым взглядом, ясной улыбкой, теперь почти всегда было мрачным и угрюмым. К счастью, Сердар не озлобился; его не привлекали драки, но когда он видел, что обижают слабого, то не задумываясь пускал в ход кулаки. А кулаки у него становились все тяжелее. Если погода стояла теплая, в четверг после обеда, как и большинство ребят, он отправлялся домой. Но радостный шум и гам, сопровождавший эти веселые сборы, оставлял Сердара безучастным. Его не ждала ни мягкая постель, ни вкусный обед, ни сдобный чурек. Только ласковое бабушкино слово. Но он прекрасно понимал, что бабушка лишь прикидывается веселой, ей трудно приходится, очень трудно, нередко она сидит впроголодь, чтоб накормить Мереда и собрать нехитрые гостинцы ему, Сердару. Зимой Сердар старался не ходить домой — отговаривался морозами. Сироты, остававшиеся на пятницу в училище, с нетерпением ждали возвращения своих более счастливых товарищей, надеясь поживиться их гостинцами. Сердар обычно не участвовал в этих пятничных обжираловках. Болезненно самолюбивый, он не хотел, чтоб его считали бездомным. И не потому, что презирал сирот, он с искренним сочувствием относился ко всем обездоленным, но сам не хотел быть причисленным к их числу. Некоторые ребята и даже учителя считали Сердара заносчивым, высокомерным. Он не был таким. Душа у него была добрая и отзывчивая, но, легко ранимый, он испытывал постоянную муку оттого, что сыт и одет, в то время как дома такая нужда. Это угнетало Сердара, тяготило его, не давая жить весело и беззаботно, как положено жить человеку в его годы. Сердар постоянно чувствовал себя подавленным, а откуда это, он не в состоянии был понять. Пройдут годы, Сердар многое поймет и узнает, многое сможет оценить по-другому и, сам того не заметив, освободится наконец от вечной своей озабоченности, как змея по весне освобождается от прошлогодней шкуры. И угаснет наконец огонь, день за днем испепелявший сердце подростка, и душа его птицей, сбросившей путы, свободно устремится ввысь. И Сердар оглянется на прежнюю свою жизнь, вспомнит детство, вспомнит все, что было пережито в те годы, и лишь тогда поймет он, откуда у него этот нелегкий характер. Но когда еще это будет, сколько утечет до той поры весенних вод, сколько промчит суховеев!.. Как-то в один из весенних четвергов, когда Сердар пришел домой, Меред посмотрел на него и спросил насмешливо: — Чего это ты все надутый ходишь? Морда злая, голову опустил, словно бык, что с базара ведут! Чего киснешь? — Хватит того, что ты веселый. Где бабушка? — Где она может быть? Сплетничает где-нибудь у соседок. — Не смей так говорить про бабушку! Наша бабушка не занимается сплетнями. — Ну да! А чем еще женщина может заниматься? — Меред пренебрежительно махнул рукой и, взяв учебник, принялся деловито бормотать себе под нос урок. Сердар с усмешкой следил за ним. — Это твой сегодняшний урок? — спросил он, послушав немножко. — Урок, а что? — А ничего. Через четыре года дойдешь до того, на чем я кончил! Бросал бы лучше — моллы из тебя не получится. Чем время даром терять, взял бы лопату да бабке помог! Меред злобно глянул на брата, но разразиться бранью не успел — возле кибитки послышалось громкое «чош!» — кто-то остановил осла. В кибитку заглянул высокий пожилой человек. — А что, старухи-то нет? — спросил он Мереда. — Я там пшенички привез — возьми, сынок. Хотел мукой, да говорят, на мельнице давка. Пойдем, возьми! Меред вышел вслед за стариком. — Да воздаст вам господь сторицей! — услышал Сердар смиренный голос брата. — Да возблагодарит вас аллах! — Да воздаст он нам всем, аминь! Старайся, учись прилежно, моллой станешь! С гордым видом вернулся Меред в кибитку. Увидев, что брат сидит закрыв лицо руками, испугался. — Ты что? Что случилось? — Меред подбежал к Сердару. — Ничего… Зачем он привез… эту пшеницу? — Как зачем? Подношение! — Подношение! Подаяние это, а не подношение! Вот до чего мы дошли. Милостыню… как нищим! Что мы, убогие какие-нибудь? Слепые? Хромые? Здоровые парни — и подаянием кормимся?.. — Ты чего, спятил? Молла Акым и так говорит, им, мол, подаяния не нужны, у них Сердар в советской школе учится! Хочешь, чтоб никто ничего не приносил? Чтоб бабушка с голоду померла?! — Пусть! Пусть все помрем! Лучше с голоду сдохнуть, чем жить подаяниями! — Я вижу, совсем… того… — Меред удивленно поглядел на брата и отодвинулся от него. — Дурак ты, что ли? — Я не дурак. Это ты с придурью — подаянию радуешься! — Просто не задаюсь, как ты. И мне нисколечко не обидно. Спокон веку люди помогают тем, кто учится в духовной школе, если в доме достатка нет. А кто же меня будет кормить? Бабушка? Или ты, может? Вроде не с чего. У вас там подношений не бывает. — И хорошо, что не бывает! Мы не нищие! — Ладно, кончай шуметь. Набрался ума у городских чернокнижников! Проку от твоего ученья!.. — Зато от твоего много проку! Моллой станешь. Всю жизнь подношения получать! — Сердар замолчал. Слезы душили его. Давили стены кибитки. — Ладно, — сказал он, вставая. — Жри свои подношения. Всю жизнь можешь питаться на дармовщину. А бабушка… А бабушке я не позволю! И он ушел. Черная кибитушка печально глядела ему вслед проемом распахнутой двери, также как смотрела она вслед Перману, пропавшему где-то в песках…Глава двадцать четвертая
Наутро в пятницу Сердар отправился на батрацкий рынок. Это был самый дальний, самый грязный уголок базара. Ночи стояли еще прохладные, но здесь уже с раннего утра роями носились мухи. — Вот говорят, главный враг бедняка — брюхо. А эти тоже донимают… — отмахиваясь от жужжащих мушиных стай, сказал один из сидевших у стены мужчин — у стены рассаживались те, кто пришел наниматься в батраки. — Видно, мухи — нам близкая родня, скучают они без нас, — невесело усмехнулся его сосед. — А может, в батраки хотят наняться? — Да у мух небось и баев-то нет, к кому наймешься? Сердар с любопытством поглядывал по сторонам, прислушиваясь к болтовне этих голодных, оборванных, но не унывающих людей. И не замечал, что его самого внимательно разглядывает представительный старик в добротном халате. — Ты чего, сынок, пришел сюда? — спросил он, подходя к Сердару. — Или тоже наняться хочешь? — Да, ага, пришел наниматься. — А мать с отцом есть у тебя? — Нету. — Так… Стало быть, сирота. А прежде ты чем занимался? — Да так… Ничего особенного не делал. — Ну, а скот понимаешь? — Своих овечек пас. — Так… Я хочу взять тебя подпаском в пески. Но ты подумай прежде, чем соглашаться: край не ближний, скажешь потом: скучно, мол, домой хочу… Уйти от отары не просто. Как думаешь, тосковать не будешь? Не станешь домой проситься? — Тосковать, может, я и буду, а домой проситься не стану. — Ну что ж, ответ дельный. Какая будет твоя цена? — Как людям платят, так и мне. — Как людям?.. Ну что ж… Тогда так: получишь за полгода три головы: двухгодовалую овцу и две ярочки. Ярочек дам осенью, овцу — ближе к весне. Такая положена подпаску плата. — А с одежей как? — С одежей так: в год две пары исподнего, одна пара верхнего. Тельпек один на два года. Как людям дают, так и тебе давать буду. — Ладно, ага, согласен, лишь бы ты обещаний не нарушал. Через сколько домой отпускать станешь? — В год два раза. Повидаешься с родными и — обратно. — Два раза… Тогда, ага, давай на голову больше. Четырех ярочек. Я сам выберу — согласен? — Ладно, пусть будет четыре головы, но только чтобы баранчики, не ярочки. И чтоб не к зиме давай, а в начале осени. — Согласен. Пускай баранчики! Пускай осенью! Сам отберу и на ушах метки поставлю! — А, что за разговор, хоть тавро ставь! Я не из тех бесчестных, что у чабана заработанное отнять стараются! Мне это ни к чему, мне аллах воздает за справедливость. — Ну все, ага, сговорились, только крепко стой на своем слове! — А ты, я смотрю, шустрый парень! Я таких люблю. Хорошим чабаном станешь. Следившие за их сделкой люди согласно закивали: — Да, парень прямой. — На такого положиться можно. — На чужое добро не позарится. Два дня бай продержал Сердара у себя в доме, присматривался. На третий день, поднявшись до рассвета, они тронулись в путь. Верблюд с вьюком, бай на ишаке. И Сердар на своих двоих. Бай был не толстый, шустрый ослик под ним проворно постукивал копытцами, и Сердару то и дело приходилось вприпрыжку догонять его. Стараясь не отставать, он вскоре так умучился, что начал подумывать, скорей бы пески пошли — там ишачок резвости поубавит. В песках ишак и правда пошел медленнее, но и Сердару стало трудней — ноги глубоко увязали в песке, бай выбрал путь по бездорожью, через барханы. — Вот ты вчера толковал, что бесчестье, мол, это — подношения принимать, как брат твой принимает, — обернувшись к Сердару, сказал бай. — А ведь и в батраках жизнь нелегкая. — Ничего, ага. Батрачить — не сладко, это любому известно. Только попрошайничать, подаяниями жить — в сто раз тяжелее. Не знаю, как кому, а мне дармовой кусок в горло не лезет! Я не калека и заработать могу! — Вот правильно! Вот это ты молодец! С такими понятиями ты, сынок, далеко пойдешь. Бог даст, послужишь у меня годков пять, дам я тебе коня, пятизарядку отменную — будешь отары охранять. Едешь себе верхом, на плече винтовка — хорошо! — Хорошо… — пробормотал Сердар, рукавом вытирая пот со лба. Больше бай не приставал к нему с разговорами, понимал, что не очень-то хочется разговаривать, с трудом вытаскивая вязнущие в песке ноги. К полудню добрались до колодца. Сделали привал. Вскипятили чай, поели чурека и снова тронулись в путь. К следующему колодцу подошли уже в сумерках. Здесь и решили заночевать. Бай подстелил себе попонку с осла, в головах положил седло и лег, укрывшись теплой шубой. — Ночью морозно будет, — сказал он, поглядев на небо, и плотнее укутался шубой. — Ты уж как-нибудь перебейся. К костру поближе… Привыкай. Хочешь чабаном стать — ко всему притерпеться надо: и к жаре, и к морозу. Бай повернулся на другой бок и вскорости захрапел. Наступила морозная ночь. Кроме старенького халата, у Сердара ничего не было, чтобы укрыться. Вот когда вспомнил он черную кибитушку и жиденькое залатанное одеяльце. Потом глазам его представилась теплая комната в общежитии, мягкие, чистые постели… Костер горел ярко, ровно и сильно гудя, — саксаул дает хороший жар. Сердар сидел лицом к костру, и грудь и ноги у него были в тепле. А вот спина… Мороз забирался под старенький выношенный халат и сотнями игл впивался в спину. Ежась от холода, скрючившись, Сердар поднял голову, взглянул на небо. Небо было ясное-ясное, и тысячи звезд сияли на нем — в Каракумах их особенно видно. Сколько их Светлые, блестящие, а тепла от них хоть бы чуть, не то что от солнышка. И чего они торчат на небе? Зачем они нужны? Все бы отдал сейчас за старенькое бабушкино одеяло! Сердар прилег возле костра, надеясь уснуть. Но не тут-то было — мороз сразу взялся за дело, и начался поединок сна и холода. Сперва вроде бы сон начал брать верх. Ласковыми, мягкими руками он нежно погладил мальчика по голове, и тот задремал, доверившись этой ласке. Но мороз не собирался отступать. Зная, что спереди мальчишку надежно охраняет огонь, он применил свою испытанную тактику — нападение с тыла. Удачно — Сердар проснулся, дрожа от холода. Протянул руки к огню, согрелся малость. Снова сон начал брать перевес. Снова Сердар лег, положив голову на холодный песок, и снова сон приласкал его, заставив смежить веки. Мороз опять навалился сзади. Тогда сон заставил мальчика, не пробуждаясь, повернуться спиной к огню — он с помощью костра надеялся одолеть мороз. Но в схватке двух сил, в поединке сна и мороза, одна из огненных стрел, предназначенная для предводителя холодов, угодила Сердару в спину, халат на нем загорелся, и бай, спавший с подветренной стороны, сердито закашлял от ядовитого дыма тлеющей тряпки. Сердар вскочил, сорвал с себя дымящийся халат и сунул его в песок. Бай откашлялся, перевернулся на другой бок и захрапел снова. На спине халата появилась огромная дыра, обрамленная черной бахромой. Лучше бы было, если б дыра оказалась на рубахе — не так холодно, но сама по себе дыра эта всерьез огорчить мальчика не могла: к дырам и заплатам он привык с малолетства. Сердар сунул голову в дыру, как в ворот рубахи, поглядел вокруг и сказал: — Ничего, это хорошая примета. Новый халат будет. Немножко погревшись у костра, Сердар подошел к верблюду, лежавшему у соседнего бархана. — Все жуешь? — спросил он верблюда. — Неужели спать не хочется? Или заботы не дают? Да какие у тебя заботы — знай жуй свою жвачку! Вам хорошо, у вас равенство, шерсти на всех одинаково. Не то что у людей: один в теплой шубе, другой в драном халате. Эх, я бы на твоем месте как сейчас храпанул!.. Верблюд равнодушно поглядел на него, проглотил жвачку, тут же отрыгнул ее и снова принялся жевать. — Жуй! Что с тобой толковать! — Сердар махнул рукой и направился к костру. Потом вдруг повернулся. — Слушай, а что, если я тут возле тебя пристроюсь? Проворно, словно лисица нору, Сердар выкопал яму под брюхом у верблюда и забрался в нее. Верблюд был горячий, как тамдыр, спине сразу стало тепло, а вот земля была ледяная. Сердар пошел к костру, принес четыре тлеющих головни, зарыл их в песок. В норе стало совсем тепло, вполне можно было бы спать, но сон не шел к Сердару: а что, если верблюду придет в голову подняться? Запросто может раздавить. Но и тут пришла на помощь смекалка. Сердар спутал верблюду ноги веревкой. Теперь можно было спокойно ложиться. На рассвете, разбудив Сердара, бай похвалил его за сообразительность и даже погладил по голове.Глава двадцать пятая
Прошло уже немало дней с тех пор, как, передав нового подпаска чабану, бай уехал обратно, а Сердар все никак не мог привыкнуть к пустыне. Особенно тосковал он, когда приходилось одному оставаться у колодца. Сердар забирался на самый высокий бархан и вглядывался вдаль, стараясь перебороть тоску. Иногда он пробовал играть на самодельной свирельке. А то вдруг принимался кричать или во все горло распевать песни. Но как он ни надрывал глотку, голос его тонул в близлежащих барханах. Сердару было нелегко. Ни близкого человека — поговорить, ни мальчишки-сверстника — поиграть. Одни барханы кругом, мрачные, немые, бесконечные… Но ко всему привыкает человек, и Сердар начал понемногу привыкать к новой жизни. Стал ощущать очарование бескрайних просторов, чувствовать прелесть тишины. Был тихий нежаркий вечер. Овцы в загоне неспешно пережевывали жвачку. Поблескивали звезды на небе. Воздух был чистый, легкий, и кругом было тихо, тихо… Так тихо, что слышно было, как в чугунном кувшинчике булькает закипевшая вода. Сердар подошел к костру, снял кувшин с огня, бросил в воду щепоть чая. Придвинул к чабану пиалу. — Пейте, Джума-ага! Чабан повернулся, лег поудобнее и принялся за чаепитие. — Вот, верблюжонок ты мой, — начал он очередной вечерний рассказ. — Жил здесь неподалеку, у соседнего колодца, один чабан. Хороший человек, порядочный, истинный мусульманин — очень он мне нравился. И вот в один из летних дней является к нему на стан хозяйский сын. А с ним — четверо, все на конях, у всех винтовки. «Гони, говорят, отару за границу». А тот чабан-то понял, видно, что не к добру этот приказ, просить стал, чтоб отпустили его. Не могу, дескать, у меня дети сиротами останутся. Будут, как птенцы голодные, с открытыми ртами сидеть, кто их накормит, напоит? Просил, просил — ни в какую. Тогда он бросает свой посох наземь — не погоню, и все! Навалились они на него впятером, избили чуть не до полусмерти… — Угнали они его? — Ну да. Заставили — их ведь пятеро было. — Вот и отца моего так же, наверно. — А что, твоего тоже угнали? — Люди говорят… Больше двух лет никаких вестей. — Да, плохие дела… — чабан полежал, помолчал. — А не мог это быть твой отец, а? Среднего роста, в плечах широкий такой. Да и срок подходящий, года два назад дело было. — А как его звали? Не Перман? — Перман? Постой, постой, дай вспомнить… Правильно, Перман! Неужто он еще не вернулся?! — Нет, пропал. Ни слуха ни духа. — Как же так? Не вернулся. Может, сбежал он от них по дороге… — Джума-ага не договорил, но Сердар понял, чего опасается старый чабан. — Мы с бабушкой уж и так и сяк прикидывали. Не мог он нас бросить — не такой человек. Если б живой был, вернулся бы… — Сердар чуть заметно всхлипнул и отвернулся — не любил он, чтоб видели его слезы. И снова оба они замолчали, погруженные в невеселые думы. — Джума-ага, как ты думаешь, чего он не возвращается? — не выдержал наконец Сердар и с надеждой взглянул на чабана. — Да как тебе сказать, верблюжонок? Когда своими глазами не видел… Только уверен я, вернется твой отец. Ты главное — молись за него. Ведь по святой пустыне ходишь, тут Хызр-избавитель ходил, самое место для молитвы. — Джума-ага, а мы сейчас далеко от границы? — Совсем даже близко. Если с восходом тронуться в путь пешим, к полудню пересечешь границу. Мы с отарой другой раз совсем рядом бываем… — А найду я ее? — Кого? — Да границу эту! — А чего ж не найти? Видишь вон ту звезду? Са-амую яркую? Будешь на нее держать, чтоб прямо в лоб светила, как раз и придешь куда надо. Сердар затих. Он сидел так тихо, что казалось даже, не дышит. Потом вздохнул, как после обильных слез, и спросил: — Джума-ага, что, если я пойду его искать? — Отца? Что ж… Можно попробовать. Только знаешь, как надо будет сделать? Управятся наши овцы со здешними пастбищами, мы их и погоним к границе. Будут себе пастись и потихоньку к тем местам двигаться. Как дойдем, я тебя и переправлю. — А не поймают? — Кто? — Пограничники! — А чего им тебя ловить? Они только контрабандистов ловят. Белуджи по весне толпами сюда идут. Жару проработают здесь, добудут себе пропитание, а осенью — обратно. Никто на них и внимания не обращает: ни власти, ни пограничники. — А зачем они приходят, Джума-ага? У себя в стране заработать не могут? — Не могут, сынок. Трудный у них там хлеб. Заработков мало, а деньги чересчур проворные, быстро из рук уходят. Иначе разве заставишь людей детишек своих бросать, на чужой стороне пот проливать… — Что ж это за страна такая, что и на хлеб заработать негде? — Да вот такая… Я, сынок, со многими из них, из пришельцев, толковал, не раз у меня на стане ночевать оставались. Оказывается, немало таких стран, где еще хуже живут, чем мы. Земля в тех странах больно жесткая: упадешь — зубы выбьешь. — Выходит, наша земля мягкая? — Еще какая! Самая лучшая земля! — А чего ж бай из хорошей страны в плохую ушел? — У бая, сынок, свой расчет. И опять же для бая бедных краев нет. Куда ни приди, богатство твое при тебе: овцы ягнятся, верблюдицы приплод дают… — Джума-ага приподнялся, взглянул на отару. — Давай-ка, сынок, собирай посуду, овцы-то вроде зашевелились. — Да, встают. — Ну как, сынок, решился идти на поиски? — Решился. — Тогда давай заворачивать отару на ту звезду. Потихонечку, помаленечку, глядишь, к утру доберемся, приходят к нам и потом без труда возвращаются обратно. Ты переходишь границу не с дурной целью, ты идешь искать отца, насильно угнанного на чужбину, это достойная, благородная цель. В глубь страны удаляться тебе не следует, ищи Пермана вблизи от границы. Спрашивай у чабанов, не знают ли, где пасется отара Кешикбая; найдешь отару — найдешь и отца. Я денек-другой попридержу овец, не буду далеко отгонять. Если два дня не появишься, придется без тебя возвращаться — больше двух дней овцы без воды не могут. Ты тогда вместе с отцом иди прямо к нашему колодцу. Сердар был паренек решительный, если надумал что-нибудь, никогда не медлил, а сейчас вот замешкался, заканителился. И не потому, что боялся пограничников, трудно было оставить родные просторы. — А как же я там буду, Джума-ага? — Сердар жалобно посмотрел на чабана. — Я белуджей небось и не пойму… — Поймешь! Ты что, совсем по-ихнему не знаешь? — Немножко… — Ты немножко по-ихнему, они малость по-туркменски — разберетесь. Не думай об этом, сынок, не сомневайся. Ступай со спокойной душой. — Ох, Джума-ага! Если я найду отца, до самой смерти не забыть мне твоей доброты, твоей заботы. Не будь тебя, не решиться бы мне на такое! — Все будет хорошо, сынок. Ты только молись аллаху. Я тоже буду молиться, чтоб ниспослал тебе всевышний удачу в делах твоих. — Мне бы, Джума-ага, только отца найти, больше мне ничего не надо, — Сердар взглянул на чабана и, почувствовав, что сейчас заплачет, опустил голову. — Не надо мешкать, сынок! Ступай. Да будет удачный твой путь, да сопутствует тебе святой Хызр, да отыщется твоя пропажа! Да возвратиться тебе в благополучии вместе с отцом твоим. Да примет от меня всевышний жертву — двухгодовалого барана, заработанного честным трудом! Велик аллах! Иди, сынок! Иди! — Будь благополучен, Джума-ага, — прошептал Сердар и тронулся в путь. Сердар шел медленно, с трудом переставлял ноги, ноги отказывались ему подчиняться. Отошел шагов на сто, обернулся. Джума-ага помахал ему рукой: иди, сынок, иди! Сердар зашагал быстрее. Взобрался на высокий бархан, обернулся и поглядел назад. Старый чабан по-прежнему смотрел ему вслед, чуть заметно помахивая тельпеком. Сердар тоже снял свой тельпек, помахал старику и стал спускаться с холма. — Сохрани его, всеблагой! — пробормотал старый чабан, когда мальчик скрылся из вида. — Сохрани и помилуй безгрешное дитя, в жизни своей никому не причинившее зла!Глава двадцать шестая
Перевалив через высокий бархан, скрывший от него Джуму-ага с его отарой, Сердар припустил бегом. Он не думал о том, что земля слишком велика, чтоб у человека хватило сил обегать ее. Просто он очень спешил, мальчику не терпелось поскорей отыскать отца. Он где-то здесь ходит, среди бесчисленных барханов с чабанским посохом в руках. Как угадать, куда идти, в каком направлении двигаться, чтоб не разминуться с отцом, не уйти в противоположную сторону, рискуя уже никогда его не увидеть? Сердар шел легко, быстро, подчас переходя на бег, и не чувствовал усталости — надежда на скорую встречу давала ему все новые и новые силы. Он ходил по пескам и такырам, встречал немало отар, расспрашивал многих чабанов, но никто из них ничего не слыхал об отаре Кешикбая и о чабане по имени Перман. Сердар упорно продолжал поиски. Он шел и шел, останавливался на короткую ночевку и снова отправлялся в путь. Он понимал, что бросить, прекратить поиски теперь уже не в его власти — Сердар знал свой характер. А вот откуда у него берутся силы, этого мальчик не знал, да и не задумывался над этим. Он и понятия не имел, что путь, который он одолел за несколько дней, под силу был зверю, волку, но не четырнадцатилетнему подростку. И вот наконец награда — Сердар напал на след отца. Старый чабан, к которому он обратился с расспросами на пятый день странствий, сказал, что видел Пермана. — Твой отец отправился домой, — сказал чабан. — Он тронулся в путь сегодня, совсем недавно, только что — чаю не успел напиться. Явись ты хоть чуть пораньше, вы ушли бы отсюда вместе. Сердар не почувствовал ни радости, ни облегчения. Он почувствовал только одно — как он безмерно устал. И чабан с удивлением заметил, что при радостном этом известии мальчик вдруг весь сник и побледнел. Видимо, удар судьбы, который получил этот ребенок, найдя и вновь потеряв отца, был ему не по силам. Старик внимательно вгляделся в лицо мальчика. Грязные полоски засохшего пота, запавшие щеки, бледные губы… Бывалый, умудренный опытом человек, он не мог не увидеть, какие дороги одолел этот мальчик, разыскивая отца, и как велико его отчаяние. — Не печалься, сынок. Отец твой жив и здоров — это главное. Передохни, подкрепись у моего очага и отправляйся следом. Аллах воздаст тебе за мужество и упорство — вы благополучно встретитесь с отцом за праздничным пловом. Ешь! — Чабан поставил перед Сердаром еду. Запах жареного мяса, горячего, только испеченного в раскаленном песке чурека и кислого молока, налитого из стоявшего рядом бурдюка, ударили в нос Сердару. Он вдруг почувствовал, что голоден как волк. Никогда в жизни не ел он ничего подобного, никогда в жизни не была так вкусна каурма, подкисшее молоко и чуть припорошенный золой чурек. Измученный, оголодавший Сердар набросился на стоявшую перед ним еду, как верблюд набрасывается на молодую траву. Чабан не удивлялся жадности, с которой его нежданный гость приналег на угощение. Он понимал, что только сытная еда может возвратить силы телу, изнуренному в многодневных блужданиях по пескам. Он молча поглядывал на измученного мальчика и думал о том, как жестока подчас бывает к людям судьба. «Накинет на тебя аркан и потащит куда захочет, и пойдешь ты за ней, как верблюд на веревке, привязанной к кольцу в ноздре. Ну за что карает аллах ребенка, в чем его грех? — Чабан вспомнил своих детей, представил себе, что собственный его сын мог бы оказаться в таком положении, и, горестно покачав головой, забрал в горсть кургузую свою бороденку. — Мальчик так привязан к отцу, а проклятая, подлая судьба разлучила их, натянув тетиву разлуки…» — Ешь, верблюжонок, ешь досыта. Подкрепляй силы, тебе еще предстоит нелегкий путь. Ты молодец, сынок. Ты будешь настоящим человеком. Тот, кто не знает любви к родителям, будь он хоть семи пядей во лбу, рано или поздно все равно окажется рабом сильного, притеснителем слабого. Доброта и милосердие — основа души человеческой… — Да воздаст тебе бог, дедушка! — сказал Сердар, поднимаясь. — Ты так накормил меня!.. — Ты уже хочешь трогаться? А не лучше ли тебе переночевать, а завтра с рассветом в путь? Поспал бы немножко… — Ничего, дедушка, я уже отдохнул. — Ну смотри… Не терпится тебе, сынок, это понятно. Ты прямо домой отсюда? — Нет, дедушка. Мне нужно к колодцу Балгуи. Меня там ждет Джума-ага. Беспокоиться будет, если не приду. — Тогда смотри, как идти. Гляди сюда! — Чабан прочертил на песке длинную прямую линию. — Вот так прямо и держи, никуда не сворачивая, выйдешь к колодцу. Вот так, понял? — чабан пальцем показал направление. — Я понял, дедушка. Только где ж я границу перейду? — Границу? Зачем тебе граница? Ты сейчас на туркменской земле. — Но ведь я же пересек границу, когда шел сюда, — Сердар удивленно взглянул на старика. — Ну и что ж? Пересек, а потом и сам не заметил, как снова на нашей земле очутился. Тут пески, там пески, поди разбери! — Тогда хорошо! Тогда, значит, близко до колодца! Спасибо вам за вашу доброту. Будьте здоровы, дедушка! — Счастливой тебе встречи с отцом! Иди, спокойно, верблюжонок! В этих местах волки иногда попадаются Повстречаешь — не пугайся их, пускай они боятся. От храброго любой зверь бежит. У человека на темени особые волоски есть — волоски Азраила, хищным зверям они видятся горящими, потому, как бы ни силен был зверь, он все равно бежит от человека. Но только от смелого. Потому что у труса Азраиловы волоски не светятся, гаснут, и тогда уже он беззащитен: любой зверь, любая хищная птица может одолеть его. Не страшись зверя, сынок, и он сам тебя испугается.Глава двадцать седьмая
Выполняя данное мальчику обещание, Джума-ага два дня держал отару вблизи границы. Сердар не показывался. Как помахал ему последний раз тельпеком, перевалил через высокий бархан, так больше его Джума-ага и не видел. Прошло уже около недели. Где он сейчас, бедняга? Все ходит, разыскивая отца, или, обессиленный жаждой и голодом, упал где-нибудь у бархана и нет у него сил подняться?.. Что, если мальчик навсегда исчез за тем холмом? Что, если, не найдя отца, сгинет отрок в чужом краю, в омуте неправедной жизни?.. Когда Джума-ага, добрыми напутствиями проводив Сердара, глядел ему вслед, в его сердце не было боязни, он не сомневался, что этот смелый, решительный мальчик непременно достигнет цели. А вот теперь, когда прошла уже неделя, страх охватил его душу, и старик не мог думать ни о чем, кроме опасностей, которые со всех сторон подстерегают путника в песках. Как хотелось Джуме-ага вернуть мальчика, остановить его: «Стой, Сердар! Не ходи, вернись! Такой путь не под силу ребенку!» Но что проку кричать — кто в этой бескрайней пустыне может услышать его голос? «Аллах милосердный, что я натворил?! Куда я отправил дитя, малое беззащитное дитя? Верни мне его, всеблагой! Я принесу в жертву еще одного барана! — Джума-ага молитвенно провел рукой по лицу и забрал бороду в горсть. — Аллах милосердный, я слышал, что ты не можешь отринуть мольбу человека, сорок лет пасшего в пустыне овец. Исполни, о всемилостивейший, единственную мою просьбу, и больше я никогда не стану докучать тебе мольбами! Спаси Сердара! Верни его мне. Бессовестный, бесчестный бай осиротил ребенка, отнял у него отца. Не допусти же, всевышний, чтоб ясноглазый ребенок по вине неразумного раба твоего сгинул в пустыне или пропал на той стороне, разлученный с родимой землей!» Овцы брели медленно, пощипывая чахлую траву, и только к ночи отара добралась до колодца. Когда они с Сердаром уходили, на стане никого не оставалось, и Джума-ага удивился, еще издали завидев огонь. «Неужто Сердар вернулся? Аллах милосердный! Значит, я зря тревожился — мальчик здесь? Да, сидит кто-то! Это он! Вернулся!» Уверенный, что аллах внял его молитве, что все окончилось успешно и это Сердар ждет его у костра, Джума-ага птицей летел к своему шалашу. Как быстро услышал аллах его мольбу! Значит, он, сорок лет пасший в песках овец, и впрямь любим всевышним. Торопясь быстрей добраться до костра, чабан то вскидывал на плечо свой кривой посох, то бежал, волоча его поземле. — Сердар! — крикнул он еще издали. — Сердар! — Здравствуй, хозяин! — услышал Джума-ага, и темная фигура поднялась от костра. Это был не Сердар. Чабана словно студеной водой окатили. Медленно волоча посох, который только что так весело вскидывал на плечо, направился он к костру. И узнал Пермана. Джума-ага не спросил о Сердаре: его все еще не оставляла надежда, что мальчик здесь, — может, за дровишками пошел… — С благополучным тебя возвращением, Перман! — сказал он, поглядывая по сторонам. — Да пошлет тебе аллах удачу! — Спасибо, да воздаст тебе аллах милосердный! Вот вернулся. Как говорится, пропавший вернется, мертвый — никогда. Слава аллаху, довелось наконец увидеть родные края. — Долгонько ты пропадал! Или уж больно хорошо там? — Эх, Джума-ага, лучше быть нищим дома, чем падишахом в Египте. — Это верно. Зайцу и то родной холмик дорог. А городов в той стране не пришлось тебе повидать? — Какие там города: отара да пастбища, пастбища да отара… — А чего ж так долго не возвращался? — Хозяин не отпускал. — А ты бы бросил скотину на подпаска — да и домой! — Так он хитер — расчет не давал. Как уйти с пустыми руками? Дома-то дети ждут. Да и совести у меня не хватало — скотину бросить… — Ну ладно, что теперь говорить. Вернулся, и слава богу. — Джума-ага замолчал, не зная, на что решиться. Если Сердар ушел за дровами, пора бы уж ему возвратиться. — А Сердар здесь? — спросил он, набравшись духу. — Какой Сердар? — Да твой сын. — Откуда ж ему взяться на твоем стане? — удивленно спросил Перман, недоумевая, почему чабану известно имя его сына. Теперь Джума-ага понял наконец, что случилось. Перман вернулся, а мальчика нет — сгинул в чужой стране, так и не найдя отца. И он, старый Джума, он должен сейчас же, немедля поведать Перману об этом. — Вот как оно все оборачивается… — не глядя на гостя, пробормотал чабан. — Думал, освежуем сейчас барашка, пир устроим по случаю счастливого твоего возвращения, да не тут-то было… Нет у меня желания шашлык есть, во рту — как отраву пил, тебе расскажу — с тобой то же будет. — Да в чем дело-то? — А дело вот в чем, Перман. Сын твой был у меня в подпасках. Неделю назад ушел на ту сторону тебя искать да и… — Не вернулся?! — Нет, — сказал Джума-ага и умолк. Казалось, и огонь, полыхавший в очаге, притих вдруг от невеселой этой новости. — Моя вина, что пропал твой сын, — не глядя на Пермана, сказал Джума-ага. — Почему — твоя? — Не должен я был отпускать его. Сказал бы ему: «Не ходи», остался бы мальчик. А я, наоборот, я подбадривал: все, мол, будет как надо… — Эх, Джума, не казни себя понапрасну: от судьбы не уйдешь, чему быть, тому не миновать. — Нет, Перман, нет, я мог его удержать. Ведь в последний-то миг заколебался он, вижу, страшновато парню. «Иди, говорю, сынок, ничего…» Благословил его, молитву напутственную прочел. Пока из вида не скрылся, все смотрел ему вслед… — Так, видно, судьба решила, Джума-ага… Долгое время оба чабана молчали, слышны были лишь тяжкие вздохи. А что им еще оставалось, как не вздыхать? — Вот ведь как оно получается, — сказал наконец Джума-ага. — Несчастному и удача не удача. — Это верно, Джума-ага, недаром пословица говорит: лучше каждый год с врагом рубиться, чем несчастным на свет родиться. — Да, видно, невезучий ты, Перман. Уж, кажется, вырвался наконец от своего бая, на родину благополучно вернулся. Теперь бы только радоваться, а тебе вместо радости такая вот незадача… И что делать, ума не приложу. — Я думаю, обратно мне подаваться надо. Больше ничего путного не придумаешь. Пропадет мальчонка, меня искавши… — Нет, Перман, возвращаться тебе незачем. Он ведь там надолго не останется. А у нас с ним уговор — жду его возле этого колодца. Мальчик меня не минует, придет сюда. Обязательно придет. Одно вот только — как бы не заплутался он… — Это, Джума-ага, самое плохое, это уж хуже некуда. Тогда и надеяться не на что! — Нельзя так говорить, Перман, грех. Без надежды жизни нет. Ты о хорошем думай, твоя вера и сыну поможет. — Верить-то я буду… — А тогда вот что: бери-ка ты воды, еды побольше, садись на моего ишачка и езжай. Вон на тот холм держи, — Джума-ага показал рукой, куда ехать. — Сердар с той стороны идти должен. Отъедешь малость — влезай на бархан, какой повыше, и разводи несколько костров. Отару я тоже туда погоню. Может, блуждает мальчик в песках — увидит огонь, пойдет на него. А если и погасший костер найдет, все равно знать будет, что люди близко…Глава двадцать восьмая
Теперь Сердар нисколько не сомневался, что отца он найдет, что их встреча близка. Тяжесть разлуки, непосильным грузом давившая на мальчика, свалилась наконец с его неокрепших плеч, как падает с верблюда вьюк, лишенный противовеса. Птица радости, давно уже покинувшая Сердара, вернулась наконец в детское сердце, туда, где ей и положено гнездиться. Сердар, отдохнувший, сытый, ободренный встречей с хорошим человеком, шел легко, весело, и немые, недвижные, казавшиеся ему прежде такими зловещими барханы уже не пугали его. Он знал, что Каракумы полны неожиданностей, что одинокого путника за каждым холмиком, на каждом шагу подстерегает опасность, что капканы, повсюду расставленные пустыней, могут захлопнуться в любой момент, и все-таки он не боялся. Сердару казалось даже, что и барханы, и нечастые кустики, и кривые рослые саксаулы рады ему так же, как сам он рад встрече с ними. В полдень, когда Сердар присел закусить в тени высокого мощного саксаула, он уже не сомневался, что не сбился с пути, идет правильно и колодец Балгуи где-то совсем близко. Черствый чурек и теплая несвежая вода из баклажки — не больно пышное угощение, но ведь колодец уже рядом, а там его ждет горячий чай, свежий чурек и даже шашлык. Джума-ага обещал прирезать барашка в случае счастливого его возвращения. Сердар уже сложил в хурджун остатки чурека и поднялся, чтобы тронуться дальше, как вдруг неподалеку, на бархане, появился большой матерый волк. Тут же из-за бугра выскочил другой и встал рядом с первым. Потом волков стало три, потом четыре… Они повизгивали по-собачьи, расшвыривая лапами песок. На соседнем холме тоже появилось несколько волков. «Окружают… Целая стая. Если они подойдут близко, то забросают песком глаза, ослепят и сожрут. Нельзя пугаться! Помочь могут только волоски Азраила. Я не должен бояться их, иначе все. Я не боюсь этих волков! Не боюсь!» Звери понемногу приближались, одни из них держались смелей, другие трусили, — наверное, те, которым видней были волоски Азраила. «Не бойся, и испугаются тебя», — вспомнились Сердару слова старого чабана. Крича во все горло, мальчик бросился на волков. Те попятились, удивленно глядя на человека. Сердар сорвал с себя рубашку и, размахивая ею, снова с воплем ринулся на волков. На этот раз звери отступили еще дальше. Сердар радостно заорал, он торжествовал, он понял, что он сильнее целой стаи! И вдруг волки завыли. Откуда-то издалека им ответила другая стая. Не переставая подвывать, звери начали приближаться, шаг за шагом, смыкая кольцо вокруг Сердара. Срывая голос, мальчик завопил еще громче, еще пронзительней, но волки больше почему-то не боялись его. Негромко завывая, они подходили все ближе и ближе… Сердар задрожал всем телом. Ноги у него тряслись, сердце оборвалось и провалилось куда-то вниз. Пытаясь преодолеть охвативший его ужас, мальчик хотел снова с криком ринуться на волков, но из горла его вырвался только сдавленный хрип, а ноги подкашивались, отказываясь подчиняться. «Все… Волоски погасли!» Собрав остаток сил, Сердар вскарабкался на высокий саксаул и всем телом навалился на толстую ветку. Волки сразу бросились к дереву. Повизгивая, они в ярости разбрасывали лапами песок, но дувший с севера ветер относил песок в сторону. «Ветер мне помогает, — старался подбодрить себя Сердар. — Хлеб у меня еще есть, воды тоже немножко… Отсижусь… Захотят жрать и уйдут». Но волки не уходили. Это были какие-то особенно упрямые волки, они не желали бросать добычу. Сначала они терпеливо сидели вокруг дерева, не решаясь приблизиться к стволу, но голод и созерцание легкой и такой доступной добычи придало им смелости. Волки подошли совсем близко, они подпрыгивали, пытаясь достать Сердара. Он отламывал толстые короткие сучья, швырял ими в волков, но разъяренные звери словно бы и не замечали этого, хотя Сердар почти не промахивался. Устав прыгать, они снова уселись вокруг дерева и принялись выть. Сердару было страшно. Ему было очень страшно. Целая стая разъяренных зверей металась и выла у его ног, желая только одного — сожрать его. Но он упрямо продолжал швырять в них сучьями, пока не обломал все, которые только мог достать. Волки, видимо, поняли, что противник не сдастся, что атаки их безуспешны, и решили перейти к осаде. Они отошли подальше и улеглись, по-собачьи положив морды меж лапами; лишь несколько их, видимо караульные, остались сидеть под деревом. Что ж теперь будет? А вдруг они решили взять его измором? Может, они пролежат тут целый год? Их много, они могут сменять друг друга, по очереди ходить на добычу. Тогда он просто помрет с голода на этом саксауле. Знать бы, какие у волков порядки, ходят они есть по очереди? Вроде старики говорили, что волки обычно не разбивают стаю, вместе держатся. А если они измором добычу берут, как тогда? Будут уходить по очереди? Солнце село, стало темнеть. За спиной у Сердара взошла луна и быстро начала подниматься. И вдруг неподалеку в кустах черкеза заблистали крошечные яркие огоньки. И с другой стороны… И там! И там! Духи! Это они. Когда духи подбираются к человеку, они сначала зажигают огни. Бабушка правильно говорила. Они зажгли, зажгли свои дьявольские светильники! Вот теперь Сердар испугался по-настоящему, так испугался, что чуть не потерял сознания. Еще чуть — и у него не хватило бы силы удержаться на дереве. Весь в поту, изнемогая от ужаса, Сердар твердил заплетающимся языком: «Я не боюсь… Я не боюсь… Волоски погасли, но ничего… Я сейчас… Сейчас я перестану дрожать, и они опять загорятся…» Пара светящихся огоньков отделилась от кустарника и стала медленно приближаться. Замерла на мгновенье и снова двинулась к нему… Сердар, как зачарованный, следил за приближающимися огоньками. И вдруг огоньки мет-нулись к нему и вспыхнули совсем рядом, под деревом. Ох! Да это же волк! Это волчьи глаза сверкают в свете луны. Ну вот, никогда не надо терять рассудок. Учитель же говорил: никаких духов не бывает, все это суеверие… Или Сердару удалось уговорить себя, или он просто устал бояться, но страха он больше не испытывал. С таинственными мерцающими огоньками все было ясно — волчьи глаза. Но вдали, совсем-совсем далеко, появились какие-то другие огни, эти огни не двигались, и было их несколько на равном расстоянии друг от друга. Сердару не доводилось видеть такие огни, но, подумав немного, он решил, что к духам они тоже не имеют никакого отношения, это костры и разложил их человек, чтоб помочь кому-то заблудившемуся в песках. Если бы волки хоть на время сняли осаду, Сердар пошел бы прямо на эти огни. Да разве они выпустят его, эти кровожадные дьяволы! Никак не успокоятся: злятся, повизгивают, достать пытаются. Потом опять укладываются на песок и ждут… Иногда до слуха Сердара доносился далекий собачий лай, но волки не обращали на него внимания. Только когда среди хриплых голосов старых собак прорезывался вдруг сильный звонкий лай молодого пса, гораздо реже других подававшего голос, волки начинали повизгивать, беспокойно крутиться и даже огрызаться друг на друга. Но стоило молодому псу умолкнуть, и звери снова спокойно укладывались на место. Значит, в лае этого пса есть что-то такое, чего не слышат волки в голосах других собак. Какая-то особая сила и молодая отвага, заставляющая всю стаю тревожно прислушиваться к его лаю. Был бы с ним сейчас этот пес!.. Позвать его? Нет, против ветра кричать без толку. И все-таки стоило порывам ветра стать чуть потише, Сердар закричал во весь голос: «Ко мне! Ко мне!!!» Ни одна из старых собак не ответила, но молодой… Молодой пес услышал Сердара. Услышал и приветствовал его звонким, заливистым лаем! А что, если вместе с его голосом пес учуял и запах волка? Да, настоящая чабанская овчарка всегда останется овчаркой. Не только тончайшим обонянием и острым слухом наделила природа этих благородных животных, она научила их чуять беду человеческую. Пес понял, что там, за барханами, человек, что он окружен волками и что он зовет его на помощь. Учуяв все это, молодой пес уже не мог спокойно побрехивать. Взбежав на самый высокий бархан, обернувшись мордой в ту сторону, откуда шли к нему сигналы тревоги, он лаял зло, громко и беспрерывно. «Ты в беде, — слышал Сердар в его лае. — Я готов помочь тебе. Готов схватиться с волками! Но я не могу бросить овец. Держись! Подай голос — я должен знать, что ты жив!» Все другие собаки молчали, лаял только молодой пес. Он умолкал ненадолго, и снова его злой, отрывистый лай тревожил волков, не давая им спокойно увлечься. Всю ночь мальчик бодрствовал, прислушиваясь к далекому лаю, и лишь под утро, измученный страхом, продрогший от ночной росы, он наконец заснул, навалившись на ветку. К рассвету ветер усилился. Шелестели под его порывами кусты черкеза, шуршал песок, ветер выл — все сильнее, все яростнее, и вскоре ничего уже нельзя было разобрать в сплошном вое и гудении. Не выдержав мощного напора ветра, ломаются кривые стволы саксаулов. Дерево, на котором нашел спасение Сердар, держится из последних сил, кажется, еще чуть, еще немножко — и все будет кончено. Волки уже стоят внизу, жадно ощерившись, и подпрыгивают, пытаясь достать Сердара. Когда, не в силах противиться урагану, дерево клонится к земле, волчьи зубы лязгают у самых его ног. Сердар пытается карабкаться выше, еще выше, но там уже нет надежных ветвей. А дерево все раскачивается, гнется все ниже, ниже… Треск, скрежет, и вывернутое с корнями дерево тяжело валится на землю. Испуганные его падением, волки на мгновение отпрыгивают и сразу все вместе бросаются на Сердара. Он хватает тяжелый сырой сук, прислонясь спиной к опрокинутому дереву… пускает в ход свое оружие. Он лупит волков по мордам, они воют, они лязгают зубами, пытаются схватить Сердара… «Ко мне! — кричит мальчик. — Ко мне!» И просыпается. Уже рассвело, скоро из-за барханов поднимется солнце. А волки все еще здесь. Они и не собираются уходить. Они дремлют, положив головы на песок, и лишь, разбуженные движениями Сердара, начинают недовольно повизгивать… «Ко мне! — кричит Сердар, теперь уже наяву. — Ко мне!» И пес, молодой, смелый пес, сразу отвечает ему громко и весело: «Иду! Светло, овцы проснулись, теперь я могу уйти. Я иду! Держись! Я иду!» Лай приближался. Заливистый, громкий, торжествующий лай. Волки, по-хозяйски расположившиеся вокруг, словно прибывшие со своим угощением гости, забеспокоились, поднялись и, тревожно повизгивая, то отбегали от дерева, то снова возвращались к нему. Очень уж им не хотелось уходить не солоно хлебавши. Но лай приближался. И напрасно звери в остервенении рыли лапами землю, во все стороны разбрасывая песок, — едва пес показался на ближнем холме, волки, решив, видно, что не тот трус, кто бежит, а тот, кто бежит не быстро, бросились наутек. Коричневый с подпалинами кобель наметом подлетел к саксаулу, быстро обежал вокруг и бросился по волчьему следу. Взбежал на бархан, потом на другой, на третий, сделал огромный круг, в центре которого был Сердар с его саксаулом, и, только убедившись, что волков нет, что они далеко, вернулся к Сердару. — Дружище! — дрожащим голосом сказал Сердар. — Ты спас меня! Понимаешь — спас? — он хотел было обнять пса, но тот зарычал, и шерсть у него на холке стала дыбом: «Не подходи! Я друг человека, но это не значит, что любой из вас может ласкать меня!»Глава двадцать девятая
Идя по следу четвероногого спасителя, Сердар попал на незнакомый ему стан. В котле у старого чабана уже упрела похлебка, и рассказ о своих приключениях Сердар начал за обедом. — Если б не твой кобель, пропал бы я, дедушка… Не уйти бы мне от зверей, — Сердар ласково взглянул на пса, который дремал, положив голову меж передними лапами, и не обращал на него ни малейшего внимания. — Лает он меньше других собак, а волки почему-то только его лая боятся. — Алабаш умный очень, зря лаять не станет. Лает, — значит, учуял… А волки, они все понимают. — А ведь другие-то собаки лаяли. Весь вечер брехали. — А пользы что? Это как с болтливым человеком. Больше слов, меньше дела. Такого и дома-то никогда не застанешь, вечно по соседям околачивается, как собака дурная. — А если собака и соседа защищать будет, разве плохо? Выручил же меня вчера ваш пес, а я ему чужой. — Не об том речь, сынок. Умная смелая собака и чужой дом защитит. Только мало таких. Вон погляди, кобель лежит черноухий: силач, красавец, а знал бы ты, до чего ж он труслив! Чуть стемнело, ему уже и покоя нет — лечь боится. Сны страшные мучают. Другой раз вскочит, будто ему кто на лапу наступил, и давай брехать! Брешет, брешет, пока не охрипнет. Спит только возле самого шалаша. — Может, охраняет? — Ну да? Этот только о собственной своей шкуре печется! Другие собаки уйдут, бродят вокруг стана, а этот на два шага отошел, сейчас поворачивается и лает. — Может, он тебя с собой приглашает? За компанию? — А зачем мне его компания? Если мне отойти понадобится, я и без провожатого обойдусь. Да ты ешь, сынок, ешь. Проголодался ведь… — Спасибо, наелся! — Сердар отодвинулся подальше от скатерти. — А если черноухий волка вдруг учует? — В шалаш метнется! А как заваруха кончится, подбежит, хвостом завиляет: вот, мол, и я здесь… — А Алабаш? — Тот с места не сойдет. — А разве он не погонится за волком? — Эх, сынок, мало ты еще, видно, с овцами дела имел. Ведь оно как бывает: подбежит с подветренной стороны волк, собаки за ним рванутся, а с другой стороны — стая! Они ведь тоже хитрые. Волк — зверь умный! Если Алабаш при отаре, ни один даже близко не подойдет. Ты, может, видел: волк, когда на овцу налетает, пасть у него распахнута, верхняя челюсть торчит, как лука у верблюжьего седла. А Алабаш только гавкнет, волчья пасть сразу — щелк! И захлопнется, как клещи. — А почему это так, дедушка? Что в нем такого особенного? — Сердару было очень интересно слушать старого чабана, ведь про собак бабушка никогда не рассказывала. — Как тебе ответить, сынок?.. Много на свете удивительного, непонятного… Сорок шесть лет пасу я овец, сперва подпаском был при отаре, потом чабаном. Много всякого повидать довелось, а как объяснить, не знаю. Вот, к примеру, ворвался в отару волк, хватанул овцу за загривок. Ему и тащить ее не надо — сама за ним побежит! Будет за волком гнаться, пока сил хватит, пока не свалится. А попробуй ее собака схвати? Вырываться начнет, дергаться, ни за что за собакой не пойдет, только если в зубах волочь. А почему? Аллах так судил… Вот ты говоришь, как ветер приутих, ты кричать стал, и пес тебя услышал. Не слышал он тебя — голос человеческий слаб, да и не нужно было ему тебя слышать, он и без того все понял. Другим собакам невдомек, и не потому, что слух хуже, а нет у них того понимания. Алабаш сразу чует: человек в беде, а вот почему он это чует, поди узнай… Порода. Настоящий чабанский пес: человеку друг, овце защитник, волку смертельный враг. Овца почему за волком бежит? Потому что коснулся ее волк, она уж и кончена, духом ослабла: ее не ноги, ее страх за волком несет. Так и волк: слабнет он духом перед породистой овчаркой. Большая это ценность — хорошая собака. Конь да собака — самое наше богатство. Конь зачем нужен? Догоняешь — догонишь, убегаешь — спасешься. А собака, она скот охраняет. Без собаки чабану делать нечего. — Старик наклонился и погладил Алабаша. — Ума у него больше, чем у другого человека, только речь ему не дана… Сегодня до рассвета не ложился. Мне всю ночь покоя не давал. Ну я ничего, я знаю: раз Алабаш лает, значит, так нужно, попусту брехать не станет. А как развиднелось, подошел ко мне, гавкнул разок-другой — пойду, мол, — и унесся… Предупредил, значит, что отлучится, чтоб я за овцами присмотрел. Поднялся я, гляжу по сторонам. Гавкает где-то за барханами… А он, стало быть, как показался, — волки врассыпную… — Так, дедушка. Так все и было. На них будто кто угли горячие сыпанул. Брызнули в разные стороны! — Да, это такой пес… — старый чабан с довольным видом погладил бороду. — Ты только не думай, что эти, другие, совсем никчемушние собаки. Дело свое они знают, овец пасут хорошо. Но против волка слабоваты, волки их и не больно-то остерегаются. А этот, ты погляди! Погляди на Алабаша! Он ведь, еще можно сказать, щенок, даром что ростом взял. А появись сейчас серый, Алабаш только гавкнет, у того чуть не сердца разрыв. Сдохнуть он, конечно, не сдохнет, на то он и зверь, но к месту этому больше не подойдет… — А откуда ж они взялись, такие собаки? — Точно сказать не могу, а только есть предание, — старик снова коснулся своей бороды, — когда-то собаки, как и волки, жили и плодились здесь же, в пустыне. Враждовали. И стали волки одолевать собак, — волк, как ни говори, сильнее собаки. Собрались тогда собачьи старейшины на совет и решили породниться со львом, иначе конец им, изведут волки собачье племя. Выкрали собаки несколько львят, и те львиные детеныши смешались с собачьим родом. Вот от этих смешанных кровен и пошла туркменская овчарка. Настоящая, породная овчарка. — Может, волки потому их и боятся, что в них львиная кровь? — Скорей всего так. Я вот сейчас чайку выпью и расскажу тебе родословную Алабаша. Ты тоже выпей, сынок. Чабан налил в пиалу хорошо настоявшегося чая и стал не спеша, с удовольствием пить. Сердару пить не хотелось, но он не мешал старику, терпеливо ждал. — У Алабаша был старший брат, — начал чабан, отставляя в сторону порожнюю пиалу. — Два года он состоял при отаре, потом хозяин забрал его. Звали кобеля Ёлбарс. Я такой собаки никогда больше не видел. Дороже любого подпаска. Вот сам суди. Весна. Движется по пастбищу отара, тяжелая, овцы суягные. Животинки, как подойдет им срок, отходят в сторонку и котятся. Чабанам только поспевай — крепко нам в эту пору достается. Отару-то ведь не остановишь, идет себе и идет… Если овца в теле, она ягненка не бросит, ждет, пока он на ножки встанет да побежит за ней. А если матка слабая от бескормицы, она как дурная делается, вроде и знать не хочет своего ягненка: уходит, и все. Вот и поспевай за матками, брошенных ягнят в хурджун складывай! А то пропадут. Дело это нелегкое, весной трава — чуть не до пояса, поди разгляди в ней ягненка! Одна надежда на умную собаку, Ёлбарсу в таких делах цены не было. — А что собака может сделать с ягнятами? — Сердар удивленно взглянул на чабана. — Что может? Ты скажи, чего он не может! Ёлбарс только говорить не мог, а слово любое понимал. Да ему и слов никаких не надо, сам знает, когда что делать. Хочет, бывало, овца ягненка бросить, а он встанет перед ней и рычит — не пускает: жди, мол. — Не пускает? — Ни за что не пустит, пока ягненок на ножки не подымется. — А если сразу несколько овец ягнятся? — А тогда он вот как делал. Если уж он недоглядел, ушла мать, бросила своего дитенка, Ёлбарс от него не отойдет. Ляжет и лежит, ждет, чтоб тот на ноги встал. Поднимется малыш, Ёлбарс подходит к нему, обнюхать себя дает, чтоб, значит, привыкал к его запаху. Они ведь слепые родятся, ягнятки, глаза у них долго не открываются, все по нюху. Умная овчарка, она и это знает. — А Алабаш так умеет? — Нет, молод еще. Но будет уметь, он все превзойдет, всю пастушью науку. Раз собака чистых кровей, она все будет уметь. Ну слушай, как он дальше-то с ягненком. Стало быть, познакомится ягненок с Ёлбарсом, признает его запах, и пес его подманивать начинает. Зайдет спереди и лапами этак стучит, часто, часто… Ягненок подбежит, слышит, запах-то знакомый, скок-скок за собакой. Так пес его к отаре и приведет. А уж потом-то, в отаре, ягненок, бывало, кроме Ёлбарса и знать никого не хочет, к матери родной не подходит, все за псом норовит. А Елбарс нет чтоб гавкнуть на него, отпугнуть — никогда этого не допускал — опять хитростью действует. Отпрыгнет в сторону, постучит лапами, ягненок — к нему. Он в другую сторону — скок! Играет Ёл-барс, играет с ягненком, пока тот не запутается и отстанет от него. Ёлбарс видит, что отбился от него малыш, и давай тихонечко в сторонку, подальше от отары. Вот что такое настоящая собака! — А вдруг во время окота волк? — Не подойдет волк к отаре, если Ёлбарс на посту. Он такой глазастый — за всем уследит. Иной раз бросишь несколько овей, уйдешь с отарой — держать-то ее нельзя, — так он потом соберет всех отставших и пригонит. — А может, он человек? Только в песьем обличье? — Сердар улыбнулся. — Тогда б он не мог делать того, что нам с тобой не под силу. Нападет на отару стая волков, ты мечешься, бегаешь, кричишь, а что проку? Ты орешь, а они знай баранам курдюки обрывают… — А если Ёлбарс? — Сердар даже заерзал, предвкушая удовольствие от того, что сейчас услышит. — Ёлбарсу волк что мячик! Налетит, вдарит зверя грудью, у того и хребет пополам. Волкам, наверное, лев видится в его обличье — не подходят они к нему — Ёлбарс ведь ни разу курдюком не полакомился! — Курдюком? — удивился Сердар. — Собаке — самый лучший кусок? — Лучший не лучший, какой может быть разговор, если твоя собака серого одолела? Тут уж жалеть не приходится. Берешь самую что ни на есть жирную овцу, режешь, а курдюк — псу! — А если две собаки — обе по волку возьмут? — Тогда двух овец резать. Каждой собаке по курдюку. — А если одна — двух? — Одна два курдюка получит. За каждого волка — курдюк. Так уж положено. Закон. — Ни разу не слыхал о таком. — О многом ты еще не слышал, сынок. Молод ты… — А почему курдюки, а не просто мяса кусок? — Мясо для этого не годится. Ведь почему ей курдюк бросаешь? Собака, когда волка рвет, ей меж зубов шерсть забивается. А шерсть волчья — она такая зловредная, все зубы потом выпасть могут. А съест собака овечий курдюк, зубы прочистятся… — Да, дедушка, не слыхал я такого. Мой чабан не рассказывал мне это про собак. — Да ведь не у каждого чистокровные овчарки есть. Твой чабан, может, такого пса отроду не видал… — Может, и не видал. Ну, дедушка, я пойду. — Сердар поднялся с кошмы. — Спасибо вам за хлеб, за соль, а больше всего — за рассказы ваши. Когда б еще я такое услышал! — Ну и ладно, коль угодил я тебе своими байками. Трогайся, сынок. Дорога у тебя и впрямь длинная. Волков не бойся, они в этих местах не скоро объявятся. Они какие были-то: низенькие такие, тело длинное? — Ага, длинные, длинные! И вроде красноватые… — А их так и зовут: красные волки. Племя их от шакалов идет. Самые зловредные звери. Добычу всегда сначала песком забрасывают, это чтоб ослепить. Они редко встречаются — это уж тебе повезло! — Старик засмеялся, похлопал Сердара по плечу и вдруг резко обернулся. Мальчик вздрогнул, решив, что снова волки, но увидел человека: тот выехал из-за шалаша верхом на ишаке. — Папа! — крикнул Сердар и бросился навстречу Перману.Глава тридцатая
В один из погожих осенних дней по мощенной булыжником улице Мары шел загорелый паренек в бязевых штанах и рубашке, в старых, стоптанных чепеках. День был жаркий, на голове мальчика по самые глаза нахлобучен был мохнатый тельпек, но шел он так легко и весело, словно жары не было и в помине. Уж больно хорошее было у него настроение. Шел он в райком комсомола. — Здравствуй, Чары! — Привет, Сердар! С благополучным возвращением! Значит, вернулся? — А как же? Я ведь обещал. — Молодец, сдержал свое слово. А тут без тебя односельчанин твой в училище поступил — Гандым. — Я слышал, дома сказали. Чары, я за своим удостоверением. Не потерялось? — С чего это оно должно потеряться? — Чары достал из стола бумажку с ладонь величиной. — Вот оно. Твое? — И он прочитал вслух: — «Удостоверение. Настоящее удостоверение выдано Сердару Перман-оглы в том, что он принят в члены Марыйской организации Коммунистического Союза Молодежи 13 сентября 1921 года и является членом Коммунистического Союза Молодежи». — Держи, Сердар. Удостоверение у тебя не порвано, не измято. Молодец. — Так ведь я его в книжке храню. — Вот, правильно. Ну, будь здоров! Сердар возвратился в Мары в неспокойное время. С каждым днем все упорнее становились слухи о том, что училище должно переезжать в Ташкент. Правда это или нет, установить ребятам пока не удавалось, и они без конца спорили об этом. — А все-таки будем мы переезжать в Ташкент, — сказал как-то вечером Сердар, развязывая шнурки чепеков. — Курица кудахчет, кудахчет — да и снесется. — Ты тоже каждый день кудахчешь: «Переедет! Переедет!» — окрысился на Сердара сосед по койке, мордастый парень, больше всего на свете боявшийся этого переезда. — Тоже, видно, яичко снести надумал? — Он его сразу снесет, как только объявят, что ехать надо, — с усмешкой сказал Гандым. — Если школа будет переезжать, считай, что я его уже снес, — Сердар поставил чепеки под кровать. — А чего ты больно радуешься? Чем Ташкент лучше Мары? — Гандым пожал плечами. — Сравнил! Город большой. Учителя лучше. — Учителя здешние ему не подходят! Учености мало! Ты одолей, что они знают, потом хоть в Москву уезжай. — А что, может, и в Москву поеду: всю жизнь за Мары держаться не буду! Подумаешь — Мары! Хоть один ученый ахун учился здесь? Все в Бухару уезжали! — Ха! Он ахуном надумал стать! — Гандым хлопнул себя по коленям. — Салам-алейкум, ахун-ага! — А чего вы гогочете? — Сердар обиженно передернул плечами. — Ничего тут смешного нет. Вам от мамочки уезжать страшно. Кто будет каждую пятницу по головке гладить? Чурек тепленький в рот совать? Ну и держитесь всю жизнь за материн подол! — Конечно, тебе без разницы: что в Мары, что в Ташкенте. Тебя гладить некому! Сердар молча взглянул на мордастого и отвернулся к стене. Парень потупился. — Ты думай, чего говоришь! — вступился за Сердара Гандым. — Виноват он, что мать умерла? Может, и ты завтра без матери останешься? Ты помалкивай — ясно? А то… — и Гандым показал обидчику кулак. А курица и правда не зря кудахтала: вскоре ученикам было объявлено, что училище переезжает в Ташкент. Ребята начали разбегаться, словно вспугнутые кем-то цыплята. Из сотни подростков, набранных с таким трудом, в стенах училища снова осталось не больше двух десятков. На комсомольское собрание, срочно созванное в связи с создавшимся положением, пришел Чары. — Товарищи! — начал он, когда Сердар, выбранный недавно секретарем ячейки, предоставил ему слово. — Ребята! Октябрьская революция, товарищ Ленин впервые в истории нашего народа открыли туркменам путь к знаниям, к науке — открыли перед нами двери счастья. Товарищ Ленин сказал: учиться, учиться и учиться! Это сейчас задача передовой советской молодежи. А у нас с вами что получается, товарищи? Ничего у нас с вами не получается. Советская власть открывает вам путь к науке, а вы бежите, вы хотите, как многие поколения ваших предков, пребывать в летаргическом сне или метаться без пути и без цели, как птицы g завязанными глазами… — Мы в Ташкент ехать не хотим… — не поднимая головы, сказал один из подростков, сидевших в первом ряду. — Что, в Мары учиться нельзя? — Можно, — сказал Чары. — В Мары можно учиться. И будут учиться. Другие, менее подготовленные ребята. Вы сильнее других, уже много знаете, и вам хотят дать настоящее большое образование. Ташкент — огромный город, там много ученых людей, они будут вашими преподавателями. Понимаете, не моллы, не ишаны, а настоящие большие ученые! И потом, ребята! Поехать в большой город, посмотреть новые места, прокатиться на поезде, понимаете, на поезде! Вот поднимите руки, чей отец хоть раз в жизни ездил на поезде? — Поднялась одинокая рука. — Видите, только один человек! Куда твой отец ездил на поезде? — Никуда он не ездил. — А чего ж ты руку тянешь? — Я наоборот… Я хотел сказать, что он даже в Мары ни разу не был… — Ну вот видите, что получается… — Чары улыбнулся. — А ты чего? — он обернулся к мальчику, сидевшему за столом президиума. — Что хочешь сказать? — Мой отец не ездил на поезде, но видел поезд. Вот я и хотел рассказать… — Давай рассказывай! Паренек поднялся из-за стола. — Отец у меня домосед. На базаре никогда не бывал, за саксаулом и то не ездил. А вот когда старшему моему брату сравнялось двенадцать лет, захотел отец показать ему поезд. Посадил позади себя на осла и повез. Ночевать остановились в селе, недалеко от железной дороги. Дело было летом, легли во дворе, перед домом, заснули… Вдруг среди ночи как загремит, загудит, земля задрожала… Вскочил отец, видит: движется на них что-то темное с огненными глазами. «Вставайте! — кричит отец. — Вставайте, правоверные! Конец света наступает!» Разбудил всех соседей, а те смеются: никакой, мол, это не конец света, а просто поезд идет. Отец до утра уснуть не мог. А перед рассветом будит брата: «Давай, сынок, домой поедем. Опозорились мы с тобой на весь свет!» А брат ни в какую — охота ему на поезд поглядеть. Уговорил его отец: издали, мол, посмотрим. Сели они на ослика, уехали потихоньку. А отец уж и сам раззадорился, страх-то прошел немножко. Подошли они к железнодорожному полотну, брат все поближе норовит, а отец его не пускает… Выехал откуда-то поезд, и не настоящий, а только паровоз с прицепом, идет себе потихоньку, пыхтит, отдувается… Брат говорит: «Смотри, как он задохнулся. Устал, наверное?» — «Еще бы не устать, — отвечает отец, — всю ночь дома на колесах таскал! А дорога-то у него видишь какая ненадежная? Железки в четыре пальца шириной — попробуй-ка удержись на них с таким грузом!.. Ты не рвись туда, сынок. Он сейчас передохнуть остановился, а как будет трогаться, его запросто в сторону шатануть может…» А паровоз как загудит!.. Отец с братом смотрят друг на друга и слова вымолвить не могут… Вот так мой отец и брат мой с поездом познакомились. Вокруг засмеялись. — Чего смеяться? — у Чары у самого губы расползались в улыбку, но он сделал серьезное лицо. — Разница-то между вами невелика. Отец его поезда испугался, вы из дому тронуться боитесь. Причина одна — невежественность, темнота. Пройдет десять — двадцать лет, ваши дети знаете как над вами хохотать будут! А может, просто не поверят: как это, скажут, могло случиться, чтобы комсомольцы, передовые ребята в другой город ехать боялись! Я, товарищи, вот что предлагаю. Сегодня четверг, домой пойдете. Пусть каждый из вас приведет хотя бы по паре сбежавших. Как думаете, удастся сагитировать? — Попробуем… — Может, и получится… — Тогда голосуем! Кто за мое предложение, прошу поднять руки!Глава тридцать первая
Гандым сбежал одним из первых, сразу, как только слухи о переезде училища подтвердились. Его-то и обещал вернуть Сердар. На долю Сердара пришелся только один беглец, поскольку, кроме него и Гандыма, никто из их села в училище не попал. Сердар отправился домой в твердой уверенности, что, никому ничего не рассказывая, запросто уладит дело с Гандымом. Не тут-то было. Гандым успел оповестить все село, и когда Сердар явился домой, его поджидали десятка два родственников — им уже было известно, что Сердар собирается в Ташкент. Народу набилось полна кибитка, пришли даже такие, о которых Сердар и понятия не имел, что они — родня. Родичи явились с самыми благими намерениями: дать совет, наставить парня на правильный путь. Как же его не поучить: матери нет, отец в песках, все равно что круглый сирота. Первым заговорил старик с длинной седой бородой и большим посохом в руках: — Ты, сынок, даже и не помышляй в Ташкент ехать. Нечего тебе там делать. В нашем роду никто наукам не предавался, никто на должности не служил. Бросай свое учение и — к отцу, подпаском, — и старик стукнул посохом об пол. — А может, лучше ему к молле Акыму вернуться? — несмело подал голос какой-то нестарый мужчина. — Незачем, — строго сказал старик. — Он ведь по своему желанию ушел от моллы Акыма. — Ну мало ли… По молодости чего не бывает. Поступит снова. Может, потом в медресе пойдет. Он парень толковый. Родичи зашумели все разом: — Толковый, да не старательный. — Один раз бросил — и хватит! — К отцу его! В пески! Подпаском! Сердар сидел, окруженный родичами, притихший, словно побитый щенок. Он уже и думать забыл про Гандыма — самому бы не попасть в силок. Старик с посохом откашлялся и сказал негромко: — Ну, Сердар-хан, скажи свое слово. Думаешь, промолчишь, спасешься? Сердар понимал: что бы он теперь ни доказывал, будет так, как сказал этот дед. Ни один из присутствующих не заступится за него — не посмеет перечить старейшине. Ослушаться старшего в роде — значит пойти наперекор неписаным законам, наперекор всему многовековому укладу жизни. Что же ему теперь делать? Послушаться, бросить учебу? Нет, этого не будет, пусть хоть земля разверзнется! — Подпаском в пески я не пойду, — вполголоса сказал Сердар. — И в школу моллы Акыма не вернусь. Наступила тишина. Все смотрели на старца. Тот резким движением поднял свой посох и с силой стукнул им об пол. Он ничего не сказал. Молчали и остальные. Это был дурной признак, и бабушка решила вмешаться. — Детка! — сказала она, жалостно глядя на Сердара. — Не могу я отпустить тебя в дальние страны. Я с горя пропаду, не видя твоего личика. Ты уж послушай старших. Послушай, детка, они не хотят тебе зла. — Зла-то, может, и не хотят. Но и добра — тоже! — Ты что? Что с тобой? Мыслимо ли такое говорить? — бабушка в ужасе зажала Сердару рот. — Так… — дрожащим от гнева голосом произнес старик с посохом. — Теперь понятно. Сырой помет заговорил! Вот он, щенок, лаем своим возвещающий конец света! Значит, родственники твои, собравшиеся здесь обсудить твою судьбу, не желают тебе добра? Может, они сделали тебе что плохое? — Плохого — нет. Но и хорошего я от них не видел! — Что? Что?! — старейшина даже задохнулся от гнева. — Разве вы не бросили нас с больным братом, когда бежали от большевиков?! А ведь твердили, что они всех убивают! Упрек Сердара был справедлив, и он прозвучал, как пушечный выстрел. Старик с посохом молчал, глядя в землю. Никто не произносил ни слова. — Разговорами его не убедишь, — проворчал кто-то в дальнем углу. — Таких только за глотку брать. Он ведь теперь комсомол. Да еще главный у них, у паршивцев! — Кто? — спросил старик с посохом. — Кто он теперь? — Комсомол. Молодой каманис! — О аллах! — простонал старик. Бабушка не понимала, о чем идет речь, и беспокойно переводила взгляд с одного на другого. — Ладно, — сказал старик, поднимаясь. — Никуда внука не выпускай. На ночь запри дверь на замок. — Да как же? У нас на двери и пробоя-то нет. Куда ж я замок привешу? — Хорошо. Я попозже сам тогда закрою, снаружи. А утром открою, — на Сердара старик не смотрел. Только уже стоя в дверях, обернулся и исподлобья глянул на него. — Ты, видно, из молодых, да ранний. Собственным умом жить решил. Не выйдет дело. В нашем роду ученых не было и не будет. Старик сказал свое последнее слово. Это был приговор, и ничто не могло его изменить. Так, приехав за Гандымом, Сердар неожиданно сам оказался в ловушке. Когда стемнело и все вокруг затихло, старик пришел и, как обещал, запер дверь снаружи. Все улеглись. Сердар тоже лег, сделал вид, что смирился. Но когда бабушка начала тихонько похрапывать, когда Меред забормотал что-то во сне, Сердар осторожно вылез из-под одеяла и по-кошачьи подкрался к двери. Просунул руку, потрогал замок. Заперт. Сердар тихонько вернулся в постель, сел. И тут вдруг в глаза ему бросилась веревка, спускавшаяся с тюйнюка. В дымовое отверстие вполне можно было пролезть. Выход был найден. Сердар хотел учиться. Он очень хотел учиться, и он ушел. Когда человек чего-нибудь очень хочет, никакие замки не смогут его удержать.Глава тридцать вторая
У каждого своя судьба. Одного жизнь любовно гладит по головке, нежит и холит, к другому поворачивается спиной. Одному пироги и пышки, другому синяки да шишки. Впрочем, судьба изменчива, и нередко случается, что вчерашний баловень ее сегодня оказывается изгоем. Именно так и случилось с моллой Акымом. Недолго просуществовали в селе две школы, недолго молла Акым состязался в популярности с Джумаклычем, слишком неравны были силы. Прошло всего немногим больше года, и в школе моллы Акыма не осталось ни единого ученика. Причем родители маленьких отступников не слишком перечили им — каждому хочется, чтоб его ребенок не уступал в учености сверстникам. Не стало учеников, не стало и дармовых приношений. И как-то само собой получилось, что по мере того, как слабел поток даров, слабела привязанность жены к молле Акыму. Язык элти, прежде столь щедрый на сладкие слова, теперь стал прямо-таки источать яд. И молла Акым растерялся. Он настолько привык к благозвучному журчанию нескончаемого потока приношений, что, не слыша более этих сладостных звуков, просто не знал, как жить. Молла не видел никакого пути к восстановлению прежнего своего достатка. Бездействовать нельзя, это он понимал, созревшая ягода и то не упадет сама в рот — надо ее сорвать, а вот что ему делать, молла придумать не мог. Он становился бездельником, лодырем, и не только в глазах жены, но и в глазах всего народа. Кое-кто начал уже называть его не «молла Акым», а просто «Акым», а жену его не элти, а просто по имени — Дойдук. Ко всем своим бедам и горестям молла Акым понял вдруг, что у него на редкость прожорливая жена: Дойдук всегда любила поесть, но раньше, когда дом был полная чаша, молле это было как-то ни к чему. Он просто не замечал, что рука Дойдук, можно сказать, не вылезала из кувшина с каурмой. Даже когда у Дойдук были гости, она порою вдруг вскакивала и, простонав: «Плохо мне… В глазах потемнело, с утра крошки во рту не держала…», бросалась к кувшину с каурмой, хватала добрую пригоршню копченого мяса, клала в пиалу и, залив кипятком, мгновенно сжирала вместе с увесистым ломтем чурека. Насытившись, Дойдук облизывала сальные губы, громко рыгала и, поглаживая живот, говорила: «Ну вот, слава богу, полегче стало». Соседки, сидевшие рядом, с трудом удерживались от смеха. «Да будет на пользу!» — как положено, говорили они иотворачивались, чтоб скрыть усмешку. Последнее время молла Акым старался поменьше бывать дома. Лучше отсидеться в конуре у собаки, чем в собственном уютном доме слушать нескончаемые попреки. Но обедать он все равно вынужден был приходить домой. Сегодня, придя поесть, он застал у жены соседку. Видимо, разговор у них был не из приятных, потому что элти была настроена свирепо. Едва соседка ушла, как положено при появлении хозяина, элти поставила перед мужем чай, положила чуреки и отвернулась. — Я смотрю, ты дом вспоминаешь, лишь когда в кишках урчать начинает, — примерно такими словами начинала она ежедневную застольную беседу с мужем. — В кишках не урчит, а поесть пора, — миролюбиво ответил молла, пытаясь избежать скандала. — Что ж, всегда теперь так будем питаться? — Все во власти всевышнего! Как он определит. — Аллах не определял тебе сухим чуреком питаться. Ты не батрак. — Перестань, жена, конца нет твоему ворчанию!.. — И не будет, если хлебом сухим кормить намерен! — Зачем сухим? Можно с водичкой, — заметил молла и ехидно посмотрел на жену. — Хлеб с водой? Ты что, голодом хочешь меня заморить? — Дойдук сморщила лицо, стараясь, чтоб выступили слезы. — Я тогда лучше к отцу уйду! — Ну и отправляйся, — сказал совершенно спокойно молла. Дойдук заревела по-настоящему: — Значит, тебе все равно: уйду, не уйду? Молла называется: один хлеб с чаем! — Хлеб с чаем — это уже не голод. Голод нам с тобой не грозит, элти, вон у стены мешки — пшеницы на целый год хватит! — Что ты мне на мешки показываешь? Ты мне овечку откормленную покажи! Молла Акым не ответил. Голодную Дойду к урезонить было невозможно. Поначалу он пытался было образумить жену, призывал ее потерпеть, доказывал, что все изменится, поскольку мир этот изменчив и неверен, но Дойду к требовала откормленную овечку. — Если хочешь знать, — помолчав, сказал молла Акым, — сейчас даже хорошо быть бедняком — советская власть больше всего их уважает. Вон Горбуш-ага — как ему власти помогают! И начальство теперь все из бедняков. — Тебя советская власть не возлюбит, не надейся! Хоть и есть нечего, а все равно молла! Ты лучше моего совета послушай. Иногда и жену послушать не грех! — Конечно… Особенно такую разумную… — молла покашлял, чтоб скрыть усмешку. — Давай к отцу переедем! Будешь там моллой, там никакой советской школы нет. — Сегодня нет, завтра будет. Нет, моллой я больше не хочу. Сыт по горло. — Да ведь нет там школы!.. Поучил бы пока ребятишек, запаслись бы кое-чем… — Нет! Даже и не говори! Лучше я всю свою жизнь один хлеб есть буду! Дойдук захныкала, вытирая слезы. Отец ее жил у самых песков, имел не одну отару, кувшины у него всегда полны были каурмой. А этот упрямец не хочет переезжать туда, хочет, чтоб жена с голоду померла. — Не могу я на воде с хлебом… — не глядя на мужа, многозначительно прошептала элти. — Не хочешь переезжать, меняй тогда пшеницу на овцу. Меня на мясцо тянет… С кровинкой… — Тянет? — молла обрадованно взглянул на жену. — На мясцо с кровинкой? Чего ж ты молчала? Сразу надо было сказать. С завтрашнего дня будет у тебя мясо! Но только смотри, чтоб сын! — Откуда я знаю… — элти кокетливо потупилась. Назавтра был базарный день, и к вечеру молла Акым уже разделывал у дверей овечку. Большой кувшин доверху наполнили каурмой. Впрочем, Дойдук недолго канителилась с ним. Молла привел еще одну овечку. Потом еще одну. Элти и с этими управилась без задержки. Молла Акым все чаще с сомнением поглядывал на ее живот. Наконец не выдержал: — Элти, ты съела трех овец. Чего ж у тебя живот не растет? Неужели трех овец мало? — Не потому… — Дойдук скорбно потупилась. — Что-то со мной случилось. Нутро стронулось. Понял молла Акым, что обжора попросту обманула его. Он долго сидел молча, глядя прямо перед собой. Потом сказал: — Наказал меня аллах женой. — И ушел.Глава тридцать третья
Из дома молла Акым вышел в расстроенных чувствах. Не зная, куда податься, он долго стоял задумавшись, разглядывая носки своих сапог. Очень его огорчило, что жена оказалась такой вероломной: прикинулась тяжелой лишь для того, чтоб сожрать трех овец. И в такое трудное время!.. А ведь есть у людей настоящие подруги жизни, опора в превратной судьбе. Достаток в доме — она делит его с тобой, обеднел — жена тебя утешает, боль твою душевную облегчить старается. А эта… Лишь бы брюхо набить! Отвари ей мужнину голову да подай на блюде, сожрет, не задумается… Да, милосердный, много у тебя, оказывается, способов наказать неугодного тебе… И худшее из наказаний — когда предатель сидит у семейного твоего очага. Бежать от нее! Бежать куда глаза глядят! Последние запасы спустить заставила! Да в прежнее время сожри она хоть десяток овец, хоть лопни от баранины, он бы и не поморщился. А теперь? Всю пшеницу на этих овец перевел, скоро и хлеба в доме не будет. Бубнить начнет, что с голоду помирает! Погруженный в свои думы, молла не заметил, как поравнялся с домом председателя. Подумал и решил зайти. Председатель сельсовета был человек честный, прямой, но, как уже было сказано, выросший в батраках и не очень-то он умел управлять людьми, находить к ним подход. Баев и молл он не любил и не таил своей ненависти к ним. Появление моллы Акыма не обрадовало председателя, скрывать этого он не собирался, но тем не менее гость есть гость, и председатель сельсовета указал ему на кошму: — Проходите, молла Акым, садитесь. Чай будем пить. Выпили чаю, как положено, потолковали о том о сем, потом председатель взглянул молле Акыму прямо в лицо и сказал: — Я думал, вы пришли по делу, молла Акым. Говорите, а то мне время дорого. Молла Акым закашлялся, заерзал на месте, и лицо его пошло красными пятнами. — Ну, говорите! Говорите, в чем дело. — Я слышал, что помощник ваш, который бумаги ведет, писарь… Что он малограмотный человек… — Да, малограмотный. А я и вовсе неграмотный. Что с того? — Люди говорят, что вы хотели бы заменить писаря, если найдется подходящий человек… — Это правильно. — Вот я и пришел… — Вы собираетесь работать в сельсовете?! — А что ж?.. Раз нет другой работы. — Нет, молла Акым, это дело не пойдет. Писарем я вас не возьму. Я не смогу приложить палец под тем, что вы напишете. Ясно? — и председатель поднялся с места. Теперь лицо моллы Акыма покраснело не пятнами, а сплошь, оно было как только что вынутая из кипящего масла хорошо прожаренная лепешка. Молла не помнил, как нашел дверь. Жена председателя поглядела вслед гостю и укоризненно покачала головой: — Не мог поучтивей сказать? Все-таки ученый человек, молла… Ушел, как оплеванный! — Ничего, я от них не больно-то учтивые ответы слышал! Спишь, бывало, на вшивом тряпье, рядом с собаками. Не очень они боялись меня обидеть! — У моллы Акыма ты в поденщиках не был. — Все они одинаковые, что моллы, что баи! — Зря ты так говоришь, молла Акым — добрый человек. — Знаю я вас, женщин! Задень моллу — со свету сживете ворчанием! Председатель ушел, сердито хлопнув дверью. Молла Акым шагал медленно, опустив голову, словно только что получил пощечину. Шел и без конца повторял одно и то же: «Я не смогу приложить палец под тем, что вы напишете», «Я не смогу приложить палец под тем, что вы напишете…», «Не смогу приложить палец…», «Приложить палец…» А почему? Почему этот человек в лицо называл его лгуном? Кого он обманул? Кому солгал? Какой кусок съел обманом? Учился в школе. Старательно учился, кончил, отправили в медресе. Окончил медресе. Собрались старики, порешили, чтоб учил он детей. Стал учить. В чем же его вина? Почему ему нет веры? Молла Акым поравнялся со своим домом и хотел уже было свернуть, но перед ним встало злое лицо жены, и он прошел мимо. Дошел до края села, взобрался на холм, сел я стал глядеть по сторонам. Куда бы ни падал взгляд моллы Акыма, всюду он видел спокойных, занятых своим делом людей. Он завидовал им, завидовал последнему бедняку, у которого есть свое занятие. Вот вроде бы и не виноват, а бездельник. И главное, у самого последнего бедняка есть дома жена, он может с ней посоветоваться, горем своим поделиться. А он? К кому пойдет он со своей бедой? Председатель сельсовета обидел его жестоко и несправедливо: в любом смертном грехе можно обвинить моллу Акыма, но обманом он никогда не грешил, тут он чист и перед людьми, и перед аллахом. Горькая обида, несправедливая, а пожаловаться, посоветовать некому. Жена только разозлится, ей кроме каурмы ни до чего дела нет. Ей лишь бы мясо с кровинкой. А что у мужа сердце кровью обливается, это ей… Молла Акым вздохнул, покачал головой, одну за другой сломал несколько сухих былинок. «Неудачник я», — мысленно произнес он и вздохнул. Вдаль поглядел. Огромен мир… За далью новая даль, иди и иди, и не будет конца земле. И в этом огромном мире у каждого свое место, своя судьба, своя доля. А вот если ты обездолен, то нет тебе места в просторном подлунном мире. Должность писаря не доверили! И кто не доверил? Батрак, человек, который всю жизнь спал у чужих дверей! Теперь он начальник — комитет, а уважаемые, ученые люди лишены доверия и куска хлеба… Как все запутано!.. Не будь этой путаницы, судьба понимала бы, что делает, у кого отбирает ложку, кому в руки вкладывает… Не повезло тебе, молла Акым. Как говорится, решил за воровство приняться, да ночи пошли лунные… — Что, молла Акым, размышляете о бренности всего земного? Молла, вздрогнув от неожиданности, поднял голову — рядом стоял ахун Джумаклыч. Молла Акым не любил ахуна, не за что ему было любить этого человека. Это он, открыв в селе свою проклятую школу, лишил моллу Акыма подношений и обрек на голодное существование. И все-таки сейчас, когда молле Акыму было так плохо и некуда было ему податься, он даже обрадовался Джумаклычу. — Салам-алейкум, ахун-ага! — Валейкум-салам! Как здоровье, молла Акым? — Слава всевышнему, на здоровье не жалуюсь. — Ну и ладно. Было бы здоровье, остальное уладится. — Не так-то легко ему уладиться… Сейчас у председателя был, он мне такое уладил, по гроб жизни милости его не забуду… — А что случилось? — Попросил я у него должность писаря. Услышал, что сменить он хочет писца, что не годится тот на должность по малограмотности своей… — Ну и что? — Я, говорит, не могу приложить палец под тем, что вы напишете. Так прямо в лицо и сказал. — Нехорошо он сказал, грубо… — Ахун Джумаклыч задумался. Он думал о том, что трудно приходится бывшему батраку, не у кого было председателю сельсовета учиться обхождению с людьми. Туда, где собирались старейшины, чтоб вести степенные беседы, его и близко не подпускали. Советская власть учит говорить правду, невзирая на личность, вот он и действует, как может, надо было на лоб нажать, а он чуть глаз не выдавил… — Вот, ахун-ага, — грустно сказал молла Акым. — Не знаю, что теперь и делать. Школу мою закрыли, подношения, которыми я прежде кормился, больше не поступают. Хлебопашеством заняться? Ну посею я пшеницу, если и вырастет, так через год. А скорей всего, ничего у меня не получится — навыка нет к крестьянской работе. Торговлей заняться? Капитал нужен. Да и будь у меня капитал, какой из меня делец: ни смелости у меня, ни сметки… Плохи мои дела, ахун-ага. Вы не глядите, что одежда на мне справная, в доме ни гроша, ни полмешка зерна… Бедняк я, голь распоследняя… Хоть иди куда глаза глядят… Джумаклыч помолчал немного. — А есть у вас звание учителя? — Есть. Ведь как получилось. Велели открыть школу, детей учить, я послушался, стал моллой. Со всех сторон подношения несут — привык… Вознесли меня люди на высоту, и сижу я там теперь голодный, холодный, а как спуститься, не знаю. Гляну вниз, голова кругом идет… — молла Акым вздохнул и печально улыбнулся. Джумаклыч усмехнулся. — Вовремя надо было позаботиться, чтоб спуск был покатым… — Все так, ахун-ага… Конечно, мы всегда понимали, что советской власти моллы да баи что змее мята. Только, если подумать, чем я перед властями провинился: не родовит, не богат? Судьба человеческая в руках всевышнего. Кого как наказывает аллах, меня вот ученостью наказал… Из-за грамотности своей выбрал я в жизни ненадежную дорогу. А второе мне наказание от аллаха — жена. Если над кем благодать, у того жена — помощница, подруга, утешение в невзгодах мирских… А у меня!.. — Молла махнул было рукой, не желая ругать жену при постороннем, да не выдержал: — Не баба у меня, а дракон, исчадие ада! Ей только одно подавай — мясцо с кровинкой! А нету, она тебя сожрать готова вместе с халатом! — и молла Акым сокрушенно покачал головой. Теперь Джумаклыч уже не мог ограничиться улыбкой. Как ни сдержан и благовоспитан был ахун, он расхохотался. Ахун смеялся до слез, до боли в животе, а молла Акым смотрел на него и вздыхал. — Простите, молла Акым! Простите великодушно! Понимаю, что непристойно это — смеяться при плачущем, но ничего не могу с собой сделать: прет из меня смех, как паводок весенний! Ха, ха, ха! Извините, молла Акым… Ха, ха, ха!.. — Ничего, ахун-ага, смейтесь, я не обижаюсь. Ничто не может обидеть меня больше, чем обидела судьба. Завидую только, что можете вы радоваться и смеяться, что легко у вас на душе… — Хорошо. Еще раз простите, и кончим с этим. Скажите, молла-ага, вы знакомы с арабской морфологией, синтаксисом? — Конечно. Нас обучали… — А как у вас с татарской грамотой? — Этим я занимался. Как-то попался под руку учебник, я его от корки до корки. Я ведь старательный был… — Ну это же прекрасно, молла-ага! Вы, можно сказать, готовый учитель! — Что вы, ахун-ага!.. Уж если писарем не берут… Разве мне доверят в советской школе учить? Не стоит и разговор заводить. Одно напрасное расстройство. — Вы не совсем понимаете политику советской власти. Наш председатель сельсовета — это еще не вся советская власть. Я ведь тоже окончил духовное училище, однако мне доверили советскую школу. Учителей с другой подготовкой у нас пока что нет. Нужно только, чтоб учение ваше соответствовало политике советской власти. — Аллах милосердный! Да если советская власть разрешит мне учительствовать, я день и ночь буду прославлять ее! От чистого сердца! Но этот сельсовет… — молла Акым безнадежно махнул рукой. — Не допустит он меня до должности… — Ему трудно, вы должны понять его, молла-ага. Председатель наш — представитель власти. Ответственность у него огромная, а знаний мало. Вот ему и страшно, приложил палец к бумаге — закон издал, а что в том законе значится, он не знает, на веру принимать должен… Так что его вполне можно понять, вы на него не сердитесь. Ему известно, что власть против баев и молл; общее направление он держит правильно, а в речах, конечно, иногда несдержан… — Золотые ваши слова, ахун-ага! — Сейчас будут еще золотей. Я предлагаю вам вот что. Идите в город и запишитесь на курсы учителей. Без окончания этих курсов учить детей в советской школе нельзя. Меня назначили преподавателем на этих курсах, потом хотят отправить на работу в Ашхабад. Вы останетесь в селе учителем. Будете получать зарплату, как всякий советский служащий. Подходит вам это? — Это?.. Да я… Да я даже и мечтать не смел!.. — Ну вот и прекрасно. Сегодня же отправляйтесь в город.Часть вторая Вьюга

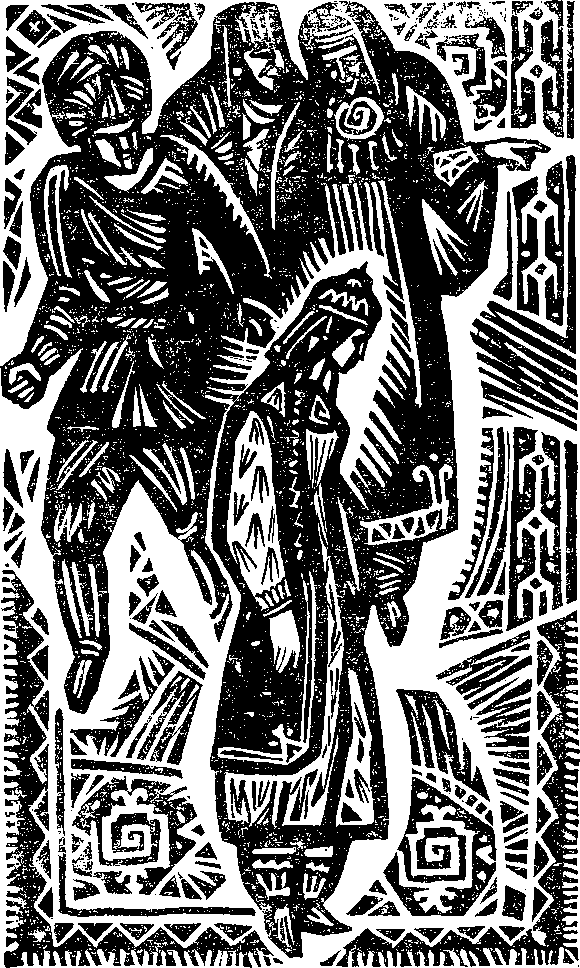
Глава первая

Солнце всходит, заходит, всходит, заходит… Ночь сменяется днем, день сменяется ночью. Время движется, подгоняемое безостановочным тиканьем часов. Но даже если часы остановить, заставить их умолкнуть, время не остановишь. Никакой силой, никакими приказами. Оно движется, движется, движется… Откуда оно идет, куда — этого никто не знает… Единственно, что постигло человечество в своем общении со временем, — это установило факт его движения. Именно поэтому люди получили возможность говорить о прошлом, о будущем. И представлять их себе. Наша книга — попытка представить перед сегодняшним читателем кусок недавнего прошлого. Жизнь человека проходит стремительно, жизнь человечества течет медленно. Проходят годы, десятилетия, века, а в бытии человечества не происходит значительных изменений. Сын, внук, правнук, праправнук… — образ их жизни не слишком отличается от образа жизни далекого предка. И вдруг все меняется. В какой-то момент истории вступают во взаимодействие две противоборствующие силы: старое и новое. Новое вступает в решительную борьбу со старым, и, если оно побеждает, меняется все: законы, власть, стремления, привычки… Однако даже в случае своего поражения старое уступает не сразу, оно не желает признать справедливой поговорку: «Привезли молодую невестку, кто станет смотреть на прежнюю?» Не больно-то хочется старому отказаться от власти, закинуть за спину котомку бродяги и уйти куда глаза глядят. Наоборот, разъярясь, старое ожесточенно набрасывается на новое, в озверелом своем наскоке, снова и снова заливая кровью многострадальную землю… Книга, которую вы держите в руках, — воспоминание об этом времени, об этой жестокой и яростной схватке. Солнце всходит, заходит, ночь сменяется днем, день — ночью… Взрослеют дети, стареют взрослые. Год мыши сменяется годом коровы, год барса — годом зайца, год рыбы — годом змеи; двенадцатигодичные циклы идут друг за другом, размеренно, плавно, как не слишком перегруженные караваны. Целых двенадцать лет минуло с той ночи, когда, воспользовавшись дымовым отверстием кибитки, сбежал из дома Сердар. Письма родным он писал, кое-какие известия о нем приходили, но сам он в селе не появлялся. И вдруг однажды по кибиткам пронесся слух: «Сердар приехал! Окончил учебу и приехал!» Два дня Сердар не мог появиться на улице, осажденный родственниками и друзьями детства. На третий день, когда поток гостей наконец начал редеть, Сердар вышел, чтоб пройтись по селу — взглянуть на те места, где мальчишкой играл с приятелями. Многое переменилось, многого Сердар не нашел и немало дивился переменам, забыв, что со дня его бегства прешло не просто двенадцать лет: он ушел отсюда ребенком, а вернулся взрослым человеком. Медленно шагая по улице, Сердар вспомнил вдруг, что вот тут, на повороте к школе, он встретил когда-то Мелевше. Он представил себе худенькую девочку с золотистой прядкой на голове и вспомнил ее необыкновенного цвета глаза и маленькие ладошки, осторожно державшие птенца. Негодник Гандым безжалостно оторвал тогда пичужке голову, они подрались, и потом им обоим досталось от моллы Акыма. Сердар дошел до моста, перекинутого через арык, и остановился. Вот здесь, под этим тутовником, он долго сидел в тот день, когда, не желая помогать в истязаньях Гандыма, взял свои книги и убежал из школы… Сердар подошел к воде, сел под тутовником у брода. Как и прежде, неподалеку в саду пели соловьи и где-то высоко, высоко в ветвях куковала кукушка… Снова вспомнились Сердару прекрасные бабушкины сказки… А вода в арыке текла и текла… Тот же арык, та же вода, и все-таки она не та, она совсем другая. Не зря говорили древние, что одной и той же водой нельзя умыться дважды… На мосту показалась девушка. Сердар и сам не понял, почему вдруг вскочил. Девушка подняла голову, взглянула на него. Ветерок смущения дунул ей в лицо и заставил потупиться. Остановиться она не могла. Но и уйти не могла — что-то мешало ей продолжать путь. Девушка пошла совсем, совсем тихо. Потом оперлась о перила, сняла с ноги туфлю и стала вытряхивать из нее песок. Когда девушка наклонилась, надевая туфлю, ее золотисто-русые косы едва не коснулись земли. Косы мешали ей надеть туфлю, она пыталась ухватить их одной рукой — другая ее рука была занята книгами. — Мелевше, это вы? — услышала она совсем близко. — Я… — ответила Мелевше, поднимая лицо. — Вы — Сердар? — Да, Сердар. Тот самый, что пытался когда-то отнять у обидчика вашу птичку. — Как давно мы не виделись… — Вы неузнаваемо изменились, Мелевше. — Я думаю, мы оба изменились, — девушка чуть заметно улыбнулась, блеснув ровными перламутровыми зубками. Сердар молчал, не зная, что сказать. Ничего подходящего не приходило на ум. Он откинул назад свои блестящие черные волосы и спросил: — Откуда вы сейчас? — Из школы. — В каком же вы классе? — В этом году заканчиваю. — А потом? Дальше будете учиться? — Как получится… — А как хочется? — Я бы хотела учиться… Тема была исчерпана, разговор зашел в тупик. Мелевше, до тех пор стоявшая с опущенной головой, подняла ее и взглянула в лицо Сердару. — До свиданья. — До свидания, — пробормотал Сердар. Мелевше уходила, а он стоял как вкопанный и смотрел ей вслед. Никогда еще он не видел, чтоб люди так ходили, — Мелевше словно и не касалась земли. Девушка свернула за угол, но Сердар видел ее так же отчетливо, как только что, когда она стояла перед ним. Высокая, тоненькая, статная… Золотистые ее волосы и ровные, словно нарисованные брови он запомнил с детства, но щеки! Золотистая розовато-белая кожа — ее щеки были как лепестки розы. Какая удивительная красавица! Даже родинки, две крохотные темные родинки, — все как положено быть у красавицы из дастана. Он никогда не думал, что такие девушки встречаются в жизни. Мелевше ушла. Ушла и не знала, что унесла с собой сердце Сердара, его волю, его надежду, его мечты… Высокий человек в смушковой шапке взошел на мост. Увидел Сердара, сделал движение, словно хотел остановиться, подойти к нему, но вдруг отвернулся и быстро прошел мимо. Сердар успел разглядеть его, приметил аккуратную, подправленную щипчиками бороду, сдвинутую набекрень ушанку. Лицо этого человека показалось Сердару знакомым, но он никак не мог вспомнить, кто это. — Ха! — Сердар даже головой покрутил. — Как же я мог забыть! Старый приятель — Пудак Балда. Тот самый, что искупал нас тогда с Гандымом! Чудак — даже не поздоровался. Если б он не отвернулся так нарочито, я бы сам подошел к нему. Как говорится, кто старое помянет… Неужели он все еще ненавидит меня? Да нет, скорей всего, просто смутился, не знал, как поступить…
Бабушка была дома одна. — Ну что, сынок, нагулялся? — сказала она, ласково поглядев на Сердара. — Много перемен заметил? — Много, бабушка. Межи почти ни одной не осталось! — Не осталось, сынок… Колхоз уничтожил. — Анна-биби вздохнула. — А чего ты вздыхаешь, — разве это плохо? Уж кто-кто, а мы с тобой от этого ничего не потеряли. — Что ж о нас говорить. Другие потеряли. Богатые с безземельными сравнялись — не дело это, — бабушка махнула рукой. — Как раз дело! Как раз то, что нам требуется! — Не говори так, сынок. Нам чужого не требуется. Спорить с бабушкой Сердар не стал. Он понимал: колхозное строительство и связанные с ним сложнейшие проблемы, экономические, психологические, этические — слишком все это трудно для старухи, привыкшей к традиционному мышлению. Он решил перевести разговор на другую тему: — Бабушка! А чем теперь Пудак занимается? — Это какой? Племянник моллы Акыма? — Он, Пудак Балда. — Пудак у нас — важная птица. Большим человеком был. Даже в бригадирах ходил. Только вот опозорился и прогнали его из бригадиров. — Как это — опозорился? — Ой, сынок, даже и говорить срамно… — Бабушка огляделась, словно опасаясь, что кто-нибудь подслушает, и зашептала: — Женатый он, а с другой женщиной связался… Есть у нас одна вдова, Бессир… Председатель и Горбуш-ага вызвали его, вместе увещевать стали, прекрати, мол, этот разврат, а он ни в какую. Бросил семью и перешел к той, к своей… Она уж от него родила, не то одного, не то двоих, не скажу точно… — А может, жена у него была плохая? — Дурджахан? Что ты! Достойная женщина! Хозяйственная, честная, ей от всех всегда уважение. Почему председатель и ругал его… А дочка у Дурджахан… — бабушка вздохнула и плотнее придвинулась к Сердару: — Такая у нее подросла дочка, что надо бы лучше, да нельзя. И ростом взяла, и статью, и коса золотистая — все при ней! Первая красавица на селе… А умница какая! А скромница!.. — И она — дочь Пудака? — Да. От Дурджахан. — Что-то не верится… У такого подлеца чтоб дочь хорошая… — Не говори так, детка. Не знаешь — не говори. От Пудака к ней и пятнышка не пристало — вся как есть в мать. Цветок весенний, а не девушка. И имя у нее такое подходящее — Мелевше… — бабушка вздохнула. Сердар обалдело поглядел на старуху: Мелевше — дочь Пудака?! Ну да, конечно! Как же он мот Забыть? Снова девушка стала перед его глазами: стройная, нежная… — Уж я на нее давно зарюсь… — бабушка огорченно покачала головой, — да где нам калым набрать?.. Мереда женили — все как есть подчистили, подскребли, ничегошеньки не осталось. Сейчас хоть половину собрать, пошла бы я к Дурджахан. Она бы меня назад не отправила. Да ведь с пустыми руками не явишься. Не видать нам этой невестки… Соседский мальчишка отворил дверь: — Сердар, тебя председатель зовет! — Молла Акым? — Да, Акым-ага. Домой велел к нему. — Хорошо, я приду. — Он приказывал побыстрее! — Иди, иди, я сейчас. Мальчик ушел. — Гляди-ка, опять у моллы Акыма громкий голос стал, — бабушка усмехнулась и покачала головой. — И не пойму, за что ему от советской власти такое уважение? Разве что грамотный? — Это важно, бабушка, очень важно. Он много лет в советской школе детей учил. И потом он ведь ни родовитым, ни богатым никогда не был. Школьный молла, — подумаешь, знать! — Так-то оно так… А только хитер он. — Ничего! Раскусим, если что не так! Ну, я пойду! А то как бы молла по старой памяти розгой меня не угостил за опоздание!
Глава вторая
В нынешнем Акыме-ага, председателе колхоза, трудно было узнать прежнего моллу Акыма. Конечно, он никогда не был истинным моллой, именитым, важным, в величественной белой чалме, и все-таки преображение его изумило Сердара. Когда молла Акым учительствовал в духовной школе, это был высокий, худощавый молодой человек, белолицый, с едва пробившейся бородкой. Теперь он изрядно набрал мясца — отяжелел, раздался в плечах. Лицо у него стало загорелое, обветренное. И повадки у моллы Акыма стали другие: ни суетливости прежней, ни робости. Голос стал густой, хрипловатый. Одним словом, самый настоящий председатель. Акым-ага изменился не только внешне. Человек наблюдательный и неглупый, он пристально вглядывался в окружающий мир, стараясь разобраться в сложной его круговерти. Он не только старательно постигал необходимые для новой жизни науки, но и учился вести себя так, как требовали этого обстоятельства. Молла Акым — будем называть его прежним его именем — мог быть серьезным и легкомысленным, молчаливым и разговорчивым, любящим уединение и компанейским — когда каким нужно. Он даже научился выпивать. Не то чтобы увлекался шумными сборищами и пьяными компаниями, но когда считал необходимым, вполне мог без вреда для здоровья пропустить рюмочку-другую. Сейчас, собираясь посидеть за пловом с прежним своим учеником, молла Акым — ныне председатель Акым-ага — прежде всего хотел выяснить одно: зачем он приехал? Зачем человек, проучившийся пятнадцать лет, вернулся в село, чтоб снова жить среди безграмотных чабанов. Нет ли в этом его поступке подвоха? — А что ж в Ашхабаде-то тебе должности не дали? — поинтересовался молла Акым, когда необходимые при встрече приветственные слова были произнесены. — Предлагали остаться в Наркомземе. Начальником отдела скотоводства. Я отказался. — Это зачем же? — молла Акым подвинул Сердару горячий чайник. — А затем, что нечего мне, молодому специалисту, отсиживаться в конторе! Я зоотехник, я хочу по-настоящему изучить наше скотоводство, нашу пустыню. — Пустыню? А чего в ней такого, чтоб ее изучать? — Что вы, молла-ага! — Сердар по детской привычке называл своего собеседника моллой. — Пустыня — это кладовая бесценных сокровищ! — Брось, Сердар, какая там кладовая! Пески они и есть пески. — Вот в том-то и дело, молла-ага, что веками люди думали о Каракумах так же, как вы: пески, и все. Пустыня нема, она не может поведать человеку о своих бесчисленных тайниках! Их надо раскрыть! Взять у пустыни ее богатства. — Думаешь, золото есть? — у моллы Акыма заблестели глаза. — Может, и золото… Но это не главное. По крайней мере для меня. Меня интересуют те богатства пустыни, которые необходимы для развития скотоводства. Засела у меня в голове одна мыслишка. Сидит, как птица в гнезде, и чирикает — покоя не дает ни днем ни ночью… — Ну-ка, ну-ка, пусть вслух почирикает! — молла Акым налил себе горячего чая. — Послушаем, о чем ее песнь. Молле Акыму и в самом деле стало интересно, еще никто никогда не говорил ему такого о песках. — В Каракумах, в недрах пустыни, надо найти горючий газ. Тогда моя мечта осуществится. — Постой, постой, ты же говорил, мечта твоя на поверхности? — Да… Это, может, и не понятно, но только на первый взгляд. Я сейчас поясню свою мысль. Понимаете, молла-ага, на земном шаре много плодородных земель, пышной растительности, полноводных рек. А нам, туркменам, когда тянули мы жребий из тельпека судьбы, достались пески, Каракумы… — Такой наш удел… — со вздохом произнес молла Акым. — Но жаловаться нам на Каракумы не приходится, бед мы от них не видали. Не надо также забывать, что пески сотни раз спасали наш народ от врагов. Если бы не Каракумы, в один из черных дней нашей истории туркмены, возможно, были бы уничтожены. Но главное: пески — это пастбища, источник нашего существования. А мы, неразумные, не зная как следует Каракумов, не умея понять и оценить их, веками гневили пески, и они перешли в наступление, стали засыпать оазисы: Теджен, Ахал… Кончилось тем, что пустыня оставила землепашцам лишь маленькую полоску у Копет-Дага, узкую, как коровий язык. Кое-где пески уже пересекли ее, прорвались к горам. Так мстят пески тем, кто не умеет ценить их. — Чем же это мы их так прогневили? — спросил молла Акым, не на шутку встревоженный. — Налить тебе еще? Не надо пока… Я хочу объяснить вам, в чем дело. У каждой пустыни, у каждых песков свой нрав, свой характер. В Афганистане песок намного легче и мельче нашего. Поэтому там так часто смерчи. Ветер срывает верхушки барханов и поднимает песок в небо; исчезает солнце, становится темно… Если песчаный смерч опустится на караван, он погребет и людей, и верблюдов… Афганские пески бесплодны. В Каракумах не то. На наших песках в изобилии растут кустарники, саксаул… Если эти растенья не трогать, не рубить, не ломать, они очень глубоко пускают корни, закрепляя тем самым пески, не давая им передвигаться. Но мы, жители Каракумов, губим природу. — Что значит — губим? — Веками мы сжигаем в своих очагах все, что растет в пустыне. Мы оголяем пески, даем им возможность двигаться и наступать на оазисы. Виною всему — кибитки. Огонь в кибитке горит день и ночь, а жар, почти весь жар уходит в небо… — Вон оно что получается… — молла Акым покачал головой. — Действительно… Никогда бы и не подумал. Что ж делать-то, а? — Надо строить дома, поселки. И отапливать жилища не дровами, а газом, с одним на все село очагом-котельной. И в любую стужу в доме будет тепло. На газе можно и чай кипятить, и плов варить… — А хлеб печь можно? — Можно и хлеб. — Ну это у тебя, Сердар, просто уже коммунизм получается! — Ну нет, до коммунизма далеко… А когда все это будет сделано, поселки будут построены, мы издадим закон, по которому уничтожение в песках любого дерева, любого куста будет считаться преступлением! Ведь сейчас берут саксаул на топливо у самых селений, где ближе, удобней рубить… — Тогда надо закон издать! — Сейчас нельзя, сейчас это утопия! Создавать закон, который нет возможности выполнить, бесполезно. Даже вредно. Но к чему я веду? Когда пески закрепятся, когда Каракумы станут сплошным лесом, травы станет сколько угодно, поголовье овец можно будет увеличить в десятки раз, — кормов хватит. В лесах Каракумов отарам не страшны будут самые суровые зимы. Вот только надо найти газ… — Ну ладно, — сказал молла Акым, — пока еще газ найдут, а плов уже перед нами. Принимайся, Сердар! Дойдук у нас молодец: и готовит его хорошо и, когда подать, знает! Рядом с пловом появилась поллитровка, хозяин с гостем выпили по рюмке, и разговор пошел еще оживленнее. Сердар неожиданно нашел в бывшем своем учителе на редкость благодарного слушателя. А когда Сердар садился на любимого конька, остановить его было трудно. — Понимаете, молла Акым, мы ведем животноводство теми же методами, которыми вели его сто, двести, тысячу лет назад. Наши предки прекрасно знали пороки этих методов, но они были бессильны перед природой, они слепо следовали традиции. Сколько веков живет пословица: «Пока вырастишь сто голов, тысячу закопаешь». Мы должны создать другие пословицы, должны у нас быть другие нормы падежа! Культурное погрессивное скотоводство — вот задача, которая стоит перед нами! Сердар разгорячился, он говорил так, словно спорил с упрямым оппонентом и должен был переубедить его. — А какой он, культурный метод? — спросил молла Акым, несколько насторожившись. Одно дело слушать вообще о пустыне, о ее далеком прекрасном будущем, слушать рассказы, которые звучат как увлекательная сказка, другое — когда в колхозе появляется такой вот одержимый и начинает осуществлять свои завиральные идеи. — Начинать надо с научно-исследовательского института. Институт пустыни! С комплексным изучением всех насущных проблем: недра, фауна, скотоводство! Изучать надо все вместе, здесь все переплетено, все неразрывно связано. Из полезных ископаемых нам прежде всего необходимы вода и газ. Газ и вода! — Ну, хорошо, допустим, что начальство согласится, откроет такое учреждение — институт. Кто будет работать в этом институте? Где ты найдешь образованных туркмен? — молла Акым безнадежно махнул рукой и снова наполнил рюмки. — На первых порах работать будут специалисты из России. — Русские поедут в пустыню? — Поедут! Сами будут работать и готовить кадры из туркмен! Молла Акым с сомнением покачал головой. — Ну ладно, — сказал он, поднимая рюмку, — выпьем за то, чтоб все слова твои сбылись. — Так у меня еще полно их осталось! — Сердар засмеялся. — Как быть? — Пока хватит, — молла Акым покрутил головой. — Не все сразу. У меня от твоих мечтаний и так уже голова кругом идет! Собеседники замолчали и всерьез занялись пловом. — Стало быть, ты к нам зоотехником? — спросил молла Акым, набирая в пригоршню рис. — С чего ж думаешь начинать? — Отправлюсь завтра в пески. Посмотреть надо, как дела, в каком состоянии овцы. А остальное потом вместе с вами проворачивать будем. Без председателя мне не справиться. — И что ж ты с председателем намерен проворачивать? — Начать мы должны с немногого. На станах построить теплые помещения для чабанов и загоны для овец… Заготовить сухих кормов хотя бы на два сезона и доставить их к местам выпаса. — Ничего себе — немногое!.. Сразу же ставишь перед нами неосуществимые задачи! — молла Акым беспомощно развел руками. — Сухие корма для овец! Мы лошадей-то на зиму не можем обеспечить. Помещения для чабанов! А где взять глину? Найдем глину, где взять воды? А загоны для семи тысяч овец — ты представляешь, что это такое? — Постойте, молла-ага, постойте! Запасать ведь не обязательно люцерну, для овец можно и верблюжью колючку. Даже лучше! — У тебя как в пословице: «Нет огня, будем пшеницу жарить!» Где мы колючку возьмем, мы ж ее всю распахали! — Молла-ага! — Сердар даже привстал с места. — Надо наконец понять, что животноводство — главное богатство нашего края! И именно животноводством мы должны заниматься в первую голову. Умело, рачительно, вдумчиво! Скотоводство в наших местах — дело верное, надежное, не надо бояться вкладывать в него капитал. Распахали колючку — плохо. Надо посеять ее! На хорошей земле она вымахает в человеческий рост — вы понимаете, сколько это кормов? Засеем три гектара. С каждого гектара — два стога. С трех — шесть стогов. С шестью стогами сухой колючки нам не страшны никакие морозы! Любую самую суровую зиму отары переживут без потерь! — Да… Горяч ты, Сердар… — молла Акым отправил в рот добрую щепоть плова. — Если б сегодня ее посеять, завтра б она поспела, послезавтра на пастбища свезти — куда как хорошо! Не выходит так. Караван не сразу собирается. Конечно, я понимаю, со временем все уладится, только спешить не надо. Ведь сколько б дитя ни плакало, ягода поспеет в свое время. Усмирим мы пустыню и тайны ее разгадаем, но… не сейчас. Это дело будущего. А сейчас давай-ка выпьем за осуществление наших чаяний! Выпили еще по рюмке. — Молла-ага! А ведь есть еще один резерв корма, который мы пока не используем. — Ну-ка? Что за резерв? — После того как хлопок собран, стебли хлопчатника надо не сжигать, как мы это делаем, а перерабатывать на корм! — Да разве это годится на корм? — Надо машинами измельчать стебли, перемешивать жмых с шелухой от семечек — отходов маслобоен… Ладно, молла Акым, — Сердар усмехнулся. — И вправду задурил я вам голову. — Грустно вздохнул, вытер руки и в знак того, что совершенно сыт, отодвинулся подальше от скатерти. Хозяин тоже давно уже наелся, а вот тетушка Дойдук еще не насытилась. Видно было, что за прошедшие годы ей удалось управиться не с одним десятком овечек, — Дойдук погрузнела, расползлась во все стороны, но аппетит ее остался неизменным. Она с такой быстротой, с такой жадностью хватала горсть за горстью, что было совершенно ясно: плов она не жует, рис не касается глотки и проскакивает ей прямо в желудок. С самого начала Дойдук навалила себе в миску целую гору плова — Сердар не сумел скрыть удивления. Он первый раз в жизни делил трапезу с тетушкой Дойдук и понятия не имел о масштабах ее аппетита. Сердар и молла Акым только еще приноравливались, а гора плова в миске матушки Дойдук оседала, словно пшеница на току, когда ее ссыпают в мешки. Она быстро управилась с остатками, вылизала дно миски и то и дело поглядывала на миску мужа. Если б они были одни, молла Акым, как обычно, поделился бы с женой, но при госте это было сделать неловко, и тетушка Дойдук не скрывала своей досады. Теперь, когда мужчины, насытившись, отодвинулись от скатерти, она решила доесть мужнину долю. — А знаешь, Сердар, — вступила в разговор хозяйка, незаметно подвигая к себе миску мужа, — плохо пришлось твоему молле, когда ты уехал. Если б не помог досточтимый ахун Джумаклыч… — А как он помог? — спросил Сердар, краем глаза следя за передвижением миски. — Да он тебе сам расскажет. Расскажи! — Дойдук неуловимым движением мгновенно поменяла местами миски, и перед моллой Акымом оказалась пустая посудина. — Да, помучились мы немножко с Дойдук, — со вздохом сказал председатель. — Школа-то закрылась, куда деваться! Ахун помог. Можно сказать, спас меня от голодной смерти. Сначала определил на летние курсы учителей. Три года летом я учился, а зимой ребятишек учил. Потом бухгалтерские курсы окончил. Изучил торговое дело, в кооперации работал… — Ты расскажи, как председателем стал, — сказала Дойдук, с довольным видом вытирая жирные губы; кажется, она наконец насытилась. — Это я тебе оставлю. Плов мой съела и слова мои говори! — молла Акым усмехнулся и с видимым удовольствием откинулся на подушку, приготовившись слушать рассказ о том, как стал председателем. Но тут в комнату вошла Мелевше. Скользнула взглядом по лицу Сердара, поздоровалась с хозяевами и, опустив глаза, сказала: — Тетя Дойдук! Дайте вашу ступку для перца… — Ой, милая, да она у меня и не бывает в доме! Все по соседям кочует… Спроси у Бике, может, там… Мелевше поблагодарила и снова, слегка косанув глазом на Сердара, вышла. Не нужна была Мелевше никакая ступка. Ей нужно было взглянуть на Сердара. И все это поняли, даже Дойдук. Только Сердар ничего не понял. Он вообще ничего не видел, не слышал, не соображал… — Я пойду! — Сердар вскочил. — Куда ты? — молла Акым попытался усадить его. — Чай пить будем. Самый чай после плова! Сердар не слышал его, он не отрывал взгляда от двери, за которой скрылась Мелевше. Молла Акым снизу вверх глянул на него, усмехнулся и покачал головой.Глава третья
Когда племянник моллы Акыма Пудак напал на мальчишек, первыми поступивших в новую школу, и сбросил их в реку, он был уже женатым человеком лет под тридцать, имел ребенка, но прозвище, которое дали ему в детстве сверстники — «Балда», прочно прилепилось к нему, так его и звали — Пудак Балда. Прошло больше двенадцати лет, он успел побывать в бригадирах, потом за связь с молодой вдовой был объявлен морально неустойчивым и снят с работы, со злости совсем переехал к Бессир, стал жить с ней в открытую, выросла дочь, подрастал и второй ребенок — от Бессир, а кличка Балда по-прежнему оставалась за Пу-даком. Дурджахан, мать Мелевше, и с места не сдвинулась, когда муж от нее ушел. К родителям она не вернулась. Забросила яшмак с боруком, покрепче затянула кушак и пошла работать в колхоз. Учила дочку сама, закончила ликбез. Работницей она была прекрасной, о ней даже в газетах писали. В общем, похоже было, что Дурджахан не слишком горюет о своей потере.Пудак вернулся с базара усталый, злой — день выдался на редкость знойный, и он прямо истомился от жажды. Не найдя жены ни в кибитке, ни во дворе, он сердито швырнул на кошму сверток, который привез с базара, прислушался, не возится ли где… — Опять унесло ее! Дурная баба, что глупый пес, никогда дома не сидит. Приобрел сокровище! Вот уж истинно: жен менять — только время терять! Пудак вышел из кибитки, поглядел налево, потом направо и заорал во все горло: — Жена! Эй, жена! Звать жену по имени да еще стоя посреди улицы Пудак Балда, разумеется, не мог, но у Бессир был хороший слух, и она сразу поняла, что это Пудак и что он злится. — И надо же… — жеманно протянула Бессир, появляясь из соседней кибитки. — Весь день, как проклятая, дома просидела, а мужу вернуться — жены дома нет… Не думала, что ты так скоро, давно бы чай вскипятила, — и она сокрушенно вздохнула. Пудак не стал ей возражать, хотя прекрасно знал, что она врет: просто во рту у него пересохло и не было никакой охоты спорить. Ондавно уже понял, что сменял быка на петуха, когда ушел от Дурджахан к Бессир. Бессир была не только ленивая, жадная и глупая, она оказалась первой сплетницей в селе. Когда, интимно похлопав собеседницу по коленке, Бессир начинала нашептывать ей что-нибудь этакое, у нее даже глаза сверкали от восторга. Она блаженствовала, она расцветала, она прямо преображалась на глазах, когда перемывала кому-нибудь косточки. Случалось, что в разгар беседы входила женщина, о которой только что шла речь, Бессир нимало не смущалась. — Заходи, милая, заходи, сестрица! — певучим голосом приветствовала она незваную гостью. — А мы только что тебя поминали — чего это, мол, ее давно не видно… Садись, выпей с нами чайку! А когда уходила та, с которой они только что болтали про эту, вновь пришедшую, Бессир укоризненно глядела ей вслед и говорила со вздохом: «Эх, чтоб у тебя груди отсохли, ну что за женщина! Хлебом ее не корми, дай только посплетничать про соседок!» Женщины прекрасно изучили повадки Бессир и все-таки охотно забегали к ней в кибитку: уж больно складно умела она рассказывать, да и никто другой не знал столько новостей и таких подробностей. Бессир вошла в кибитку, чтобы налить воды в тунчу, и тут вдруг взгляд ее упал на сверток. Она бросилась к нему, развернула… — Прелесть какая! — запела она нежным голоском. — Какое красивое китени! — Она уже забыла, что пришла за водой, что нужно согреть чай для мужа, она не могла оторвать глаз от яркой шелковой материи. — А пахнет как! — Бессир жадно понюхала ткань. — Только настоящие краски так пахнут! — Кончай нюхать! Лучше чай вскипяти — кровь в жилах пересохла! — Сейчас, сейчас! Ну какой цвет, это ж надо! Так и горит! Так и переливается! — Сказано тебе: чай ставь! Губы от жары потрескались! — Наливаю, наливаю… — сказала Бессир и опять уставилась на материю. — Если б Мелевше заставить ворот расшить… Да разве ее заставишь! Конечно, если б ты приказал… — Она и без приказа сделает. Любая девушка для своего наряда постарается. — Для своего?! Зто ты Мелевше купил?! — Конечно. — Ну, нет! Этого она не дождется. Как что получше, сразу Мелевше! У тебя что — жены нет?! — Ладно, хватит болтать. Согреешь чаю, отнеси Мелевше покупку. — Ни за что! Я сама буду шить из него платье! — Тебе в другой раз куплю. — Ей в другой раз покупай! — Соображай, что говоришь! Молоденькая ты, что ли? Слава богу, в годах… — Это тебе так кажется, что в годах! Душа у меня молодая! — Ты на макушку глянь! Пыльцой припорашивать начинает! — Ты виноват! От тебя седина раньше времени! Как по ночам ко мне ходил да жить с тобой уговаривал, небось по-другому пел! Бессир всхлипнула и начала усердно тереть глаза. Пудак понял, что чая ему не видать. Весь день сегодня проторчал на базаре, его насквозь пропекло солнцем, и домой он добрался чуть живой. Голова гудела и, казалось, вот-вот лопнет. Пудак припал ртом к ведру с водой, напился, но разве холодная вода заменит в жару чай?.. А Бессир ревела все громче. «Да… Дурджахан, бывало, прибьешь, и то никогда не пикнет. А эта кислятина!.. — Пудак поморщился. — Вон как орет — все село готова собрать! Но ничего, я тебя переупрямлю, не будет по-твоему, не надейся!» Он сел, прислонясь к стене, и прикрыл глаза. — Чего уселся?! — заорала Бессир, мгновенно перестав плакать. — Отправляйся к своей прежней! — Да если б она пустила… Дня бы с тобой не остался. — Вот-вот! То-то я вижу, ты совсем ледяной сделался. Видно, и меня бросить — решил? — Сама виновата. Женское тепло любой холод растопит. А от тебя только ворчанье да притворство! — Тепла захотел! С чего это я тебя согревать буду, когда ты только об доченьке своей печешься! То одно ей отнеси, то другое, думаешь, мне не обидно? Что я, старуха какая? — Бессир всхлипнула. — Спишь со мной, а смотришь на сторону. — Она заревела в голос. Пудак окончательно сник. Не было у него сегодня сил пререкаться с вздорной бабой. Наконец она стала завывать потише. — Не соображаешь ты, — сказал Пудак, не глядя на жену, — Мелевше — девушка на выданье. Не сегодня-завтра сбудем с рук, и кончатся все расходы. А пока наряжать приходится, не то осудят. Вроде бы очень убедительно сказал, любую проняло бы, а этой хоть кол на голове теши. — Ты, когда жить с тобой уговаривал, что говорил? Что ты мне обещал? Ты траву лизал — клялся, что даже и не поглядишь на ту кибитку! Забыл, да? Все забыл? Не знал, что у тебя дочь растет? Терять Пудаку было уже нечего, надежду на чай он потерял вместе с надеждой урезонить бабу и потому решил не церемониться: — Ты тогда красотка была! Ханша Бессир. А теперь смотреть неохота! — Смотреть неохота? Ну, а ты как был Пудак Балда, так Балдой и остался! Хочешь — смотри, хочешь — не смотри на меня, а из дома я тебе ниточки не дам вынести! Не будет твоя доченька щеголять в этом китени! — Будет! — произнес Пудак Балда, медленно поднимаясь с места. Глаза у него налились кровью, и такое у него было лицо, что другая давно бы отступилась, но Бессир не так-то просто было напугать. — В огонь брошу, а ей не отдам! Бессир схватила сверток и тут же, жалобно пискнув, отлетела в угол. Рука у Пудака была тяжелая, борук упал у нее с головы и откатился в сторону, сверток с материей оказался на полу. Бессир не растерялась. Одной рукой она, подтянула к себе борук, ухватив за прикрепленный к нему платок, другой — сцапала сверток, Пудак бросился на нее, Бессир завопила. И тут вдруг за дверью послышалось мужское покашливание. Супруги мигом затихли, словно на них выплеснули ведро холодной воды. Бессир быстро нахлобучила борук, благообразно прикрыла рот яшмаком и сразу стала такая робкая, почтительная, такая примерная жена. Вот ведь как получается. Погоде, чтоб перемениться с ненастья на вёдро, и то время требуется, а тут мгновение — и перед вами совсем другой человек. Трудно было даже поверить, что такая скромная, вежливая, благовоспитанная женщина только что могла браниться и орать на мужа. Может быть, в мгновенном ее преображении немалую роль сыграло то, что пришел не просто посторонний человек, а длиннобородый яшули — человек уважаемый и строгий. Бессир низко поклонилась ему и, наполнив тунчу водой, отправилась ставить чай. Пока Пудак и его почтенный гость задавали друг другу предписанные вежливостью вопросы, появился свежезаваренный чай и чуреки. Пудаку повезло, что пришел яшули. По крайней мере чай был вскипячен мгновенно, а Бессир, плотно прикрыв рот яшмаком, сидела в углу, покорная и безмолвная, как только что привезенная в дом молодая невестка. От зеленого чая Пудак быстро обмяк, подобрел, тело его расслабилось, покрылось благостным потом. Разговор с гостем шел степенный, ровный, и злость Пудака постепенно истаяла, сошла на нет. Старец был из одного рода с моллой Акымом и с Пудаком, в детстве Пудак даже звал его «дядя Солтанмурад», а уж потом, когда вырос и обзавелся семьей, стал, как и все, почтительно именовать старого Солтанмурада — «яшули». Это Солтанмурад-ага первым выступил против школы, которую предложил открыть ахун Джумаклыч. Он поругивал нередко и председателя сельсовета: батрак, голь, бестолочь, но делал он это только там, где столь неуважительные высказывания о начальстве ничем ему не грозили. Вероятно, именно его хитрость и осторожность ну и, конечно, привычное уважение односельчан помогли Солтанмураду-ага избежать раскулачивания, хотя он был не беднее многих, давно уже покинувших село. Одним словом, старец этот неплохо разобрался в расстановке сил и действовал в соответствии с ней. Целиком, со всеми своими потрохами принадлежа старому миру, он неплохо уживался и с новым, и там, где новое запаздывало хоть на минутку, длиннобородый мудрец не терял даром времени. — Ты ведь знаешь, Пудак, мы не от рабов каких-нибудь род свой ведем, не от тех, что брошенного сухаря угрызть не могут и плачут, что у маменьки родной в водичке хлеб мочили, — мы ведь с тобой из игов, а потому нам свою кровь с чьей попало мешать не годится… — Солтанмурад-ага поднес ко рту пиалу и многозначительно помолчал. Пудак Балда никогда не придавал значения своей родовитости и не очень-то понимая, к чему старик завел этот разговор, позволил себе пошутить: — Да ведь настоящий иг, он какой: лицо светлое, глазки маленькие, носик кругленький, скулы широкие, борода редкая… — Правильно… — подтвердил яшули. — Так какие же мы с вами иги? Вон у вас какая бородища! А у меня нос горбатый! — Пудак потрогал свой заблестевший от выпитого чая нос. — Вот из-за таких необдуманных слов, из-за легкомыслия своего и получил ты прозвище Балда, — сказал Солтанмурад-ага, раздраженный неуместной веселостью племянника, и выплеснул из пиалы остатки чая. — Известно тебе, что наш дед был приближенным Каушут-хана? Если бы в нем была хоть капля рабской крови, хан его и близко не подпустил бы! А борода, нос — это не имеет значения, это как аллах повелел… Старик посидел, погладил чайник, налил себе чая в пиалу. — Ну, а как у тебя дела? — Да, слава аллаху, никто пока не пристает… — Ну это хорошо, что не пристают… В колхозе не работаешь, а они тебя все-таки не трогают? А то ведь начальства сейчас хватает. Один себя бригадиром назовет, другой — председателем… — А, ничего, яшули, как-нибудь отобьемся. А надо будет, и в колхоз пойду! Я ведь бригадиром был — нахвалиться не могли: всегда план перевыполнял. Все из-за красотки Бессир вышло. — Пудак кивнул в сторону Бес-сир, а та, сделав вид, что стыдится слушать вольные разговоры, поднялась и вышла. — Ходил я к ней по ночам, а Дурджахан, дурища, возьми да нажалуйся в сельсовет. Твердил ей, глупой: «Что, меня на двоих баб не хватит? И тебе, и ей буду мужем!», не согласилась… — Жаль, что так получилось… Дурджахан не женщина, а кусок золота. — Сам знаю… У Бессир тогда уж ребенок родился — не вырвешься. Объявили двоеженцем, прогнали из бригадиров… — Соображать должен был. Ты знал, что большевики, как пришли к власти, сразу запретили двух жен иметь. А ты думал, раз бригадир, все тебе можно… — Я считал, раз план выполняешь… — Что план, раз ты ихний закон нарушил. Они за законами крепко смотрят. — Нет, тут не в законе дело. Горбуш-ага на меня зуб имел, а он главный в партячейке. Если бы не Горбуш, ничего бы Дурджахан не добилась! — Ну а ты как?.. — старик поглядел на дверь. — Не похаживаешь тайком к Джурджахан? — гость перешел на шепот. — Нет, — так же шепотом ответил Пудак. — Не пускает. Ей ангел смерти милей, чем я. — Ну как же так?.. У вас дочь выросла. Твоя ведь дочь. — Понятно, моя. Я дочку свою люблю. Вот обновки ей покупаю… Только баба моя!.. — Пудак с досадой махнул рукой. — Запутался я с ней, как муха в паутине! Привез с базара китени, хотел дочке отдать, а она вцепилась и давай орать. Если б вы не пришли, и посейчас шло бы у нас сражение… Слава богу, хоть при вас про яшмак вспомнила. — Выходит, розу ты бросил, колючку нюхаешь… — Так оно и есть. — Пудак не договорил. Вошла Бессир, и мужчины перевели разговор на другую тему, Солтанмурад решил, что подошло время перейти к делу: — Я, Пудак, не хочу у тебя рассиживаться, дома тоже гость ждет… Но сам понимаешь: ты мне не чужой, все мы одного рода, твоя честь — наша честь. За тобой уже есть один грех, но, как говорится, что было, то быльем поросло. Сейчас речь не об этом. Ты ушел от Дурджахан взял другую жену. Прежняя твоя из села уходить не захотела, жила среди нас, ребенка растила. Дочку вырастила, не приведи аллах сглазить, прекрасную, и ученая она, и собой видная… Вот я думаю, что пора девушку определять к месту. Ты отец, тебе первому об этом думать. Твое право… — Конечно! — воскликнула Бессир, забыв, что на ней яшмак и встревать в мужской разговор ей никак не положено. — Сейчас такие времена, только прозевай! Скажет: «Учиться еду!» — и поминай как звали! — Моя дочь никуда не поедет, — свирепо зыркнув на жену, пробормотал Пудак. — Посмеет волю мою нарушить, как курице голову откручу! — Тут, Пудак, бесноваться нечего, — миролюбиво заметил Солтанмурад-ага. — Глупости делать не следует… Ты один раз уже погорячился, хорошо, простили тебя, а то бы в Сибири глаза открыл. Так что поменьше кричи, побольше думай. А что девушки благочестие теряют, это жена твоя верно сказала. Вон дочери Горбуша, обе в Ашхабаде учатся. Какие они мусульманки, если в одном доме с парнями живут? Он твердит, что, мол, спальни-то у них отдельные, а кто это знает: отдельные или не отдельные… Таких девок только керосином облить да сжечь! — старик глубоко вздохнул и погладил свою длинную бороду. Бессир набожно ухватилась за воротник и пробормотала: «Спаси, милосердный!» Пудак помрачнел, ему вдруг стало тесно, как в могиле. Все трое сидели и молчали. Думали о Мелевше… Наконец старик прокашлялся, переместился поудобней и заговорил негромко: — Уж не знаю, как тебе и сказать… Может, болтовня это. Но только, как закончила Мелевше учебу, поговаривать стали, что вроде с Сердаром, сыном Пермана… дела у них. Будто об комсомольской свадьбе речь. — Боже! — выкрикнула Бессир, снова забыв про яшмак. — Позор! Поношение! У Пудака нестерпимо заломило в висках. Обхватив руками голову, морщась от боли, он медленно выговорил: — Дядя Солтанмурад… Ты дознайся… Узнай, верно ли… Если все так и есть, скажи. Я им устрою… комсомольскую свадьбу! — Позор! Позор! — не выдержала Бессир и испуганно прикрыла рот ладонью. — Ты вот что, Пудак, ты глупости свои брось, дорого это тебе может стать. Слушай, что посоветую. — Посоветуйте ему, скажите! — выкрикнула Бессир. — Он такого может натворить!.. Как был Пудак Балда, так и остался!.. — Она обеими ладонями зажала себе рот. — Если моя дочь спутается с этим… — мрачно произнес Пудак, — советуй не советуй мне, я ее, дрянь этакую!.. Я ее все равно прикончу! Ну, ладно, Пудак, не оправдывай еще раз свое прозвище. Тут надо не на пролом лезть, а в обход, с умом действовать надо. Слушай, что говорить буду. Сейчас у меня в кибитке Клыч сидит, свататься пришел. Зовет к Дурджахан с ним идти. — К Дурджахан! — заверещала Бессир, снова забыв о приличиях. — У девушки что — отца нет? Сирота какая нашлась! Как обновки покупать, так отец… — Помолчи, невестка, — сказал Солтанмурад-ага, не взглянув на Бессир. — Никто Пудака обходить не собирается. Все будет как положено. Потому я и пришел к вам в дом. — Правильно! — Пудак гордо вскинул голову. — Только со мной и может быть разговор. К Дурджахан ходить незачем, я — отец, мое слово последнее. Скажи Клычу, я согласен. И пусть не тянут с калымом. Выплатят калым, возьму дочь за руку и сам приведу к ним в дом! Старик вздохнул, пристально взглянул на Пудака и молча покачал головой. — Нет, племянник, не зря тебя Балдой прозвали. Дело тонкое, умного подхода требует, а у тебя все рассуждения дурацкие! Тут нужно действовать тихо, без шума, без скандала… — Ничего подобного! Если камыш крепко не ухватишь, руку порежешь! Тут хватка нужна! — А-а, — заикнулась было Бессир, но старик строго глянул на нее, и она только качнулась вперед и замолкла. — Вижу я, придется мне самому за дело взяться, а то ты такого наворотишь!.. — А калым? — жалобно воскликнула Бессир. — Будет тебе твой калым! — старик досадливо отвернулся. — Ваша доля от вас не уйдет. Получите больше, чем ждете. Глупостей только не делайте! Помешаете мне, пеняйте на себя. — Солтанмурад-ага поднялся и пошел к двери. — Значит, я договариваюсь с Клычем? — Можете договариваться, яшули. Скажите: отец согласен. Старик ушел. Пудак и Бессир молчали. Одна мысль занимала сейчас их умы: как бы не упустить калым. Бессир напряженно соображала, не перестать ли ей натравлять мужа на Дурджахан — не проиграет ли она на этом. Вдруг та баба разозлится и все заберет себе?..
Глава четвертая
Дочка была для Дурджахан — все: радость, надежда, свет очей. Девушка кончила школу, подумывала о том, чтоб учиться дальше, а у матери сердце замирало при мысли о разлуке. Запрещать, отговаривать, препятствовать дочке в ее стремлении к учебе Дурджахан, конечно, не стала бы, но в глубине ее сердца теплилась надежда, что Мелевше передумает, что как-нибудь иначе устроится ее судьба и дочка останется в селе. Девушка понимала, что думает обо всем этом мать, и пока не заводила разговор об учебе. Дурджахан тоже помалкивала. А время шло, миновал уже месяц с тех пор, как Мелевше окончила школу. Вернувшись с поля, Дурджахан успела только подмести в кибитке и вскипятить чай, когда в дверях появился длиннобородый высокий старик — Солтанмурад-ага. — Как дела, Дурджахан? — спросил он. — Все ли в порядке? — Слава богу. Заходите, прошу вас. Садитесь, пожалуйста. Солтанмурад-ага сел. Дурджахан придвинула к нему чайник, который стоял возле очага, прикрытый влажной тряпицей. — Имя твое, не сглазить бы, даже в газете появляется, — сказал гость, переливая чай в пиалу и обратно, чтоб заварился получше. — Так говорили мне, кто газеты читает… — Да, написали. Если работаешь хорошо, иногда и в газете пишут. — Хм… И что же, платят за это немножко? — Нет, денег не дают. — А я слышал, что если напечатают в газете, то потом деньги положены. — Положены. Только тем, кто писал, а не тем, про кого писано. Это ведь работа такая — в газете писать. — Понятно… Стало быть, когда эти с аппаратами на боку пристают ко всем да во все щели лезут, у них своя выгода? — Дурджахан не ответила, улыбнулась. — Я-то думал, напишут они про ударника, про тебя, к примеру, а потом деньги дадут… Выходит, не так… — старик отхлебнул из пиалы. Дурджахан внимательно поглядела на гостя — не подтрунивает ли он над ней. Нет, не заметно, глаза опущены, вроде чаем занят. Допив чай, старик задумчиво повертел в руке пиалу. — Я вот что хотел сказать… Ты, когда Пудак глупость эту устроил, злом за зло не платила, не вернулась в родительский дом, осталась среди нас, родственников твоего вероломного мужа. Блюла свою честь, дочку воспитала на зависть людям. Мы все очень довольны тобой, уважаем тебя, любим. А Пудак… Как был он Пудак Балда, так и остался. Он даже и разговора не стоит. — Ну, зачем так? Я на него зла не держу. Он ведь по глупости в ловушку попал… — И опять умные твои слова, достойные слова. Про ту, другую его жену, говорить не приходится: всевышний создал ее в минуту великого гнева. Свирепа, как верблюд зимой, упряма, как осел. Не женщина, а исчадие ада! — Не скажите… У нее и жеманства, и хитрости хватит. Когда надо, злость свою в узелок завяжет да запрячет подальше. Аллах с ней, знать ее не хочу! Подальше б только от меня держалась — ничего мне от нее не надо. — Про жеманство это ты верно. Не дай бог на глаза попасться — взгляд у нее приманчивый, как у дракона. — Вот она и приворожила Пудака Балду. — Что поделаешь, Дурджахан, прощать надо, хоть и не по душе он мне. Не чужой, ведь, нашего рода… — Солтанмурад-ага печально вздохнул и, разделив бороду на две равные пряди, провел по ней ладонями. Дурджахан прикрыла рукой рот, задумалась. — А как ты полагаешь, Дурджахан, — помолчав, спросил старик. — Теперь-то хоть распознал он свою бабу? — Надо думать, давно себя разоблачила. — А что, если потолковать с ним? Может, вернется? — Незачем ему возвращаться. Поздно. — Лучше поздно, чем никогда. — Не лучше. Разбитый кувшин не склеишь… — Ну, не говори так, дочка. И поломанные кости срастаются. — Кости срастаются, а душа — нет. Белей снега, черней казана, горячей огня, холодней льда, тверже камня, нежней цветка — не найдешь для нее лекарства… — Верные твои слова, Дурджахан…. — Что было, то прошло, и поминать незачем. Я свою дочь вскормила, взрастила. — без него обошлась. Чего ж мне теперь-то от него надо? Чего ради я покой терять буду? А потом ведь и о другом ребенке думать приходится. Мою дочку осиротил, теперь того ребенка бросит? Не нужно мне это. У меня одна мечта — пристроить дочку в порядочный дом, поближе куда-нибудь выдать, чтоб видеть ее почаще… — Дурджахан опустила голову и выплеснула в очаг остатки чая из пиалы. Солтанмураду не очень понравилось, что Дурджахан не хочет сходиться с Пудаком. Если б они сошлись, не было бы задачи — делить калым меж двумя домами. Именно поэтому он и завел разговор о возвращении Пудака, но Дурджахан ответила ясно и недвусмысленно, и продолжать разговор расчета не было. Зато Солтанмурад-ага услышал от нее другие, весьма нужные ему сейчас слова: «…пристроить дочку в порядочный дом, поближе куда-нибудь выдать…» — Хочешь, просватаю твою дочку прямо в нашем селе? — А за кого? — помедлив, спросила Дурджахан. — Семья Клыча хочет породниться. Сына его ты знаешь. Он по торговой части, в городе школу кончил. Лавка с городскими товарами в руках. Ты ведь знаешь Гандыма? — Знаю, конечно… — Ну и как он на твой взгляд? — Плохого сказать не могу… — Вот за него давай и пристроим твою дочку? — А они заводили разговор? — Клыч просил, чтоб я к тебе сходил, разведал. Сказать, пусть приходят? — Может, не стоит так уж сразу, как бы не подумали, что торопимся… — Да ведь разговор-то у нас с ним не вчера был. Они уж давно интересуются. Ты, конечно, с Акымом потолковать должна, он тебе родня, а что касается нашей стороны, я ничего против не имею. — Это хорошо, что вы не против… — Ну так я скажу Клычу, чтоб приходил, — старик оперся руками в пол, собираясь подняться. — Всего тебе наилучшего, Дурджахан! — Будьте здоровы! Возле самой кибитки Солтанмурад-ага встретил Мелевше, приветливо поздоровался, окинул ее ласковым взглядом. Девушка встревожилась. — Мама, зачем дядя Солтанмурад приходил? — спросила она, еще не успев запереть дверь. — По твою душу, доченька. Сватать. — Как это — сватать! Мелевше оторопело взглянула на мать. — Как всех сватают. Семья Клыча прислала его замолвить словечко. Разузнать… Мелевше молча села в уголок и опустила голову. Мать глянула на нее разок, другой и поняла, что дело нечисто. — Чего это ты, милая, головку повесила? Разве плохого жениха тебе прочат? По мне, так лучше и не придумаешь. Гандым, сын Клыча, — первый жених в селе. — Да я и не говорю, что он плох, просто у каждого свой взгляд… — Вот оно в чем дело!.. И кого же твой взгляд приметил? Мелевше не ответила. — Мама, а что ты сказала дяде Солтанмураду? — Да что бы ни сказала. Раз нет твоего согласия, велю, чтоб не приходили родители. — Вели, мама! Обязательно вели! Хорошо? — Хорошо, доченька… Только ты уж тогда не таись от меня, скажи, кто тебе приглянулся. Мелевше молча поглядела на мать, вздохнула и снова опустила голову. Дурджахан молчала, но Мелевше понимала, что может обидеть мать, если будет скрытничать. Она открыла книжку, которую все еще держала в руке, вынула заложенное меж страничек письмо, протянула матери и быстро вышла из кибитки. Дурджахан начала читать, с трудом разбирая буквы. «Здравствуй, Мелевше — Фиалка, прекраснейший из цветов! Я сел писать это письмо, но сердце затрепетало, и карандаш запрыгал у меня в руках, и буквы лезут одна на другую… Первый листок я выбросил, начал писать снова, Не сердитесь, что буквы такие корявые и некрасивые, — все равно рукой моей водила любовь, искренняя и прекрасная. Мелевше! Вы родились, выросли в счастливое время, свежий ветерок свободы окропил нежные лепестки вашей души животворной росой: они никогда не поблекнут. И я счастлив, что родился в одно время с вами, что мне выпало счастье встретить вас на своем пути. Мелевше! Черная зима навсегда ушла из нашей земли, к нам пришла вечная весна, солнечная весна, сулящая щедрый урожай. Мы с вами — одни из первых плодов нового времени, новой эпохи, мы обрели духовную зрелость и свободу. Мы вольны распоряжаться своим будущим, своей свободой, своей судьбой! Я слишком многословен, Мелевше, наверное, у вас уже разболелась голова от моей писанины. И все равно я не высказал даже тысячной доли тех чувств и мыслей, которые переполняют мою голову, мое сердце… Сегодня я уезжаю в пески, а когда вернусь, мы должны встретиться, поговорить обо всем, все решить. До свидания, Мелевше. Письмо написал Сердар».Глава пятая
Стоял апрель тысяча девятьсот тридцать второго года. Покрытые изумрудным халатом весны пески разукрашены были пестрыми купами цветов, словно наряд молодухи, расшитый веселыми узорами. Впервые за много лет, которые провел он в духоте огромного города, добрался наконец Сердар до весенних просторов пустыни. Он стоял на высоком холме и жадно смотрел по сторонам. Хотелось увидеть все, все, хотелось раскинуть руки и схватить, обнять всю эту красоту, эту бездну цветов, хотелось бежать вниз и бегать, бегать до изнеможения, как в детстве, а потом броситься на роскошный пестрый ковер и валяться!.. Нет, валяться нельзя, жалко мять цветы, им и так недолго осталось красоваться… Сердар поглядел на север. До самого горизонта колыхалось алое море маков. По светло-синему небу, разбившись на стайки, плыли легкие белые облачка. Иногда Они вдруг закрывали солнце, на поле ложилась тень, и ярко-алая степь вдруг становилась темно-багровой. Потом солнце выскальзывало из-под облачной пелены, и степь опять была яркой, радостной, словно только что омытая дождем… Сердар долго стоял на вершине холма, упиваясь прелестью весенней степи, ароматом прозрачного легкого воздуха. — Подумать только! — вслух произнес он. — Мы сами, собственными руками губим эту удивительную красоту!.. И снова мысли Сердара устремились в русло, ставшее для них привычным в последние месяцы. Весенние травы ни в коем случае нельзя косить на сено, их овцы должны поедать на пастбищах. На этом корму должны они нагуливать жир на зиму. Запасать надо корм из колючки, жмыха, рубленого хлопчатника. То, что останется на пастбище, пусть сохнет на корню, от этого только польза. И пастбища надо использовать равномерно, нельзя стравливать овцам все подчистую, оголять пески… Сколько проблем! И самая главная из них — преодолеть многовековую инерцию, косность, научить чабанов думать по-новому, привить интерес к новым способам, новым формам ведения скотоводства. Каракуль — золото наших песков. Десятки миллионов драгоценных каракулевых овец могли бы мы выпасать на этих просторах, если бы берегли растительность, берегли природу Каракумов!.. Если вести овцеводство по старинке, если не решать главных проблем, ничего не достигнешь… Сердар спустился с холма. Он объехал уже немало отар и теперь приближался к отцовской. Перман так и остался чабаном, пристрастился к овцам, привык… Отца и его отару Сердар увидел еще невдалеке от стана. Перман суматошно метался средь широко разбредшихся овец. «Что ж это он один? — встревожился Сердар. — Где же помощники? Разве одному управиться в окот?» Сердар подошел к крайним овцам и издали крикнул: — Здравствуй, отец! Перман выпрямился, тельпеком вытер пот со лба и тяжело вздохнул. — Здравствуй, сынок! Вовремя подоспел, пропадаю! И он тут же бросился к новорожденному ягненку, который, едва встав на ножки, уже ткнулся мордочкой матери под брюхо. Чабан схватил новорожденного: «Баранчик!» Он хотел уже перерезать ягненку горло ножом, но заметил еще нескольких уже поднявшихся на ножки ягнят, намеревавшихся отведать материнского молока. «Прости меня, всеблагой!» — пробормотал Перман и, переломив ягненку хребет о коленку, побежал к другому. Это оказалась ярочка, она имела право жить, сосать материнское молоко — Перман отпустил ягненка. Третий снова оказался баранчиком, и Перман снова, чтоб не терять драгоценного времени, переломил ему хребтину. Четвертая была ярочка, Перман отпустил ее, выпрямился и оглядел отару. Сердар бегал между овцами, не подпуская новорожденных к маткам. Долго еще отец с сыном, как угорелые, метались среди отары, пока окот не пошел немного медленнее. Только теперь смогли они переброситься несколькими словами. — Где же твои помощники, отец? — А, лучше не говори, какие это помощники? Прислали в помощь двух стариков — чего они могут? Тут прыть нужна. Вчера еще не так часто котились, а сегодня будто прорвало их! В отаре-то больше тысячи. А не уследишь, пососет матку, считай брак — уже не та шкурка. Да что я тебе толкую, слава богу, сам знаешь эту премудрость!.. — Да где же все-таки помощники? — На стане. Один за поясницу держится, наломал вчера спину, у другого вроде бы жар… Они так ничего, стараются, да только хватило-то их на два дня. Сюда бы парочку молодых, крепких парней! — Молодые все на хлопке… — В том-то и беда, сынок. Хлопок — дело важное, зря говорить нечего, но неужто не видно начальству, что каракуль-то пропадает. А тут и дело всего на неделю, кончится окот, можно людей опять на поля перевести. А вот что мне теперь одному — не разорвешься ведь?.. — Чего же председатель-то думает? — Председатель! Его дело шуметь, когда шкурки идут не первосортные… Ну-ка, сынок, беги, еще один поднялся, под матку лезет! И надо ж, как устроено: нет чтоб погодить, родился — сразу сосать ему!.. Недолог был их разговор после многолетней разлуки — каждый побежал к ягненку. Ягнят было полно; черненькие, серенькие — поди разберись, который из них проверен, который — нет. Чтоб не дай бог не допустить баранчика к матке, Сердару иной раз приходилось трижды хватать одну и ту же ярочку и тут же отпускать ее. Очень быстро Сердар выбился из сил. Навыка у него в этом деле не было, ягнят немыслимо было различить, так во всяком случае казалось Сердару. Перман бегал меньше, потому что глаз у него был наметанный, зоркий. Он не только безошибочно различал ягнят, никогда не подходя дважды к одной и той же ярочке, Перману достаточно было взглянуть на тысячную отару, чтоб определить, не пропала ли какая овца, а если пропала, то какая именно. Но вот матки опять вроде немножко замедлили окот, и отец с сыном получили возможность поговорить. Не пойти к очагу, об этом не могло быть и речи, но хотя бы переброситься несколькими словами. — Благополучно ли добрался, сынок? — Все хорошо, папа. — Чего ж это столько времени не показывался? Письма писал, а сам не появлялся? — Так уж получилось… — Плохо получилось… Ну, стало быть, закончил свою учебу? Какую же специальность получил? — Зоотехник я. Скотовод. — Скотовод?! — Чего ты удивляешься, разве плохая специальность? — Не то чтоб плохая, да только зачем же для этого учиться? — Что ты, отец! Скотоводство — это целая наука! О нем еще столько книг напишут!.. — А что толку в книгах? Мало ли ты книг прочел за эти годы, а оставь тебя одного с овцами, что получится? Не знаешь небось, куда и гнать их… Сердар засмеялся. — Я смотрю, отец, не по душе тебе моя наука? — А что ж тут может быть по душе? Пятнадцать лет учился — и обратно в пески? Я вот нигде не учился, а какой ты чабан против меня? — Чему ж, по-твоему, надо было учиться? — Чему? А вот чему учился Кайгысыз Атабай?[6] — Большую должность не за одну учебу дают. — А я не про должность. Не обязательно, чтоб боль-шим начальником. Я про то, чтоб имя твое с уважением поминали, чтоб знали тебя люди, гордились, что ты из их рода. Вот говорят: Кайгысыз Атабай! Так же чтоб говорили: Сердар Перман! Но это я так, к примеру… Служащим бы стал, должность бы какую ни на есть получил бы! А то что? Учился, учился, сколько лет понапрасну сгубил, а все равно к чабанам, в пески… Конечно, Сердар мог бы красноречиво рассказать отцу о прогрессивных методах животноводства, поделиться с ним ближайшими своими планами и даже мечтами… Но что толку? Разве может человек, чья кожа продубилась от летнего зноя и зимней стужи, всю свою жизнь проведший возле овец, поверить в необходимость теплых домов и централизованной котельной? Не сумеет он в своем сознании связать одно с другим: котельные, работающие на газе, и рост поголовья овец… — Папа, ты знаешь, кто был Ленин? — Русский. — А по положению? По должности? — Ну… Он был повыше Атабая. — А что он делал? Чему учил людей? — Откуда мне знать, сынок? Одно скажу наверняка, не овец пас в песках… Вот учиться бы тебе тому, чему Ленин учился!.. — Отец, послушай! Ленин дал свободу всем людям. Ленин сбросил царя… — А царь нам ничего плохого не делал. Народ при нем был сыт. — Да разве дело в одной сытости?! За сорок лет царского владычества в Туркмении только двое туркменов получили высшее образование! А сейчас! Сейчас даже я, сын бедного чабана, смог кончить институт! — Толку-то в твоем институте! Чтоб овец пасти, не ученость нужна, навык нужен. И еще старание: настоящий чабан ни дня ни ночи не разбирает, он всегда на работе… Сердар не ответил. Бессмысленно: не понять им друг друга. Подошли те двое, что присланы были помочь Пер-ману. Отлежались, пришли в себя. Конечно, если пожилого человека поставить на такую сумасшедшую работу, он недолго выдержит… Перман с Сердаром отправились наконец на стан отдохнуть, попить чайку. Пока Сердар занимался чаем, Перман куда-то исчез и скоро вернулся, держа под мышкой небольшой сверток. Когда в шалаш, неся тунчу с чаем, вошел Сердар, отец достал из-под мышки две шкурки и отряхнул с них песок. — Погляди, нравится? — Хороши! — Настоящий сур — большая редкость! Наденешь ночью такую шапку, а она светится! В темной комнате искать не надо — сразу увидишь. Для тебя припас, сынок. Бог даст, женим в этом году. Наденешь на свадьбу. Приятно, когда на женихе тельпек из настоящего сура. — Шапка из сура — это прекрасно, но шкурки-то не твои. — А чьи же? — Колхозные. — Ну и что? Уплатим за них сколько положено. — Кому? — В колхоз. В кассу. — Так не разрешается, отец. Шкурки, все до одной, должны быть сданы государству. — Ничего, сынок, мы с председателем столкуемся. Он найдет способ. — Не имеет он права искать такие способы! — Сынок, не будь ты упрямым. Председатель все обделает по закону. Комар носа не подточит. Вон и он, легок на помине… — Перман засуетился, торопясь спрятать шкурки. — Чего это ты, отец? — Убрать хочу подальше. — Зачем? — Зачем, зачем… Глаза-то завидущие, а шкурки вон они какие! — Пусть лежат. Не тронь. Молла Акым соскочил с коня, вошел в шалаш, поздоровался. Шкурки он приметил сразу, на мгновение задержал на них взгляд. — Ну что, Сердар, все отары объехал? Как проходит окот? — Окот идет дружно. — Ну и слава богу! — Председатель сел, взял поставленную перед ним пиалу с чаем. — Сколько процентов каракуля дашь в этом году, Перман-ага? — На сколько аллах расщедрится, столько и будет! — Надо ему помочь, Перман-ага. — Больше, чем аллах определит, все равно не будет… Как бы ты ни старался, только он один может воздать за старание. Старания-то у нас хватит… — Перман-ага задумался, помолчал немножко. — Ты, Акым, дела нашего чабанского не понимаешь, думаешь: ходи за отарой, маши палкой — и вся премудрость… А ведь к каждой овечке свой подход нужен, особенно когда дело идет к огулу. У нас тут неподалеку от колодца небольшое пастбище есть, держим его нетронутым, бережем, чтоб, как подойдет пора огула, не утомлять овец, не гонять далеко от колодца. В эту пору мы не тревожим животинок, не кричим на них, палками в них не швыряем… Если, бывало, поднимутся вдруг ночью, не забегаешь вперед, чтоб повернуть отару да уложить, а идешь за ней следом. Спишь на ходу, а идешь. Всем ихним капризам потакали, чтоб только овцы у нас в настроении были… Ну а с погодой нам подвезло, зноя особого не было. Овцы были ухожены что надо. Идет животинка с водопоя, головой встряхивает, значит, весело ей, на душе легко… Вот так важная самая пора благополучно миновала. И зима дело не испортила, не тяжелая выдалась этот год зима. Думается мне, нынче и двойни будут не мельче, чем в иной год одиночки. Да и качеством не уступят. Мы, что могли, сделали, остальное — в руках аллаха… — Перман-ага скромно опустил глаза и выплеснул из пиалы остатки чая. — А как, двоен-то много в этом году? — спросил молла Акым и протянул руку к одной из принесенных Перманом шкурок. — Да случаются и двойни… — Что-то ты скромничаешь, Перман-ага! — Он не скромничает, — Сердар усмехнулся. — Он сглазить боится… — А чего бояться? — председатель погладил шкурку, поглядел ее на свет. — Если уж у овцы в брюхе двойня сидит, не может она одного выродить, другого себе оставить! — Есть двойни… — Перман-ага погладил бороду. — Есть или много? — не отставал от него молла Акым. — Много, много! — не выдержал наконец Перман, улыбнулся. — Вот, давно бы так! Чего скрывать-то? — Да не потому, что скрываю, а лишние это разговоры. Ягнят, их ведь не прибудет, не убудет от того, что Я хвастать буду! Все равно — все от аллаха. — Это ты зря, Перман-ага. Вот сказал, что двоен много, и у нас на сердце веселей! Жаль тебе, что люди порадуются? — Ну ладно, тогда радуйтесь! — Перман махнул рукой и улыбнулся. — Много в этом году двойняшек! — Я так и знал! О твоем отце, Сердар, книгу надо писать — об его опыте. Ведь это и правда целая наука — добиваться, чтоб овцы котились двойнями! — Председатель взял вторую из принесенных Перманом шкурок, долго переворачивал ее и так и сяк. Невозможно было определить ее цвет, шкурка переливалась, как муаровый шелк. — Слушай, Перман-ага, какая лучше? — Не знаю… Одна другой стоит. — Ну ладно, тогда пусть эта! — молла Аким запихал в хурджун одну из шкурок. — Ты бы, Сердар, тоже настоящей шапкой обзавелся! — председатель кивнул на шкурку. — Небось не хуже людей, чего тебе по пустыне в фуражке разгуливать? Ну, счастливо вам оставаться! Председатель вышел. Послышался заглушенный песком топот копыт, и Перман сказал: — Видал? Понял, про что я толковал? — Понял… — Хорошо хоть, только одну взял. Это он при тебе посовестился. — Никуда это не годится, отец! — А, сынок, не беда! Увидеть сур — все равно что райскую гурию узреть. Не может глаз человеческий равнодушно глядеть на такую красоту!.. — Пожалуй, это верно… — Сердар почему-то вспомнил Мелевше. Наверное, слово «гурия» напомнило ему о девушке.Глава шестая
Погода стояла пасмурная. Едва ощутимый ветерок доносил явственный запах осени. Темно-серые тучи плотно закрывали солнце, и в доме моллы Акыма было темно. Сердар сидел в углу, низко опустив голову, хмурый, сумрачный, под стать ненастному дню. Видно было, что и забот, и неприятностей у него хватает. Дойдук приходилась Сердару дальней родственницей, и сейчас, когда он стал зоотехником, видным человеком, она все чаще вспоминала об этом родстве, называла Сердара племянником и оказывала ему всяческое внимание. Последнее время она тратила массу усилий, чтоб заполучить для него Мелевше, но ничего определенного пока что ей добиться не удалось. Дойдук поставила перед Сердаром чайник, раскрыла скатерть с чуреками, положила в миску жирной каурмы. — Ешь на здоровье, племянник! — сказала она, а сама скромно уселась в сторонке с другим чайником. — Ты, бедняга, чего только не натерпелся с малолетства. Не поспал мягко, не поел сладко. — Это ты верно, тетушка, всякого пришлось испробовать: и горького, и соленого… — А помнишь, как тебя в кибитке замкнули, чтоб на учебу не сбежал? — Еще бы! — А ты ночью взял да вылез через верх! Ты отроду такой был: огонь-парень. — Так ведь другого пути-то не было. Набежала целая толпа родичей: не поедешь — и все! Когда они не нужны, они тут как тут! — Верно, племянник, верно. Как в сиротстве помочь вам, никого не нашлось, а тут коршунами налетели. Дай бог, чтоб не повторилось такое, чтоб не знать тебе больше худа, чтоб голова была гордо вскинута, миска чтоб до краев полна! Все у тебя образуется, племянник: вода, она покружит, покружит, а русло свое найдет. — Мне б его вместе с Мелевше искать… — Сердар застенчиво улыбнулся. — И Мелевше при тебе будет! — Ох, тетушка, неспокойно как-то. С весны дело тянется, а пока что ии туда ни сюда! — Не гневи аллаха, сынок. Как подойдет срок твоего счастья, так и соединишься с ней. Раньше, чем всевышним определено, никогда ничего не случается… Потерпи… — Терпеть я согласен. Знать бы только, что сбудется моя мечта, что не минует меня этот день. — Сердар вытер руки и отодвинул от себя миску. — Что ж мало поел? — Спасибо, тетушка, сыт… Ведь еще в чем беда: трудно мне с Мелевше сговориться. Я, можно сказать, и видел-то ее всего раз, как с учебы приехал. Два письма написал… А потом что? Одна нога здесь, другая — там… Приеду на день-два, попробуй повидайся с ней. Все кругом так и зыркают: как бы чего углядеть да посплетничать! — А надо поаккуратней, племянник. Так дела делай, чтоб комар носу не подточил. — Да мне-то, сказать по совести, плевать на все эти суды-пересуды! О Мелевше думать приходится… — Нет, племянник, ты уж поосторожней. Тесное кольцо надеваешь, всегда думай, как снимать. — Уж больно затянулось у нас со свадьбой… — Сердар сокрушенно покачал головой. — А тут еще беда на мою голову — орлов в песках появилось видимо-невидимо, только и знаешь по отарам гонять. Ни минуты свободной! — И что за орлы за такие? Давно уж о них речь. Неужто чабаны с ними не управятся? Сердар вовсе не расположен был рассказывать тетушке про орлов, поскольку мысли его заняты были совсем другим, но нельзя же обидеть человека, особенно если он обещает помочь в сватовстве. — Это, тетя Дойдук, так называемые орлы-могильщики. Огромные: размах крыльев — вот, если не больше! — Сердар широко раскинул в стороны руки. — Ты говоришь: чабаны их прогонят, да тут только зазевайся, такие и чабана унесут! Свирепые! — Спаси и помилуй, всеблагой! — Да, тетя Дойдук, это страшное бедствие. Налетают они тучами: сотня, может, две сотни! И ничем их не отпугнуть. Схватит когтями овцу, все — кишки наружу! А ягненок ему как коршуну цыпленок! — Спаси и помилуй нас, грешных! Да откуда ж они на нашу голову? — Кто их знает… Вообще-то этот вид орлов водится в песках, но такими огромными стаями никто никогда их не видел. Чабанам ружья пришлось раздать. Вот и езжу по отарам, акты составляю на убитых овец. И никак не вырвешься, никакой возможности в село приехать… — Ну теперь-то хоть побудешь немножко? — Немножко побуду. Уладили бы вы пока мои дела с Мелевше! — Сердар просительно взглянул наДойдук. — Прямо и не знаю, что тебе сказать… — Дойдук тяжело вздохнула. — Мелевше — девушка что надо. Ты тоже парень — загляденье. Кажется, жить бы вам да поживать да родителей своих радовать… Это Бессир вам все дело портит! Такая пройдоха: от семи мельниц воду отведет и все семь поломает! Дурджахан жизнь испоганила, теперь дочери ее век заедает. Они всем родом на том стоят, чтоб с Клычем породниться. Один председатель Акым-ага в сторонке вроде, не с ними он. Гандым-то, говорят, уперся: или, говорит, Мелевше, или совсем не хочу жениться! — Чуть вытянув шею, Дойдук взглянула в окно. — Вон, идет твоя ненаглядная… Не обманула. Ну, я пошла, вы уж тут сами давайте! — Дойдук поспешно выскользнула в другую комнату. — Здравствуйте! — сказала Мелевше, появившись в проеме дверей. — Здравствуйте, Мелевше, заходите! Девушка присела в сторонке. — Благополучно ли из песков вернулись? — помолчав, спросила она. — Спасибо, Мелевше, благополучно. А вообще — беда. Страшные хищники появились… Терзают отары. — Хищников везде полно, Сердар. Не только в пустыне. Дай им волю, всю кровь из тебя выпьют! Она сказала это с такой горечью, с таким отчаянием, что Сердар сразу представил себе Бессир в образе орла-могильщика. — Какое ей дело, этой хищнице, до нас с вами?! — Ну как же — калым! На остальное-то ей, конечно, плевать… Все уши отцу прожужжала: продать меня, а половину калыма — им! Только я думаю, что она на весь метит! — Но ведь вы же не согласитесь! — Конечно, не соглашусь. И мама не согласна. Я не скотина, чтоб продать меня и выручку поделить! И не конфета — купил и ешь на здоровье! Я — человек! — Да, Мелевше, вы человек! И человек рождается только один раз. Только один раз дается ему молодость. Это весна повторяется каждый год, а молодость безвозвратна. Уйдет, как караван, скрывшись за горизонтом, и ничего не поможет вернуть ее: ни слезы, ни раскаяния, ни сожаления… — Сердар опустил голову. — Зачем вы мне это говорите, Сердар? Я все прекрасно понимаю! — Хорошо, что понимаете, Мелевше. Хорошо, что вы решились противиться им. Но надо действовать, Мелевше! Наш путь к счастью будет нелегким, но нам придется пройти его весь, шаг за шагом… — Я знаю. И на пути наш караван за каждым холмом подстерегают разбойники. — Разбойники… Разбойники — для них похвала. Орлы-могильщики. Такие, как Бессир, продадут тебя, сожрут, что добыли, и будут преспокойно сидеть — отрыгивать! — Да, верно, она такая. Но отец!.. Зачем он мешает нам? Зачем преграждает мне путь к счастью? Ведь он уже виноват перед нами: он обездолил маму, при живом отце оставил меня сиротой… Что ему еще надо?! — на глазах у девушки выступили слезы. — Не плачь, Мелевше! Мать согласна, чтоб мы поженились? — Согласна. — И ты согласна. Все остальное за мной. Мы справим комсомольскую свадьбу и уедем в Ашхабад. Больше ни о чем не думай. Мы своего добьемся!Глава седьмая
С тех пор как яшули Солтанмурад впервые наведался к Дурджахан, прошло лето и большая половина осени. Со сватовством ничего не получилось. Дурджахан не велела приходить сватам. Клыч давно уже высватал бы сыну невесту в другом доме — за такого любая пойдет, — но Гандым уперся: «Кроме Мелевше, мне никого не надо». Видя, что сына не переупрямить, Клыч решил повременить с женитьбой сына; Мелевше выйдет замуж, парень смирится, успокоится и женится на той, которую высватают ему родители. И они потихоньку продолжали готовиться к свадьбе. Дурджахан они не беспокоили. Но когда Сердар вернулся из пустыни и слухи о комсомольской свадьбе стали упорнее, Гандым решил снова начать действовать. Почтенный Солтанмурад-ага вторично навестил Дурджахан. Старик встретил ее, когда женщина возвращалась а поля, и вместе с ней вошел в кибитку. — Ox-ox-ox! w прокряхтел Солтанмурад-ага, усаживаясь возле очага. — Вот уж истинно: старость не радость. И поясница разламывается, и силы в ногах никакой. — Года ваши такие, яшули, — степенно ответила Дур-джахан, чтоб поддержать разговор. — Никуда, видно, от них не спрячешься. Выпейте чайку! — Она пододвинула старику горячий чайник, который Мелевше, приготовив к ее приходу, заботливо накрыла влажной тряпкой. Старик оживился от запаха зеленого чая и, погладив чайник, трижды перелил чай из чайника в пиалу и обратно, хотя чай и без того прекрасно настоялся. — Недавно зашел я к Гандыму в лавку… Стою, полки разглядываю — чего у него только нет, у этого Гандыма! — и вдруг голос женский: «Салам!» Поворачиваюсь — дочь Горбуша! Ах ты, думаю, бесстыдница: «Салам!» Это мне, старику! Что, у тебя, у стервы, язык отвалится, если ты пожилому человеку, как положено, «Салам-алейкум!» скажешь? — Нравы меняются, яшули. И говорить стали иначе… Девушка не хотела вас обидеть. Она так привыкла в городе. — Пускай привыкла, но совесть-то у нее есть?! Стоит рядом со мной, прямо в лицо смотрит — даже не по себе стало, глаза опустил. Да, как говорится, из огня в полымя — платьишко на ней по коленку, будто ей от конного убегать… Икры голые, розовые — ну такой срам, сказать невозможно! Шариатом точно предписано: женская нога должна быть видна не выше щиколотки! — Солтанмурад-ага ухватился за бороду и сокрушенно покачал головой. — Разве молодые знают теперь шариат! — хозяйка чуть заметно улыбнулась. — Новые законы, новые порядки. Новому старое не нравится, старому новое не по нраву — один аллах знает, кто прав, кто виноват… — Нет, дочка, не скажи. Лучше наших порядков, которые от отцов и дедов нам достались, ничего придумать нельзя. Я прямо тебе скажу: оставь ты эту дурацкую комсомольскую свадьбу! Породнись с семьей Клыча, пока не случилась беда. И семья честная, и парень — лучше не бывает. А каким магазином управляет! Ни в чем твоя дочка нужды иметь не будет: кто мед в руках держит, тот и пальцы облизывает! Завидное родство, прямо тебе говорю. — Да я ведь никогда и не возражала. Семья прекрасная, дай бог такую родню. А только я дочку против ее воли отдавать не стану. Она и так судьбой обижена: осиротил ее Пудак Балда при живом отце. Пусть уж муж ей по сердцу будет. — Вот ты Пудака помянула, осиротил, мол, ребенка, а ведь, если рассудить, при добрых-то старых законах никакой беды и не было бы. Поставил бы твой муж рядом вторую кибитку, и жили бы все одной семьей! Сколько людей так-то жили по старым порядкам! — Чтоб они прокляты были, эти порядки! Разве это по-человечески — две жены! — Ничего тут плохого нет, дочка. Это все женская болтовня… Главное, чтоб муж уважал обеих, чтоб сыты были, одеты. Нет, Дурджахан, старые наши порядки — прекрасные порядки! Теперь рушится все, и совести у людей не стало. Ты, дочка, прими мой совет: бери калым, как положено священными нашими обычаями, и отдавай девушку в дом Клыча. Потом можно и комсомольскую свадьбу, это уж как пожелается… — Яшули! Мелевше в школе одной из первых была. Она учиться хочет, на доктора хочет кончить. Я ей перечить не стану. Сама всю жизнь в слепоте прожила. Если б я доктором была, стала бы я из-за какого-то Пудака Балды годами слезы лить?.. — Что-то ты не то говоришь, дочка… — То, яшули, то! Я ведь за Балду не по своей воле шла. Слезы глотала, а молчала: могла ли я родителям перечить? Так мои слезы всю жизнь и не просыхали. Зато калым хороший родители взяли! — Родители не желали тебе зла. Они поступили по обычаю. — О том я и говорю: плохой это был обычай! — Дурджахан! Что хочешь делай, но в город дочку не отпускай. Испортится. С голыми ногами ходить будет! «Салам!» говорить будет! — Эх, яшули, не то важно, каким словом сказано, важно, чтоб почтение было, чтоб от чистого сердца… — Дурджахан! Ты учти, Клыч за калымом не постоит. Какой ни назначишь, согласится. Не упускай свое счастье. Ведь только руку протянуть — и бери, сколько душе угодно! — Не угодно моей душе дочку продавать! Ни за какие калымы! — Но ты забываешь, что у девушки родня есть! Отец есть! Мы не позволим тебе устраивать эту комсомольскую свадьбу! Не затевай скандала, Дурджахан! — Отца у моей дочери давно нет! А скандала никакого не будет, если его родные подальше станут мой дом обходить. Вы пришли дать совет? Дали, а теперь вон ваши туфли! — Ты забываешься, Дурджахан! Я знаю, где лежат мои туфли. Я не из тех, кто снимает обувку у каждого порога! Старик стал красный, как свекла, длинная белая борода его задрожала. Не вставая с места, Солтанмурад-ага подвинул к себе туфли и стал надевать их. Быстро поднялся, пошел к двери. И едва не столкнулся с ворвавшимся в кибитку Пудаком. Видимо, тот стоял, подслушивал. Солтанмурад-ага молча отступил назад. Дурджахан не тронулась с места. Никто ничего не говорил, все молчали. Но это было жуткое молчанье — затишье перед бурей. Перед страшной бурей, которая поднимается всегда, когда одна огромная сила сшибается с другой, новой огромной силой. — Вот она! — дрожащим от ярости голосом проговорил Солтанмурад-ага. — Вот эта непутевая баба намерена осрамить весь наш род! Твоя девка, чтоб ей не родиться на свет, хочет спариться с этим выродком, сыном Пермана, и укатить с ним в Ашхабад! Ты отец — делай, что знаешь! Все гибнет: честь рода, обычаи наши, вера!.. — И, обеими руками ухватившись за бороду, старик вышел из кибитки. — Сиди! — грозно крикнул Пудак, надвигаясь на Дурджахан, хотя та и не думала двигаться с места. — Сиди, где сидела! Значит, комсомольскую свадьбу удумала! — А тебе-то какое дело? Кто ты есть в этом доме? — Мне нет дела до дочери?! — Нет у тебя никакой дочери! — Молчи, я выпью твою кровь! — Попил ты ее достаточно, больше не попьешь! — Молчи, паскудница! Душу из тебя выпущу! — Ничего ты мне не сделаешь. Кончилось твое время, Пудак Балда. Тронешь — под суд пойдешь! — А, законница стала?! Грамоте научилась? Газеты читаешь? Радио слушаешь? — Да. И грамоте научилась, и газеты читаю, и радио слушаю! — Заткнись! Замолчи, паскуда! — Я в своем доме. Не мило, не слушай — тебя не приглашали. Десять лет не показывался, а как калымом запахло, отцом решил стать? — Я всегда ей отцом был! Я дочери обновки покупал! Ты что, слепая: отрезов не видела? — Мог бы и не покупать своих отрезов — никто тебя не просил! Я на калым и то не зарюсь! Моя дочь за любимого выйдет, без всякого калыма. И свадьбу комсомольскую справлю, и на учебу ее провожу в Ашхабад! — А я тебе глотку перережу! — И близко не подойдешь! — Ну все! Хватит! Я от тебя избавлюсь, проклятая! — и Пудак бросился на женщину с кулаками. Дурджахан содрогнулась. Наверное, вся кровь бросилась Пудаку в голову, потому что глаза у него стали красные-красные. Ослепленный яростью, он был сейчас способен на все. — Стой, Балда! — услышал он вдруг за своей спиной и, обернувшись, увидел тетушку Дойдук. Уперев руки в бока, Дойдук презрительно смотрела на него. И Пудак сразу скис, опустил кулаки. Набычившись, исподлобья смотрел он на Дойдук. То ли он уважал эту женщину, то ли побаивался жены председателя, но только Пудак Балда отступил… Удивительные вещи происходят на свете. Так, например, птенец, вылезающий из яйца, мгновенно замирает, стоит ему услышать крик кобчика. Притаится в скорлупке и выжидает. Вот так и Пудак примолк, услышав грозный окрик тети Дойдук. Что уж там услышал он в ее голосе, но только сразу стал тихий, как птенчик…Глава восьмая
Хмурилось затянутое тучами небо. С севера дул холодный, пахнущий снегом ветер. Помещение, которое занимала партячейка, было довольно просторным, но не имело ни деревянного пола, ни потолка, и стоящая посредине железная печурка не могла обогреть его; было сыро и холодно. Однако ни холод, ни сырость не портили настроение секретарю партячейки Горбушу-ага, скорей всего, он даже и не замечал этих неудобств — как-никак седьмой десяток лет и в жару, и в трескучий мороз жил он в черной кибитке. Не больно грамотный, Горбуш-ага был человеком бесконечно преданным партии, настоящим честным коммунистом. Уверенный, что коммунист во всем должен быть передовым, примерным, Горбуш-ага первым в селе послал дочерей учиться, выдал их замуж без калыма. Сейчас он считал одной из главных своих забот комсомольскую свадьбу Сердара, всерьез занят был подготовкой к ней и именно в связи с этим делом и пригласил сегодня председателя колхоза Акыма-ага и секретаря комсомольской ячейки Хашима. Пудака Балду вызвали тоже, но с ним никто советоваться не собирался, Горбуш-ага намерен был говорить с ним иначе. Однако это вовсе не значило, что Горбуш-ага сразу начал с разноса, наоборот, он завел разговор издалека, вроде бы так, вообще… — Новое теперь настало время, новые у нас порядки, новые законы. Раньше не было ни колхозов, ни тракторов, ни плугов — каждый пахал свою делянку сохой, тащась за парой быков. В прежнее время в нашем селе хватало богатых людей, имевших по две-три жены. Советская власть сказала им: живите с одной, остальных отпустите. Они послушались, многоженство было ликвидировано. Потом мы лишили богачей избирательных прав, а потом и вовсе раскулачили и выгнали из села. Словом, эти самые что ни на есть уважаемые по прежним понятиям люди стали самыми неуважаемыми. Ленин предсказывал, что так будет, так оно все и вышло. Теперь дальше. Советская власть и наша рабоче-крестьянская партия запрещают продавать девушек. Это закон. За нарушение этого закона виновного судят и дают ему наказание. Тут все ясно, и никаких возражений быть не может. — Горбуш-ага закашлялся и кашлял очень долго. Успокоившись наконец, сказал: — Еще вот что я хотел сказать, товарищи. Есть у нас один старый, я считаю, отживший унизительный обычай — муж с женой с первой своей брачной ночи до смертного одра не зовут друг друга по имени. Спят под одним одеялом, голову кладут на одну подушку, растят детей, — словом, нет людей ближе, а по имени друг друга не зовут — стыдно считается. Он ей говорит: «Эй!», она ему: «Ай!» Куда это годится? Я считаю, вопрос этот надо поставить на ближайшем же партсобрании! Вот так, — Горбуш-ага вопросительно поглядел на председателя. — Поставим, — сказал молла Акым, слегка шевельнувшись на месте. — Тогда, стало быть, перейдем к главному нашему вопросу на сегодняшней повестке, — сказал Горбуш-ага и вздохнул. Пудак Балда беспокойно заерзал. — Значит, так, товарищи. Старые позорные обычаи отмирают, возникают новые порядки, новые обычаи. Раньше у нас было принято продавать девушек. Мы продавали своих дочерей, как скотину, как корову какую-нибудь. Нами, коммунистами, этот позорный обычай, можно сказать, изжит, сошел на нет. Я выдал обеих своих без всякого калыма. Акым — вот он сидит — подтвердить может. Наш положительный почин распространяется среди односельчан, среди товарищей колхозников. Вот, к примеру, Дурджахан, ударница, передовая наша колхозница, тоже намерена выдать дочь без калыма, устроить комсомольскую свадьбу. Мы со своей стороны — правление колхоза, партячейка — готовы оказать ей всяческую помощь, — Горбуш-ага снова бросил взгляд на председателя. — Да, — сказал молла Акым. — Комсомольская свадьба — явление положительное, и мы всячески — за. Соберем урожай и займемся. Я даже думаю, можно будет совместить эту свадьбу с праздником урожая. Нет возражений? Средства на свадьбу правление выделит. А комсомольский наш секретарь товарищ Хашим пусть побеседует в райкоме, как нам получше все устроить. Новая свадьба, она чтоб и по виду своему и по порядку от старой свадьбы отличалась… Я думаю, что, если не везти невесту, а пешочком? Впереди чтоб невеста с женихом, потом — девушки и молодухи, дальше — пожилые женщины, а под конец — мужчины пускай идут… Может, так? А еще лучше, если впереди свадьбы музыканты и плясуны — так, пожалуй, повеселей будет? А? Ну я думаю, по ходу дела можно будет внести уточнения, — председатель откашлялся и слегка кивнул Горбушу, давая знать, что кончил. Пока председатель говорил, Пудак молчал: как-никак председатель да и старший его родственник. Бесился, потом весь заливался, губы кусал, но заставил себя высидеть. Но как только молла Акым замолчал, Пудак тотчас поднялся. — Куда это ты собрался? — не глядя на него, спросил Горбуш-ага. — А чего мне здесь время терять? Я беспартийный, мне ваши разговоры ни к чему! — Раз вызвали, значит, к чему! Сиди и слушай. И отвечай на вопросы. На повестке дня комсомольская свадьба. Девушка согласна, мать согласна, старший ваш родственник, дядя твой Акым-ага, тоже согласие дал. Хотим получить твое согласие. — Моего согласия не будет! Мало девушек замуж выдают — и всех отцов в контору тащат?! Или решили, Пудак за себя постоять не сумеет? Что честь для него — пустое слово? — голос у Пудака задрожал. Сказать по правде, Горбуш-ага даже и не предполагал, что Пудак так рассвирепеет, что его так трясти начнет. Конечно, он понимал, что честь, позор — болтовня все это, слова красивые, а трясет Пудака Балду оттого, что калым может из рук уплыть. Но, даже поняв это, Горбуш-ага не стал употреблять грубых слов, называя вещи их настоящими именами — он попробовал успокоить Пудака: — Ты возьми себя в руки — мужчина все-таки… Одумайся, рассуди спокойно — что ты трясешься, как в падучей? А насчет чести старый Горбуш не хуже тебя разбирается, можешь не сомневаться. Что хорошо, то хорошо, а что плохо, то он хорошим не назовет, хоть золотом его осыпь! И знай, Горбуш не будет спокойно смотреть, как обижают слабого, как задевают честь беззащитного! Мы могли бы не советоваться с тобой, а просто обратиться к властям. Но из уважения к тебе мы пригласили тебя на наш совет. — Не нужно мне вашего уважения! И совет ваш мне не нужен! — Пудак снова вскочил с места. — Да, Пудак, трудно с тобой сговориться. То ли не понимаешь, где добро, где зло, то ли не хочешь понять… — В вашем добре и зле я разбираться не желаю! Хоть ты и старый человек, а я тебе это прямо говорю! — Не желаешь, не надо, значит, комсомольская свадьба будет без твоего участия, — Горбуш-ага снова взглянул на Акыма-ага. Председатель промолчал, только кашлянул и сел поудобней. Пудак, побагровел. — Я считаю… — начал было Хашим, но Пудак перебил его: — Помолчи! Не дорос еще, чтоб тебя слушали! — Больше он ничего не сказал и сел, опустив голову. Уговаривать его дальше смысла не было — всем стало ясно: Пудак не откажется от калыма. Горбуш-ага с грустью подумал, что никакого понятия о чести у этого человека нет, за хороший куш Пудак при всех своих понятиях пихнет родную дочь хоть собаке в пасть… Да, привыкли люди наживаться на продаже дочерей — веками так было принято, освящено законодательством — шариатом и неписаным законом-адатом; иному и впрямь нелегко отказаться от таких верных денег… Калым. Многозначное это слово. Толстое, большое, много — вот его значения. Много денег, много скота, много добра… Калым — это богатство, а люди привыкли, что богатство — это сила. Пудак был слишком примитивен, чтоб понимать, что существует еще другая великая сила — сила справедливости, сила правды. Всё, что говорил Горбуш-ага, лишь скользнуло по ушам Пудака, не запав в сознание; уши его, как плотным комком хлопка, заткнуты были словом «калым», пробить эту пробку Горбушу-ага было не под силу. И, поняв это, он повел разговор по-иному. — Несколько дней назад ты пришел к Дурджахан и устроил скандал, набросился на женщину с кулаками. Чтоб этого не повторялось — ясно? Не смей даже близко подходить к ее двери! — Пусть бросит возню с комсомольской свадьбой — и я не покажусь у ее кибитки! — Свадьба ее дочери будет такой, какой она хочет! Ты не имеешь права встревать. — Это почему же? Я что — не отец? Я не покупал дочери обновки? — Покупал, чтоб теперь требовать калым? — Я не про калым! Я — про дочь! — Дочь твоя хочет комсомольскую свадьбу. Это ее право. Закон на ее стороне. — Какой еще закон?! — Девушка имеет право выйти за того, кто ей по душе. — Нет! Моя дочь выйдет за того, кто мне по душе! Все девушки в селе выходят замуж как положено, а для моей особый закон придумали? Плевал я на этот закон! — Ну что ж… Придется к тебе самому применить закон. Пожалеешь… — А, вон ты что задумал? Обкулачить решил, да?! Мало ты по миру пустил?! — Пудак снова вскочил с места. — Садись, — мрачно сказал Горбуш-ага. — Кулаки здесь ни при чем. Речь идет о другом законе — девушек продавать запрещено. Ясно? Больше повторять не буду. И чтоб не подходил к кибитке Дурджахан. Пальцем ее тронешь — будешь иметь дело с властями! Понял? — Горбуш-ага внимательно поглядел в лицо Пудаку. Тот молчал, только желваки на скулах перекатывались. — Что молчишь? Понял, что я сказал? — Советская власть меня не тронет. Советская власть — справедливая. Я своему ребенку… — Ладно, об этом кончили! Не вздумай вмешиваться в свадьбу — пожалеешь, — старик помолчал, умеряя свой гнев, — он не любил говорить в запальчивости; потом обернулся к председателю: — Акым, а почему Пудак не работает в колхозе? — Спроси его! — Это дело председателя — спрашивать. — Я с ним не раз толковал. Предупреждал его. Не знаю я, что с ним делать: арестовать не могу, выселить не имею права. Вот он и бездельничает… — председатель сделал мрачное лицо и отвернулся. — Ничего… — медленно произнес Горбуш-ага. — Больше мы ему бездельничать не дадим. Мы его приведем в порядок. Отвечай, почему не работаешь? — Потому что вы меня с должности скинули! Без всякой вины. Я всегда план перевыполнял, лучшая бригада была… А вы меня сняли. Несправедливо это. — Значит, ты потому не работаешь, что с тобой поступили несправедливо? Слышишь, Акым? — Слышу. Он и раньше жаловался, что обидели. — Да, обидели! — выкрикнул Пудак. — Подумаешь, с женой разошелся! И не такие, как я, расходятся! Начальников небось за это с должностей не гонят!.. — Да… — задумчиво проговорил Горбуш-ага. — Значит, решил подражать начальству? Задумала ворона гусем пройтись, да хребет сломала. — Старик помолчал. — Выходит, не понял ты, почему тебя с бригадиров сняли? Планы ты выполнял, это верно, а вот молодежи в пример не годишься. Совесть человеческая, честь, про которую ты столько сегодня распинался, она важней всяких планов. План в этом году не выполнили, на следующий нагоним, а совесть люди потеряют — дисциплина в колхозе развалится, этого ни за год, ни за десять лет не наверстать! Вот так. А из колхоза тебя никто не прогонял — работай. — Кетменем в поле махать? И не надейтесь! — Кетменем не кетменем, а бездельничать тебе больше не придется. Базаром не проживешь. Не будешь в колхозе работать — выселим! — Я буду работать. Только не в колхозе. — А где — в наркомате? — Не ваше дело — где! В союз охотников вступлю! Осточертели вы мне все! Хочу, чтоб кругом меня одна степь была! Горбуш-ага с сомнением посмотрел на Пудака. Но возражать не стал. — Ладно. Отправляйся в пески, занимайся охотой, но здесь чтоб своих капканов не расставлял! К двери Дурджахан — ни ногой! Я все сказал. Ступай! Пудак рванулся к двери, как камень, выпущенный из пращи. Дверь широко распахнулась, и Пудак Балда едва не столкнулся с Сердаром. «Салам-алейкум!» — сказал Сердар. Что ответил ему в душе Пудак, не известно, но вслух он не произнес ни слова. Отвернулся и выскочил на улицу. — Заходи, Сердар! — приветливо сказал Горбуш-ага. — Улаживается понемножку дело. Думаю, что не подойдет к их кибитке. А вообще трудно надеяться — гнилой веревкой дрова перевязаны, — Горбуш-ага взглянул на председателя.. — Ничего… — Акым-ага слегка кивнул головой. — Ничего. Побоится нарушить. — Тогда, стало быть, надо готовиться к свадьбе. До праздника урожая осталось немного, а председатель предлагает свадьбу вашу на самый праздник устроить. Я поддерживаю. — Ну что ж, — приподнимаясь с места, сказал председатель. — Вроде все обсудили? Есть у тебя еще что, Горбуш-ага? — Задержитесь немножко, молла Акым! — попросил Сердар. — Есть один вопрос. И очень срочный! — Ну давай свой вопрос, — молла Акым со вздохом опустился на место. — Мне, товарищи, не дает покоя одно обстоятельство. Я и раньше об этом говорил, а сейчас зима вплотную надвинулась, снова приходится возвращаться… — А что пользы повторять? — перебил Сердара председатель, заранее зная, о чем будет речь. — Нужно наконец понять, Акым-ага! Вы должны согласиться! — Ну хорошо, согласимся мы с тобой. Сена-то от этого не появится! Но ты, между прочим, зря. Зря панику поднимаешь. Это ведь зоотехника у нас не было, а овцы-то всегда были. Семь тысяч. И ничего, обходились без сухих кормов. Обойдутся и теперь, при зоотехнике. Сердар покраснел. Доказывать, объяснять, убеждать не было никакого смысла. Это он делал уже не раз, начиная с первого их подробного разговора с председателем, когда после института он вернулся в село. Крикнуть молле Акыму, что он невежда, что ничего он не понимает в скотоводстве? Во-первых, грубость это, а потом председатель всегда отговорится — план по шкуркам выполняется, падеж не больше нормы… — Ну, чего молчишь? — Горбуш-ага сделал вид, будто не понимает, что творится в душе Сердара. — А что говорить? Сейчас овцы в порядке, в хорошем состоянии овцы. Но ведь идет зима — какая она будет? Если б у каждого колодца свалить по двадцать — тридцать вьюков верблюжьей колючки да уложить их подковой!.. И корм овцам был бы, и укрытие от непогоды… А сейчас что? Как в кости играем: чет, нечет… Повезет — выдержит скот зиму, не повезет — потеряем отары. Рассчитывать на увеличение поголовья… — Хватит, Сердар, Перестань ты нас пугать — не первую зиму зимуем. В Каракумах никто никогда не заготавливал корм впрок. Неужели ты всерьез думаешь, что можно заготовить корм для миллионов овец? — Можно. Можно, Акым-ага! Можно прокормить десятки миллионов овец! Если затратить труда столько, сколько требует гектар хлопчатника, мы на десяти гектарах земли вырастим корм для двух тысяч овец! Полная гарантия благополучной зимовки! — Это что, действительно так? — председатель взглянул на Горбуша-ага. — А что ж? Возможная вещь… Молла Акым задумался. Только поздно теперь было думать. Зима на носу, кормов никаких не запасено. Одна надежда, что минует беда, не опустит тебе на шею черную свою саблю…Глава девятая
Мать с утра ушла на работу, Мелевше осталась дома одна, сидела читала книгу. Потом отложила ее, задумалась… Даже если человек в зрелом возрасте, если впереди у него осталось меньше половины жизненного пути, он и то редко размышляет о прошлом, думы о прошлом — удел стариков. Мелевше была юна, и думала она о будущем. И конечно, ей виделось хорошее, доброе, только радость и свет. Она знала, что все не просто, но думать сейчас об этом не хотелось, хотелось помечтать о счастье. Сердар напрасно упрекал девушку в бездействии: в том, как решительно и непреклонно Мелевше стояла на своем, заключалось немалое и очень важное действие. Но черные силы, разбойники, подстерегавшие караван ее счастья, не дремали. Слишком близкой виделась им добыча, слишком просто казалось украсть мечты Мелевше, ее надежды, ее счастье и превратить все это в деньги — в калым. И вот в дверях ее кибитки опять появилась тетушка Аннабагт, жена того самого яшули, которому совсем недавно Дурджахан показала, где стоят его туфли. Старуха не сдается, она все еще надеется породнить Дурджахан с семьей Клыча. Причем ей-то калым ни к чему, эта действует из самых лучших побуждений. — Все ли у вас благополучно, милочка? — сладким голосом начинает тетя Аннабагт. Подавив вздох, Мелевше опускает глаза, чтоб старуха не увидела блеснувший в них гнев: гостья да еще старуха — придется принимать, — пододвигает тете Аннабагт чайник. — Вот, пожалуйста. Только что заварила. — Спасибо, деточка, да пошлет тебе аллах счастья, не буду я у тебя рассиживаться. Стало быть, кончила ты свое учение? — Школу кончила. Хорошо кончила. — А чего ж тогда опять книги читаешь? Не лучше ли вышивкой заняться? — Это не учебник, тетя Аннабагт. Это книга для чтения. Здесь рассказывается, как жили раньше туркменские девушки. Один бедняк выдавал дочку замуж, а бай со своими людьми налетел и украл ее! Бывало так раньше? — Еще как бывало! Да чего далеко ходить — твой дядя Солтанмурад разве не украл меня? — старуха покачала головой и глубоко вздохнула. — Страшное было время! — Да не скажи, доченька, всякое было: и белое, и черное… — Но что же хорошего, если девушку можно было украсть?! — Ну, милая… А сейчас зато честь забыли. Девушки учатся вместе с париями. Влюбляются, письма друг другу пишут. А потом кончат школу — и бежать с парнем! А как там отец с матерью, как родичи — им и горюшка мало! А ведь это позор — родичам своим в глаза плевать! — последние слова старуха произнесла с нажимом, помолчала и концом головного платка вытерла воображаемые слезы. — Не срами родичей, детка! Не заставляй до конца дней своих с опущенной головой ходить. Слышишь, доченька? Ну чем тебе сын Клыча не по нраву? Цветок — не парень. И в магазине работает. Как султанша есть будешь! — Не ради, еды человек живет, тетя Аннабагт. Ради счастья. — Да какое ж это счастье без хорошей еды? — У каждого оно свое, тетя… — Правильно, милая, правильно! Я что ж — счастья тебе не желаю? За вдовца многодетного сватаю? Ну скажи ты мне рада аллаха, чем этот Сердар, сын Пермана, превзошел Гандьша? И что тебя в нем прельстило? Ведь они ж бедняки, голь перекатная! Нет, видно, отвернулось от тебя твое счастье. Когда отворачивается оно, слепнет человек, не видит, с кем судьбу соединяет… Осел перед ним, а ему думается — скакун бесценный. Чудище смрадное, а ему мнится — ангел. — Каждый волен выбирать себе по душе. А ошибется, ему и каяться. — Нет, доченька, так говорить негоже. Если б за тебя подумать некому, а ты ведь не сирота безродная, отец-мать, родичи-наставники есть. Ведь они столковались уже с семьей Клыча. И калым взяли — уплачено за тебя немало. Знаешь, сколько отец, только на тебя одну из калыма того потратил? — Из какого калыма?! Какие траты? — Мелевше так и вскинулась, словно кошка дикая. Но хитрая старуха и виду не подала, что заметила. — Ну как же, доченька, неужто забыла, что тебе отец приносил? И бархат, и платки с бахромой, и ткани всякие, китени ручной выделки?.. Вот и я принесла, гляди-ка… А стемнеет, еще приволоку! Хе-хе!!.. — Не надо! Ничего мне не надо! Не приносите ни в темноте, ни на рассвете! Мне ничего не нужно от них! — вскочив с места, Мелевше села подальше от старухи. — Вы поглядите на эту дуреху! — тетя Аннабагт в сердцах вскочила с места. — Мяукает, как кошка: «Сердар! Сердар!», а чего он дался ей, этот голяк, и сама не знает! Не иначе, приворожил, как гиена? А все мать виновата: учить девку! Выучила! Майся вот теперь с ней! Старуха ушла, сердито хлопнув дверью. — Что им нужно?! Что им всем от меня нужно? — выкрикнула Мелевше, и слезы выступили у нее на глазах. — Продать! Деньги считать! Неужели отец и правда получил за меня калым?! Все равно! Все равно я уеду! Уеду! — Чего это ты тут сама с собой бушуешь? — Бессир заглянула в дверь и поставила на землю ведра — по воду она, видишь ли, шла, случайно заглянула. — Нет матери-то? Все хлопочет, комсомольскую свадьбу устраивает!.. Не понимает, глупая, в чем твое счастье! Хорошо, хоть не одна она у тебя, и без нее есть кому позаботиться. Как ты тут, моя хорошая? — Мелевше не поздоровалась с ней, даже не глядела в ее сторону, но Бессир была из тех, кому наплюй в глаза — божья роса; и виду не подала, что обижена таким приемом. — Слава богу, уладилось твое дело, деточка, столковались с семьей Клыча. Парень — цветок. Подарок с тебя за добрую весть! — Я бы тебе за твою весть отравы поднесла с удовольствием! Бессир — что, с нее как с гуся вода, мимо ушей пропустила. — Сердишься, дурочка, а ведь потом, как выйдешь за Гандыма, обнимать меня будешь, подарки дарить! Такой парень! И согласие полное, и рады все. Вот гляди, какие тебе отец украшения прислал, — где ни появишься, ахать будут! — Не надо! Унеси! Мне ничего не надо! — Ты что, милая, спятила! Это же тебе отец родной прислал с отцовской своей любовью. Мыслимо ли отказываться? — Не надо мне такой любви! — Это ты про отца такие слова?! Да ведь он любит тебя. День и ночь имя твое твердит. Родной отец! — Родной отец! Ты отняла у меня отца, сиротой меня сделала! А теперь полюбила вдруг — подарки носишь! Уноси — ничего мне от вас не нужно! Тут вместо позолоты — отрава! — и Мелевше отшвырнула серебряные с позолотой подвески. — Ты не больно-то задавайся! Самостоятельная стала?! Дождешься со своей самостоятельностью! — Бессир уперла руки в бока и, слегка раскачиваясь из стороны в сторону, угрожающе уставилась на девушку. — Уходи отсюда! — крикнула Мелевше. — Молчи, потаскуха! — Это ты потаскуха! Чужого мужа отбила! — Ха-ха! Я хоть в девушках скромной была. С каждым встречным-поперечным не любилась! Письма каждому не писала! — А кто это пишет? — Будто не знаешь? Да вас, развратниц, видно, для того и грамоте учат, чтоб вы писульки свои поганые маракали. То одному пишет — люблю, то другому — твоя навек! Гандым надоел, к Сердару откочевала?! Ничего, я Гандыму скажу, чтоб он Сердару глаза открыл. Они ведь с детства дружат, Сердар ему враз поверит! Он тебя, бесстыжую, выведет на чистую воду! Волей-неволей Гандыму достанешься. Хорошо, еще тот не откажется! Вот так-то! Будешь знать, как зазнаваться! — Клеветница… Лгунья… Бесстыдница… — едва не теряя сознание, твердила Мелевше побелевшими губами. — Никакой клеветы. Полюбуйся: вот от Гандыма тебе письмо, вот — от Сердара! Я их в вашем тайнике нашла, куда класть сговорились! — Не сговаривалась я с Гандымом! Нет у меня с ним никакого тайника! Ничего у меня с ним нет и не было! — Мелевше метнулась к Бессир, но та ловко сунула бумажки за пазуху. — Так я их тебе и отдам! Держи карман шире! Я их отцу твоему представлю. А может, и старикам! Еще помянешь меня добрым словом, красотка! И Бессир захохотала. Мелевше плотно зажала уши и долго сидела так, раскачиваясь из стороны в сторону, но отвратительный сатанинский смех бесстыдной лгуньи все равно стоял у нее в ушах. «Папа! Милый папа, как ты мог столько лет прожить с этим чудищем? Семиглавый змей сбежал бы! Я знаю, ты рвался от нее, ты хотел к нам, но она опутала тебя, эта жуткая, эта отвратительная паучиха! Что она плетет тебе про меня — страшно подумать! Не верь ей, папа! Не верь! Ты не поверишь, я знаю. Мы по-разному думаем, нас разному учили в школе, но ведь в моих жилах течет твоя кровь — твое сердце должно чувствовать то же, что и мое! Как ты мог взять калым?! Как мог продать меня, папа?!» Мелевше зарылась лицом в подушку и зарыдала. Она рыдала долго и безутешно. Она еще не успела вытереть слез, когда в кибитку вошел Сердар. — Мелевше! Что случилось? Поссорились с матерью? — Нет. Нет, Сердар. Просто… Все пропало, Сердар! — Не говори так. Не смей так говорить, Мелевше! Ты дочь свободной страны, и счастье твое в твоих руках! — Все это я знаю, Сердар. Но сейчас… Сейчас они затеяли такое… В погоне за калымом они идут на все, на любую низость! Они измучают, изведут меня! У меня нет сил сражаться с драконами злобы и подлости! Вон видишь, валяются побрякушки? Бессир навещала. Сколько она мне наговорила мерзостей! Если бы я могла!.. Если бы у меня хватило совести повторить!.. А перед ней эта старая ведьма приходила, тетушка Аннабагт. Целый час ругала меня последними словами. Сил моих больше нет, Сердар!.. Они столковались с семьей Клыча! — Твой отец получил калым? — Да, получил! Они решили мою судьбу! — И ты смирилась?! Зачем? Мы напишем на них заявление. Напишем, что твой отец продал тебя! — Но тогда его посадят, Сердар! Я не хочу, чтоб отец сидел в тюрьме! — Так что же? Пусть продают как скотину? — Нет! Я не хочу! Я не соглашусь! Я не знаю, что делать, Сердар! — Я тоже. Не знаю… — Сердар в отчаянии обхватил руками голову. — Неужели ты?.. Неужели наша любовь — ничто для тебя? Поплачешь и забудешь? — Что ты говоришь, Сердар?! Ты слышишь свои слова? Если бы ты мог заглянуть мне в сердце! Оно почернело от горя… — Мелевше снова закрыла лицо руками, рыдания душили ее. Сердар молча сел возле девушки. Он больше не возмущался, не утешал, не стыдил Мелевше — только сейчас он наконец понял, что случилось что-то очень страшное и никакие слова, никакие упреки не помогут… — Знай, Мелевше, — сказал он наконец тихо и нежно. — Я не остановлюсь ни перед чем. Я не отдам тебя другому. Когда тебя под свадебным халатом поведут в дом жениха и все кругом будут радостно шуметь, я брошусь к тебе и закричу: «Мелевше! Любимая! Стой! Не садись в свадебную повозку!» Я ухвачусь за полу алого свадебного халата, который накинут тебе на голову, и сорву его с тебя! Я отшвырну его в сторону и открою тебе свои объятья. Я погибну — беспощадный адат убьет меня своим разбойничьим кистенем. Но все равно — другому ты принадлежать не будешь! — Сердар! Пойми: я скорее умру, чем стану женой другого! Я ни за что не соглашусь. Я знаю: за нас власть, за нас наше время, нас есть кому поддержать. Но они, эти изверги, глумящиеся над нашей чистой любовью, они действуют не только силой — обманом, коварством!.. Ты знаешь, что говорила Бессир, эта гадина, эта гиена?! — Что она говорила? — Я не могу повторить. Я не только не произносила, я никогда не слышала таких ужасных, таких бесстыдных слов! Если бы ты знал!.. — Что бы я ни услышал, какую бы клевету ни распускали эти грязные люди, я ничему не поверю, Мелевше. Я знаю, что ты чиста, как цветок, как песок в Каракумах! Не отчаивайся, Мелевше, у нас такая могучая опора! Партия, советская власть! — Но мой отец! Отец! Как он мог предать меня?! Он так любил меня, когда я была маленькой! Брал меня на руки, гладил по голове, целовал… Я не хочу… чтоб… он… в тюрьму… — Мелевше снова зарыдала. — Он несчастный… Он не понимает, что делает. Эта ведьма околдовала его! Его надо уговорить, надо объяснить ему… Я не предам нашей любви, я не соглашусь на их свадьбу, но надо уговорить отца! Надо объяснить ему! Он любит меня! — Добрый, хороший, любит… — мрачно повторил Сердар. — И оставил тебя сиротой ради этой бесчестной, безжалостной, гнусной твари! Мелевше, что ты говоришь? — Он хотел взять девушку за руку, но та осторожно отняла у него руку, Сердар не стал удерживать теплую ладонь, только грустно взглянул на девушку. — Вот ты говоришь — плохой… — Мелевше взглянула на Сердара мокрыми от слез глазами. — А он… Он мне всегда покупал и платья, и сапожки. Видишь на мне китени — тоже он купил, я только ворот расшила узорами… — Китени, узоры — какая это все ерунда, глупость! Это не подарок, это обман, это средство повыгоднее продать тебя! Неужели, втыкая иголку в эту проклятую материю, ты не чувствовала, что каждый раз втыкаешь ее в мое сердце?! — Я знаю… Я понимаю, Сердар. Но я не знаю, что делать… Вот, Бессир принесла какие-то вещи, помоги мне передать их обратно. Унеси их! Я не могу видеть их. Унеси! Она быстро связала все, что принесла ей Бессир, и отшвырнула узелок к самой двери.Глава десятая
Собирался дождь, небо было сплошь затянуто тучами. Люди уже несколько часов работали в поле, а у Бессир даже постель была не прибрана. А ведь забот у нее в эти дни хватало, хотя в колхозе она не работала. Бессир тратила все силы свои, употребляла все способы — ночей не спала, придумывая очередную каверзу, — чтоб только расстроить свадьбу Мелевше с Сердаром. Злоба переполняла Бессир, сердце ее превратилось в комок ненависти — ненависти к Дурджахан. Да, да, не к Мелевше, непокорной и строптивой, не дающей ей захватить в свои руки калым, а к сопернице своей Дурджахан. Казалось бы, отняла у женщины мужа, отвадила его от прежней семьи — и успокойся наконец, угомонись! Нет. Теперь, когда Бессир поняла, что все ее старания расстроить комсомольскую свадьбу могут кончиться крахом и Мелевше уйдет из их рук, сердце Бессир лопалось от ненависти к Дурджахан и от жгучей зависти к ней. Вот и сегодня в ненастное, хмурое утро, когда жизнь и без того кажется немилой, а все неудачи — огромными и непоправимыми, у Бессир, придавленной собственной злостью, не было даже сил прибрать постель. Она потянула было за угол одеяла, чтобы свернуть его и убрать, но вдруг отшвырнула со злостью и забормотала сквозь зубы: — Комсомольскую свадьбу устроит… Вот, мол, какая я — всем наперекор иду. Мужа за человека не считаю! Зять — ученый, зоотехник, в Ашхабаде будет начальником… Дочь на доктора выучится, в белом халате щеголять станет. Ха! Посмотрим!.. Поглядим, голубушка, что у тебя из этого выйдет! В каменном доме жить собирается!.. В могилу лягу, а разрушу твои мечты! Не видать тебе каменного дома! Как месила всю жизнь кизяк, так и будешь его месить до смерти. Я тебе покажу!.. Я из твоей комсомольской свадьбы славные поминки устрою! Ты еще меня не знаешь! Ха, Гандым идет! Вот кстати, он мне как раз и нужен! Бессир быстро свернула одеяла, сложила их поверх других и, пригладив рукой волосы, приняла благопристойную позу. — Салам-алейкум! — почтительно приветствовал ее Гандым. — Заходи, заходи, милый! Гандым вошел в кибитку и, воровато оглядевшись, протянул хозяйке сверток в оберточной бумаге. — Это вам, тетушка Бессир! По правилам хорошего тона надо было бы взять его и, не разворачивая, убрать в сундук. Но Бессир не смогла одолеть своего любопытства — тотчас же разодрала бумагу. В свертке оказалась целая стопа шерстяных платков: красное поле, черное, голубое, зеленое!.. А какие цветы, какие узоры! Бессир так и засветилась улыбкой — ядовитый цветок тоже ведь умеет красиво распустить смертоносные свои лепестки… — Ну, как, тетушка Бессир, подойдет? — Гандым с довольным видом откинул назад волосы. — Да как же не подойти? Да что ж лучше-то может быть? Ой, чего только нет в твоем капыративе! Ладно, рассчитаемся из калыма! — Какие могут быть расчеты, тетушка? Это ж, можно сказать, дармовое, от бога… И потом, ничего мне не нужно, кроме Мелевше. Без нее мне весь мир не дороже вон той грязной щепки! — Гандым сделал грустное лицо и, достав из кармана расческу, тщательно зачесал волосы назад. — Ох, Гандым дорогой, хоть и нежный цветочек наша Мелевше, а на корню держится крепко — никак не вырвать! — Ничего, тетушка Бессир, одолеешь. Если уж ты не одолеешь, то и надеяться не на кого!. — Не получается никак, милый. Недавно донимала, донимала своего, отправила наконец кпрежней его бабе. Чтоб уломал он ее. И что ты думаешь? То ли она ему перечить стала, то ли грубость какую сказала, только рассвирепел он, скандал учинил… Потом в контору таскали, ругали, грозились под суд отдать! Он теперь прямо не в себе, не знаю, как и подступиться. Науськиваю, а сама вся трясусь… — Да, это дело опасное. Как бы твои науськивания против Мелевше не обернулись! — Нет! Тут будь спокоен. Дочку он и пальцем не тронет. Он очень на бабу зол — ну прямо кишки ей готов выпустить! А я его не больно утешаю — пусть! — Бессир многозначительно повела бровями. — Злей будет, больше добьется. Дурджахан мало интересовала Гандыма. Ненависти он к ней никогда не испытывал, наоборот, до самого последнего времени, как и большинство людей в селе, искренне уважал эту достойную женщину. И сейчас он никак не мог понять — чего она уперлась: мысль, что тетя Дурджахан просто-напросто предпочитала ему Сердара, не укладывалась в голове у Гандыма. — Так что же все-таки с Мелевше, тетя Бессир? — Да как тебе сказать? Кобенится девка. Я и сама к ней ходила, и тетю Аннабагт посылала. Ничего не получается. Боюсь, не сорвалось бы у нас… Ну а письмо? Показывала ты Сердару письмо? — Нет, пока не давала. Я Мелевше про твое письмо намекнула, так она в крик: «Ложь! Клевета! Обман!» И сразу реветь. — Ну зачем же ты так, тетя Бессир? Ей не надо было, Сердару надо показать. А она пусть бы даже и не знала. — Ничего, Гандым-джан. Пусть немножко подумает! Пускай знает, что и сливочное масло с грязью смешать можно! Заносится она очень со своей красотой. А пусть подумает, не отвернется ли от нее милый после такого-то! — Да в том-то и дело, тетя Бессир, что не отвернется он от Мелевше, хоть ты ее в свином помете вывози! И она от него по доброй воле не откажется. — Ладно, голубчик, ты уж предоставь это дело мне. Не учи старую лису хвостом след заметать. Сейчас только терпение: мы такой слух распустим, что Сердар ее дом за сто верст обегать будет! Тебе девушка достанется. Тебе! — Ладно, тетя Бессир, действуй! От моего имени давай, я, мол, сам хвастал! Позорь нас вместе — я согласен. Мне — что? Конфету я обсосал, могу и снова в рот сунуть. Старайся, тетя Бессир! Уладишь дело — весь кооператив твой! Вот такие крепкие и хитроумные силки расставлены были на пути Мелевше и Сердара, на их нелегкой дороге к счастью. То ли Бессир что-то почувствовала, то ли ей показалось, что за дверью подслушивают, но она вдруг перестала улыбаться, поднялась, выглянула на улицу и встревоженно зашептала: — Сердар идет! Давай уходи быстрей! Ты — сразу налево, он тебя не увидит. А потом, погодя немножко, возвращайся. Будто случайно зашел. Понял? Гандым проворно выскользнул за дверь. Сердар вошел, вежливо поздоровался. — Здравствуй, милый, здравствуй, — радушно приветствовала его Бессир. — Как поживаешь, сынок? — А, все в порядке, спасибо. — Проходи, сынок, я чайку заварю. — Спасибо, я не могу задерживаться. Я вот только принес. — Сердар аккуратно положил в сторонке сверток, завернутый в газету. — Это то, что вы приносили дочери вашего мужа… Бессир в бессильной злобе прикусила губу. Как хотелось ей отругать парня, излить на него всю свою желчь! Но Сердар был сама деликатность, сама воспитанность, и это заставило Бессир сдержаться. — Если они хотели вернуть, зачем было тебя затруднять? — Да какие тут труды, тетя Бессир? Мне по дороге было, вот я и захватил. — Ну это другое дело. А я уж думаю: все тебя так уважают, а им — мальчик на побегушках! — А хоть бы и так, тетя Бессир! Мне не трудно, я молодой. — Ну уж нет! Такого парня с посылками гонять! Мелевше вообще-то тебя недостойна! — Это почему же? — А, лучше не спрашивай! Зачем от меня плохое слышать? Как говорится, взойдет луна, все увидят! И тебе не линовать — не слепой ведь. Сердар ничего не сказал. Снял шапку, держа ее одной рукой, другой пригладил волосы. Конечно, не для того, чтоб при хорошиться. Скорей всего, он даже и не заметил своего жеста. А может быть, жест этот помог ему скрыть гнев. Но как ни сдерживался Сердар, светлое его лицо потемнело, померкло… Бессир поняла, что попала в цель. Надо было и дальше бить в то же место. — Ты ведь у нас образованный, ученый — гордость наша. Да и на облик твой аллах не пожалел благодати. В такого любая влюбится! Конечно, красотой аллах и Мелевше не обделил — зря говорить нечего. Только… — Бессир огляделась по сторонам и перешла на шепот. — Она ведь тут, пока ты в Ашхабаде учился, с разными парнями… Вот гляди: Гандым ей велел передать. Только упаси тебя бог, чтоб не увидал! Читай! А я погляжу, нет ли кого возле дома…«Здравствуй, дорогая моя Мелевше! Неужели правда, что ты остыла ко мне, забыла наши клятвы и обеты? Если ты разлюбила меня, я смирюсь, лишь бы из твоих прекрасных глазок не выкатилось ни единой слезинки! Но я беспокоюсь за тебя, любимая. Что ты ответишь Сердару, когда впервые останешься с ним наедине? А со мной, и только со мной тебе нечего стыдиться, предо мной ты чиста. Если дело только в комсомольской свадьбе, пусть будет комсомольская, мне все равно, лишь бы ты была довольна, моя любимая. Подумай, Мелевше. Еще раз подумай, дорогая. Потом будет поздно, и я ничем не смогу тебе помочь. Твой Гандым». Сердар весь взмок, читая это письмо. Он сунул бумажку в конверт, хотел положить за пазуху, но тут вдруг в дверях появился Гандым. — Входи, Гандым, входи, дорогой! — запела Бессир. Парень сделал вид, что смутился. — Я, кажется, помешал, тетя Бессир. Сердар читал какое-то письмо, а как я вошел, спрятал его. Видимо, у вас секреты. Я лучше в другой раз… — Оставайся, — не глядя на Гандыма, с трудом произнес Сердар. — Какие у нас с тетей Бессир могут быть секреты? — Ну как же? Ты, говорят, жениться собираешься? — Собирается, — не дав Сердару ответить, вступилась Бессир. — И берет девушку без калыма. Комсомольскую свадьбу хочет устроить… Гандым усмехнулся: — Ну что ж, без калыма, конечно, выгоднее. Только, как говорится, бесплатно и в Бухаре ничего не дают, а девушки у нас последнее время что-то цену потеряли… Конечно, деньги целее, вот только наварист ли суп из дармовой баранины? — Гандым! Да что это за слова за такие? — затрепыхалась Бессир. — Мелевше — невеста на зависть! — А я разве возражаю? — Гандым усмехнулся. — Повезло Сердару! Такая невеста — и даром! Может, и мне высватаешь что-нибудь в этом духе? — Дай срок, и тебе высватаю, — Бессир повела бровями. — Теперь этого товару хватает… У Сердара потемнело в глазах — оба, и Гандым, и Бессир, открыто глумились над ним. Отвечать или не отвечать? Говорить им о чести, о совести, о несправедливости?.. Нет, это не тема для разговоров с ними! От Бессир он ждал и не такого, знал, что эта алчная баба на все готова ради денег. Но Гандым? До чего ты дошел, Гандым? А ведь когда-то были друзьями. Ты тоже учился в школе, был комсомольцем… Любовь толкает тебя на подлость? Нет, ни за какие сокровища мира человек не станет позорить любимую! Ты не влюбленный, Гандым, ты самый обычный расчетливый негодяй! Сердар не сказал им ни слова. Он даже не попрощался. Ушел, и все. Гандым и Бессир растерянно глядели друг на друга, не зная, что сказать. Опять их план провалился. Бессир не сомневалась, что, сведя здесь соперников, она добьется скандала, соберет людей, а дальше… Дальше все пойдет как по маслу. А Сердар просто взял и ушел. Про письмо даже не помянул, хотя любой человек на его месте обязательно поднял бы шум. Поведение его было настолько странным, настолько непонятным, что заговорщики заподозрили, нет ли у него за спиной какой-то особо прочной, надежной и неизвестной им опоры. Выйдя от Бессир, Сердар вначале шел очень быстро, потом задумался и зашагал медленно. Он думал не о себе и Мелевше и даже не о том, как поступить ему с письмом Гандыма. Сердар шел и вспоминал, как, будучи студентом университета, нередко спорил с сокурсниками о том, какой будет жизнь в ближайшие годы. Восторженный, увлекающийся, он всегда доказывал друзьям, что стоит только научить людей грамоте, привить им элементарные навыки культуры — и старое отступит перед необоримостью новой жизни, народ станет сознательным и культурным. За все годы учения Сердар ни разу не приезжал в село. Вначале он очень скучал и по бабушке, и по отцу, и даже по Мереду, но, обиженный тем, что, не желая отпускать его на учебу, родичи, как теленка в хлеву, заперли его в кибитке, он не хотел наведываться к ним, не являлся даже на каникулы. Потом Сердар привык, и ему уже начало казаться, что гораздо полезней провести время в библиотеке — так много надо было прочитать, узнать, чем без толку шататься по селу. Так или иначе дома он не был много лет и о том, что происходит, знал главным образом из газет. Он знал, что в деревне полным ходом идет культурное строительство. Открываются школы, библиотеки, клубы. Газеты и журналы, выходящие на родном языке, почти полностью распространяются в селе. Получая все эти сведения, Сердар думал, что темнота и бескультурье исчезли, пропали бесследно, как исчезает бесследно впитавшаяся в песок вода. Когда же, вернувшись в село, Сердар стал внимательно вглядываться в происходящее, он понял, что с внедрением новой культуры все обстоит гораздо сложнее. Неподалеку в поселке белуждей недавно отстроены были новые дома с полами, потолками, окнами… На праздники состоялось торжественное вселение. Но жить в новых домах белуджи не стали: они пустили в эти помещения скотину, а сами по-прежнему располагались в кибитках. Дома им были предоставлены бесплатно, а ведь пройдет время, и совсем немного его пройдет, и дети этих людей будут тратить большие деньги на строительство таких домов. А пока… Комсомольцы разрушили мечеть, но старики и даже не очень старые люди начали молиться дома, молиться еще усерднее, причем число верующих отнюдь не уменьшилось. Сердару даже показалось, что, как говорится, огонь стал жарче, просто дыму меньше. И понял он, что старый, веками формировавшийся уклад жизни не рухнет бессильно, уступив место новому укладу, что даже у древней, казалось бы, вот-вот готовой развалиться стены, обнаруживается подчас достаточно прочности, чтоб простоять еще полвека, хотя рухнуть она может в любой момент. Такая вот, подточенная временем, готовая рухнуть стена таит в себе страшную опасность. Ее обязательно нужно разрушить, свалить, но делать это надо осторожно, умело, обдуманно, чтоб не было жертв при ее падении. Мало того, рушить ветхую стену нужно так, чтоб лучшие, целые и прочные ее кирпичи можно было заложить в фундамент нового здания. Все это будет, все придет, все постепенно изменится. Но, может быть, не надо торопиться и с калымом, он сам изживет себя? Нет! Здесь никаких уступок! Нельзя ждать, пока люди сами разлюбят деньги, откажутся от легкой наживы. Калым ведет к преступлению. Бессир и Гандым уже встали на путь преступления — на путь клеветы и подлогов. Для того чтобы получить калым, Пудак пойдет на все — он не остановится и перед кровавым злодейством. Мелевше в опасности! Мысль эта вдруг со всей беспощадной ясностью предстала перед Сердаром. Он резко остановился. Надо сейчас же идти к Мелевше! Сейчас же! Он повернул, зашагал к ее дому. Достал письмо Гандыма, снова прочел его, уже не наспех, как читал в присутствии Бессир, а медленно, вчитываясь в каждое слово, впитывая в себя яд, которым напоены были эти подлые строки. Сердар перечел письмо и понял, что не хочет, не может идти к Мелевше. Он весь вдруг обессилел, словно чистый источник любви, дающий ему великую силу стойкости, оказался запруженным грязью и илом. Хорошо, если в этом письме все ложь. Все — от начала до конца. А если не все? Если хоть что-то, хоть малая часть того, на что намекает Гандым, было? Если он сейчас придет к Мелевше и протянет ей это письмо? Что она скажет? Что сделает? Какое у нее будет лицо? А вдруг?.. Вдруг ей нечего будет сказать, нечего возразить и она молча разрыдается? Нет! Глупость это. Подло так думать о Мелевше! Подло подозревать ее, все это клевета, злобная гнусная клевета! С помощью логики Сердару удалось изгнать из сердца сомнение, убедить себя, что письмо Гандыма — интрига, ложь от начала до конца. И все-таки он не свернул к Мелевше, не нашел в себе сил пойти сейчас к ней.
Вскоре после того, как Бессир проводила озадаченного Гандыма, пришел Пудак. Как был, прямо в овчинном полушубке, свалился в угол. Лежал не шевелясь, подперев рукой голову. Если б не частые горестные вздохи, прямо окаменел человек. Что творилось в душе у Пудака, какие бури бушевали в его черном сердце, известно было лишь ему да аллаху… Бессир придвинула к себе один из чайников, стоявших у огня, и, обернувшись к мужу, сказала: — Пей давай! Перестоит, горький будет, как отрава! Пудак не ответил, даже не шелохнулся. Но Бессир хорошо изучила мужа и безошибочно знала, когда и как надо с ним разговаривать. Сейчас было самое время растравлять его. — Чего задумался? Ишь мыслитель… Толку от твоих мыслей ни на грош! Видал, подарочки твои? Вернули. Зять твой образованный принес. Сам виноват: не сумел себя поставить, чтоб уважали… Сколько девушек замуж выходят, даже и имени их никто не слышит, а твоя девка у всех на языке! В контору зовут! Отчитывают, как мальчишку! В прошлом году учитель девушек в город возил. В мяч, говорят, играли под сеткой. А кругом мужики городские стояли да в ладоши хлопали! Срамота! А ты ничего — спустил. Вот они и поняли, что из тебя веревки вить можно… Пудак, не меняя положения, молча повел на нее злым глазом. — Не зыркай так — я дело говорю. Комсомольская свадьба… Ты, дурень, и правда небось веришь, что она дочь задаром отдаст! А она уж давно все сполна получила: и деньги, и вещи! Эта баба хитрей сатаны, так тебя окрутит, что и не заметишь! Знать не хочет! Обижена, что бросил ее! Шуточки все это! Обойдет она нас, змея, заберет весь калым, а для вида комсомольской свадьбой прикроется! Вошла соседка, поздоровалась. Пудак даже бровью не повел. Даже не ответил на приветствие. Шуршащие пачки денег, такие милые, такие желанные, все дальше и дальше уплывали от него…
Глава одиннадцатая
Дрова были сыроваты и сильно дымили. Кибитка быстро наполнилась едким черным дымом. И хотя Сердар полжизни своей провел в черной кибитке и привык к дыму очага, он раскашлялся до слез. «Придет время, — думал Сердар, — и не будет черных кибиток, люди будут жить в светлых домах с большими широкими окнами, но до тех пор придется еще нам поглотать дыма… Не задохнулась бы моя Мелевше в клубящемся зловонном дыме вековых обычаев. Что, если ее оплетут сетью интриг, паутиной угроз и я не смогу освободить любимую? Ведь даже я на минуту, пусть на долю минуты, но все же усомнился вчера в Мелевше, читая письмо Гандыма. Интриганы действуют так хитро, так ловко… Ведь за любовное письмо нельзя привлечь к ответственности, да и не понесу я его в сельсовет, они это прекрасно знают. Они все рассчитали. Наши враги сейчас сильнее нас с Мелевше. Их поддерживают многие. В каждом доме есть девушки на выданье, и родители давно уже подсчитали, как и на что потратят калым, который получат за дочку. Если мы устроим комсомольскую свадьбу, если Дурджахан не возьмет калыма, молодежь захочет подражать, и многие родители лишатся больших денег…» Тревога, неотступная тревога овладела Сердаром. Она заслонила небо, она надвинулась на него, как туча надвигается на солнце, плотной тенью накрывая пасущуюся в песках отару. Он не мог больше оставаться в кибитке, не мог бездействовать. Но куда идти? С кем посоветоваться? Решил — к тете Дойдук. У того места, где он когда-то подрался с Гандымом, оторвавшим головку птенцу, Сердар остановился. Маленькая Мелевше с полными слез глазами, дрожащими тоненькими ручками державшая обезглавленную пичужку, встала вдруг перед его глазами… Если бы сейчас все можно было решить дракой! Уж он бы не дал Гандыму спуска! А как чешутся руки! Как хочется измордовать мерзавца, объяснить ему, чего он стоит! Да ведь не ухватишь его — хитер, в открытый бой не вступает, действует исподтишка, тайком… Какой-то мужчина прошел мимо, поздоровался, Сердар кивнул машинально, но даже не понял, кто это был. Он шел, глядя себе под ноги, и хотя голова его занята была мыслями о любимой, не мог не отметить, что поземка усиливается, что, если к вечеру ветер не утихнет, ночью быть буре. Ему вдруг представилась зимняя пустыня; на огромных, диких ее просторах бушует метель, воет ветер, белая мгла закрыла горизонт, отары овец мечутся, пытаясь найти спасенье… Жалобно стонут под порывами вьюги кусты, клонятся к земле кривые стволы саксаула… Так было всегда, десятки, может быть, сотни веков… Иногда скотоводам каким-то чудом удавалось уберечь скот и в такие вот вьюжные студеные зимы, но чаще всего отары гибли и после такой зимы целые толпы людей оказывались нищими. Сердар увидел тетю Дойдук, с охапкой дров входившую в дом, и мысли его от вековых проблем скотоводства снова переключились на здешние сегодняшние дела и обстоятельства. Следом за теткой Сердар вошел в дом председателя. Приветливая хозяйка сразу же заварила чай, поставила перед ним чайник. Разговор поначалу шел о том о сем, и Сердар затосковал — он мог думать и говорить только о Мелевше, а тетя Дойдук как назло молчала о ней. Самому начинать такой разговор было неловко, оставалось надеяться, что болтливая тетушка в конце концов все равно дойдет и до Мелевше. Ждать и правда пришлось недолго. — Ну, когда свадьбу свою справляешь? — спросила тетя Дойдук. — Справим, тетушка, обязательно справим! — Сердар улыбнулся. — А чего тянуть-то? — озабоченно сказала Дойдук, словно бы и не заметив его улыбки. — Свалить с плеч, да и дело с концом. — Я бы и сам рад поскорей, да вот Горбуш-ага с председателем решили, чтоб на праздник урожая. Я согласился, что я могу сказать? Да и народ сейчас не собрать — все на хлопке. А ведь свадьба-то у нас особенная, комсомольская, — нужно, чтоб побольше людей было… — Это все верно, сынок, только… — Что только, тетя Дойдук? — А то, что Бессир около этого дела крутится. Да и Гандым время зря не теряет. Справить бы поскорей твою свадьбу, спокойней бы на душе было. — Ну, а что они могут сделать, тетя Дойдук? Ведь обе стороны согласны! — Не знаю, милый, не могу вот так вдруг сказать, чего опасаюсь, но сердце у меня не на месте. От Бессир всего можно ожидать, кроме пятикратного намаза… В кармане пиджака у Сердара все еще лежало письмо Гандыма; когда тетя Дойдук помянула Бессир, Сердар вдруг почувствовал острую боль в груди, будто письмо это скорпионом ужалило его. Он сам не заметил, как сморщился и закрыл глаза. В дверях появился хозяин Акым-ага. Прошел в передний угол, снял с себя пальто, накинул на плечи полушубок. По тому, как медленно и тяжело он двигался, видно было, что председатель здорово устал. — Чаю дать или ужинать будешь? — спросила тетя Дойдук. — Если заваренный есть, дай лучше чаю, — сказал Акым-ага и со вздохом опустился на ковер. — Что это ты сегодня в конторе не показывался? — спросил он, взглянув на Сердара. — Не смог я сегодня зайти. Не получилось. — Дома тебя тоже не было. Я посылал. — А что, дело ко мне? — Дело… Конечно, дело. Погода-то видишь какая? — Вижу. Может, еще ничего… Может, распогодится… — Может, и распогодится, а скорей всего, нет. Сейчас тебе возле скота надо быть. При отарах. Сердар ничего не ответил. Думали они об одном и том же: что будет, если снег зарядит на несколько дней, плотным слоем укроет землю, а мороз не даст ему быстро растаять?.. — Если снегопад надолго, без заготовленных кормов пропадем… — не удержался Сердар и пожалел об этом — лицо у председателя пошло красными пятнами. — Неужто не надоело тебе одно и то же талдычить? — Акым-ага выпрямился резким движением. — Корма, корма, корма!.. Думаешь, никто, кроме тебя, не понимает, что хорошо иметь в запасе сено. Не можем мы его заготовить! Не имеем возможности! А от болтовни толку мало, — председатель пододвинул к себе чайник. — Дайте мне тогда хоть нескольких человек в помощь. В бурю вдвоем не управиться! — Где я тебе возьму людей? С хлопка снимать? Затихнет чуть, сразу всех в поле, нераскрывшиеся коробочки собирать. План-то еще не выполнили. — По каракулю тоже план будут спрашивать… — Будут! Сам знаю, что будут. Всю душу вытянут. А что я могу сделать, если сейчас только одно твердят: хлопок, хлопок, хлопок! А мы и так затянули с уборкой… — «Хлопок», «план», «уборка»! — тетя Дойдук сердито махнула рукой. — Жениться парню возможности не даете! Опять его в пески угоняешь! Давно бы уж сыграли свадьбу, и ехал бы со спокойной душой… Молла Акым поглядел на жену и усмехнулся: — Думается мне, вовсе ты не о Сердаре печешься. Украшениями позвенеть не терпится? Это мы спим и видим хлопок, а у вас, женщин, свои заботы… — Во сне они его видят! Будто от этого план быстрей будет! Я ведь не шучу: Пудак Балда такое может устроить!.. — Она резко двинула головой и тут же, подхватив борук, — свалившийся назад от этого движения, сердито нахлобучила его на лоб. — Брось, жена, придумываешь невесть что! Мне бы твои заботы!.. Вернется Сердар из песков, сыграем свадьбу. Пудак, он хоть и Балда, а не без хитрости, себе во вред ничего делать не станет. Под суд идти никому неохота. Председатель налил себе вторую пиалу и перевел разговор на другое. Сердар встал и, попрощавшись, вышел. Надо было идти к Мелевше, но, прежде чем повернуть к ней, Сердар долго стоял в нерешительности. Каждый раз он делал это с трудом, преодолевая невольное смущение, лишний раз на собственном примере убеждаясь в живучести старых представлений о нравственности и морали.— Здравствуй, Мелевше! — Здравствуй, Сердар, заходи! — Матери дома нет? — Нет. Оба молчали. Они только смотрели друг на друга, но взгляды их были намного красноречивее слов. Если бы только хватило у них смелости хоть на миг постоять так, глаза — в глаза, не отводя взгляда! Не могли они этого, стыдились. Оба чувствовали, что, стоит им только начать этот безмолвный, но такой страстный, такой горячий разговор, незримая сила толкнет их друг к другу — и между ними совсем не останется расстояния… — Я уезжаю… — сказал Сердар. — Куда? — В пески. — А когда вернешься? — Как буря. Если уляжется, через день-два вернусь. — И опять что-то больно кольнуло его в сердце. Сердар вздохнул, достал письмо и, глядя девушке прямо в глаза, сказал: — Мелевше, милая, я должен показать тебе одно письмо. Иначе… Иначе я просто не могу уехать! На, прочти! Мелевше читала письмо Гандыма, а Сердар жадно смотрел ей в лицо, следя, что на нем отразится. Мелевше читала спокойно, только в одном месте вдруг сжала зубы и повела головой, словно ей стало душно. Дочитала, опустила голову и замолкла. Видно было, что ей стоит большого труда не расплакаться. — Сердар, — сказала она тихо каким-то усталым, безразличным голосом. — Неужели ты не можешь понять, что для меня нет человека по имени Гандым? Если б я была цветущей камышинкой и порыв ветра унес бы с меня тысячи пушинок, ни одна из них не опустилась бы на голову Гандыма! — Мелевше устало прикрыла глаза, и из-под опущенных век ее выкатились две слезинки. — Мелевше! — воскликнул Сердар. — Милая Мелевше! — Он хотел обнять девушку, но она отстранилась мягким движением. Письмо Гандыма упало на кошму. Сердар схватил его и сунул в очаг. — Вот мой ответ на твои слова, Мелевше! Пусть так же сгорят все наветы, все сплетни! Они смотрели, как корчится в огне обгоревший листок бумаги, и думали о том, что как было бы прекрасно, если б все, что мешает их счастью, вот так же обуглилось бы и превратилось в прах…
Глава двенадцатая
После того как Пудака вызывали в контору и ругали, он ходил сам не свой, пришибленный какой-то. Бессир без конца зудила, зудила, ни днем ни ночью не давая ему покоя, но ее голос, то злобный, то жалобно-ноющий, уже перестал восприниматься Пудаком. Только иногда он вдруг приходил в ярость и набрасывался на жену. Бессир уже испробовала много способов разладить свадьбу Сердара с Мелевше, но пока что ничего у нее не получалось. Оставалась последняя надежда — старая бабушка Сердара, тетя Аннабиби. Старухе шел уже восьмой десяток, но, выросшая на молоке и простокваше, она была хоть и сухонькая, но крепкая, да и разумом пока что не слабела. Бессир знала, что тетя Аннабиби — старуха упорная, с характером, нужен был умелый подход. Но за этим дело не стало: подходы да подвохи — это было как раз по части Бессир. Она отправила к старухе мужа, а сама спряталась за стенкой кибитки — подслушивать, как идет у них разговор. Пудак вошел в кибитку, поздоровался. Тетя Аннабиби встретила его приветливо, пригласила поближе к очагу, но Пудак сказал, что садиться не будет, и пристроился на корточках недалеко от двери. Не зная, с чего начать, Пудак довольно долго сидел молча. Потом откашлялся и завел такую речь: — Тетя Аннабиби! У нашего народа есть порядок, доставшийся нам от отцов и дедов. И порядок этот не нарушают ни те, кто выдает замуж дочь, ни те, кто приводит в дом невестку. А ваш Сердар проучился где-то без году неделю, умный стал чересчур и хочет все наши порядки порушить. Вы что, не можете приструнить парня? Бабушка решила, что Пудак предлагает справить свадьбу по старинному обряду, а потому ответила ему спокойно и печально. — Знаешь, сынок, — сказала она, — мне и самой больше по душе, если б устроить все по обычаю. Да ведь молодые не больно-то с нами теперь советуются… — Тетя Аннабиби вздохнула и отложила в сторону прялку. Злой, раздраженный, все эти дни не знающий, на кого наброситься, Пудак весь вдруг побагровел. — А вы с кем советовались?! — выкрикнул он. — Вы, старый человек, знающий обычай, с кем вы сватовство вели? Когда сговор был, когда барана резали? А? Скажите, я послушаю! — Аллах милосердный! — прошептала тетя Аннабиби, видя, что Пудак весь дрожит от ярости, и в испуге взялась за прялку. — Мы с Дурджахан обо всем договорились по-хорошему… — пробормотала она. — С Дурджахан?! — снова крикнул Пудак. — Почему с Дурджахан? А я? Кем я прихожусь девушке? — Ты? Раньше отцом ей приходился. Потом бросил своего ребенка и стал никто. — Врете! Я как был ей отцом, так и остался! И я вам говорю: с сегодняшнего дня чтоб даже не подходили к Дурджахан, все дела со мной! Отсчитаете калым, принесете — и забирайте невестку! С матерью ее я сам рассчитаюсь, мне чужого не нужно! Понятно? — Чего же непонятного… Только нет у меня денег, чтоб тебе отсчитывать. — А нет денег, пускай твой внук городскую себе ищет! Там этих голоногих полно — даром никто не берет! А к Дурджахан не ходите — это мое последнее слово. Не послушаете — хуже будет! — Ты чего это расшумелся? — ворвавшись в кибитку, Бессир грозно ринулась на мужа. — Дурджахан ему не по зубам, так на старого человека набросился! Иди к своей бывшей, с ней шуми! Ишь обозлился как! Из-за этого проклятого калыма совсем рассудка лишился! Аннабиби, обрадованная неожиданной поддержкой, прерывисто вздохнула и крепко сжала в руках прялку. Бессир искоса глянула на старуху и, видя, что все идет, как задумано, еще крепче стала наседать на Пудака: — Мало ли что случается, так сразу и орать? Позоришь себя только! Иди домой, гость пришел. Тут тебе делать нечего! — Смотри, старая! — проговорил Пудак, поднимаясь. — Я еще превращу вашу свадьбу в поминки! — Иди, иди! — проворчала ему вслед Бессир. — Развоевался! Если желчь взыграла, на бывшую свою ори! Никто тебе не позволит свадьбу в поминки превращать! — и она вытолкала мужа из кибитки. Пудак ушел. Видимо, у них с Бессир было заранее разучено, кто что скажет, когда кому приходить и уходить, но Аннабиби ничего этого не подозревала. Теперь, когда Пудак наконец ушел, она сидела как оглушенная, уставившись в одну точку старческими выцветшими глазами. И не было у нее сил не то что прялку крутить, даже и пальцем шевельнуть. Старая Аннабиби многое повидала на своем веку. Прекрасно знала она все правила сватовства и свадебного обряда. И когда дело велось как положено, по привычному, издревле заведенному уставу, все получалось легко и просто, как выдернуть волосок, попавший в тесто. А вот комсомольская свадьба, сватовство без калыма — в таком деле ей никогда принимать участие не приходилось. Но, несмотря на все свои сомнения, старуха была до смерти рада, что удалось высватать внуку девушку задаром: денег-то на калым нет и не будет. К тому же все вроде бы устроилось, все шло так ладно, по-хорошему, а вот явился этот Пудак Балда и словно камень навалил на сердце. Не выдержало старое сердце — бабушка Аннабиби заплакала. Бессир, зорко наблюдавшая за старухой, поняла, что подошел самый главный момент. — Милая моя свекровушка! — со слезой в голосе начала она, обнимая старушку. — Вытри ты свои глазоньки! Не стоит он, дурень, ни единой твоей слезиночки! Не плачь, моя милая, не плачь, моя славная!.. — Бессир концом старухиного платка вытерла ей слезы. Бабушка Аннабиби, утешенная этой неожиданной лаской, вместо того чтобы перестать плакать, совсем расслабла и залилась в три ручья. Бессир возликовала — дело шло как по маслу. — Не плачь, дорогая моя свекровушка! Этот Пудак Балда, чтоб ему пусто было, чем людей расстраивать, шел бы к своей Дурджахан! Пускай сидят да судят-рядят, куда опозоренную девку девать!.. — В этом месте Бессир вдруг умолкла, словно спохватившись, что сказала лишнее, а сама искоса глянула на старуху. Слова «опозоренную девку» произвели на бабушку Аннабиби прямо-таки магическое действие. Слезы ее сразу высохли, рыдания прекратились, губы поджались — перед Бессир сидел совсем другой человек. Это было как раз то, чего она добивалась. Теперь, скорбно опустив голову, Бессир ждала, когда бабушка Аннабиби начнет ее расспрашивать. Аннабиби вытерла мокрое от слез лицо, взглянула на Бессир и, поднеся ко рту левую руку, спросила: — Ты сказала — «опозоренную». Это почему такие слова? — О господи, да перейдут на меня твои недуги, дорогая свекровь, я ведь давно собиралась сказать, да как с такой новостью придешь — ноги не идут. Вот уж зашла за Пудаком. Придется, видно, сказать… — Говори! Говори! — Аннабиби обеими руками схватила Бессир за плечи. — Вы же знаете, дорогая свекровь, как я вас уважаю! Я вас за близкую родню почитаю, никогда и по имени-то не назову, а только «свекровь». Вам в руку заноза попала, а мне на другом конце села больно — вот как я вас люблю! Легко ли мне дурные-то вести вам нести? — Говори! — простонала старуха. — Говори, не мучай меня! — Скажу, дорогая свекровь, скажу! Пускай уж лучше один раз сердце переболит, чем потом всю жизнь маяться! Не знаю только, как и начать… — Бессир все прекрасно знала, и как начать, и как кончить. Она видела, что старуха запутана в сетях ее хитрости, как муха в паутине, что ей уже не выбраться, и наслаждалась муками своей жертвы. — Вот, к примеру, решил бы ваш внук жениться на городской с голыми ногами?.. — Спаси и помилуй, боже!.. — Да! Да, милая свекровушка, пришло время аллаха призывать — одно дурное со всех сторон. Призывайте его, призывайте! — Да куда уж больше призывать — и так покоя не даю. Пять раз в день на намаз становлюсь, прошу его благоволения! — Вот, стало быть, и внял всевышний вашим молитвам, прислал меня к вам от позора спасти. — Да что ты все твердишь: позор, позор, а в чем дело, не говоришь! — Да язык у меня не поворачивается! Одно скажу: пока не поздно, откажитесь от сватовства с тем домом. Девушка опозорена! — Чем опозорена?! — Не спрашивайте, милая свекровь, не спрашивайте, откажитесь, и все! Чтоб локти потом не кусать. — «Чтоб локти потом не кусать»… — пробормотала старуха, и голова у нее закружилась, земля поплыла из-под ног. Она закрыла глаза, пригнула голову, прислонилась горячим лбом к коленкам и так застыла, безмолвная. Бессир выждала некоторое время, спокойно наблюдая, — может, Аннабиби не слышит ее, и, убедившись, что старуха не потеряла рассудка, а просто потрясена, заговорила тихо и вкрадчиво: — Милая вы моя, уж как я вам предана — жизнь готова отдать за каждый ваш седой волосок!.. Прямо вам говорю: не горюйте, не травите старое свое сердце — дело-то поправимое, вода еще через край не перелилась. Бросить это проклятое сватовство, и все станет на место! Гордо будете голову седую носить, бабы на каждом углу шептаться да осуждать не будут… Старуха давно уже поняла, что ей предстоит услышать о будущей своей невестке такое, что разрушит все ее надежды, все мечты. — Говори, молодуха, — сказала она слабым голосом, подняв на Бессир красные сухие глаза. — Говори, не мучай! В чем ее грех? — Не скажу, милая свекровь, и не просите. Люди скажут, а у меня язык не повернется! Порасспрашивайте на селе, все знают, вам только говорить опасаются, знают, что внук ваш больно к ней пристрастился. Сами подумайте: ну с чего бы Дурджахан даром отдать такую красавицу? А она не то что без калыма, она ее хоть сейчас за дверь вытолкать готова! Потому что дольше дома держать — поздно выдавать будет! — зловещим шепотом прошипела Бессир и сделала вид, что прислушивается — не идет ли кто мимо кибитки. — Спаси и помилуй, боже! — в ужасе воскликнула Аннабиби, и слезы опять полились из ее глаз. — Не плачьте, дорогая свекровь, — Бессир и сама всхлипнула, она чуть ли не верила в то, что так хорошо придумала. — Благодарите аллаха, что узнали вовремя… — Да это понятно, голубка, это так… Великая тебе благодарность, что упредила. Только ведь у нас уж все сговорено было. Думала, чего уж лучше — без калыма-то. А оно вон как обернулось… Ведь если калым платить, Сердар у нас еще пять лет холостяком проходит. Как женили Мереда, до сих пор в долгах по уши… — Что делать, милая, что делать? Женить всегда тяжело, это уж испокон веку. А то возьмет да приведет городскую! Тогда уж любые деньги дал бы откупиться, да поздно будет! Тетя Аннабиби горестно вздохнула. — Не тужи, дорогая свекровь. Я для тебя расстараюсь — племянницу свою высватаю. Девушка — прямо красотка, а сестре моей втемяшилось в голову за ученого ее пристроить, так она, можно сказать, даром отдаст. Ей лишь бы жених был ученый! — Вот это дело было бы! Ты уж постарайся, милая, порадуй старуху, а то прямо ума не приложу… Простодушная старуха поверила каждому слову Бессир. А выяснять подробности — не до того было сейчас бабушке Аннабиби, потрясенной неожиданно свалившейся на нее бедой. — Ну, мне идти пора, — сказала Бессир, поднимаясь. — Не горюй, дорогая моя свекровь. Насчет сватовства не сомневайся: я тебе помогу. Можешь считать, что невестка уже сидит у тебя в углу! В дверях Бессир столкнулась с женой старшего внука Аннабиби, вкратце сообщила ей то, что так подробно расписывала старухе, и, очень довольная успехом своего предприятия, отправилась восвояси. Бабушка Аннабиби и молодая жена Мереда долго сидели у очага, горюя о том, что так ладно устроившееся сватовство неожиданно расстроилось. Ни одна из женщин не высказала сомнения в справедливости слухов, которые принесла Бессир. Это не имело значения, правда или не правда: раз про девушку идет дурная молва, это уже не невеста, никто не согласится привести в дом ославленную. Вьюга становилась все сильней, все громче завывал ветер, сотрясая ветхую кибитку. Торопливо вошел Сердар. — Вот наказанье на нашу голову! — сказал он, отряхивая снег с шапки. — Как бы не потерять отары?.. Бабушка молча поглядела ему в лицо, вздохнула и сказала, крепко сжимая свою прялку: — Присядь-ка, сынок, разговор есть. — Может, когда вернусь? Я очень спешу, бабушка, зашел только попрощаться. — Нет, детка, потолкуем, и поедешь со спокойной душой. Тут долгого разговора не будет, дело ясное. — Ну давай, — Сердар со вздохом опустился на кошму возле бабушки. — Вот что, сынок. Конечно, достатка у нас нет, и взять невестку без калыма было бы великой удачей. Но, как говорится, хороший курдюк в песках не бросят, — раз отдают девушку без калыма, значит, дело нечисто. Отказываться надо нам от сватовства. Пойти к Дурджахан и сказать: решили, мол, отказаться. Такое мое к тебе слово, сынок, — и старуха обеспокоенно взглянула на внука — чего-то он вроде и не удивился. Сердар понял все с первого слова. Понял, что Бессир или Гандым уже успели побывать у старухи и оплести ее клеветой. Он видел, что старуха всерьез обеспокоена, и то, что она говорит сейчас, кажется ей единственным выходом из положения. Агитировать старуху за новый быт и новую мораль — по меньшей мере бессмысленно, да и не было у него сейчас на это времени. Просто отмахнуться от нее — «что возьмешь с глупой старухи?» — для этого он был слишком деликатен и слишком любил свою бабушку. Нужно было уладить конфликт, но каким-то способом, доступным ее пониманию. — А почему же все-таки нужно отказываться от сватовства? — спросил Сердар, продолжая думать о том, как ему уговорить бабушку. — Не спрашивай, сынок, пожалей меня, старую! Ты Мелевше любишь, и мне тяжко сказать о ней дурное слово. Одно тебе говорю — давай откажемся от сватовства, не годится она нам в невестки… — Может быть, ты и права, бабушка, но я хочу знать, в чем дело? Хочу узнать причину, по которой я должен отказаться от Мелевше. — Не могу я тебе сказать, не пытай меня. Сердар посидел, подумал… — Тогда давай так, бабушка: отложим разговор до моего возвращения… — Нельзя, милый! Дело срочное — ни на один день откладывать нельзя! — Бабушка, к тебе Бессир не заходила? Не от нее ты узнала эту новость? — От нее, сынок. От нее. — Так неужели ты не понимаешь, что все это — клевета, вымысел? Что у них в этом деле свой расчет? — Пускай клевета, пускай вымысел! Ничего я толком не знаю — греха брать на душу не хочу! Бессир наврала — ее грех, а только все равно: раз девушка опозорена, нам такая невестка не нужна! Пусть за ней денег дадут еще на один калым, я на нее и глядеть не стану! — старушка опять заплакала. Положение осложнялось. Сердар прекрасно понимал, что ни брат, ни невестка не поддержат его, они будут на стороне бабушки. А если бабушка тут без него намудрит и откажется от сватовства, Мелевше может оскорбиться. И вообще дело может обернуться так, что Гандым, так много потрудившийся над организацией всех этих интриг, будет вознагражден за свое упорство — он подхватит Мелевше так же ловко, как лягушка хватает на лету комара. Ничего не оставалось, как изменить тон и резко поговорить с бабушкой: — Значит, давай так решим: будешь ждать моего возвращения. Без меня… — Нет! Нет! Нет! — закричала Аннабиби и начала бить кулаками по кошме. — Бабушка, если ты будешь стучать кулаками по полу и кричать: «Нет!», а я буду стучать кулаками и твердить: «Да!», мы с тобой ни до чего не договоримся! — Нечего нам договариваться! Ноги этой девушки не будет в нашем доме! — Бабушка, ты поступаешь несправедливо. Ты берешь на себя великий грех, возводя напраслину на чистую, как цветок, девушку! — Нет на мне никакого греха! Грех на том, кто сплетню пустил! Пускай она чище воды родниковой, не могу я принять ее в дом, раз она ославлена по всему селу! А ты глуп еще, не понимаешь, что самому потом маяться! Всю жизнь ходить будешь с опущенной головой! Ясно было, что бабушку не переубедить. Виновна Мелевше или не виновна — это для нее дело десятое. Главное — о ней идут сомнительные слухи, толки, такая девушка в невестки не годится. Когда он говорил с Мелевше о том, что они должны быть готовы к схватке с разбойниками, подстерегающими караван их счастья, он никак не мог предполагать, что одним из самых сильных его противников неожиданно окажется любимая его бабушка Аннабиби, готовая вырвать из груди свое сердце и отдать ему. Что ж получается? Выходит, ему вообще не на кого опереться. Председатель Акым-ага с виду вроде бы и не против, а кто знает, что у него на душе? Как он себя поведет, неизвестно. Вот на старого Горбуша-ага можно положиться; хоть и неграмотный он человек, а новой жизни предан всем сердцем и справедлив, честен — да болен старик, лежит дома, нельзя его сейчас беспокоить. Сердар долго сидел, погруженный в раздумья, не зная, на что решиться. Наконец прибежал мальчишка. — Сердар! Тебя ждут — ехать пора. Сердар тяжело вздохнул и поднялся. — Ну вот что, бабушка. Я уезжаю. Пока не вернусь из пустыни, к Дурджахан ни ногой! Если ты объявишь, что мы отказываемся от сватовства, если ты сгубишь мое счастье, ты никогда меня больше не увидишь. А умрешь — не приду на поминки! Ничего больше не добавив, не взглянув на плачущую бабушку, Сердар быстро вышел из кибитки.Глава тринадцатая
Одним из самых опытных и умелых чабанов в округе, Перман-ага в поисках тучных пастбищ нередко угонял отару далеко от стана. Так случилось и в тот день, когда поднялась метель. Перман-ага как раз отогнал отару на равнину довольно далеко от песков. Как только небо нахмурилось и началась поземка, Перман-ага тотчас повернул отару к пескам — среди барханов можно хоть как-то укрыть овец. А метель между тем набирала силу. Все крупнее лепились снежные хлопья, все яростнее завывал ветер, сотнями холодных игл впиваясь в овечьи морды. Когда встречный ветер достигал такой силы, не спасала даже густая шерсть. Замедляя ход, овцы начали жаться друг к другу. Приближалось самое страшное — Перман-ага старался не думать об этом, хотя и понимал, что это неизбежно: не выдержав встречного ветра, отара повернет и тронется по ветру. Овцы сразу же пойдут ходко, чуть не бегом, и вскоре более слабые начнут отставать и одна за другой падать, чтобы больше уже не подняться. Отара повернула и двинулась по ветру. Теперь чабану оставалось одно — идти или бежать за отарой, куда бы она ни шла, даже если перейдет границу. Попытки повернуть ее бессмысленны — опытный чабан не станет и пытаться, этим можно добиться лишь одного — раздвоить отару, а тогда половину овец придется бросать на произвол судьбы, чтоб спасти хотя бы остальных. «Святой Муса, покровитель овец! Приди на помощь! Помоги уберечь отару!» Перман-ага сбросил сшитую из кошмы бурку, положил ее на ишака и в одном халате, по колено проваливаясь в снег, бросился догонять овец. Мерзнуть можно, а вот потеть — нет; вспотел, ослаб — все, упадешь, заметет снегом, и не найдут. Отара шла ходко. Обе собаки, скрытые от чабанаметелью, трусили по бокам, Перман-ага, задыхаясь, ковылял сзади. Он не отставал ни на шаг. Он сам не понимал, откуда у него брались силы. Ему даже удалось слегка повернуть отару, с равнины загнать в пески. Но эти пески не могли спасти овец. Барханы стояли голые, здесь все было вырублено — саксаул и кустарник, из этих мест было всего удобнее возить в город дрова… Отара прошла по краю песков и выкатилась на такыр. Здесь, на ровном месте, овцы пошли еще быстрее. «О святой Муса! Спаси моих овец! О аллах, дай мне силы не отстать от отары!» Видимо, святой Муса услышал мольбы чабана, потому что Перман-ага по-прежнему не отставал от отары, иногда чуть не вприпрыжку догоняя ее. Овцы начали падать. Одна за другой, одна за другой… Пытаясь хоть немножко сдержать ход отары, заставить передних двигаться медленнее, Перман-ага, забыв о благоразумии, забежал вперед. И сразу случилось то, что должно было случиться: отара начала раздваиваться, как рогатина. «Святой Муса! На помощь! Хоть ту, левую половину заворачивай! Я отсюда буду!» Перман бросился в обход той половины отары, что забирала вправо. Но овцы, отбившиеся влево, бежали и падали, падали, а те, что оставались на ногах, все больше уходили влево. Вмешательство святого Мусы заметно не было, а вот Ёлбарс и Атбилек действовали успешно. С помощью собак Перман-ага сбил наконец отару воедино и снова пошел за ней. Чабан своими глазами видел, что соединить овец помогли ему собаки, однако нисколько не сомневался, что это святой Муса руководил действиями Ёлбарса и Атбилека и, оказав тем самым помощь ему, Перману, устремился к другим отарам, к другим чабанам, терпящим такое же бедствие. Но даже если бы собрать отару не удалось, Перман-ага все равно был бы уверен, что помочь в пустыне может только святой Муса. Не помог, значит, не смог, не управился — очень уж много людей и скота нуждаются сейчас в нем. Отара все больше растягивалась в длину, в снежной мгле не видно было ни конца ее, ни начала. Она давно уже двигалась без передышки, и слабые овцы все заметнее отставали от передних, более сильных и выносливых. Но и те, что возглавляли отару, и те, что плелись в конце, двигались до последней капли силы, до последнего своего дыхания. Они словно понимали, что если упадут, то уже не встанут. Овцы падали все чаще и чаще. Перман-ага, ослепленный белой мглой, видел лишь тех, что были перед ним, но он знал, что падают и передние — он то и дело натыкался на полузанесенных снегом еще теплых овец. Перман понимал: больше половины отары пропало. Но он шел и шел вслед за оставшимися овцами, он должен был идти до тех пор, пока не падет последняя овца. Таков закон овцеводов, а Перман-ага был настоящим чабаном. Вдруг он заметил, что отара вроде бы начала сбавлять ход, густеть, сбиваться в кучу. Слава богу, можно было наконец присесть где-нибудь за кустом и хоть чуточку передохнуть. Однако Перман-ага решил обежать отару, чтоб поглядеть, в чем там дело, и, когда он это увидел, крик ужаса вырвался из его груди. Одна за другой овцы прыгали вниз с крутого обрыва. Задние подталкивали передних, торопясь последовать их примеру. Метались и лаяли собаки, пытаясь остановить, удержать овец. Перман-ага пробовал отталкивать овец, бил их своим посохом, но удержать отару было так же немыслимо, как грудью преградить путь горному потоку. Овцы есть овцы: та, что следует сзади, обязательно повторит все, что сделала идущая впереди… Когда последняя овца совершила свой смертельный прыжок, Перман наконец опустил посох и, подойдя к самому краю, заглянул вниз. На дне оврага лежала темная недвижная груда тел. В ужасе воздел он руки к небесам: «За что?! За что покарал ты меня, боже?» — крикнул Перман-ага и вслед за овцами бросился вниз с обрыва… …Ни зимы, ни бурана… И вдруг орлы… Опять эти страшные птицы! Перман бросается на них, размахивает посохом. Одному он переломил крыло, другому шею… Но орлов слишком много. Их целая стая! Целая туча! Они хватают ягнят, хватают ярок… И вот один, самый огромный, самый страшный, бросается на Пермана и со зловещим клекотом впивается ему когтями в голову. «Папа! Папа! — слышит вдруг Перман в орлином клекоте. — Папа! Ты жив? Открой глаза, папа!» Перман-ага с усилием разлепил веки. На мгновение перед ним показалось лицо Сердара. Потом все исчезли, стало темно.Глава четырнадцатая
В любую эпоху, в любом человеческом обществе, у каждого племени, каждого рода есть свои традиции и обычаи, и если один из членов человеческого коллектива отказывается следовать этим традициям, он неизбежно противопоставляет себя остальным, вступает в конфликт с современниками. Главными хранителями традиций при племенном строе были старейшины: старейшина племени, старейшина рода, старейшина клана. В семье тоже был свой авторитет — самый старый, самый уважаемый человек — хранитель порядка, хранитель семейной чести. В семье Пермана таким лицом являлась его мать, старуха Аннабиби, и ни один из членов семьи не смел да и не решился бы пойти наперекор ее воли. Для Сердара, учившегося в новой, советской школе, а потом — в вузе, получившего иное воспитание, бабушка Аннабиби оставалась близким и бесконечно дорогим ему человеком, но давно уже не была авторитетом в вопросах морали, нравственности и семейного права. Аннабиби, старуха решительная и по-своему очень разумная, понимала, что внук, однажды уже нарушивший решение семейного совета, не остановится перед тем, чтобы нарушить ее волю и самому решить, как ему быть с женитьбой. Надо было спасать своевольного, но неразумного, по ее мнению, Сердара, и бабушка Аннабиби решила воспользоваться его отсутствием. Посоветовавшись с Мередом и его женой — больше, конечно, для формы, потому что в их согласии старуха не сомневалась, — Аннабиби направилась к Дурджахаи. Нелегко было бабушке Аннабиби сделать этот шаг. И не только потому, что нарушала волю любимого своего внука, идя объясняться с матерью его невесты, но и потому, что понимала: избавляя от позора свой дом, она несет не меньший позор, а может быть, и настоящую беду в дом Дурджахан. Но выбор был неизбежен, и старуха решилась любой пеной спасти свой дом от позора. Вот с таким-то решением и вступила она в кибитку Дурджахан. Хозяйка, завидев в дверях сваху, приветливо поздоровалась с ней и, как положено, стала приглашать пройти в передний угол, но старуха как-то странно топталась в дверях, и Дурджахан почуяла недоброе. — Проходите, прошу вас… — повторила она, уже менее настойчиво. — Не буду я проходить… — промолвила старуха. — Я не сидеть пришла. — Не сидеть? — Дурджахан встревожилась не на шутку. — Вы что же, с какой-нибудь вестью? — она испуганно взглянула на гостью. — Да… хотела… — промямлила Аннабиби, продолжая стоять у двери. — Ну что ж, — сказала Дурджахан, подавив внутреннюю дрожь. — Все равно надо сесть. Рассказывайте, какие у вас вести. — Женщина замолчала, чувствуя, что со рту у нее вдруг пересохло, а сердце бьется высоко, высоко, чуть не у самого горла. А Аннабиби не могла произнести ни слова — язык вдруг распух, шершавый стал, как кошма; она сидела, тяжко отдуваясь, не в силах даже взглянуть на хозяйку. Когда старая Аннабиби выходила из своей кибитки, сомнения не мучили ее. Она знала одно — надо скорее сказать Дурджахан, иначе несмываемое пятно позора навеки ляжет на ее старую кибитку! Какая-то неизвестная, но огромная сила придала решимости ее сердцу и быстроту ногам, и старуха мигом очутилась у кибитки Дурджахан. А вот сейчас, сидя с хозяйкой лицом к лицу, Аннабиби вдруг утеряла всю свою решительность, и не было у нее сил вынести приговор этому дому. «Поджечь чужой дом и уйти? Оставить Дурджахан в горящем платье? О всевышний, за что обрек ты меня быть палачом?!» Старая Аннабиби сидела и молчала. Безмолвствовала и хозяйка, понимая, что ее ждут недобрые вести. И только когда из глаз старухи ручьем покатились слезы, Дурджахан не выдержала и схватила ее за плечи. — Говори, с чем пришла! — Ой, не могу! — простонала Аннабиби. — Говори! Пусть обрушится небо, пусть лопнет земля, все равно говори! Утри свои слезы и скажи. Аннабиби вытерла мокрое от слез лицо, вздохнула и произнесла дрожащим голосом: — Дурджахан, давай не будем женить детей! Хозяйка, сидевшая возле очага на корточках, так и плюхнулась на пол. Все смешалось у нее в голове, перед глазами поплыли какие-то круги… Она не сразу нашла в себе силы спросить: — Вы что, получили какие-нибудь вести? — Да нет… Просто решили отказаться… — Это что же, внук ваш решил? — Внук?.. Внук, он еще ничего не говорил… — Чего ж вы тогда спешите? Жениться — ему! — Он что ж? Он согласится. Раз мы все решили… — Пусть тогда сам придет и скажет! Женщины умолкли. Положение у Аннабиби создалось безвыходное: хочешь не хочешь, а надо наносить удар. Старуха вздохнула: — Ничего не поделаешь, придется напрямик сказать… Не хотела я этого, Дурджахан, аллах — свидетель, не хотела, да, видно, иначе не выйдет у нас с тобой ничего. Слава плохая у твоей дочери! Не смогу я взять ее в дом! — Старуха попыталась решительно подняться с места, но Дурджахан, в полубеспамятстве от услышанного, всей тяжестью навалилась ей на плечи. Старуха поддержала ее, усадила… У Дурджахан все плыло перед глазами, и, чтобы не упасть, она оперлась руками о землю. Аннабиби дала ей холодной водички. Дурджахан стало чуть полегче, и она смогла взять себя в руки. — Ну, говори, гостья, послушаю, какие слухи про дочку мою идут? — Избавь ты меня, Дурджахан! Каково тебе слушать-то? — Ничего, хоть и замертво повалюсь, все равно — правду знать должна! Я мать. Говори, тетя Аннабиби, не отпущу я тебя, пока всего не скажешь! И старая Аннабиби рассказала ей все, что услышала от Бессир. Не скрыла и того, что Бессир поспешила и невестку ее уведомить о новости. Дурджахан выслушала старуху молча и, выслушав, так же молча стала рвать на себе волосы. Встала, качаясь, подошла к сложенной в углу постели и опустила на нее голову. Аннабиби горестно поглядела на беднягу, вздохнула и пошла к двери. Дурджахан не помнила, долго ли простояла она так, рыдая, спрятав лицо в подушках. — Мамочка! Ты что? — услышала она вдруг встревоженный голос дочери. Дурджахан резко обернулась. Жадно взглянула в лицо Мелевше. — Это ты, доченька?.. Давай-ка сядем… Они сели друг против друга. — Ты ведь единственная у меня, — сказала Дурджахан, и голос у нее задрожал. — Нет у меня никого дороже, да и для тебя я — самый близкий человек… А может, не так это, доченька? Может, ты… с каким-нибудь парнем?.. А, доченька? Скажи правду — не было этого ни с кем? — Что ты, мама? С чего ты взяла?! — Скажи, дочка! Скажи, милая, не таись от матери! Может, беда случилась? Может, не уберегла себя? Не бойся, доченька, я тебя в город свезу, к доктору! Никто и знать не будет! — Мама! Замолчи! Что ты говоришь! Я чище росы, белей хлопка! — Ты с Гандымом не переписывалась, дочка? — Никогда! Я к такому и на сто шагов не подойду! — Хорошо. Тогда все понятно. Тогда я прямо к Горбушу-ага!Горбуш-ага один сидел в помещении партячейки, и Дурджахан, боясь, чтоб им не помешали, сразу же приступила к делу. Пока она рассказывала ему о приходе старой Аннабиби, у нее еще хватило сил сдерживать слезы, но когда она упомянула имя Бессир, этой клеветницы, негодяйки, в корыстных целях старающейся опозорить ее невинную дочь, то не выдержала — зарыдала. — Ладно, Дурджахан, успокойся, — невозмутимо сказал Горбуш-ага. — Тут все ясно, это не просто бабья сплетня, это намеренная клевета, травля, за это можно и прив-лечь. Бесятся, что калыма лишились. Я сейчас пошлю и за старухой, и за Бессир с Пудаком. Разберемся. Первой явилась старая Аннабиби. Пришла и тихонько села в уголке. — Аннабиби! — обратился к ней Горбуш-ага. — Ты решила отказаться от родства с Дурджахан. В чем причина? — Причину я сказала Дурджахан. — А внука своего ты спросила прежде, чем вести такой разговор? — Спросила… — И что ж он? — Он сказал, чтоб, пока не вернется, разговоров не начинать… — Чего ж ты его не дождалась? — А зачем ждать? Жди не жди, породниться нам никак невозможно. — Из-за того, что Бессир наплела? — Да. — Ты, стало быть, ей поверила? — Ну… поверила… — Ясно. Сейчас она сюда явится. Сможешь ты ей в лицо сказать все, что она тебе болтала? — Да хоть дважды! Мне чего таиться — не я слух пустила! В дверях появилась Бессир. Остановилась, презрительно оглядела собравшихся. — Садитесь, — сказал Горбуш-ага, не обращая внимания на развязность ее поведения. — Ничего, постою, — ответила та и слегка отвернулась в сторону. Горбуш-ага кашлянул и опустил голову. — Почему Пудак не явился? — Дома нет, — коротко бросила Бессир. — Да и нечего ему тут делать. Можешь считать: я — Пудак. Спрашивай, чего надо! — и она повела бровями. — Ну, ладно, коли так… Говори, Аннабиби, пусть теперь Бессир от тебя послушает, что ты от нее вчера слушала. — Не вчера, а позавчера, — поправила его старуха. — Стало быть, сижу я у себя в кибитке с прялкой, вдруг приходит Бессир. А перед ней муж ее заявлялся, Пудак… — И чего плетет? — Бессир недоуменно передернула плечами. — Когда это я к ней приходила? — Ты что ж, забыла? — Аннабиби удивленно уставилась на Бессир. — Ты ж сама утешала меня. Он уж больно орал, а ты… — Не было этого. Вранье! — Да ты что — всерьез? — бабушка Аннабиби в изумлении вытаращила на нее глаза. — Или памяти бог лишил? — старуха поднесла ко рту руку. — Память у меня и правда не очень, иной раз ищешь, ищешь что-нибудь, а вещь-то вот она — в руках! — Милая! Да ведь про что говорим-то — оно не в руках, на языке твоем было! — Путаешь ты, Аннабиби. Стара, видно, стала, запамятовала. А может, тебе сатана в облике моем явился? — Ах ты, негодница! Да что ж это ты старуху срамишь?! Ты и есть сатана! Пришла, опозорила девушку, меня с толку сбила, а теперь кричишь: знать ничего не знаю!.. У меня пока что голова на месте! — Аннабиби проворно поднялась с пола. — А коли голова на месте, значит, нарочно врешь! — Бессир повысила голос. — Одной ногой в могиле стоишь, а стыда совсем нет! Раздумала внука женить, поди и скажи честно, а людей-то зачем приплетать?! Я отроду не лгала, а ты меня лгуньей выставляешь! Думаешь, старая, так все простится? — Бессир обиженно шмыгнула носом, явно собираясь пустить слезу. Бедная старуха растерялась. Получалось, что она не только напрасно обидела Дурджахан, но еще оказалась лгуньей. Аннабиби шел восьмой десяток, но она еще никогда в жизни не сталкивалась с такой чудовищной наглостью. — Ой, Горбуш-ага! — воскликнула старуха, хватаясь за волосы. — Ну, скажи ты ей, Горбуш-ага! Что ж она, совесть-то съела, что ли? Горбуш-ага молча следил за словесным поединком женщин. Ясно было, что старуха не в силах больше продолжать его. — Ладно, кончать надо этот разговор. Можешь идти, — сказал он Бессир, не поднимая глаз. Та окинула всех безразличным взглядом, спокойно повернулась и не спеша пошла к выходу. — Ну поняла, Аннабиби, с кем дело имела? Поняла, что обвели тебя вокруг пальца? — Поняла, Горбуш-ага, уж так поняла! Поздно только — хороших людей обидела! Аннабиби всхлипнула и концом платка вытерла глаза. — Ничего. Теперь думай, как налаживать дела. Чуть свадьбу комсомольскую нам не поломала!.. — Горбуш-ага едва приметно улыбнулся и взглянул на Дурджахан. — Ну, я думаю, вы столкуетесь? Обе свахи от души поблагодарили его и вместе вышли на улицу. Пудак, мрачный, нахохленный, с нетерпением ждал возвращения жены. Сам он к Горбушу не пошел, велел сказать, что нет его дома, уверен был: ничего хорошего его в партячейке не ждет. Последнее время Пудаку вообще казалось, что его со всех сторон окружают одни враги. Не только Дурджахан, Сердар, Хашим и другие, затеявшие эту чертову комсомольскую свадьбу, даже родственник, даже собственный его дядя Акым, и тот предал, отступился от него и перекинулся на сторону противника. Мелевше, к которой он всегда тянулся душой, которой всегда гордился, стала ему теперь ненавистна: бесстыдница, ни в грош не ставящая родного отца, не желающая подчиниться его воле. Пудак оказался совсем один, посоветоваться ему было не с кем, а единственный его собеседник — Бессир все делала, чтоб поддержать в муже свирепость и жажду мести. Вот и сейчас, едва переступив порог, она молча подошла к стене и заплакала. Бессир рыдала громко и безутешно, и Пудаку нетрудно было представить себе, как ее там обидели, оскорбили, как измывались в конторе над его женой его враги. Он слушал злые рыдания Бессир, и его распирало от ярости и негодования. Пудак ничего не спрашивал, у них обо всем давно уж было переговорено; оба понимали, что все их надежды лопнули. — Если ты не мужик, — выкрикнула вдруг Бессир, — давай сюда свой тельпек! На, надевай бабий убор! Украшайся! — она сдернула с головы бору к и швырнула его мужу. Пудак вскочил, словно пес, в которого запустили камнем. Встал посреди кибитки, схватился руками за голову и завопил: — Пропал калым! Ограбили! — На то ты и Пудак Балда, чтоб тебя дурить да обманывать! Баба твоя давно уже замкнула все у себя в сундуке! Не сегодня-завтра комсомольскую свадьбу сыграют, а ты, отец… — Комсомольская свадьба? Не сегодня-завтра?! — А ты как думал? Твоего разрешения ждать будут? Отцовского твоего благословения?! Пудак выскочил на улицу, словно им выстрелили из ружья. Его толкала к дому Дурджахан неведомая, но неодолимая сила. Бешеной собаке все равно кого кусать: кого ловчей ухватить. Когда Пудак саженными шагами приближался к кибитке Дурджахан, навстречу ему вышла Мелевше. Девушка заметила, что отец не в себе, но приветливо улыбнулась ему. — Заходи, папа, — сказала она. Пудак молча глянул на девушку. Эта мерзкая, подлая, развратная тварь, эта гнусная потаскуха, нагло ухмыляющаяся ему в лицо, — его дочь? Его Мелевше?! Он вдруг быстро наклонился, схватил лежавший возле двери топор и ринулся на дочь. С пронзительным криком Мелевше бросилась в кибитку. Дверь захлопнуть она не успела. Топор, брошенный Пудаком, ударился обухом о косяк и отскочил — прямо ей в голову. — Ой! — вскрикнула Мелевше и упала. Кровь, стекая из-под русой косы, лужицей растекалась по кошме…
Глава пятнадцатая
Во двор районной больницы свернул парень в тельпеке, ведя в поводу неторопливо вышагивающего верблюда. На спине верблюда закреплена была свернутая в несколько раз кошма, на ложе этом лежал недвижный человек. Парень уложил верблюда и почти бегом поднялся по больничным ступенькам. Тотчас во двор вышли санитары с носилками, унесли больного. Оставив отца в приемном покое, Сердар (это он привез в больницу Пермана) вышел во двор, подошел к верблюду и, достав из кармана папиросы, закурил. Впервые за последние двое суток он наконец смог взять в руки папиросу. Затянувшись несколько раз подряд, он выпустил витые клубы дыма и, взглянув на верблюда, лениво жующего жвачку, сказал устало и грустно: — Жуешь?.. Ничего-то тебя не трогает… Овцы погибли, отец при смерти, а тебе хоть бы что! — Сердар оперся о верблюжье седло и снова сделал несколько глубоких затяжек. Верблюд лениво двигал челюстями. Сердар опустил красные, вспухшие от ветра веки, и сразу перед глазами появились овцы. Овцы, овцы… Замерзшие, полузаметенные снегом маленькие темные тела… «И чего я не остался в наркомате? Не было бы сейчас ни забот, ни хлопот. Решил познать тайны Каракумов! Вот пожалуйста — познавай! Отец поправится, а кто будет отвечать за отару? Акым-ага сошлется на хлопок — у него и правда с хлопком забот по горло, — за овец зоотехник в ответе. Ссылаться на устаревшие методы ведения скотоводства наивно, никто и слушать не станет. А ведь главная-то беда — безответственность, беззаботность, рутина, но такие вопросы не решишь в масштабах колхоза… И все равно: пусть думают, что я говорю это себе в оправдание, я буду твердить о необходимости введения новых методов — пока не охрипну…» Сердар поднял голову и увидел Хашима, удивленно смотревшего на него. — Ты чего тут, Сердар? — А, лучше не спрашивай… Хашим нахмурился. Значит, и в песках какое-то несчастье? Наверное, так оно и есть — Сердар сильно расстроен. Как же ему сказать про Мелевше? Может, промолчать пока? — А ты зачем в больницу явился? — спросил Сердар. — Я?.. А ты ничего не знаешь? Что в селе произошло, не слышал? — В селе? Нет. А что такое? — Понимаешь… Мелевше… — Что с ней? — Сердар вскочил. — Ранили ее… Топором… — Гандым?! — не своим голосом выкрикнул Сердар. — Нет, отец. — Она жива? Говори! Правду говори! — крикнул Сердар и вдруг опустил голову на луку верблюжьего седла. Когда через несколько мгновений он поднял голову, лицо у него было темное, словно опаленное огнем. — Как… это случилось?.. — с трудом произнес он. И вдруг ударил кулаком по седлу. — Нельзя так! Нельзя же все сразу!.. — он закрыл глаза, несколько мгновений молчал, потом снова взглянул на Хашима. — Куда он ей попал? — В голову. — В голову?! — Да… Но он только задел. Топор сначала о косяк ударился, поэтому не очень сильный удар получился… Она жива, ты не думай. Только без сознания пока… — Где она? — Вон в том корпусе. В хирургическом. Ее в операционную увезли. — Пойдем туда! В помещение их не пустили. Настаивать, требовать, объяснять у Сердара не было сил, и он молча опустился на лавочку неподалеку от двери. Кто-то потеснился, давая ему место, но он даже не разобрал — кто. Только спустя некоторое время Сердар заметил, что вокруг полно односельчан. Видимо, они пришли сюда ради Мелевше и терпеливо ждали исхода операции. Если бы Сердар был сейчас в состоянии наблюдать, он заметил бы, большинство людей смотрят на него. Смотрят по-разному: одни неодобрительно, злобно, явно считая его виновником случившегося, другие с интересом — каково-то ему сейчас, но большинство — с явным сочувствием. Случайно Сердар поймал на себе взгляд Гандыма, но едва их глаза встретились, Гандым опустил голову. Заметив в стороне Дурджахан, Сердар встал и подошел к ней. Женщина тихонько всхлипывала, закрыв руками лицо. — Не плачьте, тетя Дурджахан. Врачи сказали, поправится… Все будет хорошо… Дурджахан отняла от лица платок, взглянула на Сердара и зарыдала еще сильней. — Девочку мою дорогую!.. Дитя мое единственное! Над собственной дочерью топор занести!.. — она забилась в рыданьях. Сидевшие рядом женщины тоже начали плакать. Сердар опустил веки и сжал их, стараясь, чтоб не потекли слезы. Сердару казалось, что в обоих этих несчастьях так или иначе повинен он. Он не сумел бы сформулировать, в чем именно его вина, но чувство виновности преследовало его неотступно. Зато Гандым, пряча от людей хитро поблескивающие глазки, отнюдь не казался огорченным. Может быть, его даже не пугала мысль о трагическом исходе: лишь бы Мелевше не досталась Сердару, лишь бы тот не торжествовал победу над ним. Гандым слишком долго и упорно вел свои интриги, чтобы смириться с поражением. Он посидел сколько положено, потом встал и ушел. Впрочем, люди, давно сидевшие у хирургического корпуса, вообще уже начали расходиться. Зато подходили новые. Сердару казалось, что операция тянется целую вечность. Усидеть на месте он не мог. Он ходил и ходил, хотя ноги были словно налиты свинцом, заплетались. Он бросался к каждому человеку в белом халате, выходившему из хирургического корпуса, но ответ был один и тот же — операция продолжается. Наконец на крыльцо вышел врач. Огляделся по сторонам. — Здесь есть родственники больной? Дурджахан быстро поднялась с места, но Сердар опередил ее: — Доктор! В каком состоянии девушка? — А вы кем приходитесь больной? — Я?.. Она… Она — моя невеста! — Состояние тяжелое. Операция прошла благополучно, но ранение глубокое… Все решит послеоперационный период. Два-три дня… — Доктор! Может быть, нужна кровь? Или кожа?.. Я слышал… — Ничего не нужно, у нас все есть. К тому же потеря крови у нее сравнительно небольшая. — Но неужели я не могу ей помочь?! — Вы очень любите свою невесту? — Больше жизни! — Вот это ей и поможет. Это прекрасное лекарство — сознание, что тебя любят. К тому же, к великому ее счастью, у больной прекрасное сердце. Выкарабкается! — Врач, улыбнувшись, похлопал Сердара по плечу. И снова лицо его стало серьезным. — Конечно, гарантировать полное излечение трудно… — В каком смысле, доктор? — Очень сильное сотрясение мозга. Это редко обходится без последствий… В отличие от стоявших вокруг односельчан, Сердар как-то не обратил внимание на это: «…редко обходится без последствий…» Для него сейчас имело значение только одно — Мелевше будет жива! Сердар обернулся к Дурджахан, чтобы сказать ей слова утешения, и тут вдруг заметил председателя. Акым-ага стоял мрачный, насупленный, уши его малахая болтались опущенные, хотя холода не было. Перехватив взгляд Сердара, председатель знаком отозвал его в сторонку. — Давно вернулся? — спросил он. — Часа два уже. — Стало быть, в курсе? Вот такие у нас дела… — Председатель тяжело вздохнул. — Думал, с хлопком управились, план выполнили, хоть дух перевести можно. Не тут-то было! Теперь про план никто не вспомнит. Дадут нам по шапке за это дело! — Да, дело серьезное… — Сердар замолчал, отвернулся. — А вообще — почему я должен отвечать?! — взорвался вдруг Акым-ага. — Покрывать его я не собираюсь, будь он мне хоть трижды племянник! Мне и без него хватит, за что отвечать! Акым-ага продолжал распространяться на тему об ответственности, а Сердар слушал его краем уха и думал о том, что не настоящий он все-таки человек, бабушка его раскусила. Такой момент, а у него одна дума — как бы взыскание не получить!.. — Врачи-то что говорят? Как ее состояние? — Акым-ага тронул Сердара за руку. — Чего молчишь? Я спрашиваю, как ее здоровье? — Операция прошла благополучно… — А ты ее не видал? — Нет, к ней нельзя. Да все равно она без сознания… — Да… — Акым-ага тяжело вздохнул. — Не дай бог, изуродовал он девку! Голова все-таки… — Помолчал, откашлялся. — Пудака я в милицию сдал. Гнал перед конем, как настоящего бандита! Он все просил отпустить, как-никак родня. А я ему: сдам, говорю, тебя в милицию, там разберутся, кто родня, кто не родня! — А куда ж он бежать собрался? — Куда! Известное дело — к басмачам! — Надумал! Неужто не понимает, что дни их сочтены? — Кто его знает… — Акым-ага откашлялся и перевел разговор на другую тему: — Как в пустыне дела? Обошлось? — Нет, Акым-ага, не обошлось, — Сердар опустил голову. — Буран такого натворил!.. — Много овец погибло? — Целая отара. — Отара? Целиком? — Да. — Чья? — Отара моего отца. Акым-ага поглядел на Сердара и ничего больше не стал спрашивать. Оба молчали. — А остальные отары как? — услышал наконец Сердар вопрос председателя. — Остальные целы. Народу со мной было мало, послать некого… А отцовская отара самая дальняя была, он не в песках, на равнине пас. Возле каждой хоть на час да задержишься… Добрался, когда уж поздно было, по овечьим трупам, как по следу шел. Пропала отара! Какие не пали, все до одной в пропасть попрыгали… И отец с ними. — Где с ними?! — Бросился следом за овцами с обрыва. Видно, голову потерял с горя… — Погиб?! — Нет, жив остался. Вот привез его в больницу, а здесь про Мелевше узнал… — Да что ж это такое! За что караешь, господи?! — забыв, видимо, что он давно уже атеист и передовой человек, Акым-ага в отчаянии простер руки к небу. Но тут же спохватился, опустил руки, откашлялся и пробормотал сокрушенно: — Ну все. Теперь не выпутаться! Считай, веревка на шее! — Акым-ага умолк и опустил голову — не человек, а воплощенное отчаяние. — Зря тревожитесь, Акым-ага, ничего с вами не случится. Стихийное бедствие, скота погибло десятки тысяч, никто с вас лично спрашивать не станет. Может, даже к лучшему это… — Акым-ага удивленно взглянул на Сердара. — Я в том смысле, что, может, камень наконец с места сдвинется — думать начнут над проблемами овцеводства… — А ты, я гляжу, и впрямь одержимый, Сердар! Беды на тебя со всех сторон, а ты знай свое: проблемы овцеводства!.. — Акым-ага покачал головой. — Давай к отцу твоему сходим, посмотрим, как он? Только сейчас, увидев отца на белой больничной койке, Сердар впервые разглядел, как тот постарел. Настоящий яшули — старик. И борода белая. А пожалуй, это она в буран побелела, когда последний раз виделись, седина только пробивалась… — Перман-ага! — окликнул больного молла Акым. Перман-ага открыл глаза, увидел склонившегося над ним председателя и, ни слова не говоря, снова смежил веки. Из закрытых глаз его покатились слезы. — Чувствуешь себя как? — громко спросил Акым-ага и присел на табуретку возле койки. — Тяжеловато… — Ничего, врачи вылечат! У них лекарства… — Если б я лечиться хотел, не стал бы с обрыва бросаться… Да вот не принял всевышний мою душу, — Перман-ага поднял дрожащую руку и прикрыл ею глаза. — Зря ты так поступил, Перман-ага! Ну, изуродовался бы, здоровье бы потерял, а овцы что — ожили бы? — Я их не думал оживлять… Просто… Просто жить я не мог после такого… — Дело поправимое, Перман-ага. Дадим тебе другую отару. Матки у тебя почти все двойнями ягнятся, за год новую отару выведешь! — Новую-то вывести можно. А тех моих овечек уж не будет… Вся сгинула, вся, до последней ярочки!.. — Перман-ага прикусил губу и покрутил головой. — Закрою глаза, а они, бедняжки, так и мельтешат, так и прыгают: одна за другой, одна за другой… — старик всхлипнул и закрыл лицо одеялом. — Пойдемте, Акым-ага! — сказал Сердар. — Чего зря рану бередить? В коридоре председатель остановился, подумал и сказал, вопросительно взглянув на Сердара: — Чего ж теперь? В райком, что ли, идти? Пошли, а? — Сходите один, Акым-ага, — попросил Сердар. — Я тут побуду, подожду, как Мелевше. Да сказать по совести, и ноги не держат — третьи сутки не сплю.Глава шестнадцатая
Под вечер Акым-ага засиделся один в кабинете. Сегодня нужно было провести собрание, и председатель обдумывал, как сделать, чтобы поменьше было шума и всяческих разговоров. А шум вполне мог подняться, потому что неприятностей в последние дни хватало. Горбуш-ага умел укротить любого спорщика, но старик как на грех схватил простуду, лежал весь в жару, и тащить его на собрание не было никакой возможности. Акым-ага уже собрался идти на харман, где за отсутствием подходящих помещений проводили они общеколхозные собрания, когда в дверях показался Гандым. Акым-ага обрадовался ему не больше, чем чабан волку. Он очень хорошо понимал, что, хотя прямых улик против Гандыма нет, парень имеет прямое отношение к этой истории с Мелевше. — Будет сегодня собрание? — поздоровавшись, спросил Гандым. — Да, думаем провести. — А какие вопросы? — Поздравим с выполнением плана по хлопку, примем новые обязательства…. — А как насчет Мелевше? Насчет преступления, совершенного в нашем селе? — Насчет Мелевше? Что ж тут говорить? Виновника в милицию посадили. Судить будут, получит по заслугам… — А Сердар? — Что Сердар? Сердар ничего противозаконного не совершил. Комсомольская свадьба, сватовство без калыма — соответствует политике советской власти… А что не один Пудак в деле этом замешан, это я с тобой согласен. — Акым-ага сделал паузу и выразительно поглядел на Гандыма. — Я лично не сомневаюсь, что мужика подначивали, подталкивали на преступление. Что за спиной Пудака кроется другой, действовавший исподтишка… Что ж, следствие раскроет, суд разберет. Вот так. — Акым-ага снова поглядел Гандыму в лицо. Гандым сразу же сообразил, кого председатель имеет в виду, говоря «другой, действовавший исподтишка», и что надо переходить в атаку, иначе дело может обернуться плохо. — А насчет гибели отары как? Тоже виноват не Сердар, а кто-то «действовавший исподтишка»? — Ну тут особые обстоятельства… — Акым-ага беспокойно заерзал на стуле, как делал всегда, когда бывал раздражен. При всем внутреннем напряжении этого разговора внешне он носил вполне благопристойный характер, поскольку ни один из его участников не желал раньше времени раскрывать карты. Как председатель будет держать себя по отношению к Сердару — этого Гандыму выяснить не удалось. — Ну что ж… — сказал парень, неопределенно улыбаясь. — Продолжим разговор на собрании. Выступить ведь можно будет? — О чем речь? Выступать и критиковать, невзирая на лица, — храбро ответил Акым-ага. Но в самый последний момент что-то дрогнуло в его голосе, и Гандым понял, что председатель до смерти боится каких бы то ни было выступлений на сегодняшнем собрании. С тяжелым сердцем шел Акым-ага на харман проводить собрание. Очень его беспокоило, что за шутку выкинет сегодня Гандым — какой подарок приготовил ему этот пройдоха, — уж больно он навострился на собраниях выступать. Акым-ага подумал, что неплохо было бы, пожалуй, самому сказать о Мелевше — предупредить его хитрый ход. На хармане председателя уже ждали. Почти все управились с делами, только несколько человек еще не успели взвесить свой хлопок. Все быстренько закончили, и Акым-ага начал речь. Поздравив собравшихся с выполнением плана по хлопку, сообщив о предстоящем празднике урожая, который впервые будет в этом году проводиться в селе, Акым-ага напомнил, что в полях еще много нераскрывшихся коробочек, и теперь, когда погода снова установилась, надо будет, не снижая темпов, по-ударному заняться сбором. Он назвал имена передовых сборщиц, поблагодарил их, а потом сказал так: — К великому нашему сожалению, товарищи, Мелевше, которую мы каждый год называем в числе лучших наших сборщиц, нет сейчас с нами, товарищи! Рука злодея подкосила ее. Но ничего, товарищи, ей уже намного лучше, и, как только врачи разрешат, мы отвезем в город девушек — ее подружек, чтобы навестили, повеселили больную, передали ей наш привет и лучшие наши пожелания. А теперь, товарищи, давайте поговорим об ударных обязательствах, которые мы с вами должны взять на будущий год… Собрание уже благополучно шло к концу, как вдруг на вопрос председательствующего: «Есть еще желающие высказаться?» — Гандым поднял руку. — Товарищи! — начал он. — Конечно, мы выполнили план, и это большая наша победа. Повышенные обязательства мы приняли, и выполним их с честью. И праздник урожая, о котором говорил наш уважаемый товарищ председатель, это прекрасное начинание, и его можно только приветствовать. Все новое, что приносит пользу народу, необходимо поддерживать, товарищи! Но, товарищи, постарайтесь правильно понять меня — с введением некоторых новшеств надо быть поосмотрительней, спешить нельзя. Калым — пережиток проклятого прошлого, и я полностью против него, а вот насчет комсомольской свадьбы, тут, товарищи, надо действовать осторожно. Иначе вместо скачка вперед может получиться прыжок в пропасть. Так оно уже и получилось. Наша передовая сборщица и ударница стала жертвой такой вот неосмотрительности, торопливого, необдуманного отношения к делу. — Гандым откинул назад волосы, сделал вид, словно отыскивает кого-то в толпе, и воскликнул со слезой в голосе: — Где Мелевше? Где лучшая сборщица колхоза? Ее нет среди нас, товарищи, она принесена в жертву поспешности и необдуманности… Он очень эффектно это произнес. Толпа заколыхалась, зашевелилась, словно каждый начал вдруг искать что-то на земле. — Наша лучшая сборщица в больнице… — Гандым снизил голос почти до шепота, и толпа, замерев, слушала его. — Ее проворные руки не собирают хлопок, а бессильно лежат, простертые на больничном одеяле. Кто знает, удастся ли врачам поставить девушку на ноги. А если и удастся, вернется ли она к общественно полезному труду или навеки останется калекой? Главный виновник этого преступления уже отправлен нами в милицию, он получит по заслугам. А другой? Почему он сидит среди нас? Вот он! Взгляните на его черное лицо, товарищи! — Гандым широким жестом указал на Сердара. — Товарищи! Я еще раз прошу: поймите меня правильно, я не против комсомольской свадьбы! Это прекрасное начинание, его надо вводить, но как вводить? Осторожно, постепенно, не оскорбляя родительских чувств, А он, — Гандым снова ткнул пальцем в сторону Сердара, — он довел до исступления отца девушки, он, можно сказать, вложил в его руки топор! И я считаю, что наш уважаемый председатель неправ, оставив Сердара на свободе! Сердар — преступник! — Ого! Смотри как разошелся! — Кончай, завтра g утра в поле выходить! — Пускай говорит! — Я кончаю, товарищи, главное сказано. — Гандым сделал выразительную паузу. — Еще одно короткое слово. У нас был заведующий овцеводческой фермой, человек неграмотный, но опытный скотовод. Приехал Сердар со своим дипломом, заведующего фермой сняли, поставили Сердара. Мне, товарищи, не известно, велика ли его образованность, но всем очевидно: то, что наш неграмотный, но добросовестный товарищ, как говорится, собирал ложкой, образованный Сердар разлил поварешкой! Никогда еще не случалось в нашем селе, чтоб гибли целые отары! Целые отары без остатка! Я думаю, что этим делом тоже должен заняться суд. Перман-ага неспроста бросился с обрыва — чабаны так не поступают! — Стыдись, бессовестный! — Эй, кончай! Есть у тебя стыд? — Лишай его слова, председатель! Гандым наконец сел на место, Собрание, которое до выступления Гандыма мирно шло к концу, теперь только и начало входить в силу. Выступали многие. Некоторые, особенно пожилые люди, поддерживали Гандыма в том, что не следовало Сердару так настырно добиваться комсомольской свадьбы. Сколько девушек замуж выходят, и все чинно, благородно, а как затеяли эту комсомольскую свадьбу, сразу одни несчастья: и девушка ранена, и человек в тюрьме, и ославились чуть не на всю республику. Потом слово взял Хашим — секретарь комсомольской ячейки. Он расценил выступление Гандыма как личный выпад против соперника, и большинство собравшихся поддержали его. Наконец на середину хармана вышел Сердар. Движением головы откинул назад волосы, потрогал усики, узкой полоской темневшие над верхней губой, и сказал: — Мне, товарищи, не просто сейчас выступать. Я мог бы схватиться с Гандымом и положить его на обе лопатки — доводов у меня хватит. Но для того, чтоб вы поняли, почему Гандым так против меня ополчился, я должен говорить о нем, говорить плохое, и хотя все это — правда, получается, что сражаюсь с ним его недостойным оружием. Я этого не хочу. Не буду я спорить с Гандымом. Дело не в одном Гандыме, дело в совести человеческой. Если перед тобой сидит человек со зловонным дыханием, нужно или отворачиваться и терпеть, или пересесть от него, или прямо сказать человеку, что от него воняет. Есть еще среди нас люди, которым ничего не стоит выйти вот так перед собранием и, размахивая кулаками, кричать о пережитках прошлого, о том, что продавать девушек — позор, а потом приходить домой и со спокойной совестью вести переговоры о калыме. Это — страшные люди. Они гораздо опаснее тех, кто открыто говорит: я против новых порядков, я хочу выдать свою дочь по-старому. А теперь я все-таки скажу о Гандыме. Вынужден сказать. Он много месяцев вел переговоры с Бессир и Пудаком, обещая огромный калым за девушку. — Клевета! — Гандым вскочил с места. — Я никогда не предлагал калыма! Дайте мне слово! Заткните рот лгуну! Председатель собрания поднял руку, приказывая Гандыму сесть. — Продолжай, — сказал он Сердару. — Когда тетя Дурджахан наотрез отказалась продать дочь, Гандым решил опорочить девушку, надеясь, что я откажусь от нее. Он написал ей письмо и подстроил так, чтоб письмо это попало мне в руки… — Сердар вдруг испугался, что, если Гандым потребует показать письмо, ведь он сжег эту гнусную бумажку! Сжег, желая показать Мелевше, что не верит ни единому слову письма, верит только ее любви. Однако Гандым молчал — ему и в голову не могло прийти, что Сердар способен на столь неразумный поступок — уничтожить главную улику. — Гандым говорил здесь, что Мелевше пострадала потому, что мы настаивали на комсомольской свадьбе и нечутко обошлись с отцом Мелевше. Если бы он не разжигал этого человека, постоянно суля ему пачки денег, Мелевше не была бы теперь в больнице, а Пудак — в тюрьме. Больше я ничего не скажу. Сами судите, товарищи, кто, кроме Пудака, причастен к совершенному преступлению! Гандым вскочил. Он кричал, размахивал руками, пытался что-то доказывать, ко никто не хотел его слушать. Когда Сердар подходил к своей кибитке, его догнал Гандым. — Ты… Не думай, что твой верх… — сказал он, задыхаясь от быстрой ходьбы. — Мы с тобой еще посчитаемся! Сердар молча взглянул на него и отвернулся.Глава семнадцатая
Меред пришел с собрания раньше брата и успел сразу же все рассказать бабушке. Тем не менее, когда Сердар вернулся, в кибитке долго сохранялось молчание. Сказать-то у каждого было что, да только совета дельного, такого, чтоб пошел на пользу, никто Сердару дать не мог. Наконец в полутьме кибитки послышался плаксивый голос бабушки. — Не хотела я отпускать тебя на учебу… И родичи не велели. И мать, покойница, будь она жива, ни за что бы не отпустила от себя. Убег, неслух… В дыру вылез. Вот тебя бог и наказал за непочтение к старшим. Кончил бы школу, работал бы в колхозе, как Меред-джан, жил бы себе припеваючи. А теперь вот расхлебывай! И все от проклятой вашей учености!.. — Умный он у нас очень, — Меред ехидно усмехнулся. — Сразу и в школу советскую, и в комсомол!.. Помнишь, как он надо мной измывался: подаяниями, мол, живешь! Советская власть даст теперь тебе подаяние! Они тебе покажут! — Тебе-то какая забота? Мне ведь покажут. С твоей святой головы и волосок не падет. — Ладно, болтать ты мастак! Этому научили… Сердар не ответил. — Не послушал меня, старуху, — снова завела свое Аннабиби. — Будто бабушка плохого тебе пожелает… Умный очень уж стал, образованный, а понятия никакого. Словно дитя малое. Когда уезжал в пустыню, я тебе что сказала: не годится нам эта девушка, отказаться надо от родства. Я как по звездам видела: не будет счастья от сватовства с Дурджахан. Раз уж отец родной на дыбы поднялся, разве его уломаешь? Послушалты меня? Когда в дальнюю дорогу собираешься, надо, чтоб набожные, благочестивые люди проводили, а ты к этой, к своей отправился, к непутевой. Вот теперь и любуйся на свои дела! Это еще свадьбы не было. А какие беды свалятся на нас, если приведешь ее, ославленную, в дом?.. Бабушка принялась плакать. Сердар не пытался ее утешить. Он мог повторить только одно: Мелевше не виновна, ее оклеветали, она пострадала невинно. Но все это бабушка и сама прекрасно знала, и это меньше всего ее интересовало. Невестка должна приносить в дом счастье и радость, а раз она этого не может сделать, значит, грош ей цена. Бабушка вынянчила Сердара, научила его говорить, от нее узнал он первые слова родного языка, но сейчас они не понимали и не могли понять друг друга, словно люди, родившиеся на разных материках. Возражать бабушке Сердар не хотел, но и слушать ее монотонное, как осенний дождь, нытье тоже не было сил, он вышел на улицу. Воздух был влажный, теплый. Безлунное небо густо было разукрашено звездами. Издали, со стороны хармана доносился приглушенный смех. Завывали шакалы. И сразу во всех концах села неистово принялись брехать собаки. Жизнь продолжалась, трудная, сложная, бесконечно прекрасная жизнь. Сердар не спеша пошел по селу. Свернул на тропку, бегущую по межам, подошел к кибитке Мелевше. Постоял… Дом Пудака он обошел стороной. Он словно боялся, что, появись сейчас перед ним Бессир, он забудет, что это женщина, что существует закон, сурово карающий самосуд. Трудно сказать, что сделал бы он сейчас с Бессир, попадись она ему тут, на темной тропинке… Так, шагая полями, Сердар дошел до кибитки Горбуша-ага. Старик был болен, лежал, накрытый двумя тулупами. — Ну как собрание? — спросил Горбуш-ага после того, как, отвечая на вопрос Сердара, обстоятельно рассказал ему о своем самочувствии. — Шуму много было? — А вы ничего не знаете? — Да так, кое-что… Приходили, рассказывали… — Честно сказать, Горбуш-ага, жалеть иногда начинаю, что не остался я в наркомате. В родное село вернуться решил. Тайны Каракумов изучать. Вот они мне и показали свои тайны… — Еще не показали, сынок. Ты только начинаешь узнавать, что это за штука — Каракумы. Каракумы что океан, чабан что моряк — под вечной угрозой живет. Жаждой иссушить, бураном замести, морозом заморозить — все могут! Но зато если найдешь к ним подход!.. Лет двадцать назад жили в Серахсе два знаменитых бая: Шалар-бай и Дженек-бай. У каждого по сорок отар. В каждой отаре по тыще овец. Сколько они каждый год каракуля от них имели — прикинь-ка! Конечно, они разбойники были, баи эти: и пастбища лучшие захватывали, и колодцы. Хозяйничали в песках… — Горбуш-ага натянул на плечи сползший с них полушубок, помолчал… — Да, много Каракумы жертв взяли, если б оживить сейчас всех погибших овец, места б на туркменской земле не хватило. Такие они, наши Каракумы. — Вы, Горбуш-ага, вроде бы даже восхваляете страшную эту силу! — Восхвалять не восхваляю, а уважать приходится. — Изучать ее надо, Горбуш-ага! Не будет она тогда такой враждебной, такой страшной. Науку надо применять. Вот, к примеру, существует радио. Чабанов можно было бы за сутки предупреждать о приближающемся буране! Конечно, введение новых прогрессивных способов животноводства требует больших капиталовложений… — Это ясно, — Горбуш-ага слегка кивнул головой, — сперва расход, потом — доход. Без этого не получится, Это я все понимаю, рассказы твои ученые слышал, но только вот что я тебе скажу, сынок. Ты ведь не зря пришел ко мне на ночь глядя, не языком поболтать. За советом пришел, потому что не с кем тебе сейчас посоветоваться, кроме как со старым Горбушем. Положение твое такое, что, если споткнешься, оступившись, подняться не дадут. — Это я понимаю. — Комиссия была на месте? — Была. Всех овец пересчитали. Акт составили. Акт правильный, все как есть. Я подписал. — Ладно… С этим, значит, покончено. Давай вот что, сынок. Завтра же, не теряя времени, отправляйся ты в Ашхабад к Атабаю. Расскажи ему, как мне говорил: все свои мысли, все мечты свои ему выложи. Он поймет — человек понимающий. И каждого насквозь видит, глаз у него такой, зоркий. Пусть он с тобой поговорит, посмотрит на тебя: он враз определит, кто чего стоит. А то ведь сейчас и насчет девушки жалобу могут состряпать… Вины твоей в этом деле нет, да у Гандыма дружков хватает — при товаре состоит, многим нужен. — Но вы-то понимаете, Горбуш-ага, что Гандым как раз больше всех виноват! Если б он не соблазнял Пудака своим калымом… — А где у тебя доказательства, что он калым предлагал? — Доказательств у меня нет. Письмо его было к Мелевше, фальшивое, подлое письмо, и то в огонь бросил. Я же с ним судиться не собирался. — Ладно. Езжай к Атабаю. Пойди сейчас к Акыму и скажи, что я присоветовал ехать в Ашхабад. Счастливо тебе, сынок! — Благополучного вам выздоровления, Горбуш-ага!Глава восемнадцатая
В первые дни после возвращения Мелевше из больницы многие односельчане приходили ее проведать. Потом поток гостей стал заметно редеть, интерес к Мелевше пропал, и навещали ее только близкие подружки, а так как девушки весь день были заняты, а мать тоже с утра до вечера пропадала в поле, Мелевше целыми днями сидела одна в кибитке и очень тосковала — читать она не могла, врачи не велели, да и голова по временам начинала болеть. Бессир упорно не оставляла Мелевше своим вниманием. Сперва она приходила вместе с другими женщинами и скромно сидела в сторонке, сочувственно вздыхая, но когда соседки реже стали навещать Мелевше, она зачастила к девушке. Бессир не смущало, что Мелевше ненавидит и боится ее. Что девушка отворачивается, не отвечает на ее вопросы — она вроде бы и не замечала этого. Не исключено также, что эта ведьма намеренно старалась почаще являться к Мелевше, надеясь, что раздражение, которое девушка каждый раз испытывает при виде ее, ухудшит состояние больной. И тогда она распустит по селу слух, что Мелевше тронулась, что она не в себе. Так или иначе Бессир приходила только днем, только в отсутствие Дурджахан. Вот и сегодня. Тихонько вошла в кибитку, осторожно, чтоб не звякнуть дужкой, поставила на пол ведро — как-никак к больному человеку пришла — и спросила участливо: — Как поживаешь, милая? Как головка? Не болит? Мелевше не ответила, да гостья и не ждала ответа. — Мужайся, деточка, бог милостив, окрепнет твоя головка, начнешь понимать, кто враг тебе, а кто — друг. А отца прости, милая, не серчай на него: так уж, видно, ему на роду написано. Довели изверги человека, что на родную дочь с топором бросился… — Бессир горестно вздохнула, помолчала. — Сидит теперь бедняга в тюрьме, плачет горючими слезами, а главный-то виновник, какой кашу эту заварил, спокойненько по Ашхабаду разгуливает… Так оно и получается, потому что нет на этом свете правды. — Бессир громко всхлипнула. Мелевше, слушавшая ее с отсутствующим выражением лица, взглянула на Бессир, словно только сейчас увидела, и лицо ее свела гримаса отвращения. Довольная произведенным эффектом, Бессир чуть заметно ухмыльнулась, подсела к Мелевше и начала гладить ее косы. — Ты, деточка, сердишься на меня. Ты ведь думаешь, Бессир в горе твоем повинна, а я — аллах свидетель — ни сном ни духом… Я счастья тебе хотела. Я ведь люблю тебя, как родную дочь! — Слава богу, что я не твоя дочь! — Мелевше резким движением вырвала у нее из рук свои косы. Бессир словно и не заметила резкости Мелевше, перед ней была цель, и она двигалась к этой цели медленно, но упорно, как земляной червь. — Вот ты обижаешь меня, из дому гонишь, а ведь все равно ты для меня родная. Как не увижу один денек, так мне и покоя нет, словно потеряла что… Эх, доченька, зря ты против меня злобу таишь! Не делала я тебе ничего плохого. За хорошего парня выдать хотела, первого жениха на всем селе… Если б тот проклятый, да разверзнется под ним земля, не встал между вами, была бы ты теперь счастлива… Ведь что получилось-то? Гандым без невесты не остался, девушку взял, что цветок весенний, а Сердар твой как уехал в Ашхабад, так и след пропал. Небось уж нашел себе какую-нибудь голоногую… — Бессир прислушалась, нет ли кого возле кибитки, и снова принялась плести свою паутину, тихонечко, не спеша… — Я считаю, неправильная это поговорка, что верна, мол, только собака, а на бабу надежды нет. Мужики, они в сто раз вероломней. Сама суди: где его верность? Здоровая была, добивался тебя, все село перебаламутил, чтоб только за него отдали, а как узнал, что несчастье с тобой, что головка у тебя не в порядке, так и глаз не кажет… Он по Ашхабаду с голоногими шастает, а ты сиди тут одна, слезы лей! Опозорил девку, и горя мало. Не думает о том, что тебе даже на улицу выйти никакой возможности нет. Вот и болит у меня сердце за тебя, убогую, ни днем ни ночью покоя не знаю. И не гляжу, что обижаешь меня, потому что понимаю: с горя… — Бессир махнула рукой и заплакала. Мелевше глубоко вздохнула, но ничего не сказала, даже не взглянула на гостью. Трудно было молоденькой девушке, неопытной и доверчивой, распутать паутину коварства, которую так искусно, так старательно плела опытная обманщица. Гандым действительно женился, взял прекрасную девушку, а Сердар уехал в Ашхабад, и третью неделю ни слуху ни духу. А ведь обещал через неделю вернуться… Вот мать говорит, что он тогда целый день не уходил из больницы, все ждал, пока она глаза откроет, а Бессир доказывает, что не ради нее сидел он у больничных дверей — отец его лежал в той больнице… Может быть, потому и не прогоняла она сегодня Бессир, что уж больно похоже было на правду все, что она говорила. Бессир осмелела, снова взяла в руки толстую косу девушки. — Какая красота пропадает! Любой парень с ума сойдет, дотронувшись до такой косы! А руки твои проворные!.. Сглазили тебя, сглазили, уж больно много хвалили. А знаешь, милая, от сглазу ведь средство есть. Верное средство. Хочешь, скажу своей матери, чтоб собрала слюну сорока человек: выпьешь — и все пройдет! — Не надо. Не буду я ничего пить! — У, глупенькая! Закрой глаза да и проглоти! Зато польза! — Не буду я. Перестань об этом! — Ну, как знаешь… — Бессир обиженно умолкла. Посидела, повздыхала, снова погладила косу Мелевше. — Такая красавица пропадает ни за грош… Прогневила аллаха, сиди вон теперь да кайся! Людям на глаза нельзя показаться. Ведь чего только про тебя не плетут! — Бессир сокрушенно покачала головой. — И обычаи наши попрала, и отца в тюрьму посадила, и в городской больнице лежала — там тоже хорошего не наберешься. Как сойдутся две бабы, так сразу косточки тебе перемывать. Бессир заглянула девушке в лицо, надеясь увидеть скатывающиеся по щекам слезы, но слез не было. Она решила подбавить жару. — Главная беда, что о сверстниках тебе теперь и думать не приходится. Дошло до меня, что из вдовцов кое-кто свататься думает, да и то вроде бы сомневаются: уж больно ославилась… Уж не знаю, как тебе и сказать… Есть один вдовец, не старый еще человек. Дочь у него, правда, взрослая, так это не беда, помощницей тебе будет. Если ты… — Убирайся! — крикнула Мелевше. — Уходи, пока я не выцарапала наглые твои глазищи! — И девушка изо всех сил пихнула Бессир. Жена Пудака, не желая лишнего шума, попыталась успокоить Мелевше, усадить ее. Ничего не получилось. Девушка вцепилась ей в платье и дернула изо всех сил. Бессир растянулась на полу. — Бешеная! — прошипела она, подымаясь. — Сумасшедшая! Сумасшедшая ты, понимаешь? Как трахнул он тебя по башке, так последний умишко и выскочил! Ты в зеркало погляди: у тебя и глаза полоумные! Недаром люди твердят, что свихнулась! Кошка, дремавшая на горке одеял, спрыгнула, привлеченная шумом, повалила всю горку. Бессир испуганно обернулась, и Мелевше, улучив момент, крепко вцепилась ей в волосы на затылке чуть пониже борука. Бору к упал на пол. — Пусти! Отпусти, дуреха! — взвизгнула Бессир и рванулась к двери. — Борук отдай, чумовая! Борук полетел ей вслед. Потом загрохотало ведро. Бессир бросилась догонять откатившийся в сторону борук. Мелевше быстро захлопнула дверь и набросила крючок. — Тетушка Бессир! — послышался мальчишеский голос. — Чего это борук от вас бегает? Что Бессир ответила мальчишке, Мелевше не разобрала, но не сомневалась, что досталось ему как следует.Глава девятнадцатая
Человек и цель, к которой он стремится, похожи на лисицу и гончую, догоняющую ее в открытом поле. Казалось бы, вот она — схватил, и все, но в последний момент лиса изловчилась, махнула пушистым хвостом и исчезла". Так вот и получилось с Мелевше. Совсем близким казалось счастье, но судьба-лисица сделала обманное движение, и прекрасная юная девушка бесцельно и бесполезно влачит свои дни в полутемной кибитке… А время идет. У него свой путь, свои законы, его не интересуют ничьи беды, ничьи страданья — бесстрастно и спокойно продолжает оно свой размеренный ход. Его не касается, что цветущая девушка проводит свои дни впустую, дни эти все равно идут в зачет ее жизни, хорошие и дурные, но они были и больше уже не повторятся. Но почему, почему Сердар не возвращается? Написать он ей не может, это понятно, но ведь скоро месяц! Почти месяц, как он уехал! Неужели правы соседки — Сердар забыл ее, отказался от нее, нашел другую, не больную, не опозоренную… Может быть, он боится Пудака: отсидит свой срок, вернется — и снова начнутся скандалы? Несколько недель прошло с тех пор, как уехал Сердар, а Мелевше кажется — несколько лет… С утра до вечера сидит она в своей кибитке и только вечером, с наступлением темноты осмеливается выйти — подышать. Вначале, немного оправившись от болезни, она пыталась выходить и днем, но испытание оказалось ей не по силам. Каждый прохожий останавливался и провожал ее взглядом. Взгляды были разные: одни люди осуждали негодницу, запрятавшую в тюрьму собственного отца, другие жалели, что девушка не может соединиться с любимым, а третьих больше всего интересовало, правду ли говорит Бессир, что Мелевше лишилась рассудка. После того как Мелевше выкинула ей вдогонку борук и ведро, Бессир не заглядывала к ней в кибитку, объясняя это тем, что брошенная Сердаром девушка окончательно спятила и набрасывается на каждого, кто переступит порог. Зато вдовцам и вообще женихам в годах она говорила совсем другое: — Никакая она не сумасшедшая! Глупости это, бабьи сплетни! Не повезло бедняжке, вот и все. Обманул ее Сердар, приманил комсомольской свадьбой и бросил. Вот девушка и стыдится на люди показаться. А так она в полном рассудке, в полной своей красоте. Конечно, за молодого ее теперь не просватать, мать разбирать не станет и за вдовца отдаст. Так что спеши, пока товар не перехватили, на такую красотку охотников много найдется! Таким вот образом вербовала она для Мелевше вдовцов, еще больше растравляя душевную рану девушки. Конечно, со сватами пожилых женихов Дурджахан и разговора не начинала, сразу выбрасывали их туфли на улицу, но после каждого гостя Мелевше горько плакала, а Дурджахан не находила слов, чтоб утешить ее. А Сердар словно в воду канул. Мать стала замечать, что Мелевше все больше замыкается в себе, все меньше и меньше разговаривает. Иной день она вообще не произносила ни слова. Вот теперь Дурджахан и впрямь начала опасаться за ее рассудок. Мать понимала, что Мелевше нужно уехать из села. Уехать туда, где совсем другие люди, другая жизнь, другие обычаи, порядки… Туда, где никто не будет останавливаться и, покачивая головой, подолгу смотреть ей вслед. Но куда могла уехать из села робкая, запуганная, затравленная сплетнями девушка? И вдруг по селу пронесся слух, что вернулся Сердар. Бессир заметалась, словно кошка с ошпаренным хвостом. Она бегала по селу, из одной кибитки в другую, пытаясь выяснить — чего ради он приехал. Но никто не мог ей этого сказать. До того самого дня, когда в кибитке старой Аннабиби, как много лет назад, снова собрались все близкие и дальние родственники Сердара.Сердар сидел в углу, опустив голову. Бабушка Анпабиби лежала возле стены, с головой укрывшись халатом. Возле нее сидели несколько женщин. Посреди кибитки, на почетном месте, то и дело поглаживая бороды, восседали три старика. Все молчали. Даже на поминках люди не безмолвствуют так, как на этом совсем не траурном сборище. Родичи пришли сюда по приглашению бабушки. Пришли дать Сердару совет, а вернее сказать, воззвать к его совести и рассудку. Убедить Сердара им не удалось, и оскорбленные гости хранили молчание. Поигрывая кистью плетеного шнурка, которым подпоясана была его рубаха, Сердар спросил, ни на кого не глядя: — Значит, вы не согласны, чтоб я увез Мелевше? Ответа ему пришлось ждать довольно долго. Наконец один из сидевших в середине стариков погладил бороду и сказал: — Мы не согласны, чтоб ты увез и взял в жены полоумную, оставив в слезах свою старую бабушку. — Если он увезет эту бешеную, эту срамницу, я и в могиле покоя не найду — сидьмя сидеть буду! — из-под халата выкрикнула бабушка и громко зарыдала. Сидевшие рядом женщины принялись успокаивать ее: — Не плачь, Аннабиби, не сделает твой внук такого, не сможет он растерзать твое сердце! — Никуда он ее не увезет. Зачем она ему, опозоренная? Что он, получше не найдет? Еще собираясь в село, Сердар знал, что сцена эта неизбежна, и приготовился выдержать все до конца, стерпеть. Но он и представить себе не мог, что ему будет так трудно настаивать на своем, слушать рыдания бабушки. А старая Аннабиби никак не хотела смириться. Она то вскакивала и начинала лупить по полу маленькими сухими кулачками, то снова закрывалась с головой, и из-под халата неслись ее отчаянные глухие рыдания… Сердар молчал. Он то и дело откидывал назад блестящие волосы, вздыхал и хмурился. Между его черными густыми бровями прочно залегли две глубокие морщины. Он поднял голову, оглядел собравшихся в кибитке и сказал: — Вот вы, мои родичи, собрались, чтобы сделать доброе дело. Все вы честные, добросовестные, хорошие люди. Вы хотите помочь мне — дать умный совет. Сделайте другое доброе дело — придите на помощь девушке. — Помочь мы согласны, — один из стариков кивнул и погладил бороду. — Если нужно помочь деньгами или еще чем, скажи — мы не против. Но во всем нужна мера: нельзя, вытаскивая из трясины животное, самому завязнуть в болоте. — Нельзя жениться на опозоренной! — Какой дурак берет в жены безумную?! — Свет, что ли, клином на ней сошелся? Сердар молчал, не отвечая на злобные, несправедливые слова родичей. Он уже хотел подняться и, не говоря ни слова, уйти от этих людей, но взгляд его упал на бабушку: словно поднявшаяся после тяжкой болезни, бледная и растрепанная, она держалась руками за голову и, тихонько постанывая, раскачивалась из стороны в сторону. — Эту девушку сгубил адат! — громко сказал Сердар. — Ее сгубил калым, сплетни и клевета! Ее связали по рукам, по ногам: и бросили в старый, зловонный колодец. Я должен спасти ее, вытащить на свет, на чистый воздух… — Сначала меня брось в тот колодец! — крикнула бабушка. — Засыпь, сровняй с землей, а потом уж бери ту бесстыжую!.. В дверях появился Горбуш-ага. — Здравствуйте! — приветливо сказал он. — Пришли, стало быть, Сердара проведать? Хорошее дело, давно он нам лица своего не показывал! Как чувствуешь себя, Анна-биби? — Да слава богу, Горбуш-ага, — ответила бабушка таким бодрым голосом, что никак не подумать, что только сейчас она плакала навзрыд. — Проходи, милый, чайку с нами выпей! Никто из присутствующих не хотел продолжать спор при Горбуше, особенно такой спор. Горбуш-ага понял, что разговор идет семейный, и, не желая задерживаться, не стал проходить на почетное место, хотя от чая и не отказался. — Ну как съездил, Сердар? — спросил он, принимая протянутую ему пиалу. — Что-то уж больно ты долго? — Так уж получилось, Горбуш-ага. На новую работу поступил. А главное — добился, чего хотел. — Неужто добился? Значит, побывал у Атабая Кайгысыза? — Побывал. Целый час в кабинете у него разговаривали. Бабушка, приоткрыв от удивления рот, уставилась на Сердара. Ее внук говорил с самим Атабаем Кайгысызом? Имя это и на других родичей подействовало удивительным образом — все они как-то притихли, присмирели. — В кабинете, говоришь, сидели? — сказал Горбуш-ага и искоса поглядел на стариков. — И о чем же промеж вас разговор шел? — Вы же знаете мой конек: животноводство, будущее Каракумов. Он очень заинтересовался, вопросов много задавал. Потом велел, чтоб я мысли свои письменно изложил. Три дня просидел — написал докладную записку. Предлагали мне в наркомат сельского хозяйства начальником отдела, я отказался… — Зачем? — Вы ж меня знаете, Горбуш-ага, меня в начальство не тянет. Мне больше научная работа по душе. В сельскохозяйственном институте преподавать буду. И исследовательскую работу буду вести. — Ну что ж, и это неплохо, — сказал Горбуш-ага и опять косанул глазом на стариков. — Поговорить бы, да идти мне надо. Может, проводишь меня, Сердар? — Провожу. Когда они отошли от кибитки, Сердар глубоко вздохнул и сказал: — В Ашхабаде-то у меня все в порядке, а вот здесь… — Он махнул рукой. — Ничего у меня с ними не получается, Горбуш-ага! — Почему? — Горбуш-ага даже остановился. — Я ведь приехал, чтоб Мелевше увезти. А эти… родичи мои собрались, как тогда, когда в Ташкент не пускали, и ни в какую! Я бы не стал с ними считаться, да снова шум поднимать… У Мелевше и так вся душа истерзана. — А чего они уперлись? Все ведь вроде улажено. — Твердят, что сумасшедшая она. — Ерунда! Все это глупости, Сердар, бабьи сплетни! Я к ней не раз заходил. Девушка в здравом уме, только горя много пережила, молчаливая стала, замкнутая. Бессир ведь до сих пор не угомонилась, все травит ее. Женихов пожилых подсылает, нарочно, чтоб насолить. Ну и, конечно, твердит: опозоренная, ославленная… Только, я думаю-тебе это слушать не пристало, свой ум в голове, разберешься, чего кто стоит… Подошел один из бригадиров, заговорил с Горбушем-ага. Сердар попрощался и пошел обратно.
Утром в село въехала извозчичья пролетка. В пролетке сидел Сердар. Нигде не останавливаясь, даже не задержавшись у родной кибитки, он направился прямо к кибитке Мелевше. — Здравствуйте, тетя Дурджахан! Как дела? — Как дела… Живем… — Как Мелевше? Дурджахан ничего не ответила, махнула рукой, а другой рукой закрыла лицо и всхлипнула. Мелевше сидела в углу, съежившись, словно затравленный зверек. Сердар взглянул ей в лицо. Девушка на мгновение подняла глаза и тотчас же опустила их. — Видишь, какая она стала, — тетя Дурджахан всхлипнула. — Ни живая, ни мертвая. Доконали!.. — Ничего, тетя Дурджахан, все обойдется! Не плачьте! Все будет хорошо! Все будет прекрасно! Слышишь, Мелевше, прекрасно! Девушка подняла голову, несмело взглянула на него. — Тетя Дурджахан! Я приехал за Мелевше. Отдайте мне ее! — Отдать? Ты хочешь забрать Мелевше в Ашхабад? — Да. Сейчас, немедленно! — Ты слышишь, дочка? — Дурджахан быстро подошла к дочери… — Слышу, мама, — прошептала девушка, уронила голову матери на плечо и заплакала. И вот они сидят рядом в пролетке, у всех на виду. Пролетка едет медленно: дорога разъезженная, пыльная, и извозчик не хочет гнать. Люди выходят из кибиток, глядят им вслед… "Увез все-таки свою полоумную!" — говорят одни. "Дай бог им счастья!" — говорят другие. А третьи просто смотрят вслед пролетке и не говорят ничего. Пролетка миновала ряды кибиток, выехала за село, и извозчик хлестнул вожжами. Взметнулось серое облако пыли. Когда пыль осела, пролетки уже не было видно. Воздух был прозрачный и чистый.


Последние комментарии
4 часов 3 минут назад
9 часов 48 минут назад
10 часов 55 минут назад
11 часов 52 минут назад
12 часов 7 минут назад
21 часов 17 минут назад