Платон Белецкий Одержимый рисунком повесть о японском художнике Хокусае
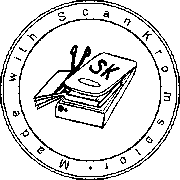

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, в которой мы знакомимся с несколькими японскими художниками и узнаем, что было с Хокусаем до того, как он стал называться этим именем
По приказу Петра I русские геодезисты Иван Евреинов и Федор Лужин совершили путешествие к восточным границам России. Около года добирались они до Камчатки, а затем в течение двух лет изучали Курильские острова. Здесь обитало племя айну. Айну пользовались каменными топорами, шили себе одежды из шкур и рыбьей кожи. Вглядываясь в туманную даль с берегов острова Кунашир, думали геодезисты, что там, за проливом, наверно, такие же дикие, суровые острова и люди, ведущие первобытную жизнь. Как бы они удивились, узнав о больших городах, не уступающих Москве своей многолюдностью, роскошью дворцов и храмов, о великих мастерах и ученых, о прекрасной стране, с которой граничит Россия! В 1723 году Лужин и Евреинов возвратились в Петербург, не подозревая о том, что побывали у ворот Японии. К концу XVIII века Япония продолжала оставаться страной, малоизвестной в Европе. Государственными делами здесь заправляла военная клика, хотя войны на Японских островах не было уже много лет. Кровопролитная борьба феодальных династий за верховную власть утихла более ста лет назад. Попытка Португалии вмешаться в японские дела окончилась для нее самым плачевным образом. Европейские державы, даже такие сильные, как Англия, до поры до времени не осмеливались вторгаться в Японию, опасаясь ее войска, всегда находившегося в боевой готовности. Поскольку войны не было, воинам — самураям — не оставалось другого дела, как только грабить своих соотечественников — крестьян. Иметь оружие дозволялось только самураям. Крестьяне выращивали рис и тутовые деревья. И все же рис был для них редким лакомством. Носить шелковую одежду по установленному закону крестьяне не имели права. Ходить друг к другу в гости и то им воспрещалось. Столицей Японии был уже тогда город Эдо (нынешнее Токио). Здесь, кроме знати, жило много купцов, ремесленников, поэтов, актеров, художников. Закон не ставил их выше крестьян. Любой самурай мог безнаказанно ударить каждого незнатного родом. Однако без деловой сметки купцов, без мастерства ремесленников не могли обойтись ни самураи, ни князья — даймё, ни глава государства — сёгун. И горожане все больше чувствовали себя людьми, стремились к радостям жизни, в душе презирая властительных бездельников. С некоторого времени и простым горожанам понадобились книги и произведения искусства. Более того, нарушая закон, богатеющие купцы и ремесленники рядились в шелка, посещали театры, угощались в «чайных домиках». Особенно в праздничные дни, когда и крестьянам разрешалось домешивать рис к отрубям. Праздников было много. Это были дни, когда сама природа дарила радость каждому, не обделяя самых униженных и голодных. Все любовались полной луной в осеннюю пору, первым пушистым снегом и, разумеется, цветами. Радость, порождаемую красотой, не в силах были отнять ни у кого самые лютые тираны. Эта радость давала силы для жизни многим поколениям, и не случайно в японском языке в глубокой древности появилось слово «дзиго», которому в других языках нет прямого соответствия. По-русски его приходится передавать целой фразой: «удовлетворение, доставляемое красотой». «Дзиго» доступно каждому, но есть люди, которые его ощущают с особой остротой. «Удовлетворение, доставляемое красотой», переполняет все их существо, помогает преодолевать любые жизненные трудности и даже большое личное горе. Эти люди — великие художники. Об одном из них и расскажет наша повесть. И раз мы уже заговорили о праздниках, пусть она начнется в праздник.I
В 1770 году, как всегда с наступлением весны, все эдокко — жители Эдо — изо дня в день присматривались к почкам вишневых деревьев. Ждали цветения. И вот, как розовым облаком, окутаны серо-зеленые ветки. Преобразился город. Холодной ночью осыпалось множество лепестков. Лиловой кисеей легли они на дорожках парков, усеяли черепичные и соломенные кровли, поплыли по мутным водам реки Сумиды, чтобы смешаться с волнами океана. Пришел всенародный праздник. Радостный праздник любви и ожидаемого счастья, символ которых — цветок вишни. К вечеру улицы были запружены народом. Дети шли с цветущими ветками. Женщины с грудными детьми, привязанными на спину, самураи, дамы с веерами и зонтиками, даймё на конях или в носилках в сопровождении вооруженной свиты, купцы, разодетые в шелка, чернорабочие в соломенных накидках — все вышли полюбоваться цветущими садами. Людская масса плыла, растекаясь по храмам, где позванивали гонги, по театрам, куда манили хрипнущие зазывалы, по аллеям парков, освещенных бумажными фонариками. Там и сям вспыхивают и мерцают на ветру эти фонарики: на старых соснах, на изогнутых крышах павильонов. Надписи и узоры на пестрых фонариках то пропадают, то вырисовываются со странной четкостью. Вот раздались звуки флейты и звенящее постукивание. Это нищие слепцы бредут сквозь толпу своей дорогой. Бойко идет на мостах и перекрестках торговля светящимися червячками. Их несут в бумажных кульках домой или тут же заправляют этим беспламенным горючим переносные фонари. Торговец сладостями Дохэй привлекает покупателей забавной песенкой:В городе Сэндай строили мост.
Там бежала мышка, — я ее за хвост.
Если мышку причесать, лобик ей побрить,
Мышь сумеет торговать, сладости варить.
Стала мышка торговать, но кошка ее — хвать!
Пирожным и мышке приходит крышка
Спешите покупать— хо-хо, хе-хей! — у старика Дохэй!
Ах, печален мир! Даже в пору цветения вишен
Все же печален.

Смолоду жил он неясной мечтой о чем-то возвышенном и прекрасном. Щемящее чувство грустного и сладкого ожидания, приходящее весной, лучше всего соответствовало его настроению. Он выискивал образы для воплощения своей мечты. Это были хрупкие девушки с грустными лицами и матовой желтизной кожи. Их одежды обрисовывались плавными линиями, как ивовые ветви, колышемые ветром. Подбирая расцветку, он думал о нежных переливах цветочных лепестков. Девушки из чайных домиков казались ему небесными феями. Но два-три слова — и все очарование пропадало. Одна только О-Сэн говорила, не оскорбляя его мечту. Их разговоры всегда были полны грусти и недосказанности. Она никогда не говорила ему, что любит какого-то Дзиндзаэмона, но раз вышла за него — значит, любила. Сегодня О-Сэн счастлива, должно быть. А Харунобу по-прежнему грустен. Он тосковал и сам не мог объяснить почему. Радоваться бы весне, в которую он всегда был влюблен, радоваться, что милая девушка нашла свое счастье. А его захлестывала тоска. Почему? Разве мог он знать, что давно и серьезно болен, что в последний раз видит цветение вишни? Выйдя из задумчивости, художник заметил, что старикашка Гохэ все еще стоит перед ним в подобострастной позе и продолжает говорить: — …Позвольте надеяться, что новая девушка, которую мне доставят завтра, будет изображена вами с прежней благосклонностью к нашему скромному заведению. Я видел ее, и, право, она еще более неблагодарной О-Сэн достойна вашей кисти. Харунобу брезгливо швырнул деньги и, уходя, сказал резко: — Скорблю о несчастье вашей новой девушки. Охотно поздравил бы милую О-Сэн сейчас же, да жаль, не знаю, где дом ее уважаемого супруга. Медленно спускается тоскующий Харунобу по ступеням. Его глаза полны страдания. Сгорбившись, кладет руку на саблю, право носить которую унаследовал от благородных предков. Он идет, спотыкается, все больше наклоняясь вперед, отчего сабля поднимается выше и делается похожей на хвост, вздрагивающий под плащом. Забавное зрелище! Это видит мальчуган, сидящий на пороге домика, но не смеется. В свои десять лет мальчик уже научился, наблюдая движения людей, отгадывать их мысли и чувства. Для этого, вообще говоря, нужен немалый жизненный опыт. Такой опыт был у мальчика, несмотря на его юные годы. У него необыкновенные глаза, быстро меняющие выражение, большой нос и торчащие уши. В остальном — ничего особенного: такой же черный пучок волос на круглой бритой головке, такой же халатик, расшитый цветами, как у многих эдоских ребятишек. Мальчик догнал незнакомого человека, последние слова которого успел уловить. Церемонно раскланявшись, совершенно так, как это делали взрослые, обратился к нему:

Харунобу. Снегопад.
— Высокочтимый благородный господин хочет видеть О-Сэн? Я знаю, где ее новый дом. Харунобу не собирался разыскивать девушку, но, не успев ничего подумать, неожиданно для себя ответил: — Я был бы тебе очень обязан, если бы ты проводил меня к ней. И они пошли, то обмениваясь фразами, а то замолкая надолго. Харунобу узнал, что мальчика зовут Накадзима Тэцудзо, что он служит рассыльным в книжной лавке. — Давно ты знаком с О-Сэн? — спросил Харунобу. — О да, давно. До того еще, как меня стали звать Накадзима Тэцудзо, — простодушно отвечал мальчик. Такое сообщение не могло удивить его собеседника, поскольку на протяжении жизни каждый японец по нескольку раз меняет имя: меняются обстоятельства жизни — избирается или назначается новое имя. Таков японский обычай. Слово за слово рассказывал о себе мальчик, а Харунобу слушал с возрастающим интересом, и ему казалось, он видит все своими глазами. Когда он жил не в самом Эдо, а на другом берегу реки Сумида, в предместье Хондзе, округа Кацусика, тогда его звали Токитаро. Хорошо было в Кацусика, куда лучше, чем в Эдо. Токитаро делал что хотел. Он валялся на траве и смотрел, как меняют форму облака, становясь похожими то на гору, то на дракона. Берегом реки доходил до океана. Здесь в час отлива, шлепая по обнажившемуся дну, весело было подбирать всякую морскую живность. Детям все весело. А кроме того, этот улов — пропитание многих семейств. Женщины и старики, в свою очередь, наполняют подолы и корзины скользкими дарами моря. Однажды тут появилась не знакомая никому девчонка. Она шла в Эдо из деревни Табатамура и очень проголодалась. Это была О-Сэн. Кто мог знать, что через какие-нибудь три года о ней будет говорить все Эдо? Токитаро помог ей тогда насобирать креветок. Они их спекли и закусили отлично. Потом О-Сэн рассказывала ему о себе, а он рисовал для нее на мокром песке все, что она просила. В этом месте рассказа Харунобу слегка усмехнулся и перебил: — Ты так хорошо рисовал, что удавалось представить все, что она просила? — Как сказать вам… Теперь я вижу, что рисую плохо, да мне и некогда, но тогда она понимала все, что я рисовал. А если нет, спрашивала, и я ей объяснял. Насколько я заметил, и настоящие художники пишут на своих картинах, что там нарисовано, а без этого можно и не понять. Вот, например, знаменитый Судзуки Харунобу сколько раз рисовал О-Сэн, и правильно делал, что называл ее, иначе и мне бы ее не признать. Художнику стало веселее на душе, и он порадовался, что не назвал своего имени забавному мальчишке. — Что же ты рисовал для О-Сэн? — продолжал он расспросы. — Я рисовал ей историю первого зеркала. И мальчик увлеченно поведал эту историю, будто она была неизвестна собеседнику. Харунобу не останавливал его. Однажды богиня солнца Аматэрасу поссорилась с братом, Сусаноо, богом урагана, редкостным безобразником. Она прощала ему многое, даже то, что он засыпал оросительные каналы на рисовых полях и напачкал в зале, где она пировала. Но брат не унимался. Ободрав шкуру с небесной лошади, он проломил потолок залы, где небесные женщины ткали одежды богам, и вбросил туда окровавленную тушу. Женщины умерли с перепугу. Аматэрасу разгневанная ушла в пещеру и затворилась там, из-за чего во всем мире настала беспросветная ночь. Посоветовавшись с богом хитрости Такамимусуби, боги велели некоему кузнецу Амацумара сделать зеркало. После этого, стуча ногами по опрокинутому чану, стала отплясывать веселая богиня, толстушка Удзумэ. На голову она нацепила парик из листьев дерева масакаки, в руках у нее бамбуковая ветка и копье. Входя в раж, Удзумэ начинает сбрасывать одежду. Все восемь мириадов богов покатывались со смеху. Аматэрасу, как всякая женщина, была любопытна. «Что там такое?» — спросила она. Удзумэ отвечала: «Мы рады и веселы потому, что появилась богиня красивее тебя».

Xарунобу. В лодке.
Все это Тэцудзо рассказывал так увлеченно, что Харунобу впервые за вечер испытал удовольствие. Рассказ сопровождался мимикой, жестикуляцией, изменением голоса. Вот и сейчас прекрасно была представлена Аматэрасу, которая, сгорая от ревности, подошла к выходу из пещеры. Тут, чтобы разжечь ее любопытство, поднесли зеркало, в котором она увидела красавицу — свое отражение. Вне себя Аматэрасу выскочила из пещеры. Обратный путь ей закрыли немедля рисовым канатом. Так благодаря изобретению зеркала вернулось солнце, и мир был спасен. — Выходит, вы говорили с О-Сэн о зеркалах? — Да. У нее было при себе плохонькое, потертое зеркальце, а я обещал ей подарить настоящее волшебное зеркало, на котором сами собой появляются рисунки и надписи. — Боюсь, что такой дорогой подарок тебе трудно сделать даже теперь, несмотря на службу в магазине. — Что вы, — потупив глаза, отвечал Тэцудзо на колкость, — я подарил ей уже четыре таких зеркала. — Вот как! — удивился Харунобу. — Откуда же ты их достал? — Я сделал их сам. Видите ли, когда мой отец умер, мне больше нельзя было оставаться в нашем доме в Хондзо. Дом и поле забрал деревенский староста, которому отец задолжал. А меня взял и сделал своим сыном Накадзима Исэ, шлифовальщик зеркал. Он учил меня делать волшебные зеркала. Если бы вы знали, какая это скучная работа! Особенно скучно оттого, что, говоря по правде, они совсем не волшебные. Это было известно не каждому. Сам Харунобу долгое время дивился загадочным зеркалам. Секрет ему сообщили под условием сохранения тайны. Выяснилось, что гладь зеркала имеет множество незаметных впадин. Кроме того, в одних местах она вылощена больше, в других меньше. От этого поверхность металла нагревается неравномерно: там, где тоньше и шершавей, — скорее, где толще и глаже — медленней. По мере того как зеркало, взятое в руку, нагревается, выпуклости увеличиваются, а впадинки углубляются, давая отблески и тени. Из этих теней и отблесков составляются узоры и буквы. Действитетльно, никакого волшебства, зато тончайший расчет, нечеловеческий труд. Харунобу внимательно, не скрывая своей заинтересованности, посмотрел на мальчика. — Послушай, зачем же ты, обучившись такому удивительному ремеслу, поступил на побегушки в книжную лавку?
 Xарунобу. Гейша.
Xарунобу. Гейша.
— Я не мог больше учиться полировке, когда узнал секрет. С утра до вечера приходилось делать одно и то же. Нельзя было гулять, а когда я рисовал, меня наказывали. — Но почему же? — метнул глазами художник. — Не знаю, право. Думаю, за то, что я рисовал там, где не следует: на стенках дома, на зеркалах. Бумаги мне не давали. Кроме того, я убегал, чтобы пошляться по городу. Зеркальщик из меня не вышел, и мой отец Накадзима решил испробовать меня в торговом деле. Отдал меня учиться в лавку. Но тут у меня не лучше. Правда, теперь я смотрю много книг и гравюр. Я собираю нисики-э. Вот это так гравюры! Тут Харунобу посмотрел на мальчика с величайшим удивлением и даже открыл рот, собираясь сказать что-то. Но Тэцудзо не дал ему сказать ничего, поскольку вошел в раж. — Вы не знаете, что такое нисики-э, парчовые картины? Простите, что сразу не объяснил. Слышали о художниках «укиё-э» — художниках «окружающей жизни»? — Кое-что слышал, — отвечал Харунобу, ухмыльнувшись про себя. — Так вот, как вам известно, они вместо картин делают гравюры. Их может купить каждый. Хоть бы и я, например. Не то что картины. Раньше гравюры печатали одной черной краской. Иногда их раскрашивали. Но разве это картины? А вот Судзуки Харунобу придумал, как печатать нисики-э. Их краски ярче и лучше, чем в лучших старинных картинах. Хорошее для них придумали название: «парчовые картины» — они и вправду блестят и переливаются, как парча. Харунобу решил наконец, рассчитывая на эффект, открыть новоявленному поклоннику свое имя. Но не спешил с этим. Как ни говорите, очень интересно послушать восторженный рассказ о самом себе. Тэцудзо все объяснял достоинства своих любимых картин, а их изобретатель поеживался от ночного холодка. Оба спутника были одеты довольно легко. На голых ногах были у них традиционные сандалии тэта, похожие на миниатюрные скамеечки. Ремешки тэта придерживались одним только большим пальцем, благодаря чему деревянные подошвы отстукивали такт шагов. По этому характерному стуку было ясно, что по улице идут двое. Когда прохожих бывало много, постукивание сливалось в монотонный гул. Ветерок шуршал иголками криптомерий — японских сосен. Шелестел листвой бамбука. Чуть слышно ниспадали цветочные лепестки. Луна еще не поднималась. На фоне деревьев и темноватого неба дома были едва различимы. Призрачным силуэтом выделялись изогнутые крыши, во тьме дворов белели бумажные стенки. Долетали обрывки разговоров, заунывные мелодии сями-сэна — маленькой японской лютни с очень длинным грифом. Внезапно в ускоренном темпе где-то совсем близко застучало еще несколько пар тэта. Харунобу вздрогнул и обернулся. В поздний час не каждая встреча в безлюдном закоулке была приятна. Кто-то из догонявших его крикнул: «Остановитесь!» Харунобу взялся за саблю, шепнув мальчику: «Беги!» Но Тэцудзо не двинулся с места. Сердце Харунобу учащенно билось. Во рту стало сухо, и он не мог произнести ни слова. Между тем подоспевшие остановились в нескольких шагах. Подошел только один запыхавшийся субъект. Ни в костюме, ни в лице его не было ни одной приметной черты. Серое пятно. — Кон ници во (здравствуйте), — сказал он, затем вынул и показал нечто, чего Тэцудзо не мог рассмотреть. К удивлению мальчика, его спутник, опустив глаза, последовал за неприметным господином, не сказав ничего, даже не раскланявшись с ним на прощание. Это обидело мальчика. Он проводил недоуменным и неприязненным взглядом удаляющуюся группу. Если бы только знал Тэцудзо, что познакомился с самим Судзуки Харунобу, он не стоял бы сейчас, а бежал, кричал, догонял обожаемого мастера! А Харунобу шел со своими провожатыми. Никто не нарушал молчания. Тоска была безысходной. Навязчиво лезло в голову стихотворение поэта Рэнсэцу:
Вот листок упал,
Вот другой летит листок
В вихре ледяном.
— Вот вы и попались! — выкрикнул следователь. — Час тому назад государственный преступник Хирага Гэннай схвачен и заключен в тюрьму. — Закончив фразу, Тёдзиро, чтобы усилить впечатление, резким движением опрокинул вазу. Цветущая ветка оказалась у ног художника. — Ваше чистосердечное раскаяние, — почти что ласково закончил Тёдзиро, — может полностью избавить от наказания. Мы знаем все, что говорит каждый японец даже у себя дома. Мы знаем, что вы не разделяете всех взглядов Гэннай. И все же, если вам удастся припомнить как можно подробней, о чем говорил он в вашем клубе, мы будем необычайно признательны. До свидания, извините, что отнял ваше драгоценное время… Проводите господина Харунобу домой. Да возьмите большой фонарь — того и гляди, в темноте можно споткнуться. Почти ничего не соображая, Харунобу поднял цветущую ветку и с нею в руках вышел. Брезжил рассвет. На деревьях сияли крупные капли росы. Как слезы.
Я красотой цветов пленяться не устал,
И слишком грустно потерять их сразу…
Всегда жалею их,
Но так их жаль,
Как этой ночью, не было ни разу,—
Среди нескольких тысяч легких строений, похожих на карточные домики, высится гора с плоской верхушкой. Ее окружают многобашенные стены из серых громадных камней и ров, наполненный водой. Хорошо защищен о-сиро, замок сёгуна! Уже давно эти сёгуны, начальники армии, отняли первенство в государстве у императоров микадо. Под строгим надзором содержится микадо в столице своих предков городе Киото. Киото славится древними храмами. Первый сёгун из рода Токугава построил замок в Эдо, то есть в «воротах залива». Рядом воздвигли свои дворцы князья «дайме». Вокруг стал расти город. Это — столица сёгуна. Эдо славится парками, мастерскими, магазинами, театрами, ресторанами и частными домами. Несколько сот тысяч людей живет здесь. Год от года растет и хорошеет Эдо. Растет здесь и мальчик Накадзима Тэцудзо. Ему уже лет шестнадцать-семнадцать. Его нос уже не кажется слишком длинным на вытянувшемся лице. Глаза перестали стремительно изменять выражение. Они смотрят удивленно и пристально.

Сюнсё. Актер.
Тэцудзо одет небрежно. На нем клетчатый халат с чужого плеча. Для того чтобы его укоротить, пришлось подвязаться веревкой. Из-под веревки мешком повисла присобранная ткань. Перед кем франтить? Вся жизнь в работе, прогулка — тоже работа. Гуляя, Тэцудзо смотрит и изучает. Но странное время выбрано им для прогулки. Осень. Свищет злой ветер. В домах вместо бумажных стенок «сёдзи» поставлены деревянные — «амадо». Сквозь них не угадаешь, что происходит внутри. Не то что летом, когда все комнаты открыты для глаз прохожего.
Кое-что и осенью интересно в центре города, где людно всегда. Зато окраины безрадостны. Еще недавно здесь были деревни. Теперь их поглотило Эдо. Но они далеко не отстроены. Там и здесь сохранились рисовые поля, тутовые рощи. Летом, когда зелено, они украшают город. Осенью и зимой это серые язвы среди кварталов. Здесь царствует ветер. Он завихряет сухие листья. Поджимает кимоно. Заставляет изгибаться телом, отворачивать голову, смешно орудовать руками. Рвет зонтики, вздымает шляпы. Деревья прочнее людей связаны с почвой, но тонкие ветки отданы на его произвол. Гнутся и трепещут, как он прикажет. Так вот, меняя направление шага, не придерживая платья, во всем покоряясь ветру, бредет какая-то женщина. Погода ей безразлична. Вышла из рощи, за которой кладбище. Странно. Сразу вспоминаются рассказы о лисах-оборотнях. Они являются задумчивым юношам именно так, нередко вблизи кладбища. Потом выясняется, что дева-лиса когда-то была женщиной и умерла несколько столетий назад. Она выходит обольщать живущих, но время от времени возвращается в могилу. Оборотни не всегда опасны. Иные из них оказывались верными женами, умными советчицами. В Китае и Японии верили твердо, что оборотни существуют. Как интересно познакомиться с девой-лисицей! Стыдно признаться, но до сих пор Тэцудзо не доверял рассказам о них. Не упустить бы редкий случай! Остановился и стал приглядываться. Фигура чем-то знакома. Кто это? Оказалось — О-Сэн. Нежданная встреча после долгой разлуки. — Вы здесь, без провожатых, в таком уединенном месте? — Тэцудзо, дружок мой, как я рада! Почему не разыскал меня за все это время? Почему? Это долго рассказывать и не слишком интересно. Служил в книжной лавке. Считался ленивым и рассеянным. После смерти приемного отца, когда уже некого было огорчать, бросил мысли о торговле и стал учиться гравюре. Хозяин от него в восторге, не бранит никогда, доверяет любые заказы. Решил уже твердо, что станет художником. Показать пока нечего. Только учится. Сейчас выходил изучать ветер. Молодой человек предпочитал сам задавать вопросы. Выяснилось, что О-Сэн имеет пятилетнего сына, которого очень любит дедушка, отец ее мужа Дзиндзаэмона. Дзиндзаэмон очень занят делами. Отец передоверил ему всю свою коммерцию. Что делала О-Сэн в этом уединенном месте? Сегодня годовщина смерти ее друга Харунобу, и вот была на могиле. Тэцудзо потрясен: — Харунобу! Но как это может быть? В последнее время я часто гравирую его рисунки. Они не приводят меня в восторг, как раньше. Он повторяет себя самого. Но все же это большой художник. Разумеется, он жив и здравствует. Здесь что-то не так… — Увы, милый Тэцудзо! В тот самый год, когда весной я вышла за Дзиндзаэмона и оставила домик «Кагия», Харунобу скончался в конце лета. Я не могу простить себе, что забыла о нем в его последние месяцы. Была занята собой — и вдруг узнала! О-Сэн говорила с такой же грустной серьезностью, как встарь. Она пополнела и не похожа на ту О-Сэн, которую рисовал Харунобу и знал Тэцудзо. Ее лицо застыло подобно красивой маске, не выражая ни горя, ни радости. Тем неожиданней в ее глазах промелькнула тревога: — Тот, кто приносит тебе рисунки Харунобу, — оборотень или убийца. И то и другое казалось вероятным. О-Сэн неоднократно видела Харунобу во сне. К чему бы? Он хочет рассказать что-то важное, но каждый раз сон обрывается в этом месте. Она подозревает, что Харунобу умер не своей смертью. Говорят, что из его дома исчезли все рисунки. Быть может, убийца и вор дает их гравировать? — Он не похож на убийцу, — раздумывая, сказал Тэцудзо. — По всему видно, что он художник. Однажды он рисовал при мне. Я знаю, где он живет. Пойдем сейчас к нему, ты сразу узнаешь, тот ли он, за кого себя выдает. А может, он все-таки Харунобу? — Нет, нет! Я боюсь. И ты не ходи к нему. Не нужно касаться тайны. Кроме несчастья, это не принесет ничего. А вдруг Харунобу скрывается от врагов, оставив им ложную могилу? — Но в этом случае он изменил бы имя, уехал подальше из Эдо и, конечно, не стал бы приносить рисунки незнакомому граверу, — резонно заметил юноша. — А если он оборотень или воришка, я выведу его на чистую воду! — Хочешь, зайдем ко мне, посоветуемся с Дзиндзаэмоном? — Нет, лучше я сам постараюсь разведать, в чем дело. И очень прошу, прежде времени ничего не рассказывай мужу. Тэцудзо не любил Дзиндзаэмона. Он помнил его в «Кагия». Сидит, сопит, краснеет, пьет чашку за чашкой и все не решается заговорить с О-Сэн. Самый невзрачный из ее поклонников. Чем он привлек ее? Но это ее дело. О-Сэн спрашивает, почему не разыскал ее Тэцудзо. А он ведь приходил к ней… «Здравствуйте, господин Дзиндзаэ-мон! Позвольте поздравить вас… Я Тэцудзо…» — «Тэцудзо, Тэцудзо… Помню, помню. Вот на, купи у Дохэя пирожное. Но это в первый и последний раз! Еще будешь клянчить, надеру уши». Тэцудзо бросил монету и, ясное дело, не приходил больше. Тэцудзо расстался с подругой, когда они оказались на многолюдной улице. Он вообразил, будто конфузит ее своим костюмом. Впервые за много лет подумал о своей внешности. Куда направиться теперь, было известно. Разумеется, на поиски того, кто ставит на гравюрах подпись Харунобу. Его дом неподалеку, возле парка Сиба. В этом парке гробницы сёгунов. Сюда приходит и ныне правящий. Все дома вокруг проверяются стражниками. Худшее место для того, кто желает скрываться.
 Сюнсё. Актер в женской роли.
Сюнсё. Актер в женской роли.
Дом в саду. Летом его с улицы не видно. Сад кажется прекрасным. А сейчас? Крылечко не может спрятаться в ветках глицинии. Пробует кутаться в голые ветки, как нищий в лохмотья. Видно, что черепица на крышах осыпалась. Перед домом пруд. Над ним нависли мосты, отражаясь в студенеющей глади. Берега окаймляют скалистые горы. Этот ландшафт Тэцудзо перемахивает одним прыжком. Прудик, мосты и скалы могли бы уместиться на комнатной циновке. Дом состоит из нескольких пристроек, примыкающих друг к другу. Входов несколько. Куда стучать? Остановился и кашлянул — может, кто услышит. А если услышит? Что говорить? Откуда-то вышла белая, мохнатая, как медведь, собачонка. Не лает почему-то. Смотрит умно и сочувственно. Ее бы спросить, да не скажет. Повернул назад. Не тут-то было — исступленно залаяла, хочет кусаться. По счастью, откуда-то из-за угла вышел хозяин. Круглое лицо. Не стар, а волос почти нет. Шнурки очков еле держатся на ушах без мочек. Узнал не сразу, но принял любезно. И, главное, пригласил зайти, не спрашивая, зачем пожаловал. Такой квартиры Тэцудзо не случалось видеть. Кладовая старого храма, а может быть, лавка старьевщика. Завалено все, стен не заметно. Папки, футляры с картинами-свитками, статуи, штабеля гравюрных досок, посуда, бронзовые курильницы и лаковые шкатулки… Тэцудзо опешил: тут много интересного. Пройдя несколько комнат — нигде ни души, — поднялись на второй этаж. Здесь просторней — мастерская художника. Сели. Хозяин шмыгает носом и вопросительно смотрит. Ему, видать, неловко. Больше, чем незваному гостю. Раздумывая, что сказать, Тэцудзо опустил глаза да так и не мог поднять их: на полу были разбросаны удивительные гравюры. Как они были сделаны, что изображали, было непонятно ему, в совершенстве постигшему тонкости ремесла гравера. На первый взгляд казалось, что это не гравюры, а рисунки, выполненные черной тушью. Вглядываясь, можно было заметить следы тиснения и штрихи. Необычайность приемов потрясала. Так, например, японские художники, подобно корейским и китайским, никогда не копировали свет и тени, окутывающие предметы. Эффект создавали упрощенные плоские силуэты. Здесь, напротив, тончайшие линии, переплетаясь друг с другом, создавали иллюзию переходов от света к теням. Или еще. Отечественные мастера изображали предметы в одной картине с разных точек зрения, только бы передать их форму. Здесь, наоборот, все было воспроизведено так, как это могло быть видно в действительности. Даже тогда, когда очертания и размеры искажались до неузнаваемости. Люди, стоящие вдалеке, были много меньше стоящих на переднем плане, боковые стенки домов были сужены до того, что постройки получались плоскими. И все-таки выходило правдоподобно и живо. — Что это? — позабыв обо всем, спросил ошеломленный юноша. — Это ранга — голландские картины. — Какая тонкость штрихов! — не мог удержать своего восторга юный мастер. — Бьешься, бывает, целый день, перепортишь несколько досок, пока вырежешь тонкие линии волос. Затачиваешь резец до того, что он ломается, а все равно линии не выходят такими четкими и тонкими, как здесь. Иголкой это вырезано, что ли? — Представьте, в самом деле иголкой! И не на дереве, а на меди. Скоро я в точности узнаю, как они это делают. — Но кто это делает? И почему такие странные изображения? — Видите ли, тамошние художники работают по-своему. Мы ищем линии, выражающие суть предмета, а они копируют природу точь-в-точь, не упуская ничего, что видят. — Но что это за природа? Где они могут найти такие нелепые сооружения, такие смешные физиономии с круглыми глазами, посаженными неестественно прямо? Что за прически! Словно шкура на голове. — Я же сказал — это голландские картины, а не наши. Голландия — страна далеко за морем, и все там выглядит не так, как в Японии. Что касается физиономий и костюмов, мне самому случалось их видеть… — Но где же? — Конечно, не в Эдо. Не подумайте, однако, что я бывал в заморских странах. Вы знаете, что ездить туда нашим не разрешается. Кто нарушил запрет и вернулся, — все поплатились головой… — Подумав с минуту, счастливый обладатель ранга придвинулся к Тэцудзо и продолжал шепотом: — Как-то я был в Нагасаки. Знакомые купцы, зная мой интерес ко всему необычному, позволили проехаться с ними на остров Дэсима. Туда приходят корабли с товарами из страны Ран, то есть из Голландии. За эти картины пришлось уплатить не дешево. — Впервые слышу обо всем этом! Но почему не разрешается нашим ездить за море, а голландские корабли не заходят в гавань Эдо? — Вы еще очень молоды, не знаете многого. Подобные разговоры не следует заводить с малознакомым. Но вы мне нравитесь. Кое-что расскажу. И вот что узнал Тэцудзо. Около двухсот лет назад в Японию свободно прибывали корабли из многих стран. Заморские люди предлагали добротные теплые ткани и ружья, которые они делают и до сих пор лучше всех. С иноземцами приехало много жрецов бога Яса, которого они почитают. Жрецы рассказывали, что Яса или Иисус, как они выговаривали его имя, был очень добр ко всем беднякам, обещал им счастливую жизнь после смерти. Тем, кто уверовал в Яса, раздавали подарки. Многие, особенно на острове Кюсю, не исключая тамошнего даймё, признали заморского бога и по совету его жрецов затеяли бунт. Это было в 1637 году. Тогда сёгун Йэмицу понял, что иностранцы с помощью его обманутых подданных хотят поработить Японию. Он истребил или выгнал их всех. Голландцы помогали ему, хотя это было странно и подозрительно: ведь они также поклоняются Яса. Все же для них сделано исключение, и они торгуют в Дэсима. Дальше иностранцев допускать опасно. Рассказывают определенно, что страны, гостеприимно встретившие пришлецов, погибли от их оружия и коварства. — И все же, — убежденно закончил собеседник Тэцудзо, — секреты их мастерства нам нужно выведать. Пользуясь их приемами, я создам невиданные в Японии вещи. Работать в стиле китайских и японских школ — значит повторять без конца уже сделанное. Только новое, ни на что не похожее, может вдохновить современного мастера. Тэцудзо бросил пронзительный взгляд: — А если не ошибаюсь, вы приносили гравировать рисунки, выполненные в вашем старом стиле, господин Харунобу! — Вы полагаете, что я Харунобу? — А кем же считать вас, если ваша печать с таким именем? Собеседник смутился, зашмыгал носом: — Вы, молодой человек, стали говорить не так, как надлежит обращаться к старшим. И все-таки вы мне нравитесь. Меня удивляет, что, занимаясь гравюрой, вы не слыхали о смерти Харунобу. Остается предположить, что с вами редко беседуют люди искусства. Тэцудзо смутился в свою очередь. В самом деле, уже не первый год он только и знал что работу да одинокие прогулки. Друзей у него не было. Он стал нелюдимым. Минута без дела казалась потраченной даром. — Позвольте разъяснить ваше недоумение, — продолжал поклонник ранга. — Я начал заниматься искусством с шести лет. Срисовывал птичек с фарфоровой посуды. В десять я написал икону святого Дарума, подражая древним мастерам. Потом поступил учиться к одному мастеру Кано. Некоторое время я работал в духе его школы, следующей приемам китайской классической живописи. Потом мне это наскучило. Не думайте, что я не постиг школы Кано. До сих пор меня восхищает смелость кисти и крепкий рисунок ее прославленных мастеров, таких как Сэссю, Кано Масанобу, Кано Танъю,^ разве их перечислишь? Я копировал их творения самым тщательным образом. Одной только черной тушью с большой достоверностью воспроизводили онитуманные дали, зимние пейзажи с покинутыми хижинами в бамбуковой чаще, обезьян, резвящихся на ветках, полет журавлей, вершины гор, рыбачьи баркасы на водной глади. Наряду с этим я любовался картинами мастеров школы Тоса. Не спорю, что люди и боги похожи у них на прелестных кукол. Но слушайте, как любовно и тонко выписана каждая мелочь — оружие воина или грива коня, — какое изысканное богатство красок! После этого трудно было вернуться к сероватым размывам туши. Кроме того, мне надоело однообразие сюжетов школы Кано. Тут я увидел нисики-э, парчовые гравюры Судзуки Харунобу. Мне показалось — вот лучший мастер укиё-э, соединивший глубину чувства и живость фигур школы Кано с праздничными красками и дивной узорчатостью школы Тоса! Харунобу стал моим идеалом. Нужно же было ему умереть неожиданно, вскоре после того как ему исполнилось сорок лет! С этих пор я стал писать картины, мне кажется, совершенно в его манере и действительно некоторые из них давал вам гравировать. Их признавали его подлинными работами. Некоторые, кому я открывал секрет, думали, что я сын Харунобу. Любопытно, что даже вы не усмотрели подделку. Конечно, я прегрешил этим перед Харунобу, но клянусь вам, больше не подпишусь его именем, а назовусь в память любимого художника Харусигэ. А только узнаю секреты оанга, заговорю так, что меня услышит не только Япония, но весь необъятный мир! Тэцудзо устыдился, поняв нелепость своих предположений и убедившись в искренности и снисходительности человека, которого оскорбил бестактностью поведения. В этот день он думал изобличить злодея, а вместо того приобрел умного и доброго знакомого.

Сюнсё. Актер.
Расставаясь, Тэцудзо сказал: — Простите меня за неучтивость. Как позволите называть вас в дальнейшем? — Как бы я ни подписывался, знайте, что имя мое Сиба Кокан и я всегда к вашим услугам, молодой человек. В этом доме, надеюсь, вы найдете интересные для себя произведения искусства. Приходите. Я человек одинокий и всегда рад побеседовать с просвещенным и любезным гостем. Выйдя от Сиба Кокана, Тэцудзо смотрел на улицы Эдо и представлял их нарисованными в духе ранга. Дорога сужается вдаль. Так кажется, а в действительности она всюду одной ширины. Какой-то крестьянин в соломенной накидке, делавшей его похожим на ежа, несет коромысло. Кадка на коромысле качнулась и закрыла высокую кровлю. Выходит, что кадка перед глазами больше замка, находящегося далеко. Белый зонтик на фоне серого неба выглядит темным пятном. Удивительно! Художники ранга превосходят японцев? Все выглядит в жизни не так, как рисуют японцы? Почему же тогда несколько линий, плоские пятна, — не то, что в жизни, — а видятся фигуры людей, безбрежный простор океана, улицы города? Сущее колдовство! В ранга не видишь линий. Их не заметишь, когда картина написана растекающейся тушью. Между тем Тэцудзо с детства поддался очарованию линий. Возможно, в них колдовская сила. Длинные плавные линии, вне зависимости от того, что очерчивают они, приятно тянуть кистью. Еще упоительней острым резцом выводить их по упругой поверхности мягкого гладкого дерева, распиленного продольно. Имея навык, приятно и не слишком трудно закрашивать без пятен и мазков обведенные линией силуэты по бумаге и шелку. Но если работать кистью, не добиться той несравненной четкости, той равномерности в нанесении красочного слоя, которая доступна, когда печатаешь с дерева. Тэцудзо любит за это работу гравера. Он в мастерской и больше не думает о ранга. Хотя неоднократно вспомнит об их приемах. Но не сейчас. Сейчас — за работу. Берет рисунок, выполненный на тонкой прозрачной бумаге рукой знаменитого мастера Сюнсё. Сюнсё в изображении женщин следовал манере Харунобу. Вместе с тем его увлекало не только настроение, создаваемое их тонкими, гибкими фигурками, а и то, что делали женщины. Сейчас он дал награвировать двенадцать рисунков, воспроизводивших все стадии производства шелка. При помощи птичьего пера стряхивают в коробку яйца бабочки — тутового шелкопряда. Коконы гусениц отделяют от листьев. Нагревая их, мотают нити на специальном станке. Сушат пряжу. Ткут. И, наконец, дамы рассматривают материи, принесенные торговцем. Рисунки выполнены тонкой черной линией. Вырезать ее на деревянной доске труднее всего. Но гравюры будут цветными. Для этого контур переносится еще на три доски. На одной выпуклыми останутся только те пятна, которые будут зелеными, а все остальное нужно срезать стамеской. Другие доски будут для серого и розового тонов. Вверху каждого листа волнистой линией облака отделено от рисунка хитросплетение букв пояснительного текста. Печатать все это придется на длинной ленте бумаги. Потом ее согнут гармошкой, прошьют нитками — будет книга. Такая, как продавал в детстве Тэцудзо. Его интересовало тогда, как делают книги. Теперь он знает это в совершенстве. Конечно, главное — задумать и выполнить рисунок. Этот рисунок гравер копирует несколько раз, обводя через тонкую бумагу. Теперь с оригиналом можно не церемониться. Рисунком вниз он клеится на отполированную грушевую доску. Тут будет вырезан черный контур. Для него в доске резцом, отточенным на оселке, проводятся углубленные борозды. Доску покроют краской, а потом вытрут тряпкой. Краска задержится только в бороздках. В досках для цвета, напротив, краска не попадет в углубления. Тут приходится выдалбливать большие плоскости. Если нет силы в руках, по стамеске бьют деревянным молотком. Так всегда поступают женщины. Среди граверов много женщин. Они славятся аккуратностью работы. И все же совершенному мастеру гравюры не помешают крепкие мускулы. Вот, например, Тэцудзо. Выдалбливая древесину, он направляет руку так, чтобы еще раз подправить основные очертания. На кончике носа, на лбу и на скулах выступил пот от напряжения. Наконец готово. Нужно попробовать, что вышло. Особенно интересен черный контур. К доске, накатанной краской, прижата бумага. Снял осторожно отпечаток. Не удержался, воскликнул: — Не так-то плохо! Не знал, что за ним наблюдают. — Верно! Даже очень хорошо, здорово! Лучше, чем был мой рисунок, — подтвердил незамеченный свидетель. — В ваших линиях певучая плавность, которой владел один Харунобу. Еще немного поучитесь и будете мастером. Хотите учиться у меня? Тэцудзо взглянул: перед ним Сюнсё. Странный вопрос. Кто из желающих заниматься живописью откажется от такого учителя, как Сюнсё?
III
Император-микадо, сёгун, даймё — все знатные люди развлекаются спектаклями театра «Но». Здесь представляют в лицах мифы о богах, легенды о героях древности, сказания о демонах и привидениях. Актеры тут действуют в масках, типы которых неизменны. Труппы исполнителей «Но» входят в придворный штат. Горожане — купцы, ремесленники — все, кого называют «тенин», предпочитают представлениям «Но» театр «Кабуки». Здесь, каков бы ни был сюжет, на сцену выводятся живые люди. Герои древности и современные плебеи испытывают сходные чувства. Спектакли «Кабуки» показывают за деньги. Исполнители пьес играют без масок. Талант актера прославляет его имя. Оно известно всему городу, но самый последний бедняк не станет себя унижать до знакомства с актером. Сюнсё. Актер.
Сюнсё. Актер.
Художники школы «укиё-э» рисуют то, что интересно жителям города. Конечно, они изображают знаменитых актеров «Кабуки». Наряду с портретами красавиц, уличными сценами, литературными иллюстрациями актеров «Кабуки» рисуют чаще всего. Театральные гравюры еще с XVII века полюбились в Эдо. Не было художника «укиё-э», которому не приходилось их делать. Харунобу глубоко презирал актеров и говорил: «Я лучший мастер Японии. Не буду я рисовать этих вертопрахов». А все-таки рисовал в молодые годы. Художники семьи Тории прославились театральными гравюрами. Но сейчас бесспорно лучший мастер этого жанра — Сюнсё, родом из Кацукава, Кацукава Сюнсё. Ученики Сюнсё живут в его доме. Они копируют классиков — живописцев школы Кано и художников «укиё-э», в особенности Харунобу, и, разумеется, своего учителя Сюнсё. Кроме того, они помогают ему выполнять заказы, которых мастерская имеет без числа. Больше всего заказов от содержателей театров. Им нужны афиши спектаклей, портреты актеров в ролях. На всех работах, выходящих из его мастерской, Сюнсё ставит свою именную печать. Ее форма напоминает «Цубо». «Цубо» — по-японски «горшок». Потому-то учеников Сюнсё прозывают в шутку «коцубо», то есть «горшочки». Тэцудзо переехал к Сюнсё и стал одним из «коцубо». Когда он проявил успехи, маэстро наградил его новым именем. Имена учеников подобны имени учителя: Сюнко, Сюнтё, Сюндзо, Сюнри. Тэцудзо стали называть Сюнро. Сюнро не отставал от всех своих товарищей в рисунке, но с театром пришлось знакомиться. Отправляясь смотреть спектакль, он знал почти всегда заранее, что будет представлено. Многое было известно с детства. Действие пьесы, которую предстояло смотреть сегодня, происходило в народной школе, «тэракоя». Когда не было ни Сюнро, ни Тэцудзо, а жил в деревне Хондзе мальчик Токитаро, он посещал подобную «тэракоя». Очень интересно, как знакомая обстановка выглядит в театре. Над входом в театр навешаны пестрые рекламы. Некоторые сделаны у Сюнсё. Множество тэта, оставленных на улице, говорит о количестве зрителей. Зрительный зал с трех сторон окружен галереями на тонких столбах. Между ними ложи, отделенные бумажными перегородками. Здесь, рассевшись на циновках, закусывают и попивают чай целые семьи. От возвышенной сцены через партер без стульев идет помост — «ханамити», «дорога цветов». По ней над головами зрителей во время действия прохаживаются актеры. Сюда же кладут подарки для них. В театре было шумно, хотя спектакль начался. Бегали дети; глашатаи, пояснявшие ход событий, кричали; зрители болтали, умолкая только в самых патетических местах. В этих местах при всем желании не поговоришь: трещотки, сямисэны и барабаны звучат пронзительно. Актеры так густо наложили грим, что мимика незаметна. Они ходят, жестикулируют, меняют позы неестественно, как марионетки. Живые люди подражают куклам с большим успехом. Кукольный театр в самом деле был образцом для «Кабуки». И тем не менее Сюнро был так захвачен спектаклем, что позабыл обо всем. Ему надлежало проследить приемы артистов, подметить их позы, цвета костюмов, а ему уже не до этого. Перед ним не сцена, которая вращается при смене эпизодов, а подлинная жизнь. Что будет, Сюнро заранее знал. Это очень известная историческая легенда о верности самураев своим господам. Действие происходит в IX веке в сельской школе, основанной неким Гэндзо. Гэндзо всей душой предан Сугавара Митидзанэ, бывшему канцлеру императора. Благодаря проискам своего соперника Дзихэя Сугавара был изгнан. Опасность угрожала не только ему, но жизни его маленького сына Сюсай. Верный Гэндзо укрыл мальчика в своей «тэракоя». Злобствующий Дзихэй проведал об этом. Он поручает своему слуге Мацуо убить Сюсая. Ужасно положение Мацуо. Он служит у Дзихэя, но было время, много добра сделал ему Сугавара. Может ли он убить сына Сугавары, которому обязан? Нет, разумеется. Ослушаться Дзихэя он также не смеет. Что делать? Он убивает собственного сына, точь-в-точь похожего на сына Сугавары. Невероятная история, полная трагизма. А начинается очень живо. Сюнро не думает, что дальше, а смотрит, что сейчас на сцене. Он видит классную комнату, как та, в которой учился. Семеро ребят присели на корточки перед низенькими столиками. Они упражняются в письме. Легко представить, что руки испачканы тушью. Среди ребят заметны двое: Сюсай, сын канцлера Сугавары, примерный мальчик, и переросток, по прозвищу «Балбес». Увлеченному зрителю не мешает, что детей и женщин играют взрослые мужчины. Нет сцены, нет актеров, не слышно шума. Настоящая «тэракоя», живые школьники. «Дурачье! Сидеть и заниматься, когда учителя нет в классе! — выкрикивает Балбес. Он поднимает лист бумаги. — А ну, гляньте! Вот я нарисовал бонзу лысоголового». Ребята вскакивают, смотрят, шумят. Только Сюсай продолжает писать. Не поднимая головы, он замечает презрительно: «Мог бы ты, Балбес, выдумать что-то умнее твоих дурацких рисунков. Вырос большой, а простой буквочки не напишешь. Тьфу! Постыдился бы!» Балбес пробует отвечать: «Тоже еще мне пай-мальчик! Смотрите на паиньку…» Но тут его кто-то бьет линейкой по голове: «Будешь, Балбес, еще ругаться…» Великовозрастный детина взвыл, как маленький: «Ай-яй-яй, больно, он меня ударил!» — а сам поливает тушью направо и налево. «Здоровый, а ревет, только тронешь!.. Дать этой образине как следует!»— кричат мальчики. Все бросились в драку. Летят чернильницы, линейки, книжки. Еле урезонила шалунов жена учителя: пригрозила оставить без обеда. Снова засели за урок. Пишут буквы, твердят вполголоса: «Иро-хани-хо-хэ-то…» В это время приходит Тиё, жена самурая Мацуо, который служит злодею Сихэ, но не забыл своего прежнего благодетеля Сугавара. С ней ее мальчик Котаро. Котаро знает, что отец обрек его на смерть ради спасения Сюсая. Он маленький самурай и не должен бояться смерти. Он согласен. Но мать уходит, и ему страшно. Хватает ее за рукав, кричит: «Мама! Не оставляй меня! Возьми меня с собой!» Тиё, сама в страшном волнении, старается успокоить сына: «Ну будет, трусишка. Не стыдно тебе, Котаро?» Она ласкает его и приговаривает: «Видите, какой маменькин сынок. Ты мой милый, мой славный, послушный мой мальчик. Оставайся здесь, будь мужествен. Я скоро вернусь». Тиё уходит. Она идет по «дороге цветов». Оборачивается несколько раз. Уже отойдя, возвращается. Не знает, что сказать… «Простите, что опять беспокою. Я, кажется, забыла веер», — а сама не может глаз оторвать от Котаро. Веер ищут, но она держит его в руках. «Ах, простите, как я рассеянна!» И, снова оглядываясь, идет «дорогой цветов». Несчастная мать! Она оставляет сына на верную смерть. Невозможно смотреть без слез! Никто не жует, не болтает в зале. Все плачут. Затем — еще страшнее. Убивают ребенка. Но зрители не ужасаются и не плачут. Они уже не видят страдающих людей. Перед ними актеры. Вместо живой, разговорной речи — долгая, утомительная декламация. Назойливый ритм оркестра. Эффектные позы. Великолепные драгоценные костюмы. Тоже любопытно. Сюнро задумался. Что рисовать? Живых людей с их чувствами, которых он видел вначале? Актеров, которых потом заметил? Сюнсё советовал — актеров в их роли. Характер героя виден по гриму, походке, костюму. Слова, которые произносит актер, нельзя рисовать. Впрочем, в одном и том же гриме, в одной и той же роли выступают разные актеры. Нужно сделать, чтобы их узнавали. Вот, к примеру, любимец публики Дандзюро Пятый. У него громадный нос. Маленькие глаза наезжают на переносицу. Кривые губы затиснуты. Это все не замазать самой густой краской. «И все-таки, — поучал Сюнсё, — рисуя Дандзюро Пятого в роли, я прежде всего искал такие линии, которые могли выражать непреклонность, мужественный характер его героя». Сюнро ловил каждое слово учителя. Мыслями он возвращался к спектаклю. У всех главных героев пьесы, пожалуй, одна отличительная черта: верность их господину. Во имя спасения господского наследника родители жертвуют собственным сыном. Значит, их нужно нарисовать в позах, выражающих преданность, готовность на жертву. Их будут отличать детали — женская одежда, костюм самурая, детская прическа. Но всех играют актеры-мужчины. И нужно, чтоб их узнавали. Сделаешь так — никто не заплачет. А в театре плакали. Не будет мальчика Котаро, который цепляется за рукав своей мамы. Будут двое мужчин в нелепой позе. Стоит ли это усилий художника? В голову лезло не главное, а второстепенные сцены. Нарисовать бы этих ребят, расшалившихся в «тэракоя», когда учителя нет. Но это можно видеть и не в театре. В театре он вспомнил школу предместья Хондзё, в которой учился сам. Зачем копировать театр, если театр копирует жизнь? Он не решился спросить об этом Сюнсё, а предпочел обратиться к младшему брату учителя, Сюнко. После Сюнсё лучшим художником в мастерской считался Сюнко. Когда Сюнро робко изложил ему свои сомнения, Сюнко усмехнулся. Ему было приятно, что новенький обратился к нему. — Чудак ты, однако! Зачем художнику театр? Да в том-то и дело, что театр заставляет смотреть с интересом на вещи, мимо которых каждый равнодушно проходит в жизни. Школьники подрались. Матери нелегко расставаться с ребенком… Как это обыденно в жизни, а в театре оно волнует. Радость встречи, горесть разлуки, каждое чувство выражается в театре при помощи ритма движений и музыки. Художник улавливает в театре музыку чувств, затем он переводит ее в линии и краски. Театр помогает понять сущность жизни. Вот почему театральные картины — самый возвышенный из жанров живописи. — Спасибо, Сюнко. Я начинаю кое-что понимать… Но, может быть, лучше учиться не в театре «Кабуки»? В драмах «Но» еще больше музыки, а маски актеров еще точнее выражают главное в характере актеров. — До чего ты наивен! Может, ты полагаешь, что мы с братом хуже тебя понимаем, где и как надлежит постигать законы искусства? — Что ты, Сюнко! С тех пор Сюнро прилагал все силы, чтобы постигнуть приемы учителя. И все-таки не ставил театр выше живой жизни. Видя его прилежание, Сюнсё похвалил Сюнро: — Молодец, Сюнро! Я в тебе не ошибся! — В общем, неплохо, — нехотя признавал Сюнко, — Только, знаешь, твоим линиям недостает благородства. В твоей манере сквозит что-то мужицкое. Ну ничего, я помогу тебе в рисунке. С этого времени Сюнко демонстративно прикладывал руку к работам Сюнро, считая его своим подопечным. Это раздражало Сюнро все больше. Но он себя сдерживал и молчал. В конце концов, Сюнко ни разу не портил работы. Что касается Сюнсё, то он, по-видимому, ставил Сюнро выше других учеников. Он доверял ему все чаще самые ответственные заказы. Видя это, Сюнко в глубине души завидовал. Случалось, что брат ставил его в положение помощника Сюнро. Это раздражало Сюнко, разжигало его зависть. Но он себя сдерживал. Этот Сюнро неистов в работе. С ним сделаешь вчетверо больше, чем одному возиться. Сюнко не прочь был выставить напоказ свою дружбу с новым светилом мастерской. Старался сделать так, чтобы Сюнро ни с кем, кроме него, не сближался. Если кто-то начинает разговор, Сюнко вмешается и оставит за собой последнее, непререкаемо авторитетное слово. Между тем к Сюнро многие были внимательны. Даже такие, которых перебивать Сюнко не смел. С ним охотно беседовал Бунтё, друг и постоянный соавтор Сюнсё. Бунтё писал портреты красавиц, подражая Харунобу. Несколько раз он рисовал О-Сэн. Выяснилось, что Сюнро был с нею дружен. Это дало для разговоров первые темы. Бывает, что сходятся противоположные характеры. Так угрюмый, всецело погруженный в работу Сюнро полюбился развеселому, беспутному Утамаро, нередко заходившему в гости к Сюнсё. Со скромным подмастерьем он держался по-приятельски. А сам Сюнсё и тот говорит с Утамаро почтительно, хотя по годам вдвое его старше. Утамаро — необычайный талант.

Утамаро. Из серии «Шелководство»
Лучше Харунобу рисует женщин. Самоуверен. Сюнко попробовал при нем высказаться, — будто не слышал, продолжает свое, люби'г поговорить. Но обращается только к Сюнро. А у того глаза разгораются. «Все, будь то раковина или женщина, сначала нужно понять сердцем. Потом изучить строение. Только тогда можно приступать к живописи. Но главное, дорогой Сюнро, — это любить жизнь». Для Утамаро жить — значит развлекаться. А для Сюнро жить и рисовать — одно и то же. Его удивляет и восхищает Утамаро. Все достается ему легко. Сюнро не отрывается от кисти и резца. Сколько десятков лет еще нужно, чтобы научиться работать, как Утамаро? А тот неизвестно когда успевает творить. Все ходит по гостям, по ресторанам. Часто бывает навеселе. А между тем — великий мастер уже в молодые годы. Если бы он поберег себя! Если бы иметь хоть половину его таланта!
IV
Жизнь — это страдание. Причина страданий — желания. Удовлетворит человек одно свое желание, а на смену ему возникает другое. Люди стремятся к богатству, рвутся к власти, хотят понять причины всех явлений. А для чего? Люди смертны, и все проходит. Сколько было великих полководцев, знаменитых ученых, а что осталось? Самое лучшее для человека — не желать ничего. Тогда прекратятся страдания. Наступит полный покой, блаженное небытие — нирвана. Так учил индиец Сиддхарта Гаутама, прозванный Буддой. «Будда» — значит достигший «бодхи», то есть «высшей истины». Учение Будды распространилось в Китае, Корее, Японии. Средневековые философы и поэты Японии под словом «укиё-э» разумели «горестный, суетный мир». Все бренно, жизнь бесполезна — этому их научили буддисты. Речь пойдет о славных героях, а начинают такими словами: «Гордые недолговечны: они подобны сновиденью весенней ночью. Могучие в конце концов погибнут: они похожи на пылинку пред ликом ветра». Не радовало поэтов даже цветение вишни:Мимолетностью
Сходны с нашим миром
Те вишни, что цветут.
Только что цвели они—
И уже осыпались.
 Утамаро. Девушка с веером.
Утамаро. Девушка с веером.
Однажды Утамаро зашел, когда в мастерской оставался один Сюнро. Этот чудак собирался работать ночью. Раскинул бумагу. Присел на корточки. С маху провел несколько линий. Отошел и задумался. — Ну что ты мучаешься, трудолюбец! — окликнул его Утамаро. — Сидишь тут, выводишь линии, а твои товарищи где-то гуляют. Правильно делают! Давай-ка и мы развлечемся. Смотри, просидишь всю жизнь в мастерской, пройдет твоя молодость, а будешь великим мастером или нет, кто знает. Пошли, право, веселей работа пойдет! Сюнро мялся: — Не знаю… Я никогда не ходил так просто. Извините, господин Утамаро. — А сейчас — задвигай стенки и пойдешь. Между прочим, не терплю церемоний. Называй меня просто Ута. Ведь я ненамного тебя старше. Отправились. Полнолуние. Теплая ночь. Все было похоже на сон. Прошли центр города. Миновали пустынные улицы с бедными, серыми хибарками. Тявкали и подвывали собаки. Заливались цикады. Как будто конец города. Квадраты рисовых полей на пологих склонах. Только луна светит. Вдруг ворота, как буква, начертанная на небе. За ними, чуть-чуть прошли, шумит многолюдный сказочный город Йосивара — «квартал цветов». Широкий бульвар освещен гирляндой разноцветных фонариков. Они сливаются вдали в одну светящуюся линию. Посреди бульвара клумбы. Среди цветущих кустов тоже подвешены фонари. Они придают газонам причудливую расцветку. У входов в нарядные дома покачиваются шелковые ткани с узорочьем надписей. Внутренние помещения отделены рядами квадратных колонн. Золото стен слепит глаза. Ажурная резьба, яркая живопись… Г де-то в дальних невидимых залах под сямисэны поют, постукивают пальцами по барабанам «цуцуми», смеются. Утамаро здесь знают. Едва успевает отвечать на приветствия. Сюнро ошеломлен сверканием и сутолокой. Работать легче, чем развлекаться. — Что, брат, видишь теперь? Вот она, жизнь! — обращается Утамаро. Сюнро себя чувствует неуютно. Зачем пошел? Вокруг снуют разряженные и самодовольные. Брошено несколько презрительных взглядов. Попали в него. Он в рабочем костюме. Растерянный взгляд. Один среди всех. — Ута, прощай. Мне, пожалуй, пора домой. — Да что ты! Брось дурака валять, зайдем вот сюда, взглянем на танцы. Ты никогда не сумеешь нарисовать красавиц, если будешь их знать только по картинам. При этих словах Утамаро уже сбрасывает тэта, кивнув седовласому старцу, который сидит за низким столом у самого входа. Сюнро за ним. Чтобы не спорить на глазах любопытных. Войдя, он осмелел. Утамаро необычайно весел. Их окружили девушки. Как они милы, как внимательны! Расселся на циновке, пьет сакэ, закусывает сладостями и апельсинами. Начал шутить с веселыми прислужницами. Хлопает в такт пляске. Неужто он здесь не бывал? Кажется, все его знают, со всеми виделся тысячу раз. Молодец Ута! Потребовал тушь и тут же набросал широкой кистью прямо на ширме странную птицу. Кроме прислужниц, певиц, танцовщиц, гостей уйма. Никто не представляется, будто давно знакомы. С кем-то, кто оказался по соседству, Сюнро разговорился. Изощрялись в остроумии по поводу внешности и поведения всех прочих. Много смеялись, когда началась игра в лису. Один играющий был лисом. На его голове повязали платок. Кверху торчат лисьи уши. Он должен схватить со столика чашечку сакэ. Перед столиком две девушки держат шнурок с петлей. Схватывать нужно по сигналу, когда игроки хлопнут в ладоши. Трудно схватить чашечку: девушки каждый раз проворно затягивают петлю. Лиса попадала в петлю. Проигрывала. Смеху было! Потом играли в кости. Кто проиграл — должен снять часть одежды. Вот тут не повезло соседу Сюнро. Очень смутившись, вынужден был сбросить кимоно. То-то смеялись! Сюнро придумал: кто проиграл, тем разрисовывать спину. Взял да изукрасил своего нового знакомого. Понравилось всем. Что было потом, Сюнро не помнил. Проснулся с головной болью в мастерской. Нехотя принялся за работу — картину-рекламу торговца художественными предметами. Сюнро думал, что будет работать ночью. А только начинает. И вдруг… Кисть забегала, словно сама собой движется. Подъем, никогда неведомый раньше. Нужно было представить великолепие художественных изделий. Всплыли в памяти смутные впечатления прошлой ночи. Блеск лака. Сверкание золота. Многоцветность одежд. Изумруды освещенной травы. Перламутр набеленных лиц и чернота волос рядом. Мелькание и мерцание пятен в свете фонариков и полной луны. Ничего простого, обыденного. Все изысканно, подобно тончайшему аромату цветка. Один Утамаро умеет передать все это без грубой пестроты. В гравюрах он любит серебряный фон. Но главное у него — женские лица. А здесь нужно писать вещи. Кроме того, реклама должна быть яркой. Драгоценное оружие и яркие ткани умели писать мастера школы Тоса. Зря их считают вульгарными. Думая так, Сюнро работал без устали. В полдень в мастерскую заглянул Утамаро: — Вот не ожидал застать тебя за работой! Сюнро с трудом оторвался от живописи. Встал. Сполоснул кисть. Утамаро говорил весело, а Сюнро перестал улыбаться. — Ну и разошелся ты вчера! Отнял у Окито веер во время танца. Она говорила мне, что еще не встречала такого развязного малого, как ты. Ай да Сюнро, тихоня! Можешь не супить брови. Все обошлось прекрасно. Я, правда, струхнул малость, когда ты изукрасил стену нашего свирепейшего Тёдзиро, но, представь, это ему понравилось. Видать, говорит, у парня чистая совесть, раз не боится. А Дзюсабуро в восторге от твоего остроумия. — В толк не возьму, о чем это. Какого «свирепейшего» я мог обидеть? О каком таком Дзюсабуро речь? — Эх ты, простофиля! Не подозревал, что за тип Тёдзиро? А он ведь из главных «мэцкэ», «смотрящих», тайных агентов сёгуна. Даром что молод, а первый мастер по части пыток. А как позабыть Дзюсабуро? Ведь я вас вчера познакомил. Знаменитый издатель, многих вывел в люди. Я сам у него семь лет прожил. Его дом рядом с Йосивара. Благодаря его заказам художники прославили «квартал цветов». Жить у него одно удовольствие. Он и тебе предлагал переселиться к нему. Тоже не помнишь?
 Утамаро. Туалет.
Утамаро. Туалет.
— Переселиться? Но как я могу покинуть учителя? Потом, Ута, у меня плохо на душе после вчерашнего. Никогда больше не пойду в Йосивара. По-твоему, это жизнь, по-моему — сон. И, знаешь, девицы Йосивара на твоих гравюрах лучше, чем в жизни. Сначала я не заметил, а теперь мне кажется, что петь, веселиться и танцевать им скучно. Утамаро задумался. Тряхнул головой: — Да ну тебя! Того гляди, и меня собьешь с толку. Не могу работать с такими мыслями. Жить нужно и веселиться, а то с тоски подохнешь. Вот ты меня перебил, и я не рассказал, что собирался. Помнишь, ты восхищался Сиба Коканом, тем самым, что подделывал рисунки Харунобу и увлекался ранга, голландскими картинами? Так слушай, как оскандалился твой любимец. Иду я сейчас мимо храма Каннон. Толпы народа, крик, шум. Оказывается, твой Сиба Кокан написал картину в новом стиле и выставил в храме. Насмотрелся своих ранга и вздумал изображать наших людей в этом духе. Со всеми, кто смеялся, спорил, ругал нашу живопись. Кое-кто был на его стороне. Завязалась драка, его избили, а картину выкинули. Вот тебе и Сиба Кокан! Будет знать, как с чужеземцами якшаться. Сюнро слушал с неприятным чувством. Как можно говорить о Сиба Кокане в таком обидном тоне? Возможно, что он чересчур увлекся ранга. Их нельзя копировать слепо. Пусть неудачна его картина, хотя Утамаро ее сам не видел. В приемах ранга есть кое-что интересное. Утамаро это знает прекрасно. А сейчас, как видно, уже успел хватить сакэ. И вообще, чему он учит? Развлекаться? Он полагает, что красота только в Йосивара? А кто вообще знает, что такое красота? Все, что естественно, — вот что красиво, говорил себе Сюнро. Тем временем Утамаро рассматривал его работу. Уходя, Утамаро сказал: — Теперь, после того как ты потерял вчера несколько часов даром, полагаю, год не выйдешь из мастерской. Не буду тебе мешать. Будь здоров! — И, обернувшись с порога, добавил: — Боюсь, что скоро ты поменяешь имя. То, что сейчас делаешь, не похоже на Сюнсё. Я опасался, что ты станешь только его лучшим учеником, а ты сам художник, не похожий ни на кого из нас! Не идешь к Дзюсабуро, — твое дело. С твоим характером — даже лучше. Не исключается, что Сюнко, брат учителя, слышал что-то из этого. Во всяком случае, он вошел в крайне раздраженном настроении. — Ну что, пришел в себя? — пробурчал вместо приветствия. — Мы все ушли рано утром, чтобы не слушать твоего храпа. — Затем, не ожидая ответа, Сюнко принялся растирать белила и размешивать их на желатине. — Что это ты собираешься делать? — спросил Сюнро. — То естр как это — что? Ты разве не замечаешь, что испортил всю работу? Попытаюсь привести ее в сколько-нибудь пристойный вид. — Не трудись, я сам знаю, что делать. И белила не нужно портить, они тут не понадобятся. Сюнко взорвало: — Слушай, брось кисть сейчас же! Ты забыл все, чему научился! — Нет, лучше ты отойди. Не мешай работать. В конце концов, не ты здесь хозяин, — отпарировал Сюнро. Когда через несколько минут в мастерскую вошли Сюнсё и Бунтё, Сюнко и Сюнро ожесточенно колотили друг друга. Работа Сюнро была порвана в клочки и затоптана. — Что здесь происходит? — спросил учитель дрогнувшим голосом. — Кто виноват? Сюнро и Сюнко стояли несколько секунд, тяжело дыша и поглядывая друг на друга со злобой. Бунтё готов был засмеяться, глядя на них. Однако, обернувшись к Сюнсё, заметил, что тот схватился за ширму и еле стоит на ногах. Подхватил друга и осторожно усадил на циновку. Сердце Сюнсё стучало громко, готовое вырваться из груди. На лбу у него выступил пот. Бунтё было не до смеха. Между тем Сюнро и Сюнко, уперев руки в пол, кланялись и бормотали в страшном волнении: — Признаю свою вину, очень виноват… Подняв голову, Сюнсё улыбнулся: — Я тоже признаю, что виноват… перепугал вас, самых моих дорогих. С этих пор больной Сюнсё редко виделся с учениками, обо всем, что происходило в мастерской, узнавал от брата. «Как там наш Сюнро?» — спросит, бывало. «Ничего, все по-прежнему», — ответит Сюнко. «По-прежнему? Вот странно… А я от него жду чего-то нового». — «Чего же?» — «В том-то и дело, сам не знаю чего», — вздохнет Сюнсё. Между тем Сюнро в самом деле добивался нового, но тоже не знал, чего именно. Чтобы не ссориться с Сюнко, чтобы не огорчать учителя, куда уходил, с кем виделся — ни о чем не рассказывал. В мастерской не показывался месяцами.
V
Горожане, как сказано, любят гравюры художников «укиё-э», изображающие все, что интересно и приятно в окружающем. «Укиё-э», однако, не одна, а несколько школ. Есть поклонники школы Кацукава, другие отдают предпочтение школе Утагава. Хатамото — самые родовитые самураи и князья-даймё выше всего ставят среди школ живописи Тоса. На картинах Тоса они видят изображения своих знаменитых предков во время битв и походов, торжественных придворных церемоний или на отдыхе в замковом парке. Стиль Тоса справедливо называют «украшенным». Может ли он быть иным, если владетельный рыцарь сам по себе всегда украшен? Его узнают не по лицу, не по сложению тела. Полированные доспехи, замысловатое плетение кольчуги, нагрудник чеканного золота, дракон литого металла, знак отличия — шелковое знамя с вышитым или написанным яркими красками гербом предков, парча одежд, усыпанный драгоценными камнями меч, о котором почтительно говорят как о «душе самурая», — вот признаки знатного воина. Мастера Тоса умеют красивым мазком в точности выписать каждую деталь. Их краски — синяя, красная, зеленая, белая, золотая — чисты и ослепительны. Ученые люди, знатоки китайских классических древностей, единственно стоящей полагают школу Кано. На первый взгляд ничего нет проще рисунков в стиле Кано: немного линий, мало красок, а чаще — только черная тушь. Утверждают, однако, что овладеть приемами этой школы можно не скорее чем за восемь — десять лет. Эйсэн. Гейша.
Эйсэн. Гейша.
Сюнро был из лучших в школе Кацукава, но чем дальше, тем меньше понимал, каковы ее задачи и цели. Сосредоточиться на портретах актеров «Кабуки»? Да, их приходилось выполнять, но сам учитель уже несколько лет как отошел от театра. Кроме того, в области театральных гравюр со школой Кацукава соревновалась школа Утагава во главе с прославленным Тоёкуни и многие другие художники «укиё-э». Конечно, если хочешь совершенствоваться в мастерстве, очень важно иметь опытного руководителя. Но что делать, когда Сюнсё молчит, одобряет, а чаще отсутствует. Выполнять заказы ради заработка становилось скучно. Зачем одинокому Сюнро деньги, если сбережений достанет на несколько лет? Понятно, что он с охотой уступал работу товарищу, а сам исчезал на несколько месяцев подряд. Он полюбил путешествия. Оказалось, что даже в окрестностях Эдо можно было открывать ранее не примеченные красоты. Поражало, сколько еще есть восхитительных уголков, мимо которых прошли поколения живописцев. И это касается даже того, что было прославлено издревле. На север от Эдо возвышаются горы Никкодзан. «Никкодзан» — значит буквально «две дикие горы». В действительности здесь несколько вершин. Среди них главенствует Нантай, вулкан, у подножия которого озеро. В озере берет начало ручей, ниспадающий каскадами по скалам, образованным извергнутой когда-то лавой. По склону на протяжении семидесяти километров раскинулся лес. Под сенью вековых криптомерий прохладно в самые жаркие дни. От реки Нижней Тонагава этим лесом можно дойти до знаменитых храмов. Подняться по широким лестницам с террасы на террасу и, миновав ряд дворов, приблизиться к башнеобразным сооружениям — пагодам. Квадратное тулово пагоды поэтажно опоясано крышами, увенчано высоким шпилем. Изысканна окраска: черное с золотом и ярко-алым. Фоном служат темная зелень и светлая лазурь неба. Никко — любимое место паломничества, святыня. Здесь лечат недуги. Телесные — водой горячих ключей, а душевные — неизреченной красотой природы. Не зря сёгун Йэасу, основатель Эдо, пожелал быть погребенным в Никко. Верно говорят: нечего рассуждать о красоте и великолепии тому, кто не видывал Никко. Верно и то, что посетившему Никко трудно его описать словами. Искусный Сюнро не мог запечатлеть виденное в рисунке, как ни старался. Все, что он делал, было несходно, бедно. Заученные линии, излишне пестрые краски. Обратился к Сюнсё. Тот посмотрел и сказал, что неплохо. — Но почему же там, в Никко, все бесконечно прекрасней? Почему я вижу одно, а пишу другое? — с отчаянием в голосе допытывался Сюнро. — И все же, — улыбнулся Сюнсё— всякий, кто знает Никко, установит, что именно ты изобразил здесь. — Кто знает? А если не знает, разве он увидит все то, что я сам видел? — не унимался упрямый ученик. Сюнсё только развел руками. Сиба Кокан, с которым Сюнро поделился этим разочарованием и своей досадой, понимающе закивал головой. Ответил наставительно, с оттенком злорадства в голосе: — Ну вот, наконец-то! Еще немного, молодой человек, и вы поймете, что мы отстали от заморских стран лет на триста… То, о чем вы мечтаете, доступно в Голландии каждому художнику. И заметьте себе: они пишут и заканчивают картину, копируя, что у них перед глазами, все как есть, до мельчайших деталей. Чему-нибудь подобному ваш Сюнсё да и никто из наших не научит.
 Кано Мотонобу. Водопад.
Кано Мотонобу. Водопад.
— А вы? — Я пока что сам учусь этому, — уклонился от ответа Кокан. После скандала с картиной он не показывал никому того, что делал. По дороге к храмам Никко остановился Сюнро у озера Тюдзэндзи. Горьковато-сухие запахи хвои сменились пряным и сладким ароматом трав и цветущих кустарников. Вместо волнующего разнообразия птичьих голосов— успокаивающее однообразие жужжания и пиликанья насекомых. Здесь хорошо и спокойно. Праздного человека потянет вздремнуть. У живописца о другом мысли. Отсюда открывается вид на долину. Выше взбираться нет надобности — пейзаж, при виде которого сердце трепещет. Дарящая счастье красота! Прав Кокан: каждую мелочь — веточку, бугорок, оттенок зелени, — все здесь нужно копировать точь-в-точь. Приемы, которым обучался, нужно забыть. Смотреть и писать, что видишь. Как просто и радостно! Жаль, однако, что много праздных гуляющих. Каждый посчитает долгом подойти и взглянуть на работу художника… Огляделся и нашел выход. Исцарапав ноги и руки, вскарабкался на большой камень: сюда не влезут. Можно работать спокойно. Развернул узелок. Растер краски в маленьких чашечках стеклянным пестиком. Замешал на желатине. Положил доску с бумагой. Вынул кисти из бамбуковой трубочки. Налил воды из фляги в две большие кружки. Все готово, но как начинать? Наметил верхушки сосен, повисшие над ними клочья тумана. А солнце поднялось. Рассеивается туман, и неожиданно возникают невидимые раньше холмы, поля, рощи, крыши строений. Пока составляешь тон, смешивая краски, в натуре он уже изменился. Подбирай заново. Набежит облако, и то, что ярко светилось, поблекло. Мучение, а не работа! Посмотрел, как получилось, — ничего общего с тем, что перед глазами. Порвал и выбросил. Нужно писать быстрее. Поработал еще часа три. Стал мириться с неточностью своей копии живого пейзажа. Восторг от красоты исчез с приходом усталости. Стрекот насекомых не успокаивал, а раздражал. Ветер уже не приносил прохлады. Как назло, загустели белила. Нужно растирать заново. Отчаяние. А тут еще шаги за спиной, кто-то приветствует. Как он сюда добрался, непостижимо. Оглянулся, и стало смешно: лез сюда по отвесной стенке, а с другой стороны к этому камню ведет тропинка. По ней легко и просто поднялся Танари Сори, художник, работающий в стиле Кано. Рассыпаясь в любезностях, Сори держал себя так, будто они давно знакомы. Сюнро был рад, что коллега, только мельком взглянув на его неудавшийся этюд, говорил о чем-то другом. Оба улыбались смущенно и благожелательно. — Право, не знаю, как объяснить это сразу, но у меня к вам очень важное дело, господин Сюнро. Не скрою, что тщетно разыскиваю вас уже несколько дней» и вот — счастливый случай. Милостью Будды посланная встреча. Сюнро тем временем с чувством облегчения свернул свою работу. — Какое ни с чем не сравнимое удовольствие, — продолжал Танари Сори, — было бы для меня прогуляться сейчас вместе с вами по священным местам Никко!.. И вот, обмениваясь ничего не значащими любезностями, они дошли до главных ворот храма. Здесь остановились полюбоваться знаменитой резьбой. Искусной рукой Дзингоро, архитектора и скульптора, были тут представлены изображения всех богов и великолепные узоры. На двух наружных столбах он вырезал драконов, как говорят по эскизам Танъю, своего великого современника, мастера школы Кано XVII столетия. Вошли в храм, и тут внимание Сюнро привлекла неожиданно одна совсем небольшая и очень грубо вырубленная из бревнышка статуэтка. Дерево было едва обработано. Во многих местах его поверхность осталась нетронутой. — Вот так чудо! — воскликнул Сюнро. — Красиво и как просто: то, что принято называть «ваба-саби» — «красота простоты». Танари Сори снисходительно улыбнулся: — Эта вещь работы Энку. Она действительно проста, но это не удивительно: странствуя по Японии, где бы он ни заночевал, этот монах всюду оставлял какую-нибудь скульптуру. Просто — потому что сработано поспешно. Пойдемте-ка дальше, и вы увидите настоящий шедевр. Тоже очень простой, в духе «ваба-саби», но, на мой взгляд, более изысканный. Неподалеку, в другом храме, осмотрели шедевр собственной кисти Танъю. Тушью на деревянных панелях написал он здесь четырех львов. Сюнро не мог не восхититься смелостью круглящихся линий, переходящих от толщины волоска до ширины ладони. — И так у него всегда, — подтвердил Танари Сори, — истинное волшебство линии, и, главное, ничего лишнего. Лошадь — всего три удара кисти, журавль — два. Каждая его картина — двадцать — тридцать движений руки, не более. — И с легкой иронией добавил: —Разумеется, все это устаревшие приемы Кано… — Продолжил, как показалось Сюнро, не без намека на его тщетную попытку изобразить красоты Никко: — Шел я сюда утром, видел туманы, проплывающие в долине. Думал: вот картина в духе Какэя… Он передал бы все очарование этого пейзажа небольшим количеством одной только черной туши. Какэй — так читали в Японии имя китайского живописца XII века Ся Гуй, мастерство которого считалось классическим в школе Кано. Сюнро слышал о картине Какэя, в которой он почти не коснулся кистью белого фона. Едва наметил лодки, и весь обширный фон стал восприниматься как водная гладь. Может быть, правда на стороне Кано? Сегодня Сюнро сам убедился, как трудно и бесполезно копировать изменчивую природу, стараясь схватить все, что видишь. Мало ли что делают голландцы! Наша родина — Ямато, а не Ран. Будто угадав ход его мыслей, Сори воскликнул: — Вот эта пагода, создание несравненного Дзингоро, где бы ещемогла быть? Уверен — только в Японии и только здесь, в Никко! Пагода была чудом не только архитектурного, но также инженерного искусства. Внутри на всю ее высоту было подвешено колоссальное бревно Высокая деревянная башня, расположенная на вулкане, легко переносила сотрясение грунта благодаря этому маятнику. Нечего и говорить, насколько своими внешними формами пагода гармонировала с окружающим пейзажем. Что касается чистоты отделки столбов, балок, блеска их бронзовой обивки, гвоздей, то все это можно по праву сравнить с добросовестностью самой природы. Конечно, здесь могла выстоять и должна возвышаться только такая пагода! И, разумеется, ее построил и разукрасил не какой-нибудь голландец, а великий японец Дзингоро. Сори располагал к себе все больше. — Тысячу раз прошу извинить меня — слушая вас с наслаждением, так и не осведомился о том, на что намекнули давеча. У вас какая-то нужда до меня? Большим счастьем почту служить вам. — Все никак не осмеливался сказать, и, право, не знаю, доставит ли вам удовольствие то, что скажу. Есть у меня дочь, глупая, взбалмошная и неучтивая, во всем похожа на родителя. Последнее время творилось с ней что-то неладное. Росла она без матери, вот почему довелось мне выпытывать самому, в чем дело… Сюнро слушал рассеянно: самоуничижительные обороты и все эти словесные реверансы были в Японии общепринятыми формулами вежливого обращения. Пропустив почти все мимо ушей, остолбенел, когда заключительная фраза, несколько раз повторенная, потребовала решительного ответа: согласен ли он жениться на дочери Танари Сори? Жениться? Менее всего Сюнро об этом думал. Создалось довольно натянутое положение. — Ваша дочь? Откуда она знает меня? — Как же не знать ей вашу милость, если она присматривает за моим старым другом Сиба Коканом! Тут только вспомнил Сюнро: милая, нежная девушка, вылитая О-Сэн. Кокан называл ее внучкой. Выйдет, подаст чай, зальется румянцем, поклонится и уйдет. Сюнро к ней привык, называл ее Ханако — цветочек. Тут только понял, что очень ему нравилась. Отца ее тоже видывал у Кокана, как позабыл — удивительно. — Боязно мне было, что станете смеяться, вот и решил я сам выступить сватом, — продолжал Сори, — по крайней мере, думаю, все останется между нами. Сюнро почему-то ухватился за последние слова: — Да, если жениться, хорошо, чтобы все было между нами. Без огласки. В тесном семейном кругу… Так и было. Девять раз обменялись молодые чашечками сакэ. Танари Сори пропел благопожелательную песню из драмы «Но»: «Спокойны волны четырех морей». Его ученик, молодой парень, Сёдзи заплакал почему-то, махнул рукой и вышел из комнаты. И началась для Сюнро нежданно новая, непривычная жизнь. Просто, не правда ли? Не удивляйтесь: такие браки — дело обычное в старой Японии.

Кнёнага. Взморье у Синагава. Из серии «12 месяцев».
«Ханако, милая, что тебе могло во мне понравиться?» — спрашивал Сюнро. Та краснела и опускала голову. «Ханако, любимая, что ты хочешь, — все для тебя сделаю», — продолжал он. Она пожимала плечами, не хотела говорить, а все-таки сказала: «Повези меня кататься по Сумидагава». Лодочники в пестрых халатах оттолкнулись от берега бамбуковыми шестами. Один отдает команду, как плыть, другой сидит на корме и гребет. Дома к реке задними стенками. Крыши сливаются в линию, бегущую вниз к горизонту, как на картинах ранга. Один к одному. Мосты, мосты. Под ними на миг темнота. Мосты резко выгнуты. Вместе с отражением — правильный круг. Время от времени вынимает Ханако из парчовой сумки коробочки с румянами и пудрой, напоенные духами бумажки, маленькие гребни, — прихорашивается. Мимо снуют лодки. Проезжающие обмениваются шутками с молодоженами. Приятно, пожалуй, что многие их видят. Ханако дивно хороша. Вот она запела, отбивая такт ладошками по скамейке:
Мечтать о встрече — это безнадежно.
С тобою не увидеться нам вновь!
Лишь в снах…
Но сны не прочней яшмы нежной,
А явь, увы, еще не прочней снов!
 Харунобу. Осэн, девушка из чайного дома.
Харунобу. Осэн, девушка из чайного дома.
 Утамаро. Такигава из дома Огня. Из серии «Красавицы нашего времени».
Утамаро. Такигава из дома Огня. Из серии «Красавицы нашего времени».
После того как несколько копий, сделанных Сюнро, наконец удовлетворили Сори, он показал зятю высоко ценимую им китайскую книгу «Учебник живописи издательства «Сад горчичных зерен», составленный знаменитым ученым XVII века Ли Ю, в этом случае назвавшимся «Учитель Ли Ливень». Это была энциклопедия многовековых достижений китайской живописи. Здесь очень подробно говорилось о красках, были даны гравюры-таблицы, на которых несколькими штрихами разъяснялось строение человеческих фигур, птиц, животных, растений, насекомых, давались классические образцы композиций пейзажа. Сюнро увлекся этой книгой и позабыл, что есть на свете школа Кацукава. Жена была нежной и молчаливой. Сюнро был счастлив настолько, что думать забыл о прошлом. Но вот однажды увидел во сне Сюнсё, как всегда доброго, снисходительного. Сон оставил глубокое впечатление. Стали мучить угрызения совести. Как можно бессовестно забыть больного учителя, товарищей? Предупредил тестя и жену, что идет по делу, которое задержит надолго. Отправился с трепетом душевным в покинутую им мастерскую Сюнсё. Чем объяснит свое долгое отсутствие, об этом не думал. Шел выполнить долг, поправить непроизвольную неучтивость. — Что это с тобой случилось, где пропадал? — встретил Сюнко строго. — Не сердись, Сюнко, очень виноват перед тобой и учителем: я женился. И больше ни слова. Не рассказал о том, что учится у Танари Сори. В связи с болезнью Сюнсё дела мастерской ухудшились. Сюнро взялся и сделал несколько эскизов. Подумал, как надоел театр «Кабуки». Утвердился во мнении — нужно писать актеров так, как они играют. Передать их неестественные движения, роскошь костюмов и обстановки. Скупые линии Кано здесь не подходят. Нужно вспоминать мастеров Тоса. Однако и не попробовал это сделать. Денег не взял. Когда уходил, Сюнко проводил его с искренним чувством дружбы: соскучился, был благодарен за помощь. По возвращении застал тестя больным. За ним, ухаживал Сиба Кокан. Увиделись и не сказали ничего друг другу. И так все было понятно. Где же Ханако? Не вышла встретить. У нее появилась маленькая обезьянка — кто-то подарил, — целыми днями забавляется с нею. Только и говорит о своей любимице. Ни ей ничего не расскажешь, ни от нее иного чего не услышишь. Право, она как дитя малое. Чуть было не рассердился, но обнял жену с нежностью: на ухо шепнула, что ждет ребенка. В такое время у женщин бывают странности. Полюбил ее пуще прежнего. Даже лучше, что она, дурочка, не понимает, как плохо ее отцу. Был лекарь, говорит, не протянет долго. Поздней осенью часты похороны. Так и вышло. Перед смертью говорил Танари Сори: — Меня не станет, возьми мое имя и мастерскую. Верю, что ты прославишь школу Кано…
 Киёнага. У храма Мидзою.
Киёнага. У храма Мидзою.
Стал с этого времени Сюнро называться Хисикава Сори. Подписывал так картины в духе Кано, а другие, что делал в мастерской Сюнсё, — прежним именем. От горя одно спасение — с головой в работу. Разложил принадлежности, позвал учеников Танари Сори — теперь своих учеников. Лучший из них — Сёдзи. Начал объяснять что-то. Не тут-то было. Вбежала обезьянка, давай метаться по комнате, то кисть схватит, то чашку с водой разольет, то быстро-быстро лезет по платью, словно на дерево, не отцепишь, не сбросишь. Рассердился. Резко окликнул жену — забери, мол, сокровище. Вошла молча, поймала, ушла. На глазах слезы, а глаза злые. Не замечал этого раньше. Вечером помирились, однако. Пришли соседи. Дом Сори — в квартале бедняков. В их среде слыл он самым что ни на есть изысканным аристократом. А зять — баснословным богачом. Степенно, но с видимым стеснением расселись. Ханако весела нежданно. Угощает, тараторит, а с нею обходятся так, будто она невесть какая важная дама. Соседи люди простые. Вспомнил Хисикава Сори, бывший Токитаро, свое детство, родной квартал Кацусика. Он рос среди таких бедняков, как вот эти, знает, что за люди. Горды, как самураи, даром что жизнь их течет на базаре. Один торгует перцем. Не хочет уронить достоинства, говорит: зарабатываю достаточно, много ли, мол, нужно? Зато ни от кого не зависишь, никому не служишь, никого не боишься. А сам плоховат — кашляет да кашляет, так и заливается. Голодный, пожалуй, а ест с такой миной, будто накануне объелся. Другой — каменотес. Вытесывает с утра до вечера каменных лисов, священных коней для храмов, а в молодости, утверждает, делал надгробие какого-то даймё. Третий — жонглер и акробат. Выступает на базаре ежедневно, но главным своим делом считает участие в храмовых праздниках. Четвертый — почти коллега, художник. Выделывает лаковые вещи, расписанные золотом, инкрустированные перламутром или костью, — шкатулки, мебель, экраны. Весельчак. После первых минут взаимной церемонности, когда опорожнили по нескольку чашек сакэ, языки развязались. Хозяин подбадривал всех своими остротами и простотой обращения. Жена перестала куражиться — смирилась с тем, что муж не умеет держаться, как позволяет его положение. Говорили, уже не стесняясь ее присутствием. Как будто она ровня им. Торговец перцем сообщил случай, бывший якобы с его знакомым. Вообще-то анекдот довольно известный. Поймал стражник некоего бонзу — воришку. Ведет. А хитрый бонза намекает: не худо бы выпить, благо остались у него деньжата, которые в тюрьме не потратишь. Зашли, выпили. Бонза напоил стражника, вытащил на дорогу, одел в свою рясу, обрил ему голову, а сам давай бог ноги. Проспался назадачливый воин, пощупал свою голову, одежду и говорит: «Слава Будде, бонза на месте, только вот я куда делся, никак не пойму». Слово за слово, оживился молчавший до этого мастер лаковых изделий. — Вы, — говорит, — господин Хисикава Сори, как ваш достойный вечного уважения тесть, преданны школе Кано. Хотите сберечь в Японии китайскую живопись. А ее, поверьте мне, давно уже в самом Китае нет. Тойо Ода, названный Сэссю, двести с лишним лет назад увлекся китайской живописью, поехал в Китай учиться. Там он рисовал перед лицом императора, и все китайцы признали, что лучшего художника в своей стране не видывали. Так-то вот еще Сэссю научился работать в китайском стиле лучше китайцев. А вы, нынешние мастера Кано, — продолжал обнаглевший ремесленник, — похожи на того монастырского служку, который стерег росток ивы. — На какого служку? При чем тут ивовый росток? — посыпались вопросы. — Не знаете? Ну что ж, тогда слушайте. Посадил один святой монах во дворе храма привезенную из Китая веточку ивы. Наказал служке стеречь, чтобы никто не вырвал. Приходит через неделю — на месте веточка. Похвалил служку: «Молодец. Хорошо бережешь. Боязно только, что ночи теперь темные: заберется какой негодник — не уследишь за ним…» Улыбнулся служка самодовольно и отвечает: «Не извольте беспокоиться. Я об этом подумал. Каждый раз на ночь я вынимаю ветку, запираю в ящик, а ящик кладу под голову. Будет в целости ваша ива!» Хисикава Сори не мог обидеться: история эта была сообщена кстати. Вышло смешно. Больше всех, однако, говорила тетушка О-Мине. Когда говорит, подмигивает, взвизгивает, кокетничает, будто молодая, а личико — что печеное яблоко. Хочет быть приятной. — За твое здоровье, моя красавица, — обращается к Ханако, — да пошлет Будда удачу твоему супругу, не в пример твоему покойному батюшке. «Нама амида буцу (Помилуй меня Будда)», — бормочет слова молитвы, лихо опрокидывая чашечку сакэ. Женщина на все руки — прачка, сваха, торговка. Хмуро поглядел на нее Хисикава Сори. Хотел сказать что-то по поводу ее бестактности, да видит, все замолкли. Промолчал и сам. Ушли гости, а жена говорит: — Я кое-что заказала, принесут завтра, дай четыре рё [2]. А денег у Хисикавы нет вовсе. Последние пошли на сегодняшнее угощение. Жена в слезы. Сам расстроился. — Что же делать? — Знаешь, — говорит жена (право, она молодец, не теряет присутствия духа), — тебе нужно делать книжки-картинки. Тетушка О-Мине будет их продавать на базаре, и мы заживем не хуже прежнего. Послушался жены Хисикава Сори. Стал вместо картин и эскизов изготовлять книжки-картинки. Сам писал текст, сам делал рисунки, резал гравюры, печатал. Тетушка О-Мине продавала, а все же перебивались кое-как. Кроме молчаливого Сёдзи, учеников не осталось. Есть ли такие, кому голодать охота? Побледнела, исхудала Ханако. Ноги ее опухли. Кроме упреков, ничего от нее не услышишь. Муж терпит. Но вот наконец наступил радостный день: родилась дочь. Пухлый круглолицый ребенок. Белая, будто из слоновой кости. Дали ей имя Омэй. Пришли соседи с поздравлениями. Принесли подарки. Правду говорят, что дитя приносит в дом счастье. Тетушку О-Мине нельзя было не простить: нежна и внимательна с ребенком, так и сияет, глядя на девчушку, не подберет ласковых слов. Торговец перцем степенно предложил счастливому отцу долю в своем прибыльном деле. Лакировщик принес игрушки и мебель своей работы — впору сёгунскому наследнику. Юсай, жонглер, акробат и плясун по профессии, предложил необычайно выгодный заказ: к храмовому празднику нужно было написать хоругвь. Ханако, прижимая к груди ребенка, посмотрела на мужа с такой нежностью, что он был без ума от счастья.
 Тоёкуни. Борец.
Тоёкуни. Борец.
На хоругви, изощрив все свое мастерство, представил Хисикава рыцаря Сёки, укротителя злых демонов. Юсай заверил, что работа вызвала восторг заказчиков. Поправок — никаких, хотя до сих пор всем художникам приходилось переделывать по нескольку раз. День храмового праздника стал праздником в доме художника. Спозаранку город пробудили глухие удары барабана. Барабан — бочонок с натянутой телячьей кожей — везли в тележке, на которой стояло также подобие клетки, в которой заключили мальчуганов, одетых в белое. Над этим сооружением водружено было бамбуковое деревце, украшенное веерами и лентами. Мальчики, тоже в белом, тащили эту повозку. В барабан били неистово, подергивая всем телом. Ударная палочка с бумажной бахромой переходила от изнемогшего барабанщика к другому. Начали барабанить старики, продолжали — мужчины, кончили — мальчики. Даже пятилетние выполняли эту обязанность так же ловко, как старшие, полностью воспроизводя их прыжки, подергивания тела, энергические удары. Повозку сопровождал флейтист, извлекавший из тоненькой трубочки непостижимо резкие и оглушительные звуки. Все это продолжалось до глубокой ночи. На следующий день из храма в ящике, точно воспроизводившем в уменьшенном виде этот храм, вынесли статую бога. Тут среди прочих промелькнула выполненная по заказу хоругвь. Никто, кроме автора и его жены, не обратил на нее внимания. День накануне был полон радостных надежд. Сегодняшний принес разочарование. Гонорар, на который возлагали большие надежды, был наконец получен. Составил он всего один рё… Снова слезы и упреки жены. Между тем дело легко поправимо.
 Тоёкуни. Праздник на реке.
Тоёкуни. Праздник на реке.
Рассердился, взглянул на жену: — Интересно знать, когда ты посылала незабвенного твоего родителя ко мне, зачем это было? Хотела ты мне служить или тогда выбирала все эти никому не нужные горькие и оскорбительные слова? — А разве я к тебе посылала моего дорогого отца? Он сам меня убедил, что я должна за тебя выйти. И дедушка Кокан поддакивал. Я-то думала, ты можешь зарабатывать, надеялась — станешь известным художником, а ты мне один рё пожаловал! Чем я буду кормить твоего ребенка, какая меня ждет радость в жизни? Ничего не ответил. Пошел в мастерскую Кацукава. Встретили радостно. Сюнсё поправляется. Заказов хоть отбавляй. Тут же Бунтё — самодовольный, не может скрыть ухмылки. Пошел в гору — пишет портреты сёгунских придворных. Охотно дали деньги. Пришел домой. Омэй спит. В углу загрустила обезьянка. Больна, что ли? Увидела его, торопливо к нему заковыляла. Влезла по одежде, как на дерево, и положила на плечо головку. Глаза умные, бесконечно грустные. Тут же растерянный Сёдзи. Говорит, заикаясь: — Нет больше нашей госпожи… Ушла. Совсем ушла… Больше о ней ничего никогда не узнал муж. — Знаешь, Сёдзи, — сказал, выйдя из задумчивости, Хисикава Сори;— вот тебе деньги, верни своих товарищей, веди вместо меня мастерскую. А вот еще деньги — дашь тетушке О-Мине. Пускай присмотрит за Омэй. Я буду наведываться. Прощай. — Куда же вы, учитель? — Мне, Сёдзи, нужно теперь учиться. А где — будет видно. Стал Хисикава Сори, бывший Сюнро, человеком свободным и независимым. Куда идти, не знал сам. Прошел немного, но тут его окликнул сосед — мастер лаковых вещей: — Покорно прошу хоть на секунду ко мне. Вы ведь, уважаемый сосед, еще не бывали в моей захудалой, не стоящей вашего внимания лавчонке. Зашли бы, однако, хоть на прощанье. Насколько понимаю, покидаете наши края? Зашел недолго думая и обомлел: экран черного лака, на нем вид на долину от озера Тюдзендзи. Сюжет, знакомый во всех деталях. Поразительно: никак не скажешь, что копия, — все не соответствует природе: в натуре ни черноты, ни золота, ни перламутрового блеска. А лучше ведь, чем то, что пробовал делать сам Хисикава, подражая натуре. Больше передает неповторимое очарование Никко. В чем секрет? Спросил: — Как вы делали это, коллега? Тот ответил: — Гулял в Никко, учился дерзости у Корина. Огата Корин в самом деле был дерзок. Пренебрег установленными правилами искусства. Писал, повинуясь только натуре да собственной фантазии. Сессю превзошел мастерство китайцев. Огата Корин стал «самым японским из всех японских художников». Умер он в 1716 году, менее ста лет назад, и память о нем была живой. Был Корин живописцем, лакировщиком, расписывал фарфор, делал рисунки для тканей. Не было вида искусства, в котором бы он не работал. Хисикава Сори сердечно простился со своим коллегой. Сказал на прощанье: — То, что могла мне дать школа Кано, я познал, видимо. Теперь, пользуясь вашим примером, поучусь у великого Корина и других мастеров Японии. Вас, разумеется, никогда не забуду. Вами открыт для меня новый путь. Сердечное спасибо. — Новый путь? — переспросил лакировщик. — Не спешите следовать этим путем! Знаете ли вы, что Корин, несмотря на то что его произведения ценились и ценятся дороже золота, окончил свои дни в нужде и лишениях? А вы, насколько мне известно, достаточно знакомы с бедностью, не хуже меня, хотя я много вас старше. Учитесь у Корина дерзости в мастерстве, но только не в жизни*—иначе пропадете! — Что вы имеете в виду? — Хисикава Сори остановился. — Если не знаете, позвольте вам рассказать то, что видел своими глазами мой учитель да и другие многие. Дело происходило в праздник, и народу была уйма. Корин показал всем драгоценную шкатулку своей работы и спросил, кто ее желает иметь. Сбивая друг друга с ног, отталкивая один другого и нехорошо ругаясь, стали к нему пробиваться алчные богачи. Корин держал шкатулку и смотрел на то, как они дрались, стремясь захватить его работу. Потом, когда его обступили исступленные корыстолюбцы и ему уже некуда было деваться, на глазах у всего народа со смехом бросил он в реку свое бесценное творение. Богачи готовы были разорвать художника на клочки, а он продолжал смеяться, и с ним смеялись тысячи людей. После этого Корин остался без денег и заказов. Теперь вам, надеюсь, понятно, что не во всем следует подражать великому мастеру? Подумав, Хисикава ответил убежденно: — Да, понятно. Он кончил свою карьеру злой издевкой над богачами, а мне следует начинать с этого, чтобы впоследствии превзойти его в мастерстве! Кивнул почтительно и зашагал бодро, а лакировщик долго глядел ему вслед, и на лице его отражались одновременно радость, тревога, уверенность.
VI
В 1786 году сёгуном стал несовершеннолетний Токугава Иэнари. Иэнари не знал, как управлять государством. До сих пор он жил в свое удовольствие. Двоюродный дядя, Мацудайра Саданобу, учил его, что нужно делать. От него Иэнари впервые услышал, что дому Токугава угрожает опасность. Все плохо, все недовольны. Обеднели самураи и даже даймё. Все, что могли, они отняли у своих крестьян. Подати взысканы за несколько лет вперед. В нынешнем году неурожай. Крестьяне мрут от голода. Убивают своих детей. Бунтуют. Приходится казнить их целыми сотнями. Подданных становится меньше. Ропщут самураи. Требуют денег у своих даймё. Ропщут даймё. Требуют денег у сёгуна. Казна сёгуна почти не имеет доходов. Сборщики налогов воры. Наживаются за счет казны. Много денег уходит в Киото. Нужно содержать микадо и несколько тысяч придворных. Сяраку. Актер.
Сяраку. Актер.
Купцы обнаглели. В их руках долговые расписки от знатных людей, даже сёгунские, на сотни миллионов золотых рё. Крестьяне, лишенные имущества, называются «мидзуноми хякусё»: это значит «пьющие воду». Тысячами они нахлынули в Эдо. Купцы рады: «пьющие воду» готовы работать за самую низкую плату. Самураи забывают, что они благородные дворяне. Оставив разоренные имения предков, ищут заработка в Эдо. Обратились к торговле и низким ремеслам. Глядя на них, плебеи мнят себя выше дворян. Требуют уравнения в правах, снижения налогов, разрешения свободной торговли с заморскими странами. Последнее страшнее всего для Японии и ее сёгуна. Только пусти иностранцев — конец его власти. Что делать? Пусть думает Саданобу. Иэнари подпишет все, лишь бы скорей отправиться на охоту. Воля сёгуна закон. За несколько лет издано много новых законов. Увеличить число сёгунских жандармов. Пусть «смотрящие» строже карают за бунт, за взятку, за слово, сказанное в осуждение сёгунских порядков. В Киото слать денег половину прежней суммы. И этого для микадо хватит с избытком. Уменьшить налог с дворян, увеличить с купцов. Все долговые расписки шестилетней давности аннулировать… Иэнари не помнит даже, что там еще приказано. За несколько лет веселые выезды на охоту полюбил еще больше. Спущен подъемный мост. Из «благородного замка» выехал сёгун со свитой. Блестит на солнце драгоценное оружие, переливаются золотом узорчатые ткани. Скачут кавалеры с охотничьими соколами на руках. Несут в паланкинах [3] придворных дам. Бегут пешие слуги, отгоняют чернь бамбуковыми шестами. На базаре, у Моста восходящего солнца, останавливаются ненадолго. Принимают подарки. Стенки лавок раздвинуты. Каждый занят своим ремеслом на виду у публики. Ювелиры, гончары, вышивальщики и прочие. Мастер лаковых изделий в сотый раз покрывает древесным соком свои шкатулки, столики, вазы. Зеркальщик который день полирует сверкающий кусок металла. Оружейники стучат по наковальням. Двое обрабатывают железный брусок на огромном станке. Один раскручивает веревкой деревянный вал, другой придавливает изделие к точилу из камня. Дети окружили жонглера. На длинной палке он вертит днище бочонка. Сначала рукой. Потом ставит на подбородок. Влезает на бочку. На низких скамьях под открытым небом попивают чай. Штабелями сложены готовые амадо и сёдзи — стенки для домов. Плясун в красной пучеглазой маске льва присел отдохнуть. Будто нет на базаре сёгуна со свитой. Сдвинул на затылок свою страшную личину.
 Тоёкуни. Актер.
Тоёкуни. Актер.
Прикуривает трубочку у соседа. Смеются. Как смеют в присутствии светлейшего? Схватили. Сейчас всыплют палками по пяткам. Львиноголовый умоляет сжалиться, а другой лезет в неравную битву. Такого прикончат — недолго ждать. А может, отпустят. Больно уж храбрится забавно. Сам кожа да кости, нос огромный, уши торчат. Руками машет, ногами пинается, вертится. Иэнари заинтересовался: что за крики, почему стража смеется? Окликнул первого попавшегося из своего кортежа: — Эй ты, как тебя? Протолкайся, узнай, что случилось. Кажется, смешное. Посланец вернулся взволнованный. За ним самураи тащат забияку в растерзанных лохмотьях. — Светлейший, справедливейший владыка! Прошу снисхождения к этому несчастному. Его обвинили несправедливо. Он не виновен. Я готов за него поручиться. Иэнари окинул просителя разочарованным взглядом. Вспомнил. Скучнейшая личность: художник Бунтё. Пишет портреты придворных красавиц Зачем его взяли на охоту? Будет болтаться зря: от таких никакого удовольствия… — Почему ты уверен, что он не виноват? Что это за тип? — Благороднейший владыка, это искусный живописец, лучший ученик знаменитого Сюнсё. Я хорошо его знаю. Юный сёгун развеселился: — Художник! Из вашей компании, значит! Рад познакомиться с такой уважаемой личностью. — Улыбаясь, Иэнари подмигнул ближайшим придворным. Те дружно захохотали. Тут выступил вперед и попросил разрешения сказать начальник стражи. — Здесь что-то не так. Боюсь, господин Бунтё обознался. Этот субъект не художник. Он торгует красным перцем. Позволил себе непристойно смеяться. Сопротивлялся. Заслуживает наказания. Придворные оживились. Возможно, Бунтё сейчас попадет в историю. Узнает, как заступаться за оборванцев. Сёгун уже не сдерживал смеха: — А я верю Бунтё. Лежащий перед нами господин очень похож на художника. Сразу видно достойного друга Бунтё. Наши преданные самураи ошиблись. Сейчас знаменитый художник покажет свое искусство. Бунтё, я уверен, готов отвечать своими пятками и спиной, что мы будем в восторге. Что зададим ему нарисовать? Посыпались предложения: — Небесную фею. Портрет Бунтё. Вот этого толстого купца… Нет, вон того зеркальщика… Между тем оборванца подняли, положили перед ним лист бумаги. Бунтё, нервничая, стал развязывать свой узелок с красками. Публику веселило, что оборванец своим поведением не выражал ни страха, ни беспокойства. Помешанный, наверно. С важностью оправил волосы. Одернул лохмотья, словно дорогую одежду. Дальше еще забавней. Пока Бунтё готовит кисти, огляделся вокруг: глаза злые, так и сверлят. Увидел грязную лужу. Мокнул палец. Грязью начертил на бумаге несколько линий. Что там получается? Иероглифы «ка», «га», «ми», «я». Написал слово «кагамия», то есть «шлифовальщик зеркал». Хитрит, каналья. Пробует выкрутиться. Конечно, рисовать не умеет. — Уважаемый, вас просили нарисовать зеркальщика, а вы пишете буквы, — с издевательской серьезностью заметил сёгун. — Может быть, вы испугались и не поняли? В ответ только нахальный взгляд, кивок головой. Пора кончать комедию. Сейчас Бунтё и его подзащитный получат по заслугам. И вдруг происходит необычайное. Свита сёгуна, сам светлейший, толпа зевак — все в восторге. Добавлено несколько штрихов, и слово «кагамия» превратилось в фигуру зеркальщика. Сжавшись в комок, придавливая рукой руку, он полирует. Совсем как в натуре. Удивительно! Из букв — фигура! Мало того, что художник, — еще какой! Прямо колдун или фокусник. Кланяется важно, не улыбается. Подносит властелину рисунок, сделанный грязью. Иэнари в добром расположении. Базарный мазила его позабавил: — Твое искусство мне по душе. Можешь просить чего хочешь. — Ваша светлость, прикажите уплатить за перец, который рассыпался, когда ваши воины меня схватили. Общий смех. Чудак бесподобен! Таких не встречал Иэнари. — Жалую тебе вместо денег за перец коня и шелковую одежду. Быстрей одевайся. Поедешь с нами. Долго еще обсуждали на базаре и во всем городе необычайное происшествие. Прибавляли подробности, каждый по своему вкусу. Кто-то рассказывал, что художник на глазах у сёгуна нарисовал коня, впрыгнул в картину и ускакал с листа бумаги. Другие утверждали, что шлифовальщик зеркал был схвачен стражей и превратился в картину, которую увез сёгун. Говорили, что бедняк, торговавший перцем, напал на сёгуна, избил самураев, а сам превратился в придворного живописца. Так и не словили храброго торговца. Многие хвалились, что лично знают героя небывалой истории. Указывали разные имена. Ни разу правильно. На протяжении жизни он не носил таких имен. В действительности звали его Токитаро, Накадзима Тэцудзо, Сюнро, а в последнее время — Хисикава Сори. Хисикава Сори был очень беден, даром что рисовал лучше прежнего. Вместо того чтобы работать на заказ, он целыми днями бродил по дорогам и улицам. Помогая соседу, торговал на базаре перцем. Странный человек. Сейчас он ехал рядом с Бунтё в свите сёгуна. Ему мог позавидовать любой художник. Редкая удача заслужить такую милость. Иэнари не был любителем живописи. Много картин ему подносили, но ни один художник еще не получал награды. Бунтё проявил большую смелость, заступившись за бывшего Сюнро. Кто знал, чем кончится все это? В изголодавшемся бродяге он еле узнал знакомого. Был потрясен его несчастьем. До чего низко пал! А подавал надежды. И вот — неожиданная развязка: появился конкурент. Того и гляди, не он, Бунтё, а этот недоучка станет придворным живописцем. От сёгуна всего можно ждать. Не стоит преувеличивать, однако. Молодой властелин имеет право на любую прихоть, но, если дойдет до серьезной работы, он, Бунтё, справится с ней лучше всякого. Фокус поражает только один раз. Между тем Иэнари подумал: «Пора позавтракать».
 Гакутей. Девушка с бива (музыкальным интрументом). Суримоно[4].
Гакутей. Девушка с бива (музыкальным интрументом). Суримоно[4].
Храм в лесистой долине над речкой — прекрасное место для отдыха. Взметнулись, чтобы не утонуть в зелени, островерхие изогнутые крыши. Двухэтажные ворота. Каменные фонари при дороге. Крутые ступени, побитые мохом и временем. Уютные деревянные постройки в тиши деревьев. Крытые галереи. На большом пространстве вокруг кондо — «золотого храма» — разбросаны павильоны вроде жилых домов, чуть побольше. Засуетились лысоголовые священники — бонзы. Ударили в колокол на трехъярусной башне. Смех, голоса, конское ржание оживили святое место. На кострах готовят жаркое. Долго ждать, пока сокола набьют куропаток: порезали петухов и ручных фазанов. Пировали на полу, среди клетчатых стенок приемного зала. Читали стихи древних поэтов. Свою беседу вели стихами. Поначалу. Потом от винного пара стихи перестали слагаться. Тараторили как попало. Кто-то придумал: на память о посещении нужно оставить на ширме или стене картину изысканного содержания. Иэнари одобрил: — Прекрасная мысль! Среди нас два живописца. Оба искусны, а все-таки кто из них сделает лучше?
 Кунинао. Актерская маска. Суримоно.
Кунинао. Актерская маска. Суримоно.
Оказалось, что в зале — только один из художников, Бунтё. За другим послали. Между прочим, скромность делает ему честь. Хорошо, когда плебей, подобранный на базаре, не лезет в компанию знатных господ после первой оказанной милости. Бунтё с волнением приступает к работе. Он решил превзойти самого себя. Случай, который редко бывает, никак нельзя упустить. Линии, изящные и плавные, почти достойные Харунобу, намечают на шелке берега и легкие волны притихшего моря. Дамы и самураи в старинных одеждах любуются хризантемами возле беседки. Понравилось многим. — Прекрасно! — высказалась первой одна из придворных дам. — Только что вспоминали стихи Сугавары. И вот они перед нами:
Те хризантемы белые, что там,
Колеблемы вдали приморским ветерком,
Все кажутся глазам
В осенний день
Прибрежною волной, а не цветком!
 Хокусай. Водопад Амида.
Из серии «Путешествие по водопадам различных провинций».
Хокусай. Водопад Амида.
Из серии «Путешествие по водопадам различных провинций».
 Хокусай. Большая волна.
Из серии «36 видов горы Фудзи».
Хокусай. Большая волна.
Из серии «36 видов горы Фудзи».
— Перед вами река Тацута в осенний день. Иэнари и все придворные пришли в восторг: до чего ловко, как верно передает стихи поэта Кунаикэ! Декламировали хором:
У Тацута-реки не буря ли шумит?
Средь пиков горных не слабеют ветры,
Трепещут клены.
Вод не переплыть:
Они под алою парчою незаметны.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ, в которой рассказывается о том, как художник, назвавшийся Хокусаем, после долгих бедствий приобрел известность
I
В XVII веке благодаря решительному превосходству военной техники европейские державы начали грабить Азию. К концу XVIII века англичане были полными хозяевами в Индии. Индонезия и Цейлон принадлежали Голландии. Маньчжурские императоры Китая делали всё больше уступок европейцам. Сёгуны запретили иностранцам въезд в Японию. «Не думайте о нас, как будто нас нет больше на свете», — писал сёгун Иэмицу португальскому королю после казни направленных в Японию послов. Только китайцам и голландцам разрешалось вести торговлю в одном порту Японии под строгим надзором. Сёгун Иэнарн несколько смягчил ограничения для голландцев, считая особенно опасными англичан. Некоторым голландским морякам удавалось посетить Эдо. Сойдя с корабля в гавани Нагасаки, добрался до столицы капитан Изберт Хеммель. Шел мимо лавок и восхищался мастерством японцев. Его непривычная внешность и одежда вызывали недоуменные взгляды или смех.
Кунисада. Бык. Суримоно.
Японские художники рисовали карикатуры на голландцев. Побывав в Нагасаки, знаменитый Утамаро юмористически представил влюбленную пару в забавных европейских костюмах. Хеммель чувствовал себя неприятно. Но любопытство побеждало. Скорей бы найти человека, к которому советовали обратиться. Художник и, главное, может говорить по-голландски. Много лет околачивался на Дэсима. Спрашивать нужно парк Сиба. Рядом живет этот художник — Сиба Кокан. Хеммель останавливает прохожих и повторяет вопросительно: «Сиба? Сиба?» Кое-как добрался. Теперь заглядывает в дома и произносит: «Сиба Кокан?» Наконец повезло. Познакомился и может с грехом пополам объясниться с японцем. В доме множество интересного, глаза разбегаются. Вазы из бронзы, инкрустированные золотом и серебром, белые фарфоровые с синей росписью, ярко-красные, зеленые. Чайники разнообразных форм — в виде птиц, плодов, лодок, павильонов, странных животных и людей. Тончайшей работы миниатюрные фигурки из слоновой кости — обезьяны, дети, воины, монахи, ремесленники за их работой.
 Хокусай. Рыбы и спруты. Суримоно.
Хокусай. Рыбы и спруты. Суримоно.
— Такие статуэтки называются «нэцкэ», — пояснил Кокан. Хеммель попросил продать несколько штук, но японец обещал проводить его на базар. — В таком случае, надеюсь, вы не откажете написать дляменя картину. Ведь вы художник? Кокан улыбнулся: — При этом такой художник, которого вы сможете оценить. То, что я делаю, японцы не понимают. Они не доросли до настоящего искусства. Посмотрев работы Кокана, Хеммель был удивлен и разочарован. Это были гравюры и картины маслом совершенно в европейском стиле. Даже сюжеты нередко были не японскими. Какой-то католический священник кормит лебедей у пруда, голландские корабли в гавани… Не стоило ездить в Японию ради таких пустяков. — А нет ли у вас картин в другом роде? Вот эту можно посмотреть? — Хеммель развернул один из свитков, стоявших в углу. — Превосходная вещь!
 Хокусай. Женщина с книгой. Суримоно.
Хокусай. Женщина с книгой. Суримоно.
Кокай на секунду нахмурился. Вновь расплывшись в улыбке, ответил: — У вас хороший вкус. Картина, правда, не моя, зато большого мастера. Он работает в японском духе, но его тоже не понимают у нас. Товарищи Хеммеля привозили не раз японские гравюры и картины, но эта показалась ему лучше всего виденного. Фигура японки была представлена живо и просто, не хуже, чем делают в Голландии, хотя совершенно другими приемами. Фон оставался незакрашенным, лицо и руки намечены контуром, как обычно в японских картинах. — Я отведу вас к этому художнику, — продолжал Кокан. — Он очень беден и, думаю, охотно выполнит заказ. А если вы хотите увезти за море часть нашей Японии, лучшего мастера, чем Кацусика Хокусай, нельзя порекомендовать. Когда Хеммель попал в дом Кацусика Хокусая, тот был занят. — Подождем, — сказал Кокан, — мастер обладает некоторыми странностями. Он выйдет из себя и выгонит нас, если обратимся к нему во время работы. Недаром он носит свое имя: Гакиадзин Хокусай. По-японски это значит «Одержимый рисунком Хокусай».
 Хокусай. Божества счастья. Суримоно.
Хокусай. Божества счастья. Суримоно.
— А что значит «Хокусай»? — полюбопытствовал голландец. — Хокусай можно перевести по-разному. Скорее всего — «живописец с севера». — Он выходец из северных провинций? — Нет, он родом из Эдо, из Кацусика. Не скажу вам даже, почему он так назвался. Может быть, оттого, что почувствовал себя художником в Никко, а Никко — на севере от Эдо. Комнаты отделялись раздвижными перегородками. В незакрытом проеме виднелась фигура художника. В Амстердаме Хеммелю случалось бывать в мастерской живописца. Он работал, сидя на табурете перед мольбертом, держа в руках палитру и кисти. Вставал и отходил. Ему не мешала беседа. Японский художник работал не так. Присев на корточки, держал двумя пальцами за кончик черенка кисть с очень длинным волосом. Руку с кистью поддерживал другой рукой, упирая локоть в колено. Пока на бумаге, лежавшей на полу, возникало несколько штрихов, все его тело извивалось и двигалось. Мускулатура вибрировала и вздувалась, будто он выполнял труднейшее гимнастическое упражнение. Ученики убирали законченные листы и быстро подкладывали следующие.
 Хокусай. Из серии «Все о лошадях». Суримоно.
Хокусай. Из серии «Все о лошадях». Суримоно.
Никаких переделок мастер не допускал. Несколько минут — и перед глазами изумленного капитана из пятен растекающейся туши возникали растения, звери, птицы, люди в самых различных поворотах. Быстрота изумляла. — Сколько стоит каждая такая вещь? — шепотом спросил Хеммель. — Ничего. Ведь это эскизы. Он делает их сотнями ради упражнения, — ответил Кокан. Полуобнаженная фигура художника сверкала от пота. Внезапно, откинув корпус и бросив кисть, заломил руки за спиной. Он был в изнеможении. Посетители поспешили воспользоваться этим перерывом. Надолго ли он оставил свои изнурительные упражнения?
 Хокусай. Из серии «Все о лошадях». Суримоно.
Хокусай. Из серии «Все о лошадях». Суримоно.
Ученики и жена Хокусая поклонились по нескольку раз, а художник нехотя взглянул в сторону вошедших. Заметив Сиба Кокана, мгновенно вскочил и обменялся с ним несколькими словами. Кивнув рассеянно, уставился на голландца. Кривил рот, двигал бровями — думал про себя… Жена художника расспрашивала Кокана о чем-то. Хокусай, выйдя из задумчивости, сказал что-то, по-видимому объявил свое решение. Кокан не переводил. Вместо того начал пререкания со своим коллегой: он явно его в чем-то убеждал. Женщина едва сдерживала слезы. Все это надоело Хеммелю, и он громко высказал свое пожелание заказать две картины. Кокан перевел ему вопрос Хокусая. — Что я должен изобразить на этих картинах, какого они должны быть размера? — Да что угодно. Лишь бы характерное для Японии. Какого размера? Обычного. Не слишком малого. Хокусай осклабился и заговорил. Оказалось, что как-то пошли разговоры о том, что он мастер небольших картин. В ответ он написал картину размером в двести квадратных метров. Если нужно, сделает больше. А может и меньше. Так, однажды он написал картину на рисовом зерне. Он может изобразить что угодно в любом размере. В данном случае предлагает такие темы: жизнь японца и японки от рождения до смерти. Что может быть характернее для Японии? Хеммелю понравились темы, и он заверил мастера, что, не сомневаясь в его возможностях, будет доволен картиной любого размера. В заключение осведомился о цене и сроке выполнения. Хокусай почему-то нахмурился, а затем сказал решительно: — Будет готово завтра. За работу триста золотых рё. Это была неслыханная цена. Сиба Кокан, уже имевший дело с европейцами, подумал, что сделка расстроится. Он сделал все, чтобы полунищий приятель получил заказ, а тот неосмотрительно сам все испортил. Хеммель не отвечал ничего. Кокан, желая оттянуть или поправить развязку, сказал Хокусаю, что иностранец просит его показать работы. Художник хлопнул в ладоши, и в комнату вбежала девочка, его дочь. Хозяин с гостями уселся на пол, ученики смотрели стоя, а девочка проворно выкладывала лист за листом гравюры и рисунки. Что изображалось, Хеммель понимал не всегда. Перед его глазами возникали фигуры, одна другой забавней. Расселся какой-то старый японец. Полураздет. Задумался невесело. Протянул руку — за подаянием, что ли? Но что это у него на руке? Толпы людей крохотного размера?! Два типичных китайца — старик с бородой и юноша. Старик прислушивается, что молодой скажет, а тот наставительно поднял палец. Смешной монах, жирный, как свинья, возле огромного мешка. Выставив огромный живот, с наслаждением попыхивает трубочкой. Самурай с лицом, искаженным злобой, размахивает мечом. Старинный костюм, движения — как будто отплясывает. Актер в роли? И еще, еще… Можно подумать — уличные типы, наблюденные где-нибудь на базаре в Эдо. Но все это сказочные герои. Хеммелю интересно узнать о каждом, но Хокусай не рассказывает. Великана зовут Асахина Сабуро. А это — «китайские братья». Курит не бонза, а бог счастья Хотэй. Нет, не актер, а Сёки, укротитель злых демонов, — большего не добьешься. Зато самые простые вещи поясняет подробно и обстоятельно. Вначале хочется перебить: понимаю, мол. Но дальше выясняется — стоит послушать. Очень хороши цветные гравюры, которые, по-видимому, художник ценит выше своих картин. — Суримоно, — многозначительно заявляет он. Голландцу это непонятно. Он посмотрел вопросительно. Хорошо, что Кокан пришел на помощь: — Суримоно сейчас в большой моде. Такие гравюры посылают, поздравляя с праздником.

Хокусай. Лучники. Из альбома «Манга».
Теперь, пожалуй, все ясно. Сюжеты несложны — цветы, фрукты, птицы, люди в нарядных костюмах… Однако нет: после разъяснений суримоно приобретают глубокомысленное содержание. Вот, например, изображен плод хурмы, на нем кузнечик. Сбоку надпись. Оказывается, не прочитав ее, нельзя понять замысел художника. Написаны стихи, которые он сам сочинил:
Ясен лунный свет,
Осенью пьем вино,
Бокал за бокалом.
Этот кузнечик вместо того
Сок хурмы пососет,
Но будет ли пьяным?

Хокусай. Из альбома «Манга».
Разделились на четыре группы и разложили карты. На картах — конечные строки знаменитых стихотворений. Хокусай декламировал начальные. Очко зарабатывает тот, кто раньше успеет схватить карту с подходящим концом. Ута — очень короткое стихотворение. Долго думать некогда. Выходило смешно. Хокусай начинает грустно и медленно:
Со дня разлуки,
Когда один, как месяц,
На заре остался…—
Нет ничего грустнее мне,
Чем утренний рассвет!
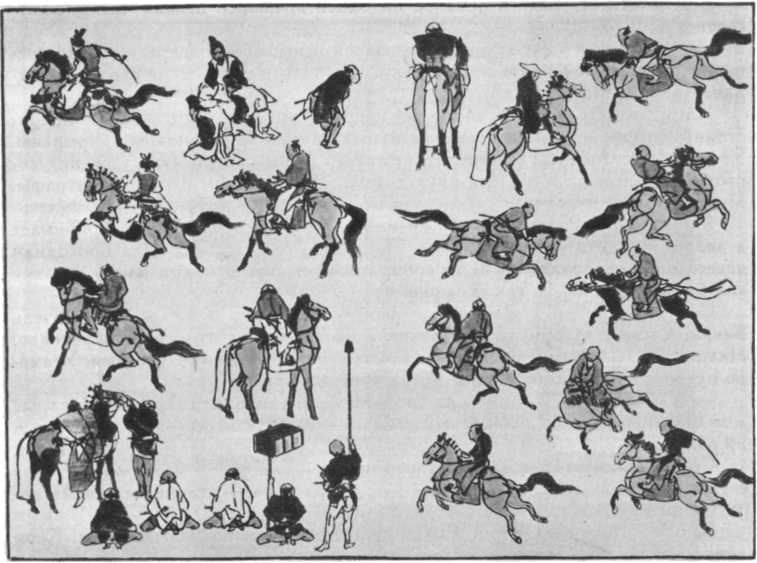
Хокусай. Всадники. Из альбома «Манга».
— Кокан, прошу вас, передайте этим господам, что мы с женой не нуждаемся в их соболезнованиях. Пускай уходят. Хеммеля потрясла эта сцена. Покидая Японию, он вез четыре картины Хокусая. За две вторые уплатил, как за первые. «До чего горды и непреклонны эти японцы! Нам нелегко понять их. Тем более поставить на колени», — думал капитан. Весенний ветер надул паруса. Голландский корабль отчалил от Нагасаки.
II
Писатель и ученый Хирага Гэннай, друг Харунобу, враг сёгунского деспотизма, умер в тюрьме. Веселые рассказы Санто Кёдэна, любимца читателей, были запрещены. Самого автора приговорили ходить с деревянной колодкой на шее. Без печати сёгунского цензора ни одной гравюры нельзя было выпускать в продажу. Сёгун Иэнари всерьез заинтересовался искусством. Искусство и просвещение должны исправить народ, решил он. Плохо тем, кто не следует предначертанию владыки. Плохо издателю Дзюсабуро. «Сюнга», «весенние картинки», — непристойные сцены из жизни увеселительных заведений Йосивары запрещены. Утамаро прославился как мастер «сюнга», а Дзюсабуро нажил на них состояние. Теперь торгует ими из-под полы. Часто платит огромные штрафы. Иногда помогает взятка. Раньше Дзюсабуро с друзьями виделся в Йосивара. Теперь принимает в задней комнате книжной лавки. Последние годы XVIII века проходили невесело. Ради праздника и то собираться опасно. В будни зайти в лавку как будто случайно не так страшно. Сегодня пришли к Дзюсабуро двое — художник Утамаро и писатель Бакин. Стенки задвинули. Из лавки едва доносятся голоса приказчиков. Надо надеяться, там тоже не слышно, что говорит хозяин с гостями. Утамаро предавался воспоминаниям. Ругал наступившие времена. — Скука, скука! — повторял он. — Неужто приходит старость? Взял нас в кулак Иэнари, наш обожаемый, выдавил радость и веселье. Не осталось ни капли. Собеседники замялись. Вдруг кто подслушивает? У сёгуна всюду глаза и уши. Тёдзиро, главный «мэцкэ» — «смотрящий», — отлично наладил работу шпионов. Бакин — самый младший из собеседников. Недавно прославился. Кашлянул: решил, что нужно высказаться погромче. — Стоит ли так преувеличивать? Что значит веселье? Пустые развлечения не нужны народу. Наш долг — кистью и словом искоренять безнравственность. И это не только приказ светлейшего сёгуна, а воля народа. Вот я, например, немало повидал в жизни. Был и врачом и гадателем. Народ знаю. Пробовал по примеру Санто Кёдэна веселить читателей. А разве имел успех? Не то теперь. Понял, что нужно не развлекать, а наставлять, призывать к добру, внушать отвращение к злу. И вот мои книги ждут с нетерпением. Дзюсабуро счел нужным поддержать писателя. Кроме того, Утамаро слишком мрачен, не мешает его ободрить. — А тебе, Ута, разве не позволяют делать что хочешь? Разве ты утратил известность? Мне кажется, что ты работаешь лучше прежнего. — При чем тут я? — раздражался Утамаро. — Я делал и буду делать что захочу. Возьму и нарисую ханжу Иэнари, как он ухаживает за девчонками в Йосивара. Пусть проповедует скромность на фоне такой картины! А что касается ваших романов, то я вас разочарую, дорогой Бакин. Их читают не ради добродетельных рассуждений. Выбирают страницы, где вы описываете страхи и ужасы. Это занимает, щекочет нервы. Нет, господа, утешайте себя как хотите, а мне скучно и грустно. И скольких друзей, каких мастеров не стало за эти годы! Вот вчера — третий год, как умер Сюнсё…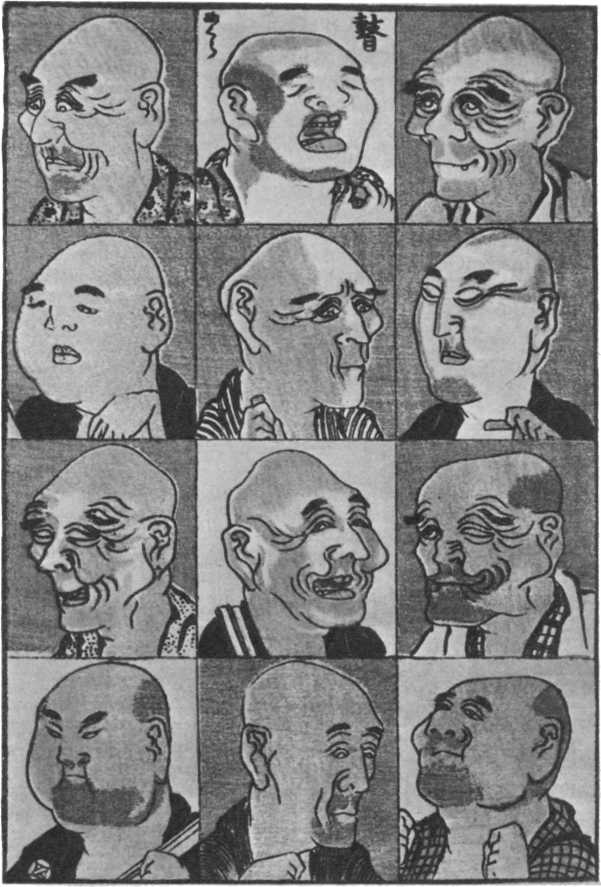 Хокусай. Шаржи. Из альбома «Манга».
Хокусай. Шаржи. Из альбома «Манга».
 Хокусай. Мосты. Из альбома «Манга».
Хокусай. Мосты. Из альбома «Манга».
Все вздохнули. Большой художник! Конечно, его не заменил Сюнко, даром что принял после смерти учителя его имя и подпись в виде горшка — цубо. Он действительно Кацугава Сюнсё Второй, но первого нет, увы! — Нет уже и Бунтё. Вот был достойный соратник покойного, — продолжал Утамаро. — Если речь о театральных гравюрах, — заметил Дзюсабуро, — то, думаю, наследников мастеров нужно искать не в среде подражателей. Сюнсё сказал свое слово. Следующее сказал Сяраку. Сюнсё пошел дальше своих предшественников. Им была важна только роль. Ему удалось показать, какой актер выступает в роли. Сяраку сумел изобразить не только внешность, но силу чувств актера. — Да, — согласился Бакин, — я не жалею, что какой-нибудь Сиба Кокан бросил искусство — его ранга никого в Японии не могли прельстить, — но почему это сделал Сяраку? Все были в восторге от его вещей… — Разве не слышали? — перебил Утамаро. — Сяраку не только художник. Он выступает в спектаклях «Но». Даймё, при дворе которого состоит Сяраку, запретил ему рекламировать театр «Кабуки». А тот не посмел ослушаться. Как вредит нам всем эта врожденная покорность судьбе! Люблю упрямых! Не удивляйтесь тому, что скажу. Всех нас пора на свалку. Если кто скажет новое слово в искусстве, то это будет Кацусика Хокусай. Вот, кстати, самый способный ученик Сюнсё. До чего он упрям и трудолюбив! Мы тут болтаем и вздыхаем, а этот, конечно, работает. — Хокусай? Что-то я о нем слышал забавное, но что именно? — пытался припомнить Бакин. — О нем рассказывают немало. Смеются, что он пишет чем попало — ногтем, пальцем, ногой. Издеваются, что работает с утра до ночи, а до сих пор не прославился. Но все это зря. Такой добьется. Неподкупен. Медленно, но верно идет к своей цели. А главное, знает Японию, как ни один из нас, — ответил Утамаро. — Я заметил его, еще захаживая в мастерскую Сюнсё, потом потерял из виду, теперь недавно опять встретил, видел работы. Какой могучий талант!
 Хокусай. Из альбома «Манга».
Хокусай. Из альбома «Манга».
— А как его звали раньше? — полюбопытствовал Бакин. — Раньше его звали Тэцудзо, потом Сюнро, одно время — Хисикава Сори. Теперь он передал это имя одному из учеников, а сам стал Хокусаем. Назвался Гакиодзин Хокусай — одержимый рисунком Хокусай. Лучшего имени для него не придумать. В стенку постучали. Кто бы это? Пришел Хокусай. Легок на помине! Необычайно взволнован. Безумные глаза. Очень плохо его О-Соно. В доме нет еды, ни гроша денег. — Ута, дай два рё, — сказал, глядя в пространство. Глубина его горя тронула всех. На глазах у Бакина выступили слезы. Он предложил Хокусаю крупную сумму и сотрудничество. — Я задумал роман о Касанэ, убитой ее мужем. Вы слышали, конечно, эту историю. Превосходный пример того, что всякое преступление влечет страшное наказание. Не согласитесь ли выполнить рисунки для этой моей книги? Хокусай согласился. Взял деньги. Так была спасена О-Соно и началась работа над иллюстрациями к романам Бакина. Бакин не ошибся: история Касанэ была хорошо известна художнику. На базарах и при дорогах слышал не раз от бродячих сказителей. Стал делать эскизы, не дожидаясь, пока писатель переделает ее на свой вкус. Замысел созрел до того, как роман был прочитан. Хокусай с обычным неистовством погрузился в работу. Пролетел год, другой, третий… Покоряйся судьбе, даже если она невыносима. Станешь бороться — хуже будет, чем то, чего опасался. Такую мораль вкладывал Бакин в свой роман. Некая Касанэ была отвратительна видом, наделена нестерпимым характером. Муж, доведенный до отчаяния, решил от нее избавиться. Утопил, а сам женился вторично. Призрак убитой являлся ему и новой жене. Та не вытерпела, покончила самоубийством. Повествование прерывалось длиннейшими авторскими отступлениями. Бакин любил рассуждать, читать наставления. Был не прочь при этом показать, как хорошо он знает китайских классиков, как мастерски владеет литературным стилем. Тем временем Хокусай рисовал живые фигуры и лица. Вся эта история ему казалась нелепой. Он создавал физиономию призрака, стараясь вспомнить самых безобразных старух, виденных в жизни. Преувеличивал уродство насколько мог, доводя до степени гротеска. У дочери художника Оэй такая Касанэ не вызывала страха. Смеялась. Привидение изображалось огромным. Рядом небольшая фигурка убийцы. Он больше озадачен, чем перепуган. Поза так характерна и натуральна, что тоже вызывает смех. Бакин стремился ужасать своих читателей. Хокусай не следовал его замыслу.
 Хокусай. Носильщики. Из альбома «Манга».
Хокусай. Носильщики. Из альбома «Манга».
Усмехаясь про себя, как взрослые, когда рассказывают детям страшную сказку о Яма-уба, японской бабе-яге, делал иллюстрации. Работа настолько увлекла Хокусая, что все окружающее виделось ему, как сон, в коротких промежутках, когда оторвется. Из мастерской не выходил. Здесь спал, наспех закусывал. С некоторого времени О-Соно не появлялась. Еду приносила Оэй, грустная, серьезная девочка, папина любимица. Потрепал по головке, а разговаривать некогда. Почтительно склоняясь, глядя сочувственно, появлялись ученики: далеко, будто в тумане. Только на бумаге, что перед ним, все четко и ясно. Вдруг случилось ужасное. Вбежала плачущая Оэй. Выплыли откуда-то удрученные фигуры. Старшая дочь с маленьким сыном, ученики, соседи… — Папа, папа, — восклицала Оэй, — мама умерла! Не сразу понял, в чем дело. Молчал. Глаза его были как буравчики. Их выражение не изменилось, когда скатились слезы. Одна за другой… Никто не знал, даже сама О-Соно, как он ее любил. Хокусай выстоял. Работал, но часто уходил из дому. Бродил. Поднимался на горы. Смотрел на морские волны. Прятался в чаще леса. Всегда один. Роман Бакина о Касанэ был издан в 1807 году с иллюстрациями Хокусая и пользовался огромным успехом. Имя художника стало известно во всей Японии. Хокусай не изменил после этого своих привычек. Пожалуй, стал беспокойнее. Постоянно переезжал с квартиры на квартиру. Собственным домом не обзавелся, хотя доходы его значительно возросли. Некоторым казалось, что стал злее. Его шуток побаивались. Свое горе он прятал глубоко. Усилием воли старался прогнать тоску. Бороться с самим собой было труднее, чем переживать лишения и голод. Ему не нужны были ни деньги, ни слава. Это могло бы утешить О-Соно, а ему одному в тоске и горе все это даже в тягость. Хокусаю казалось, что он виновен в ее смерти. Это не давало покоя. И еще мучило, в чем будущее «укиё-э», школы, к которой он себя причислял. Повторять без конца то, что уже сделано? Другими или самим собой — все равно. Вскоре после О-Соно скончался Утамаро. Весельчак Утамаро кончил печально. Отсидел в тюрьме. Говорили, за то, что в какой-то гравюре выставил на посмешище «светлейшего». Но это неправда. Утамаро горько сожалел, что не сделал чего-то подобного: было бы не так обидно. Арест был вызван пустячной придиркой. Настоящего повода не было. Конечно, Тёдзиро проведал, что болтает лишнее. Выпустили, но истерзали душу. В последний раз, когда Хокусай его видел, Утамаро было не узнать. Выглядел глубоким стариком, руки и голова тряслись, мутные глаза слезились. А ему еще не было пятидесяти лет. Он сделал все, что можно сделать, изображая красавиц Йосивары. Напрасно Киёнага пытается затмить его славу. После смерти Утамаро Киёнага раздражал Хокусая.
 Хокусай. Из альбома «Манга».
Хокусай. Из альбома «Манга».
Призрачный блеск Йосивары померк. Никому не оживить его. Дзюсабу-ро перебрался в новый дом, подальше от веселого квартала, и вскоре умер. Киёнага, приемный сын знаменитого художника Тории, смолоду подражал Харунобу, соревнуясь с Сюнсё, Бунтё и Утамаро. Теперь не было конкурентов. Киёнага был вне сравнения. Стал манерничать. Необычайно удлиняя фигуры, воображал, будто всех превосходит в изяществе. Натуру перестал изучать. Превратился в ремесленника. Хокусай нарисовал на него злую карикатуру. С беспощадной наблюдательностью представил Киёнагу как маляра, занятого механической работой— окраской колонны в храме. Подписал: «Реставрация храма Тории». Киёнага носил имя Тории Четвертого. Намек был понятен каждому. Бакин пожал плечами. Заметил язвительно: — Неуместно и несправедливо. Киёнага сейчас лучший мастер. Не в обиду будь сказано, вашим рисункам как раз недостает изящества, которое восхищает у Киёнага. Если изысканность стиля смешит вас, боюсь, скоро станете издеваться надо мной.
 Хокусай. Из альбома «Манга».
Хокусай. Из альбома «Манга».
 Хокусай. Борцы. Из альбома «Манга».
Хокусай. Борцы. Из альбома «Манга».
— Бакин переписывает древнекитайский свиток… Вы подали прекрасную мысль, — пробовал отшутиться художник. Он продолжал сотрудничество с Бакином, но личные отношения у них портились. После Касанэ один за другим выходили многотомные романы Бакина с гравюрами Хокусая. И каждый раз триумф. Бакин привык к успехам. Мирился с тяжелым характером своего иллюстратора. Но вот очередная книжка принята читателями довольно холодно. Поговаривают, Бакин исписался. «В чем дело?» — раздумывал писатель. Дни и ночи он проводил над рукописью. По многу раз переделывал каждую фразу, добиваясь совершенства. Не прощал себе малейшей шероховатости стиля. Не щадил своих слабых глаз. Последнее время они видели все хуже и хуже. И вот… Нет, он уверен — эту книжку написал не слабее, а лучше всех прежних. Поправляет очки, прикрепленные к ушам шелковым шнурком. Напрягает подслеповатые глаза до боли, вглядываясь в рисунки Хокусая. Сцены, полные движения, — битвы, драки, пытки, убийства. Фигуры в неистовом напряжении. Причудливо изогнутые тела, конвульсивно вздутые мускулы. Лица, искаженные нестерпимой болью, а то — яростной злобой… Дикие животные страсти. Ничего больше. Бакин начинал злиться. Хокусай не понял идеи его романа. Рисунки — вот причина неуспеха книжки. Нужно их переделать, и второе издание встретят иначе. Бессовестный Хокусай! Нужно с ним объясниться раз и навсегда. Не будет стараться, станет и дальше рисовать что попало — можно найти другого художника. Волнуясь, поспешил к нему, а Хокусая нет в мастерской. Решительно портится в последнее время. Раньше, бывало, работал не отрываясь. Бакин решил ждать. — Сегодня учитель вернется скоро. Завтра чуть свет мы отправляемся дорогой Токайдо на запад, — сказал Бакину Хоккэй. Когда нет Хокусая, Хоккэй в мастерской за хозяина. Любимый ученик. — Отправляетесь на запад? Зачем это? — спросил Бакин. — Учитель говорил, ему наскучило Эдо. Хочет отдохнуть среди храмов Киото. — Отдохнуть? Как это на него не похоже! Что-то странное с ним происходит, — продолжал удивляться Бакин. Хоккэй ничего больше не хотел рассказывать о намерениях учителя. Показал только огромные связки бумаги: — Это берем в дорогу. Надеюсь, хватит… — и осекся. Бакин переменил тему: — Ну, а ваши собственные дела, молодой человек? Вы, кажется, специализируетесь на суримоно? Правильно делаете, что не разбрасываетесь… Интересно взглянуть на ваше последнее достижение. Несколько смущаясь, ученик Хокусая выбрал из толстой папки одну гравюру. Бакин поднес ее на секунду к самым глазам. Затем торопливо ощупал. «Он ничего не видит!» — с ужасом подумал Хоккэй и поспешил сказать: — Право, эта безделица не стоит вашего внимания. Как видите, я попытался воспроизвести здесь в миниатюре картину Мицунобу… Выяснилось, однако, что Бакин не нуждается в его пояснениях. — Превосходно отпечатано, — заметил, возвращая гравюру, — хороши сочетания красок. Мне нравится ваш замысел: расположить фигуру с картины великого мастера на фоне ветки. Красавица получилась еще изысканней, чем у Мицунобу. Видно, чувство изящного у вас в крови. В этом вы превзошли своего учителя. Вы, надо полагать, из знатной семьи, молодой человек? — Нет, говоря по правде, — отвечал Хоккэй. — С учителем я познакомился на базаре. Он торговал перцем, а я — рыбой… Бакин не смутился: — Ну, все равно, вы японец, а каждый японец тонко чувствует красоту. Не знаю, поверите ли, но я сам когда-то гадал на базаре…
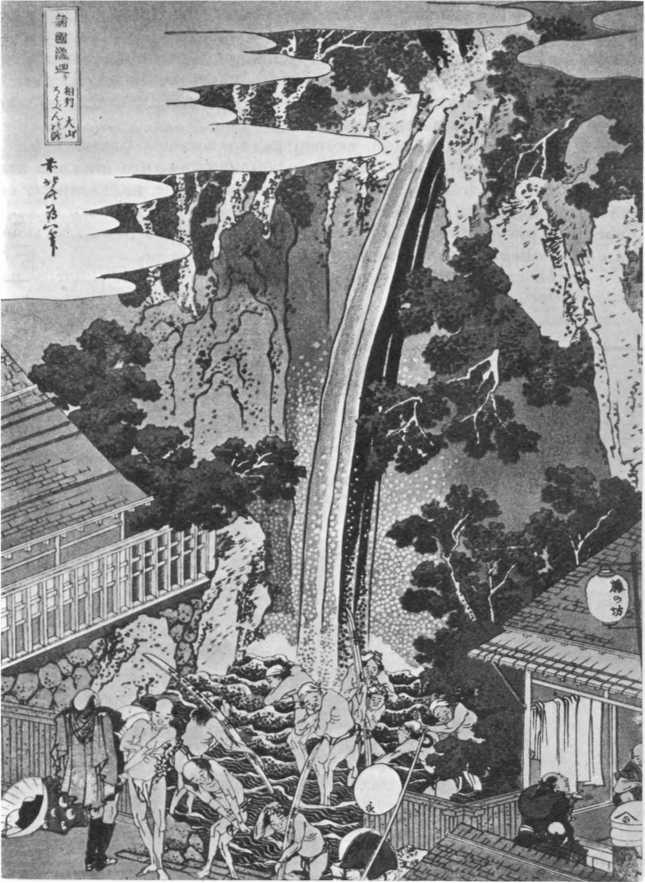 Хокусай. Водопад Робэн на горе Ояма.
Хокусай. Водопад Робэн на горе Ояма.
Тут появился Хокусай. Радостно, как-то фамильярней обычного приветствовал писателя. Бакин ответил сухо и тут же перешел к делу: — Вы добились известности благодаря тому, что ваши рисунки появились в моих книгах. Не спорьте, вы плохой иллюстратор. Никого не восхищали ваши рисунки к рассказам Санто Кёдэна. Он сам предпочитал работы Тоёкуни. Теперь вы стали совсем небрежны, и это начинает вредить моим книгам. Если хотите и дальше работать со мной, потрудитесь вчитаться в роман, понять его смысл и переделать рисунки. Хокусай отвечал с ухмылкой, вконец раздражившей Бакина: — Вы правы. Конечно, читателям не понравилось, что рисунки неверно передают ваш текст. Но посудите сами, что проще: мне, наделенному скромным талантом, подняться к высотам вашего стиля или вам его снизить до моих скверных рисунков? Право, лучше вам переделать роман по моим иллюстрациям. Поверьте, читатели будут в восторге.
 Хокусай. Высокий фонарь. Из альбома «Виды берегов реки Сумида».
Хокусай. Высокий фонарь. Из альбома «Виды берегов реки Сумида».
Такой дерзости Бакин не ожидал. Открыл рот, но ничего не мог сказать. Торопливо поднимаясь с циновки, задел столик, уронил очки, едва удержался на ногах. За ширмой раздался приглушенный смех учеников. Острое слово учителя они ставили не ниже его мастерства. Хокусай жалел о сказанном. Не собирался обижать Бакина. И вот — не удержался. Работа с ним закончена, дело ясное. Это не огорчало Хокусая. Что делать дальше, об этом не помышлял. Завтра — в путь. Хорошо: никаких обязательств в Эдо. Свобода. Иди куда хочешь. Совсем как в стихах: Как странник, я одет, готов к пути,
А путь в волнах безбрежных исчезает.
Когда вернусь?
Не знаю ничего,
Как белые те облака не знают.
III
Шел 1812 год. Отношения России и соседней Японии так и не установились, хотя были для этого сделаны некоторые попытки. Ровно за двадцать лет до того поручик русской армии Адам Лаксман побывал в Японии, где был принят с большой любезностью и получил разрешение на заход русских кораблей в Нагасаки наравне с голландскими. Впрочем, русское правительство под давлением западноевропейских дипломатов этим разрешением не воспользовалось. Русский адмирал Крузенштерн в 1804 году, по пути к Аляске, бывшей в те времена русским владением, заехал в Японию, но его дипломатическая миссия уже не имела успеха. В 1811 году в японских водах вновь появилась русская экспедиция, под командованием Головина. Японские власти захватили в плен Головина, еще двух офицеров и четверых матросов. Русскому правительству было не до них: по дорогам России, двигались полчища Наполеона. Разгоралось пламя-^ Отечественной войны. В Японии томились русские узники, а в общем-то все было спокойно. Японские дела не волновали Россию в этот год. В это время по дороге Токайдо шел Хокусай. И никому не только в России, но и в самой Японии не приходило в голову, что начинается новая эра в японском искусстве. Только сам художник был в этом уверен. Был твердо уверен: создаст наконец что-то новое. Смотрит вокруг и радуется — стала ясной самая суть каждой формы. С ним два ученика — Хоккэй и Хокуун. Багаж навьючен на лошадь, животное, для Японии сравнительно редкое. Лошадь ведет под уздцы Куниёси, четырнадцатилетний мальчик. Тоже художник. Учится у Тоёкуни, того самого, что вспомнил Бакин в укор Хокусаю. Славится школа Утагава, которую возглавляет Тоёкуни. Тоёкуни прекрасный художник, а Куниёси все бегает за Хокусаем. Не хотел брать — сам" Тоёкуни просил за него. Недавно проложенная дорога Токайдо тянется от Эдо до самого Киото. Стоит лето. Пятьдесят второе лето жизни Хокусая. А ему кажется — жизнь впереди. Прибрежные топи лиловеют цветами ириса. Зеленеют рисовые поля. Их аккуратные квадратики ступеньками сходят в ложбины, покрывают холмы уступами. Где прерываются поля, там апельсиновые рощи, бамбуковый лес, серые жилища крестьян, красные ворота храмов. Нет-нет за холмистой грядой сверкнет море. В Иокогаме, тогда рыбачьей деревушке (теперь огромный портовый город), встретили рыбака. Выловил нечаянно черепаху. Долго просил извинения у священной твари. Из выдолбленной тыквы поил ее водкой — сакэ, — чтобы не гневалась. Кланяясь, выпустил в море. — Не так поступают с людьми, — заметил художник, — если схватят кого по ошибке. Вспомнил Утамаро и других замученных в тюрьмах. Приветствовал рыбака. С таким почтением не обращался к самым знатным людям. Остановились на отдых в деревне у залива Сагами. Здесь до XIII века был город Камакура, столица Японии. Сохранились только руины дворцов, полузаброшенные храмы, кладбища с древними гробницами, вросшими в землю. Здесь покоится прах восьми тысяч трехсот героев — воинов. Вблизи новых могил в беседках-часовнях навешаны детские платьица. Для того чтобы не мерзли в загробном царстве умершие дорогие малютки. Слуги царя Эмма бессовестно их раздевают. Каждому это известно. Хокусай вздрогнул. Подумал: какое счастье, что его внучек, сын старшей дочери Оммэй, жив и весел. Баловал сорванца дедушка. Из этого путешествия тоже вернется с гостинцами. Для него, для дочки Оэй — как же иначе! Откуда-то из-за деревьев раздалось гудение барабана, прерываемое ударами колокола. Где-нибудь в полутьме храма сидит на корточках жрец и бьет в этот барабан. А во дворе появился, наверно, какой-то благочестивый странник. Пожертвовал бонзам две-три монеты, получил право позвонить недолго. По пути в Киото паломники всегда сворачивают в Камакура. Храмы, знаменитые руины, но прежде всего Дайбуцу, — грех обминуть такие святыни. Дайбуцу — статуя Будды тринадцатиметровой высоты. Сделана из кованой меди в XII веке мастером Оно. Статуя когда-то стояла внутри храма, а теперь под небом. Храм разрушен в 1333 году. Художники направились к Дайбуцу. Спокойно и величественно, положив руки на поджатые ноги, сидел Будда. Глаза полузакрыты, загадочная улыбка. Среди развалин задумался о преходящей славе мира. Хокуун увлекался архитектурой. — Какой величественный храм вмещал эту статую!.. — сказал он. Учитель возразил живо: — Не представляю, каков был храм, но радуюсь, что его уже нет. Его воздвигали напрасно. — Но почему же? Хокусай. Пристань. Из альбома «Виды берегов реки Сумида».
Хокусай. Пристань. Из альбома «Виды берегов реки Сумида».
— Да потому, что превосходные линии статуи, ее лицо, полное выразительности и красоты, терялись в полутьме храма. Их не оценишь вблизи. А сейчас Дайбуцу возник перед нами за поворотом аллеи. Это поражает. Дальше идем, и он, как живой, растет на наших глазах. Подойдя вплотную, мы чувствуем себя ничтожными в сравнении с ним. Лучший храм для такой статуи — этот пейзаж: деревья — стены, небо — крыша. — Какое счастье научиться благородству линий, которыми владел мастер Оно… — вздохнул Хоккэй. — А мне кажется, теперь дело не в линиях. Старинные мастера не пример для нас. Наша цель — воспроизводить жизнь, как она есть, — убежденно сказал Куниёси. Хокусай засмеялся: — Этак, молодые люди, вы и до нас доберетесь не сегодня-завтра! Зачем нас, стариков, слушать, когда у вас жизнь перед глазами?
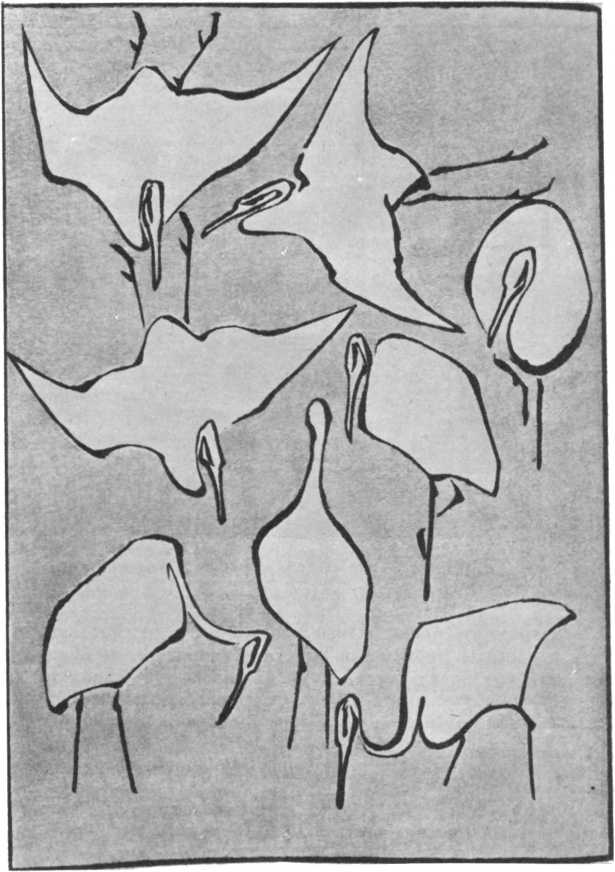 Хокусай. Цапли. Из альбома «Одним ударом кисти».
Хокусай. Цапли. Из альбома «Одним ударом кисти».
 Хокусай. Черепахи. Из альбома «Одним ударом кисти»
Хокусай. Черепахи. Из альбома «Одним ударом кисти»
Мальчик смутился, а учитель не хотел его срамить больше: — Все это не так просто. Еще поговорим, а сейчас пора идти дальше. Путь был долог. Встречных множество. Повозки, носилки, навьюченные кони, самураи, купцы, крестьяне, монахи. Всех обгоняли скороходы-почтари. Никому не обойтись без отдыха. На станциях подносили чай девушки, не менее изящные, чем в Эдо. Правда, домики беднее — циновки прямо на голой земле, блохи. Тут перевьючивают животных, в любой час храпят усталые путники, другие — рассядутся и балагурят. Хокусай то и дело раскрывает альбом. Ему не мешает, что за работой смотрят не только ученики, но непременные на Токайдо праздные зеваки. В альбом художника попадали подчас и эти фигуры, намеченные двумя-тремя безошибочно меткими штрихами. Хокусая в одних случаях интересовали их позы, в других — как они группировались на фоне пейзажа. Набросков накопилось уже много десятков. На очередном привале, перебирая их, пояснял ученикам, что желал схватить в каждом наброске. — Вот удильщики. Все трое они сидели согнувшись, в одинаковых позах. Но средний внезапно откинулся назад и рванул удочку. Ему показалось, будто клюнуло. Сосед повернулся к нему и тоже приподнял зачем-то свою удочку. Третий рыбак опытен и спокоен: он так и не пошевелился. Вот вам три характера, три движения. А вот — вы сами, когда я сел рисовать. Хоккэй спокойно распаковывает багаж, Хокуун спешит, а наш юный друг Куниёси, повесив разогреваться котелок на треножнике, может обжечься: сует хворост в огонь, а сам уставился на меня. Вот это, на мой взгляд, довольно интересный субъект. Он курит, будто ничего не замечая, но его уши ловят каждое слово, а за моей работой он наблюдает очень внимательно, хотя не желает этого показать. Между тем напряженная и беспокойная поза выдает его полностью… — А это опять он, тот же тип? Его же характерное движение, та же манера покуривать! — воскликнул Хокуун. — Где? — Да вот здесь. Только он наблюдает не за вами, а за самураями, которые, как видно, идут подвыпивши. — Да, в самом деле. Пожалуй, тот самый. Снова тот же! — в один голос отметили ученики, когда Хокусай развернул следующий лист. «Действительно он. Странно», — подумал мастер. Ему стало не по себе, когда, подняв глаза, увидел эту же самую фигуру, очевидно следовавшую за ними по пятам. Соглядатай курил, как всегда, беседуя с группой крестьян в сторонке. Что бы это могло значить? Собрав пожитки, художники двинулись в путь. Спустя некоторое время Хокусай оглянулся. Замеченный им человек, опустив голову, волочился в нескольких шагах. В конце концов, подумал художник, нет ничего удивительного, что кто-то, как и они, идет дорогой Токайдо. Здесь каждый следует друг за другом. И он успокоился совершенно.
 Хокусай. Крестьяне. Из альбома «Одним ударом кисти».
Хокусай. Крестьяне. Из альбома «Одним ударом кисти».
 Хокусай. Перевал Инуме в провинции Кай. Из серии «36 видов горы Фудзи».
Хокусай. Перевал Инуме в провинции Кай. Из серии «36 видов горы Фудзи».
Вдали показалась, розовея в лучах заката, снеговая вершина священной горы Фудзияма.
Катацумури соро, соро Ноборэ
Фудзино яма,—
 Хокусай. Вид Фудзи из Сэню в провинции Мусасино. Из серии «36 видов горы Фудзи».
Хокусай. Вид Фудзи из Сэню в провинции Мусасино. Из серии «36 видов горы Фудзи».
Хокусай вздохнул облегченно: пустяки. Самое большее — штраф. Предполагал, дело похуже. В округе Тоса крестьяне должны сдавать откупщику бумагу, которую делают. Конечно, стремятся утаить что-то, сбывают на стороне по дешевке. Взыскивают, если поймают, и с покупателя, но не так строго. А он, кстати, не виноват даже. Хотел сказать, но ждет, пока спросят. «Смотрящий» неожиданно скомандовал: — Осветите ему лицо… Так, так. Теперь убирайтесь. Допрошу сам. Все убирайтесь. Записывать не нужно. Руки развяжите. Молодой прокурор и прочие удалились, растерянно кланяясь. Важный жандарм весело улыбался художнику: — Не узнаете? А еще рисовальщик! Я Тёдзиро. Виделись с вами в Йосивара, когда — хе-хе! — были чуть помоложе… Память-то у меня лучше вашей. Впрочем, запоминать — моя профессия. К тому жепо вашей милости натерпелся сраму. Мне невдомек было, что за мерзости изволили нарисовать на моей бедной спине! Ах, ха-ха, хе-хе… Годы молодые — смеху-то было! Вспомнили, наконец?
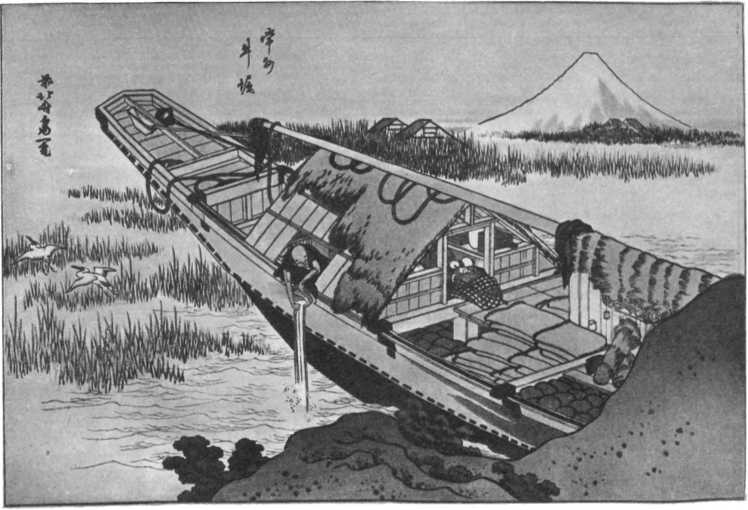 Хокусай. Фудзи, видимая из провинции Хитати. Из серии «36 видов горы Фудзи».
Хокусай. Фудзи, видимая из провинции Хитати. Из серии «36 видов горы Фудзи».
 Хокусай. Вид Фудзи из Идзава. Из серии «36 видов горы Фудзи».
Хокусай. Вид Фудзи из Идзава. Из серии «36 видов горы Фудзи».
Хокусай не обрадовался встрече. О вечеринке в Йосивара и раньше не любил вспоминать. Проще было бы отвечать молодому начальнику. Тедзиро был ему отвратителен. Сдерживаться приходилось ради учеников. Ждут, бедняги, своей участи, ни живы ни мертвы. Впервые в такой переделке… Пришлось разговаривать. «Смотрящий» не спрашивал о покупке бумаги. Болтал о том о сем, рассматривал и восхвалял наброски. Расставаясь, сказал: — Надеюсь, что не откажете подарить мне на память ваши несравненные рисунки? — Все? Зачем они вам? Это путевые заметки, не стоят внимания, — удивился художник. — Стоят, еще как стоят. Япония как она есть — вся тут. Такие вещи нужно беречь. Мы хорошо сохраним их. А то, знаете, пойдет это по рукам, попадет к какому-нибудь Сиба Кокану, от него — за море… Там поймут превратно. Зачем рассказывать лишнее нашим недругам? Хокусай поклонился принужденно: спорить было опасно и бесполезно.
 Хокусай. Подъем на Фудзи. Из серии «36 видов горы Фудзи».
Хокусай. Подъем на Фудзи. Из серии «36 видов горы Фудзи».
Художник ушел, а Тёдзиро все перебирал его рисунки. — Путевые заметки, — бормотал он. — Может быть, в самом деле только заметки… Но они наводят на размышления… Вот крестьяне — они работают, сгибая спины. А вот люди благородные — они отдыхают, наелись и перепились вином… Путевые зарисовки! На первый взгляд все совершенно беспристрастно. Почему же, однако, это может служить иллюстрацией к злонамеренным сочинениям Андо Сёки, умершего, слава Будде, пятьдесят лет назад? Андо Сёки мечтал о том, чтобы освободить тех, «кто сеет и пашет», от «паразитов, поедающих произведенное чужими руками и именуемых благородными». Он говорил, что нужно отдать землю тем, кто ее обрабатывает… Это все возмутительные слова, а рисунки, будь им неладно, наводят на те же мысли… А впрочем, ни к чему не придерешься. Художник и вправду ничего не выдумал… — Тёдзиро решительным жестом вбросил рисунки в папку. — Если мне приходят в голову такие мысли, тем более они могут возникнуть у людей неблагонамеренных, — решил он. А потом, положив руку на папку с отобранными рисунками, долго и мучительно размышлял. И не о том, что делать с художником, наказывать его или нет, а о том, на что он сам растратил свои силы и большую часть жизни, о своем ремесле, которым был одержим. Ученики, радуясь избавлению от беды, которая казалась неминуемой, расспрашивали наперебой. Хокусай объяснил вкратце, не касаясь своей неожиданной встречи. То, в чем подозревали, не подтвердилось. Потому отпустили. Хоккэй, узнав суть обвинения, заволновался, уговаривал не ночевать в Судзукава. — Ну ее. Пошли дальше, сейчас все равно не заснуть, — согласился Хокусай. Улучив минутку, Хоккэй шепнул ему: — Учитель, ради богов милосердных, простите, я скрыл от вас, что купил утаенную бумагу. Вчетверо дешевле… Хокусай покачал головой, погрозил с шуточным гневом: смотри, мол, не шали дальше! Потом засмеялся. Идут по дороге Токайдо. Легко на душе. Какое счастье — свобода! При них ни лошади, ни багажа, ни денег. Все отнято стражей во время ареста, рисунки забрал Тёдзиро. Ночь. Дороги почти не видно. Похолодало. Есть хочется.
 Хокусай. Вид Фудзи с моста Нихомбаси в Эдо. Из серии «36 видов горы Фудзи».
Хокусай. Вид Фудзи с моста Нихомбаси в Эдо. Из серии «36 видов горы Фудзи».
Наконец — огни, голоса: оживленно и весело у переправы через речку. Бесплатно не переправят, да и не нужно, до Киото далеко; кое-как переспят и вернутся в Эдо. Примостились у костра, где уже собралась большая компания. Странствующий монах, пощипывая струны сямисэна, сказывал о подвигах и злоключениях древнего богатыря Киёмори. Все знали эту историю, но слушали с увлечением.
 Хокусай. Борцы. Иллюстрация к книге «Эхон сакигакэ».
Хокусай. Борцы. Иллюстрация к книге «Эхон сакигакэ».
 Хокусай. Битва. Иллюстрация к книге «Эхон сакигакэ:
Хокусай. Битва. Иллюстрация к книге «Эхон сакигакэ:
Когда-то давно, в XII веке, говорят ученые люди, за власть над Японией боролись два могущественных рода — Тайра и Минамото. Киёмори — последний и самый славный властелин из рода Тайра. Не было сильней его. «…Творил он дела беззаконные: ведь всю страну от моря и до моря сжимал он в своей ладони…» — нараспев говорил бродяга, а слушатели думали о нынешних временах то же самое. Но близится смертный час Киёмори. Все предвещает это: видит сны зловещие, рыщут оборотни вокруг его жилища. Кажется тирану, будто в его саду черепов видимо-невидимо. Перекатываются, громоздятся страшной горой. «Тысяча живых глаз появилась, и все не моргая уставились на него…» Не испугался Киёмори. Тогда еще страшнее: «В хвосте любимой лошади Киёмори, той лошади, которую он с утра до вечера ласкал и лелеял, мыши ночью как-то свили себе гнездо и вывели мышат…» К чему бы это? «Призвали тогда гадателей, и те нагадали, что это предвещает тяжкие заботы…» Вздохнул и замолк сказитель. Какой-то крестьянин промолвил задумчиво: — Вот и сейчас бывают знамения, а кто разгадает их… Выловил, говорят, рыбак огромную рыбу тай. Взял нож, хотел чистить, вдруг рыба как прыгнет: нож выбила — ив море бегом… Другой перебил:
 Хокусай. Борьба на палках. Иллюстрация к роману «Суйкоден».
Хокусай. Борьба на палках. Иллюстрация к роману «Суйкоден».
— Глупости тебе говорят, а ты слушаешь! — А я так думаю, неспроста это, — не унимался первый. Господин, лучше других одетый, позевывая, заметил иронически: — Разумеется, неспроста. Виданное ли дело: рыба дерется, бегом по земле бегает! — А я знаю даже, к чему это, — вступил в разговор Хокусай. — Рыба показала, что делать людям, если кто захочет спустить с них шкуру. Все рассмеялись. Хорошо одетый господин тоже развеселился: — Правильно разгадано! Вы прорицатель, пожалуй? Хокусай отвечал серьезно: — Разумеется, прорицатель. Хотите, скажу, кто вы, что с вами было, происходит сейчас и будет впоследствии? — Сделайте одолжение! К удовольствию компании, Хокусай, подражая приемам и ужимкам базарных шарлатанов, начал гадание. Сложив пальцы, как будто держит лупу, изучал через них глаза клиента. Вместо «гадательных дощечек» понабирал в кулак каких-то палочек и несколько раз подносил их ко лбу, поднимая голову к небу. Потом в ожидании вдохновения вертел пучок в руках, прижимал к груди, снова ко лбу… Заметив, что эти манипуляции начинают надоедать зрителям, стал вещать. Всех занимало, что он скажет. — Вы художник. Направляетесь в Эдо, — проговорил и посмотрел вопросительно. И то и другое было весьма вероятно. При незнакомце был мешок с принадлежностями для рисования. Если бы он пришел сюда со стороны Эдо много раньше Хокусая, конечно, уже переправился бы. Прийти немного раньше он не мог: кто станет бродить без нужды в потемках? Значит, шел по направлению к Эдо. Несмотря на простоту подобных умозаключений, все присутствующие были потрясены. Человек, которому Хокусай взялся гадать, сказал: — Поразительно! Ума не приложу, как вы это узнали. Думал, признаться, что вы шутите. — Если вас удивляет такая безделица, позвольте удивить вас еще больше, — ответил Хокусай. — Надеюсь, не станете отрицать, что ваше имя Бокусэн? Кроме того, осмелюсь заметить, у вас неважная память: уехали в Нагоя несколько лет назад, а уже позабыли, у кого учились в Эдо!
 Хокусай. Богатырь. Иллюстрация к роману «Суйкоден».
Хокусай. Богатырь. Иллюстрация к роману «Суйкоден».
— Учитель, это вы! Но какими судьбами? — радостно воскликнул Бокусэн. Действительно, было время, Бокусэн учился у Хокусая. Как он мог не признать учителя? Бокусэн объяснил это неожиданностью встречи и слабым светом костра. Постыдился сказать, что недолгие годы разительно изменили его внешность. Узнав о положении, в котором оказался мастер со своими спутниками, Бокусэн немедленно предложил им свое гостеприимство. Путешествию в Эдо он предпочел общество Хокусая. В доме Бокусэна, носившем поэтическое название «дома лунного сияния», Хокусай чувствовал себя великолепно. Он много рисовал, восстанавливая по памяти утраченные дорожные наброски. В памяти удержалось самое главное. Рисунки выходили выразительней и проще выполненных прямо с натуры. Тогда пришло в голову повторить все самые удачные фигуры из прежних его произведений. После этого, вновь обращаясь к натуре, он чувствовал удовольствие от работы. Глаз его никогда еще не был таким точным, рука — такой послушной. Он думал, что делает все это просто так, ради упражнения. Не мучил и не стеснял себя никакими наперед поставленными требованиями, никакими целями. Рисовал что попало, не связывая одно с другим, ради одного только наслаждения рисовать. Он не раздумывал больше о судьбах «укиё-э». Впервые в жизни рисование стало для него не тяжким трудом, а приятнейшим отдыхом. Этот отдых предпочитал он всякому другому. Ученики постоянно отлучались, чтобы погулять по городу. Учитель, полагая, что сам отдыхает, не требовал от них никакой работы. Нагоя не мог соперничать с Эдо великолепием домов и парков, количеством жителей. Пожалуй, производила впечатление правильность планировки города. Кварталы — строгие прямоугольники, как рисовые поля. Поражал замок местного князя. Для самого сёгуна была бы достойная обитель. Нагойский замок построен еще в 1610 году. На фоне лёгких деревянных домиков подлинным чудом кажется это величественное каменное сооружение. Знаток архитектуры, Хокуун был в восторге. Обхаживал замок со всех сторон — не мог наглядеться. Даймё большую часть года не жил в своем замке. Сёгуны боялись надолго отпускать с глаз подчиненных князей, соперничавших с ними в богатстве и силе. Пусть подольше живут в Эдо, транжирят свои доходы! Хоккэю удавалось проникнуть в пустующий замок. Он цепенел перед картинами старинных живописцев, украшавших покои. Здесь был один из шедевров Тоса Мицунобу, его любимого мастера, — «Спящий тигр». Как-то раз ученики уговорили Хокусая полюбоваться замком и этой знаменитой картиной. Хоккэй с нетерпением ждал, что скажет учитель. Тот смотрел сосредоточенно, затем его вид стал рассеянным. О «Спящем тигре» — ни слова. Вместо того спросил как будто некстати:
 Хокусай. Иллюстрация к «Повести о 47 верных вассалах».
Хокусай. Иллюстрация к «Повести о 47 верных вассалах».
— Слышали, наверно, как писал Окё «Спящего кабана»? Выяснилось, что нет. Тогда Хокусай рассказал своим ученикам следующее. Маруяма Окё умер всего семнадцать лет назад, в 1795 году. Он писал утренние туманы, журавлей, павлинов, рыб, обезьян, людей, богов. Но лучше всего он знал животных. Много лет подряд он жил в пещере, вблизи которой дикие кабаны пили воду из ручья. Попьют — заснут на солнышке. Окё наблюдал это каждый день. Наконец написал «Спящего кабана». Спустившись с горы, он подошел к костру охотников и показал свою картину. Те выразили восхищение. Спросил, что они видят на картине. Отвечали — дохлого кабана. С этих пор писал он вещь за вещью. Нес охотникам, а они всё хвалили изображение дохлого кабана. Но вот однажды, задумавшись дольше обычного, охотники сказали: «Этот кабан не сдох и не убит. Он заснул, по-видимому». Тут глаза Окё вспыхнули. Он пошел от костра к костру. Расспросил всех жителей деревни Ходзу, и всюду ему говорили одно и то же: кабан спит. Теперь только посчитал Окё свою работу законченной. Хоккэй понял, что «Спящий тигр» Мицунобу уступает «Спящему кабану» мастера Окё. — Если художники Кано, — обратился он к Хокусаю, — добивались подобной полноты в передаче жизни, чем же тогда отличаемся от них мы, художники «укиё-э»? Хокусай усмехнулся: — При чем тут школы и их названия? Окё был близок к Кано, но его школа — Маруяма. Лучшие художники всегда стремились к одному — к правде жизни. Ты спросишь, как ее добиться? Так знай: нужно во всем видеть главное. Мне, например, кажется, что Окё не сразу написал «Спящего кабана» потому только, что от главного его отвлекали мелочи — блеск шерсти, запыленность копыт животного и прочее. А главное было в том, что кабан спит. Так вот, исходя из главного, нужно изображать людей, пейзажи и все остальное. А теперь, — продолжал Хокусай, — чтобы понять мою мысль, пойдемте ненадолго в храм Арако Канондзи. Пошли, и он объяснял по дороге: — В этом храме несколько работ Энку, монаха-скульптора, очень известного в народе и, к сожалению, до сих пор не оцененного художниками и знатоками. Когда-то в Никко впервые в жиани увидел я его скульптуру в обществе моего будущего учителя Танари Сори и, признаюсь, глаз не мог от нее оторвать, тогда как он отозвался о ней более чем сдержанно. С тех пор повидал я немало и уверяю вас: Энку такой мастер, у которого следует учиться тому, что называется «ваби-саби», то есть «красота простоты». У всех лучших японских художников есть это качество, но Энку здесь превосходит многих. Его статуэтки, вырубленные из бревен, поленьев или даже небольших палочек, получили название «натабори» — «изваянные грубым резцом». До некоторой степени это справедливо, но слово «грубый» не нужно понимать здесь в прямом смысле. Мои рисунки также лишены изящества линий, но только того изящества, которое создается умозрительно.
 Хокусай. Фудзи в грозу. Из серии «36 видов горы Фудзи».
Хокусай. Фудзи в грозу. Из серии «36 видов горы Фудзи».
 Хокусай. Мост Охаси. Из альбома «Виды берегов реки Сумида».
Хокусай. Мост Охаси. Из альбома «Виды берегов реки Сумида».
Пришли и увидели: чурбан, кое-где вовсе не обработанный, по нему — несколько смелых ударов топора, а в целом — лицо, совсем живое и характерное до смешного. — Я же говорил, — воскликнул Куниёси, — что мастер Оно с его плавными линиями безнадежно устарел! Хокусай усмехнулся: — Опять ты за свое! Не сравнивай старое с новым. Сравнивать можно вещи похожие, а старое с новым, Оно и Энку, — зачем их сравнивать? Они совсем несходны, и это так естественно: ведь их отделяет не одна сотня лет. Но, — заключил свою речь учитель, — Оно, Окиё, Энку — все эти мастера различных школ одинаково доискивались в натуре самого главного: стремились к тому, чтобы суть предмета воплотить самыми простыми средствами. К этому и я стремлюсь. По возвращении в «дом лунного сияния» Хокуун, Хоккэй, Куниёси, Бокусэн — все они смотрели рисунки Хокусая и убедились, насколько твердо он следует своему принципу. В двух-трех грубоватых линиях Хокусая была сама жизнь. А затем долгими ночами удалось Бокусэну уговорить Хокусая выпустить в свет книгу его набросков. — Но как же это все будет называться? Здесь не может быть текста, вообще все бессвязно! — упрямился мастер. — А я уверен, что превзойду вас как прорицатель, если скажу: успех такой книги будет необычайным, — настаивал Бокусэн. — Ну что ж, — в конце концов согласился Хокусай, — быть по-вашему. Может быть, такая книга окажется полезной для молодых художников. В свое время, когда я изучал стиль Кано, мне очень помогла китайская книга «Учебник живописи сада горчичных зерен». Если удастся создать на японском материале что-то подобное, будет неплохо. И Хокусай принялся отрабатывать свои наброски, готовя их для гравюры. Вскоре, однако, он убедился, что в более законченном виде они проигрывают. «Ну что ж, — решил он, — пусть все так останется, как получилось. Назову книгу «Манга» — «Разнообразные рисунки». В совершенстве зная технику вырезания гравюр, Хокусай внимательно корректировал работу своих помощников и редко бывал ею доволен. На этот раз, однако, попались граверы, которыми он не мог нахвалиться. Это были два брата — Иэгава Тамэкити и Иэгава Сантаро. Они были весьма точны в работе. — Ваше счастье, — говорил им художник, — что вы не успели приучиться к какому-то одному стилю. А то, бывает, нарисуешь нос вот так, — и он показывал, как именно, — а награвируют вместо этого так. На первый взгляд — то же самое, но от мелкого изменения уже получается нос в стиле Утагава, который я терпеть не могу. И все же кое-чего вы не замечаете в моих линиях; Давайте в дальнейшем поступать так: я буду делать рисунки большого формата, чтобы все мелкие изгибы и утолщения линий были вам хорошо видны. Для перевода на доску мои ученики будут делать уменьшенные копии. Идея показалась и ученикам и граверам превосходной. Дело пошло еще лучше. Печатать предполагали только черным, но, убедившись, что контуры не всегда смягчаются где следует, Хокусай добавил в некоторых листах серый цвет, позволивший добиться тональных переходов, а кое-где еще розовый. Незаметно летели месяцы, и книга под названием «Манга» увидела свет. Это был первый том, за которым последовало еще четырнадцать. В «Манга» Хокусай наконец нашел себя. Никто до него не создавал ничего подобного. Это признали. «Исключительное дарование мастера Хокусая известно всей стране. Этой осенью посетил мастер, по счастью, во время своего путешествия на запад наш город и познакомился там, к обоюдной радости, с живописцем Бокусэном из «дома лунного сияния», под крышей которого было задумано и выполнено триста эскизов. Небесные создания и Будды, жизнь мужчин и женщин, кроме того, птицы и другие твари, травы и деревья — все здесь представлено кистью мастера в разнообразных положениях и формах. Перед этим долгое время талант нашего мастера находился в дремоте. Его произведения и художественные идеи не были глубоки и долговечны. То, что публикуется здесь в эскизах, на первый взгляд грубоватых, поразительно правдиво и сильно. Мастер сумел всему, что изобразил, сообщить жизнь и поведать потомкам о жизненной радости и счастье, которые отражены во всем живущем. Кто может создать нечто подобное этому его произведению? Это собрание рисунков — неоценимое руководство для всех, кто учится искусству. «Название «Манга», то есть «Разнообразные рисунки», придумано самим мастером» — так было написано в предисловии, так именно оценивали новую книгу Хокусая его друзья и ученики.
IV
Будда изображается умиротворенным и бесстрастным. В его губах таится улыбка вечного покоя. Недаром японские кладбища — при буддийских храмах. Богиня Каннон олицетворяет милосердие Будды. Она снисходительна к людям, как мать к ребенку. Ее лицо прекрасно. Но есть у японцев и другие боги. Свирепые и неистовые, с лицами, искаженными злобой. В них воплотились силы природы, не укрощенной человеком. Страшные морские бури, ураганные ветры, извержения вулканов, землетрясения, грозы, во время которых гибнут посевы, люди и города, — все это издревле наводило ужас. Приходилось склоняться перед силой гибельных стихий. Почитали не только солнечную богиню Аматэрасу, но также и ее брата Сусаноо, бога бури. Хокусай. Всадники. Из серии «53 станции Токайдо
Хокусай. Всадники. Из серии «53 станции Токайдо
Дочь Сусаноо, Ицукусима, была богиней бурного моря. Память народа сберегла предание о деспоте Киёмори. Злобный и непобедимый Киёмори в представлении народа связывался с образом Сусаноо и его дочери. Не кто иной, как этот Киёмори, построил знаменитый храм на острове Ицукусима. Этот остров — скалистая гора в открытом море. Понятно, что имя морской богини дано ему недаром. Хокусай любил морские волны. Ему нравился дикий, покрытый лесом, заваленный огромными камнями островок Ицукусима. Деятельной натуре Хокусая ближе была активность бушующих стихий, чем вечное блаженное небытие — нирвана — Будды. Он менее всего стремился к нирване. Но человек смертен. Помня об этом, он старался не упустить ни минуты жизни. В августе, когда приходит праздник «О-бон», принято поминать умерших близких. Большую часть года Хокусай странствует по Японии. В праздник «О-бон» всегда возвращается в Эдо. Здесь все дорогие могилы. Годы идут. На смену ушедшим выросли новые люди. Дочь Хокусая, Оэй, стала очень похожа на покойную мать. Глядя на внука, Хокусай видит в нем себя самого. В первый день «О-бона» Хокусай никого не хочет видеть. Всех отослал, остался один в доме. Неспокоен. Ходит взад-вперед. То поправит раздвижные стенки седзи, то подойдет к табличкам, на которых начертаны имена родителей, отчима, жены. Постоит. Сядет. Поклонится, прикасаясь руками к полу. Задвинул стенки, оправил одежду, пошел, опираясь на палку. С виду — бедный старик. Кто знает силу его кулаков, стремительность и увертливость его тела — а есть такие, — те удивятся его осанке. Ссутулился, углы губ опущены, глядит в пространство, перебирает ногами вроде куклы театра марионеток. В Японии марионетки размером с человека. Только по движениям узнаешь издали, актер или кукла. Сейчас — очевидно, кукла, хотя это Хокусай. Сумерки. Много встречных с бумажными фонарями в руках. Несут особенно осторожно и бережно: верят, что в этих огоньках души родных покойников. Каждый год эти фонарики в праздник «О-бон» берут из храмов, при которых кладбища. Относят погостить домой на трое суток. Потом возвращают в храм до следующего «О-бона». Хокусаю не унести самому всех фонарей. И все-таки пошел один.
 Хокусай. Из альбома «53 станции Токайдо».
Хокусай. Из альбома «53 станции Токайдо».
Храм в квартале Асакуса состоит из многих строений. На изогнутых крышах в этот час, обрисовывая их контуры, вспыхивают фонари. Кажется, что крыши приходят в движение. Вдруг совсем рядом, неведомо на чем подвешенный, непонятно кем запаленный, засветился фонарь. Хокусай оглянулся — вокруг никого. Слышатся голоса, но все откуда-то издали. Посмотрел на фонарь, а это и не фонарь вовсе, а отвратительная физиономия. Бледная донельзя. Вокруг черные космы. Остановившиеся глаза выпучены и не моргают, а щеки движутся — кроятся гримасы. Стало жутко. Дернул плечами, мотнул головой, заставил себя взглянуть на страшную физиономию еще раз. Поглядел пристально — нет физиономии, нет выпученных глаз. Просто фонарь качается на ветру. То угасает, раскачиваясь, то разгорается. «Нельзя распускаться, — подумал Хокусай, — а то вот какие глупости примерещатся». Встряхнувшись и ободрившись, он прошел через несколько ворот и дворов, заполненных людьми, по аллеям, по лестницам, мимо храмов и часовен. Чувство одиночества прогнали звуки музыки. Со всех сторон льется мелодия. Вздрагивающая, всхлипывающая, будто в истерике. Ритм прерывается, а то вдруг становится равномерным. Затем нарастает с неумолимой властностью. Между деревьями, на которых красно-зеленые фонари, — светлое марево. Горят костры. Движутся фигуры. Это исполняются танцы «О-бон», пляски отошедших душ. Едва затихнет музыка людей, словно переводя дыхание, слышится другая, нелюдская музыка. Обычная музыка летней японской ночи — голоса множества цикад.
 Хокусай. Из альбома «53 станции Токайдо».
Хокусай. Из альбома «53 станции Токайдо».
 Хокусай. Из альбома «53 станции Токайдо».
Хокусай. Из альбома «53 станции Токайдо».
Таинственное оживление среди кладбищенских памятников. Изображения Будд на камнях, иероглифы надгробных надписей внезапно бросаются в глаза, как днем. Потом пропадают. Затем пляшут. На могилах зажжены огоньки. Это они то вспыхивают, то пропадают. Всюду огоньки: за кустами, деревьями, между памятниками. Здесь много людей, но Хокусаю видится только пляска света и время от времени — надписи на памятниках. Несколько раз его толкнули, но он не почувствовал: все люди в стороне, будто далеко где-то. Иероглифы на могильных камнях заставляют вздрагивать Хокусая. Сколько знакомых имен! Где больше — тут или среди живых? Трудно сказать. Хирага Гэннай. Об этом ученом, медике, естествоиспытателе, философе и писателе Хокусай только слышал. Хирага Гэннай спит здесь вечным сном. А когда-то он высмеял некоего «небокеси», то есть «проспавшего», который спал триста пятьдесят девять дней в году из трехсот шестидесяти. Этот «проспавший» видел сны, а не жил. Впрочем, во сне видел то, чем жили другие бодрствуя. Однажды, например, ему приснился Дохэй, продавец лакомств, и знаменитая красавица О-Сэн. Проснувшись, он воскликнул: «Глупый народ! Ценит только еду и красивых женщин, даже не ведает, что есть на свете что-то более важное!» Хирага был умен. Он знал не только по-японски и китайски. Изучил в Нагасаки голландский язык. Прочел много таких сочинений, о которых никто, кроме него, не имел понятия в Японии. Японцы, которые пьют, едят, влюбляются или спят, вместо того чтобы бороться с деспотизмом сёгунской власти, стали ему ненавистны. Его призывы к борьбе, выраженные в намеках, раньше всех уловили жандармы — «смотрящие». Хирагу схватили, заставили замолчать навеки… Но разве он замолчал, если сейчас, сорок лет спустя после его смерти, Хокусай, прочитавший только одно его предисловие к альбому гравюр Харунобу, стоит задумавшись над его могилой? Будто бы слушает…
 Хокусай. Из альбома «53 станции Токайдо».
Хокусай. Из альбома «53 станции Токайдо».
На другом камне вместо Будды очень знакомая фигура. Оказывается — Дохэй. В надписи отмечено, что этот известный всем жителям Эдо уроженец города Сэндай изображен так, «как его рисовал Харунобу». А вот еще знакомое имя — Курати Дзиндзаэмон, муж О-Сэн. Оказывается, и он умер, а Хокусай не знал этого. Рядом другой камень. На нем имя О-Сэн. Неужели и она? Но нет: иероглифы не наведены красной краской. Значит, О-Сэн еще жива. Просто приготовила для себя памятник. Так делают. Если написано не красным, значит, человек жив, даром что его имя на кладбище. Надо бы и себе приготовить памятник, подумал Хокусай. И вдруг раздумал. Как можно! Чтобы стать подлинным мастером, нужно еще шестьдесят лет, самое малое. Думать о смерти он не имеет права. И разве память о человеке сохраняет его надгробный камень, а не дела? Мастерство давалось Хокусаю трудно. Он не был похож на Утамаро, которому все удавалось шутя. Конечно, Утамаро за короткое время сделал так много, что мог себе позволить уйти из жизни. И все же он сделал это напрасно. Он рано сдался. Затосковал и умер. А Хокусай только-только начинает понимать формы окружающего мира. «Манга» — первая вещь, принесшая мало-мальское удовлетворение. Но это всего лишь начало. Предстоит изобразить и объяснить все, что было и есть… Для этого многое нужно еще узнать самому. Огата Корин достиг величия во многих видах искусства. Идя его путем, Хокусай давно уже не ограничивал себя живописью на свитках или гравюрами. Приходилось расписывать веера, изобретать форму для гребней, узоры для тканей. Но дело не только в этом. Изощрить руку и глаз очень важно. Еще важней — изощрить разум, наполнять беспрестанно сокровищницу памяти. Тогда только можно приблизиться к «симбарансё» — овладению всеми знаниями. А без этого ты не художник. Нет, он не смеет поддаваться унынию. Тоска смертельна. Нужно жить и достигнуть «симбарансё»! Дальше, пробираясь между могил, он шел бодро. Казалось, что умершие друзья сказали ему: «Живи! Живи за нас!» Вот он приблизился к месту, где упокоились его родители и жена. Более близких людей у него уже никогда не будет. Горько расстаться с отцом и с матерью, потерять ребенка. Тяжелы разлуки. Но из них всего грустней,
Больше всех разлук страшней
Без жены остаться мужу,
Схоронить супруга ей —
 Хокусай. Из альбома «Птицы».
Хокусай. Из альбома «Птицы».
Вместе любовались древними храмами Киото. В них картины лучших художников разных времен и школ. Величавые фигуры в одеждах со складками, подобными струям водопада, были на самых древних картинах. Некоторые из них принадлежали кисти Го Доси — так японцы читали имя великого китайского мастера У Дао-цзы. Го Доси жил в VIII веке. Сто лет спустя в его духе стал работать японец Конэно Канаока. Говорят, что по приказу императора самим Канаока и другими мастерами было написано для храмов Киото тринадцать тысяч картин. Из этого всего осталось менее десятка. Картин Го Доси еще меньше. Оэй запомнила эти великие имена. Но не меньше, чем картины, ее поразили истории, рассказанные отцом. Вот, например, такой случай. Много ночей подряд вытаптывал кто-то рисовые поля. Залегли крестьяне в засаду. Стемнело. Прибежала лошадь и ну резвиться. Гнались за ней долго — никак не дается в руки. Под утро настигли у ворот храма. Вот-вот схватят, а лошадь исчезла. Все закоулки обшарили — нет нигде. Вдруг посмотрели и видят картину Канаока. На ней тяжело дышит, отплевывая пену, неуловимая лошадь: только что вскочила сюда после бешеной скачки. Так ловко изобразил Канаока эту тварь, что каждую ночь, оживая, она паслась и безобразничала где попало! С Го Доси было не менее странное приключение. Написал этот Го Доси пейзаж с горами, лесами, облаками, людьми, птицами и всем, что только есть в природе. Когда пришел император полюбоваться картиной, живописец хлопнул в ладоши, и в нарисованной горе открылась дверь. Художник вошел в эту дверь. Император хотел за ним последовать, но дверь неожиданно закрылась, а картины как не бывало. — Так вот и я, — заключил Хокусай, — нарисую когда-нибудь японский пейзаж с горами, озерами, людьми, домами и всем прочим, а там — только меня и видели. — Я пойду туда вместе с тобой, батюшка, — решительно сказала Оэй.
 Хокусай. Из альбома «Птицы»
Хокусай. Из альбома «Птицы»
— Ладно, — улыбнулся Хокусай, — но пока что для этой картины нам нужно собирать материал. Не забывай, что в ней должно быть нарисовано все, что есть в Японии, без малейшего исключения. — Теперь я понимаю, — с восторгом воскликнула Оэй, — для чего мы рисуем «манга»! Это все материал для той картины, в которую мы уйдем. И ее не удивляло больше, почему отец рисует все подряд, даже такие вещи, которые другие художники никогда не изображали. Внук Хокусая, племянник Оэй, был ненамного ее моложе. Оба перешли пятнадцать и не дошли до двадцати. Родители утверждали, что он ни к чему не способен и нет с ним сладу. «Глупости, — говорил Хокусай, — парень как парень. Я вот тоже считался бездельником». Отправляясь на остров Ицукусима, он взял с собой учеников — Хокууна, Хоккэя, Бокусэна, а кроме того, дочку и внука, сына Омей. Чтобы Оэй не было скучно. Чтобы мальчика не тиранили чересчур взыскательные родители. Качалась на волнах лодка. Кормчий искусно направлял ее, орудуя длинным веслом. Глядя на море, Хокусай рассказывал легенду об Ицукусиме.
 Хокусай. Праздник фонарей. Из альбома «Мосты».
Хокусай. Праздник фонарей. Из альбома «Мосты».
 Хокусай. Мост «Парчового пояса. Из серии «Мосты».
Хокусай. Мост «Парчового пояса. Из серии «Мосты».
Эта вынырнувшая из океана лесистая гора когда-то понравилась дочерям бога Сусаноо. Они-то и внушили императрице Суйко построить здесь храм. Дело было нелегкое: ведь остров был крутоверхий. Храм вышел маленьким и невзрачным. Через пятьсот лет владыкой Японии стал знаменитый своей жестокостью и силой Тайра Киёмори. Он выстроил новый храм на сваях — ровного места на острове не было, — а ворота, тории, расположил прямо в море. Старшую дочь Сусаноо звали Ицукусима. Ее именем и называют остров. — А почему его не называют Киёмори? — спросил внук. — Ведь храм построил Киёмори. — Потому, — серьезно ответил дед, — что именем злых правителей не называют ничего доброго. Пока художники располагались на берегу, племянник уговорил Оэй погулять по острову. Пришлось карабкаться наверх по отвесным тропинкам, мимо кривых сосен, камфарных деревьев, каменных фонарей и причудливых скал. Перебирались через ручьи, струящиеся к морю по каменистому руслу. Видели ручных оленей. Спугнули парочку священных голубей. Незаметно под сенью деревьев сгустился мрак. Чуть-чуть похолодало, и парень застучал зубами. Вдруг на вершине острова показался огонь. Тетушка сама испугалась. Но племянник вынудил ее не показывать виду: он причитал и ревел, как трусливый малыш. Взяла его за руку, прикрикнула и вывела на берег.
 Хокусай. Хризантемы. Из серии «Большие цветы».
Хокусай. Хризантемы. Из серии «Большие цветы».
Хокуун возился с работой, усердно прикладывая линейку к бумаге. Бокусэн и Хоккэй готовили ужин у костра. Хокусай, заложив руки за спину, глядел на огонь, разгоравшийся над лесом. — Дедушка, спаси! Пожар! Боюсь! — кричал балбес. Оэй, успокоенная видом отца, готова была рассмеяться. Отец посмотрел на нее строго: — Нет ничего смешного. Ты легкомысленна — не знаешь, какой это ужас — пожар. — Обняв внука, Хокусай пояснял ему: — Глупенький мой, ну какой там пожар? Этот огонь здесь зажигают каждый вечер уже более тысячи лет. И знаешь, для чего? Чтобы Ицукусима, которая живет теперь на луне, видела свой любимый остров. Желая согреть юношу, который не унимался со своей истерикой, Хокусай укутал его как следует. Бокусэн предложил свое любимое средство от всех болезней — фляжку сакэ. Хокусай — враг водки, но тут разрешил внуку сделать глоток: как лекарство, чтобы спал его любимец, чтобы не расхворался. — Спите спокойно, завтра увидите много интересного, — сказал старый художник. Сам он заснул раньше всех. Еще некоторое время Оэй, Бокусэн, Хокуун, Хоккэй беседовали у костра. Удостоверившись, что учитель спит, отхлебнули из фляги Бокусэна. Чуть-чуть, хотя тот показал еще одну, нетронутую. Потом все затихло. Среди ночи Бокусэн проснулся от странных звуков. Внуку учителя было нехорошо. Его рвало. Бокусэн вскакивает в тревоге и неожиданно бьет больного по физиономии. Мерзавец вытащил фляжку и налакался, как свинья. Кое-что соображает, однако. — Господин Бокусэн, простите. Все, что хотите, для вас сделаю. Приказывайте — ваш слуга навеки… Бейте меня сколько угодно… Только не говорите дедушке…
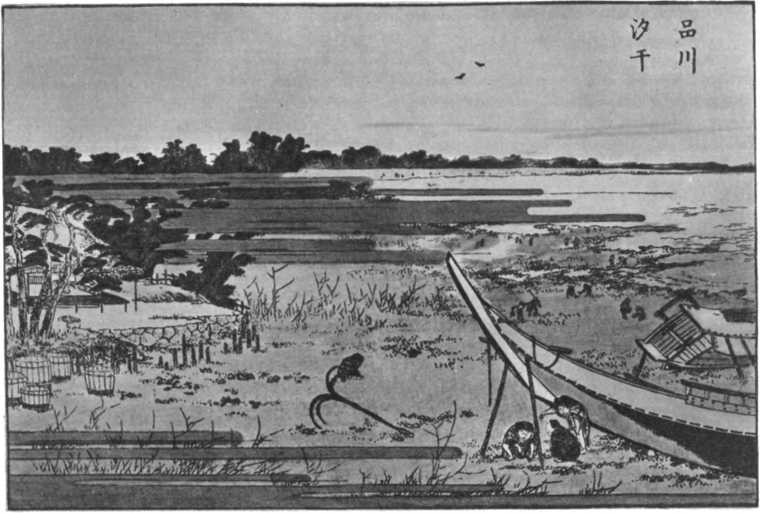 Хокусай. Отлив в Синагава. Из альбома «Виды Эдо».
Хокусай. Отлив в Синагава. Из альбома «Виды Эдо».
Бокусэн плюнул и лег. Не спалось до рассвета. Мешал храп юного мерзавца. Едва забрезжила заря, Хокусай встал. Осторожно и ловко, без шума. Слышен был плеск моря и плач кукушки. Он звучит постоянно в летнюю ночь. Хокусай скрылся в сумраке леса. Шел и думал…
Кукушка гор!
Послушай, подожди!
Тому, кто там, в горах, тебя прошу
Весть передать:
Здесь, в мире суеты,
Я жить устал…
Я больше не могу…
 Хокусай. Клест и чертополох. Из серии «Малые цветы».
Хокусай. Клест и чертополох. Из серии «Малые цветы».
 Хиросига. Дождь. Из серии «Сто видов Эдо».
— Видишь ли, милая, — отвечал Хокусай, — праздник на дивном острове бывает раз в году, а я люблю рисовать то, что можно увидеть каждый день. Кроме того, вся эта толкотня на воде, устроенная людьми, показалась мне ничего не стоящей по сравнению со спокойствием скал и деревьев Ицукусимы, с вечным движением моря, которое шумит у берегов.
Много еще довелось постранствовать художнику. Побывал он на нескольких сотнях, а может быть, тысяче японских островов. Сколько их всего? До сих пор спорят ученые-географы.
Так же вот сто с лишним лет до Хокусая исходил все острова и тропы Японии великий поэт Басё. Недаром одну из книг «Манга» Хокусай начал портретом Басё. Хорошо бы жить и умереть в пути, как Басё. О ком это сказано:
Хиросига. Дождь. Из серии «Сто видов Эдо».
— Видишь ли, милая, — отвечал Хокусай, — праздник на дивном острове бывает раз в году, а я люблю рисовать то, что можно увидеть каждый день. Кроме того, вся эта толкотня на воде, устроенная людьми, показалась мне ничего не стоящей по сравнению со спокойствием скал и деревьев Ицукусимы, с вечным движением моря, которое шумит у берегов.
Много еще довелось постранствовать художнику. Побывал он на нескольких сотнях, а может быть, тысяче японских островов. Сколько их всего? До сих пор спорят ученые-географы.
Так же вот сто с лишним лет до Хокусая исходил все острова и тропы Японии великий поэт Басё. Недаром одну из книг «Манга» Хокусай начал портретом Басё. Хорошо бы жить и умереть в пути, как Басё. О ком это сказано:
Он будет ходить по дорогам
И будет читать стихи — о самом Басё или о нем, о Хокусае?
V
Возраст не ограничивает творчества. Талант Хокусая к его семидесяти годам достиг зрелости. «То, что я делал до сих пор, — говорил он своим друзьям и ученикам, — можете не считать. Теперь лишь я начинаю улавливать истинное строение всего, что есть в природе». Разумеется, ему возражали. Кое-кто приписывал такие его слова скромности, а Хокусай продолжал говорить с искренним убеждением: «Да, это так, мне лучше видно. Посмотрите, как возрастет мое искусство к восьмидесяти годам. Полагаю, что в девяносто я уже проникну в сокровенные тайны вещей, а достигнув ста лет, буду чудом среди художников. Но только в сто десять добьюсь цели: каждая точка, каждая линия — все будет живым в моих рисунках». И действительно, год от года мастерство Хокусая росло, физические силы его не оставляли. Правда, на лице появилось много морщин, а тело будто бы ссохлось. Зато рука сохраняла подвижность, а глаза — юношескую зоркость. Время все изменяло вокруг, но Хокусай был ему не подвластен. Ученики ловили каждое его слово, благоговейно вглядывались в каждый его штрих. Дочь Оэй окружала его трогательной заботой. Впервые в жизни Хокусай серьезно заинтересовался обстановкой своего дома, устроил его по своему вкусу. Часами возился в своем садике. Он стал спокойней. Меньше странствовал. Впечатлений накопилось так много, что появилось желание поработать в удобной мастерской. Художник был почти счастлив. Несчастна была его старшая дочь и ее муж, художник Янагава Сигэнобу. Какое тут счастье, если сын, уже совсем взрослый, грубит, хулиганит, не занимается делом? Только внешностью, не характером, тем более не талантом, внук напоминает своего деда. Хокусая не проведешь: каждого насквозь видит. Всех может понять. А внук — это его слабость. Что хорошего он в нем находит? А ведь как любит! Позволяет внуку говорить и делать такое, чего не простил бы никому другому. А внук заметил это и переходит границы элементарных приличий. Хокусай, когда внук болтает развязно, думает, что все это шутки. Какой он остроумный, какой веселый! Чем-то похож на молодого Утамаро. Таковы, наверно, все одаренные люди. — Здравствуй, глубокоуважаемый и дорогой дедушка! Твой глупый внук счастлив видеть своего великого деда в добром здравии. Как совестно отрывать тебя от важнейших свершений, но у меня возникло столь сильное желание почтительно проводить тебя на прогулку, что, право, не в силах его подавить. — Здравствуй, дорогой мой Янагава. Рад, что ты, как всегда, весел. Рассказывай, что новенького, — отвечает Хокусай. Внук хвастается своими успехами: — И вот, представь, когда я сказал, что Хокусай мой дедушка, они. сразу изменили ко мне отношение… Провели вечер так, что просто, ну знаешь… Встаю сегодня, голова трещит, что там было такое, не помню. Драгоценные родители, конечно, читают мораль, пилят, как тупой пилой, а я этого терпеть не могу… До чего ненавижу всякое насилие! Хокусай качает головой, хмурится, а сам — удивительное дело! — не может скрыть добрую улыбку: — А все-таки я тоже тебе не советую пить сакэ. Внук принимает благонамеренный и серьезный вид: — Да разве я не понимаю! Ведь это я просто в шутку… Ну, знаешь, случилось раз в жизни, неужели с тобой не случалось? Зато это будет теперь для меня уроком. А пойти с ними нужно было для важного дела… — Для дела, говоришь? Какого же? — Вот тут Хокусай поджимает губы и хмурится по-настоящему. Внук с воодушевлением рассказывает, не замечая, что попал не в тон, о блестящих перспективах, которые перед ним открываются. Новые друзья познакомили его со служанкой знатного самурая. Еще немного, и с помощью этой особы он будет принят к нему на службу. Научится в совершенстве владеть оружием, а там — женится на дочери самурая. Тесть, разумеется, оформит его в качестве наследника и продолжателя рода. Дочку эту он еще не видел, но это неважно. Все будет отлично. Впрочем, это зависит от деда: нужны деньги. — Понимаешь, конечно, — с доверительной интонацией заканчивает внучек, — наше с тобой происхождение, наши носы и торчащие уши в глазах женщин приходится подправить монетой… Хокусай обрывает: — Слушай, Янагава, как тебе не стыдно! Да если бы кто другой сказал, то я бы ему… — Конечно, мне стыдно. Да, я виноват. Я самым униженным образом прошу меня простить. Я бесконечно глуп, невежествен, дерзок. Меня нужно учить, и благодарю за науку десять тысяч раз. Конечно, чего ожидать мне от жизни? Бесправие. Всю жизнь дрожи, как бы какой самураишка тебя не ударил! С этим нужно смириться. Не вправе я ни на секунду почувствовать себя человеком. Не смею развлечься, не смею глотнуть каплю сакэ. Должен помнить всегда, что я последний из последних… Нет, нет, кончу все это! По крайней мере, умру, как самурай: вспорю себе живот, и конец делу! Хокусай. Красильщики. Из альбома «Виды Эдо».
Хокусай. Красильщики. Из альбома «Виды Эдо».
Плачет. Говорит жалкие слова… Кончилось тем, что Хокусай поморщился и дал денег для сомнительного дела. Пытался даже подыскать какие-то оправдания внуку и самому себе. Правда ведь, мол, жизнь отвратительна. Достаточно горя пришлось отхлебнуть мне самому. Горькой была моя молодость. Так пусть же хоть внук всего этого не знает… И так далее. Как-то пришел в дом Хокусая молодой художник Нанхаку Томэй. Хокусаю он не понравился. Наговорил кучу комплиментов, толком не объяснил, для чего пожаловал. Хокусай спросил его напрямик, нет ли у него какого дела. Застеснялся, замялся, будто нечиста совесть. Ушел, а через неделю снова явился. Если Хокусаю кто не понравится, он умеет, сохраняя изысканную вежливость, сделать так, что любой почувствует это. Нанхаку проявлял странное упорство. Пришел в третий раз. Хокусай попросил Оэй объяснить надоедливому посетителю, что нынче он чрезвычайно занят. Неожиданно Оэй вспыхнула: — Почему, собственно, я должна лгать? Ты сам говорил, что на сегодня закончил работу! Кроме того, мне памятны твои слова: «Никогда не следует отталкивать людей, если они приходят с чистым сердцем…» Хокусай был изумлен: никогда перед этим дочка ему не перечила. С металлическим звучанием в голосе повторил просьбу: — И все-таки, чем философствовать некстати, потрудись-ка передать этому господину, что я лишен возможности его принять. — Хорошо, я ему скажу это, если ты настаиваешь, но, поскольку недостойные люди не должны тебе мешать работать, следовало бы, чтоб сын Янагавы Сигэнобу, твой внук и мой уважаемый племянник, позабыл дорогу в наш дом. Если он появится еще раз, я с наслаждением объяснюсь с ним. После нашей беседы, льщу себя надеждой, он на всю жизнь запомнит некоторые правила, которые ты приучил меня соблюдать с детства. Как следует ответить дочери, забывшей о почтении к родителям? Хокусай думал об этом и ничего не мог решить. В этот момент, растягивая рот до ушей, таких же торчащих, как у деда, внешностью — вылитый дед, является легкий на помине молодой Янагава. Оэй открыла рот, но, сделав глаза буравчиком — видно, что дочь своего отца, — дернула плечами и выбежала. — Здравствуй, дедушка, родной, высокочтимый, больше всех любимый! Ты ведь у нас самый добрый, самый снисходительный!.. Нет, нет, ничего не говори, обещай только выполнить одну просьбу. Мы оба тебя просим, я и твоя Оэй. Обещаешь? — Не дав Хокусаю опомниться, он продолжал: — Я, мы оба так и думали, что ты не откажешь, если от этого зависит счастье двух любящих сердец… Спасибо!
 Хокусай. Лесоруб. Из альбома «Хокусай гафу».
Хокусай. Лесоруб. Из альбома «Хокусай гафу».
В конце концов, когда выяснилось, в чем дело, Хокусай переменил гнев на милость. От всего сердца обнял внука, дочку и радостно принял Томэя. Старик не подозревал до этого, что они с Оэй любят друг друга. Теперь ему стало понятно, почему Оэй впервые в жизни вела себя дерзко, чем была вызвана назойливость Томэя. С большим удовлетворением подумал он, что внук человек исключительной доброты. Стыдно Оэй — она была несправедлива к племяннику. — Вот видишь, — говорил Хокусай дочери, — ты, как и все, не сумела его оценить. Хорошо, хоть я один его понимал. Оэй и ее жених сдержанно усмехнулись. Выдал Хокусай вторую дочь замуж. Ушла Оэй из родительского дома. Хокусай заскучал. Правда, его не забывал внук. Видя, что дед одинок без дочери, он старался бывать почаще и все заводил разговоры о долге детей, о самопожертвовании во имя родителей. Хокусай привязывался к нему все больше и никогда не отказывал в деньгах. А многосложные дела внучонка требовали немалых сумм. Вот-вот должен он был стать зятем и наследником знатного самурая, но это событие оттягивалось со дня на день и требовало все возрастающих расходов. Не имея наличных средств, Хокусай подписывал долговые обязательства.
 Хокусай. Ветка сливы и луна.
Хокусай. Ветка сливы и луна.
Но вот внук как в воду канул. Хокусай забеспокоился. Искал. Был у его родителей — своей старшей дочери Омэй и ее мужа Сигэнобу. Накричал на них: оказывается, они выгнали из дому собственного сына. Что говорили дальше, и слушать не стал. Гневно прервал зятя: — Помнить надо, что говорил китайский мудрец Кунцзы: «Отец должен быть отцом, сын — сыном». Жаль, что не было сына у него самого! Дочери уходят к своим мужьям и забывают о долге по отношению к родителям. Почему внучек не его сын? Да разве когда-нибудь могло такое случиться, чтобы он выгнал собственного сына? Вернувшись домой, был раздражен, что Хокуун и Хоккэй куда-то ушли без спроса. «Бедный внук! Как он похож на меня! Мы всегда понимали друг друга, а сейчас вот — что я могу для него сделать?» Думая о своем одиночестве, обеспокоенный судьбой внука, стал рисовать. Сыновняя почтительность выражалась иероглифом «ко». Он вывел этот знак. «Ко» — великое понятие. Оно должно быть правилом жизни. И Хокусай представил юношей, а в их фигурах — будущие поколения, занятые благородным трудом. Юноши устанавливают вертикально покосившийся было знак «ко», моют его, очищают от грязи, подкрашивают… Работа художника и его раздумья были прерваны вторжением двух подозрительных субъектов. Многократно извиняясь, витиевато оправдываясь, они предъявили долговые расписки. «Больше ни дня мы ждать не можем. Униженно просим вернуть наши деньги». Денег у Хокусая не было. Еле выпроводил кредиторов, пообещав рассчитаться завтра. Ученики вернулись возбужденные, в растерзанной одежде. Их сбивчивые пояснения вконец раздражили Хокусая. Какие-то пьяные господа позволили себе неуважительно отзываться о нем, называли его творчество «мужицкой отрыжкой». Ученики затеяли ссору, — не следовало этого делать. Но хуже всего было то, что они утверждали, будто в компании хулителей главным заводилой был его собственный внук. Нервы Хокусая, в былое время крепче канатов, в этот вечер отказали.
 Хокусай. Кролики.
Хокусай. Кролики.
 Хокусай. Как родилось какемоно[5]. Фудзи, отражающаяся в блюдце. Из серии «Сто видов горы Фудзи.
Хокусай. Как родилось какемоно[5]. Фудзи, отражающаяся в блюдце. Из серии «Сто видов горы Фудзи.
Заявил ученикам, что мастерскую закрывает, содержать их в дальнейшем не может и вообще просит оставить его в покое. Ночью его преследовали кошмары. Стоит чашка с водой возле таблички с именем кого-то дорогого умершего. Ползет змея и хочет пить из чашки… Ужасная рогатая старуха скалит зубы. В ее когтистой руке окровавленная головка младенца… Морды, возникающие одна за другой. Синие, вздутые, как у повешенных или утопленников. Белесые, костистые, как черепа… Встал. Преодолевая боль в глазах, попытался рисовать при мигающем свете фонаря. Запечатлел ночные ужасы. После этого только от них отделался. Понял строение и форму каждого виденного страшилища. Сообразил, на что все это похоже, из каких элементов действительности составлено его больной фантазией. Жутким бывает лишь то, что необъяснимо. Несколько раз с головой окунулся в бочку с водой, служившую ванной. Фыркая и растираясь, думал: «Чего только ни рисовал я, а таких страшилищ, не привидься они мне, в жизни не выдумал бы. Как назвать такую книгу? Назову ее «Сто рассказов». Ночные кошмары переплелись в его представлении с известными в Японии страшными рассказами. Он стал за работу, еще не одевшись. Эскиз за эскизом — один другого страшней. Всюду смерть в ее ужасных обличьях. Вечером во дворе храма, у могилы женщины, убитой мужем, колышется на ветру порванный бумажный фонарь. Фонарь не фонарь, скорее, лицо покойницы. Рот раскрыт. Можно подумать, испытывая муки, она криком кричит. Глаза закатились, налившись кровью. А внизу — ясное, ко всему на свете равнодушное голубеющее небо… Другой лист — по мотивам любовной трагедии. Некий Кохада Кохэй пугает своего убийцу. Свой бледный скелет с живыми глазами просовывает он сквозь красную сетку, которой закрываются от москитов во время сна. На погребальной табличке художник пишет свое имя. Змея, пьющая из чашки, в данном случае — его душа. Один, другой, пятый рисунок… Сколько еще? Утром у Хокусая всегда возникали идеи и замыслы. Сегодня, однако, его вдохновение длилось короче обычного. Вспомнил о внуке. Еще этот разговор с учениками. И, наконец, через несколько часов явятся кредиторы. Что делать? Быстро оделся, пошел к Оэй. Было рано. Город только что пробуждался. Одна за другой раскрывались стенки домиков. Полуобнаженные женщины причесывались перед металлическими зеркалами, на которых играли первые лучи солнца. Лиловые тучки на небе окаймились золотым сиянием. Прохожих еще мало. Сборщики нечистот с деревянными ведрами на коромыслах торопливо перебирают ногами, чтобы закончить свое дело, пока не наступит день. Гуськом семенят буддийские монахи в желтых рясах. Несут широкие чашки: собрать утреннюю милостыню. Какой-то щеголь в красном кимоно, видать не выспавшись, бредет и напевает благодушно, поигрывая веером:
Слышу аромат
Померанцевых цветов,
Ждущих майских дней,
Чудится, подруги то
Прежней запах рукавов.
 Хокусай. Фудзи, отражающаяся в волнах. Из серии «Сто видов горы Фудзи»
Хокусай. Фудзи, отражающаяся в волнах. Из серии «Сто видов горы Фудзи»
Воскликнула: — Какой мерзавец! Это о его внуке, о своем племяннике. — А помнишь, как этот мерзавец упросил выдать тебя за Томэя? — спросил Хокусай с горечью. Оэй задумалась, потом посмотрела в глаза отцу и сказала: — Томэй уплатил твоему любимцу Янагаве сорок золотых рё за это одолжение. А после того, угрожая доставить тебе неприятности, содрал с нас еще втрое. Хокусай опустил голову и прикрыл лицо ладонью. — Я пойду. Пожалуйста, не говори ничего мужу. Прошу, не провожай меня, — повернулся и зашагал быстро. На полпути встретил Хокууна, Хоккэя и еще кого-то с ними. Искали его. Кто просил? Почему за ним слежка? — Если память не изменяет, ведь я еще вчера вечером просил вас, дорогие друзья, оставить меня в покое! Сказал и пожалел сразу, только взглянул на их лица. Впрочем, чего жалеть? Пропадай все пропадом! Возле дома его поджидал внук. Увидел и вздрогнул. А тот как ни в чем не бывало. Оттарабанил положенное приветствие, расспросил о здоровье, пробормотал трафаретные комплименты, а затем к делу: опять нужно выручить. Каких-нибудь десять рё, и все в порядке. Вот остановились они двое и смотрят в упор друг на друга. Одинаковые носы, уши, фигуры. Разные души. Наконец Хокусай проговорил:
 Хокусай. Фудзи на рассвете. Фудзи в пасмурную погоду. Из серии «Сто видов горы Фудзи».
Хокусай. Фудзи на рассвете. Фудзи в пасмурную погоду. Из серии «Сто видов горы Фудзи».
— Хорошо. Идем со мной, и получишь нечто более ценное, чем десять золотых монет. Этого хватит тебе надолго. Внук почуял, видимо, что дед разговаривает необычно. Помялся и хотел улизнуть. Не тут-то было. Взял его Хокусай за руку, будто железными клещами придавил. Завел за дом. Поводил туда-сюда: выбирал место, чтобы никто с улицы не увидел. Потом спросил: — Ты, внучек, внимательно смотрел рисунки деда? Внук ничего не мог ответить: дрожал и клацал зубами. — Так вот, если смотрел, помнишь, конечно, ту книжку «Манга», в которой представлены лучшие приемы рукопашной драки. Поскольку ты спишь и видишь стать самураем, посмотри, как это выглядит на практике… И старый, дряхлый на вид художник так отделал молодого бездельника, что подняться с земли, даже пошевелиться без крика от боли было невозможно. После этого Хокусай как ни в чем не бывало повернулся и ушел. Внук только всхлипывал, а про себя думал: «Ладно, дед, ты горько пожалеешь об этом…» Ночью несчастный художник, оставшись один в доме, задремал в изнеможении. Вдруг бумажные стенки охватило пламя. За полчаса сгорел целый квартал. Никто не знал в точности причины пожара. Не было известно, что сталось с Хокусаем. Кредиторы вынуждены были примириться с тем, что его нет в Эдо. Некоторых удивляло, что в это же время исчезла его дочь, бывшая замужем за художником Томэй. Ходили слухи, что внук художника, предусмотрительно захватив столько его рисунков, сколько мог унести, убил деда и совершил поджог, чтобы замести следы. О судьбе преступника толком ничего не знали. Кто-то утверждал, будто, мучимый раскаянием, он бросился в море. По другой версии, он удрал на голландском корабле, нанявшись в услужение к иностранцу, с которым познакомился раньше на почве недозволенных махинаций.
VI
Стояла чудесная погода. Цвели придорожные кустарники. Ветерок обвевал путников, избавляя от надобности обмахиваться веерами. На фоне голубого неба окрестные домики казались только что вымытыми и обновленными. Птицы задорно чирикали и пускали веселые трели. Более всего любил Хокусай природу, и она платила ему благодарностью в трудные минуты. Ободряла, отвлекала от всех житейских тревог и невзгод. Разочарованный в своей привязанности к внуку, обнищавший художник, старый годами, идет, однако, чуть не приплясывая от восторга. С ним Оэй. Ради дочернего долга оставила любимого мужа. Шелест деревьев, новые горизонты за поворотами дорог, горько-ванильный запах песка и трав, стрекотание кузнечиков, колыхания нагретого воздуха — все это вместе создавало невыразимое словами чувство радости и полноты жизни. Хокусай. Вид Фудзи из города. Из серии «Сто видов горы Фудзи».
Хокусай. Вид Фудзи из города. Из серии «Сто видов горы Фудзи».
Что рисовать, чтобы выразить это чувство? Вот цвет глицинии. Лицо дочери. Старые, раскидистые узловатые стволами сосны. Спешащие путники. Хорошо все это! Осыплется глициния. Изменится, а рано или поздно засохнет дерево. Уйдет человек. Налетят, нагромоздятся и рассеются облака. Вспорхнут птицы. Рухнет обветшавший храм. Огнем или вихрем истребится домик, пока что приветливо поглядывающий из зелени сада. Все преходяще. Все минет, но радость жизни непреходяща. Вечно пребудет Япония, страна цветов и восходящего солнца, край величайших трудолюбцев, тончайших ценителей красоты. Ямато, Япония, родина моя! Так думал Хокусай, и на глазах его сияли слезы счастья, как встарь бывало. А надо всей округой вздымалась, снегом посеребренная, коническая вершина Фудзиямы. Фудзияма — вот неизменный символ Японии. Будет она радовать, как нас, наших далеких-далеких потомков. Недаром называют эту гору особо почтительно: «Фудзи-сан» — «Господин Фудзи». Фудзи видна в любую пору. Нет японца, не видевшего ее с той или иной стороны. Все происходит на фоне священной горы. Вздымаются и рассыпаются брызгами волны. Люди начинают и заканчивают свой день. Одним и тем же небом покрыты разные страны. Все в них сходно — звери, люди, все они живут и умирают. Многие храмы Японии выстроены по образцу китайских или корейских. Но только в Японии есть Фудзияма. «Сколько раз рисовал я тебя, Фудзи-сан? — думал художник. — Теперь нарисую еще и еще. Успею — тогда тысячу раз. Не будет дано — хоть сотню. Несколько сот — лучше. А во всяком случае, не менее ста, иначе не изобразить Фудзияму».
Сквозь бег облаков обращает
Фудзи ко мне
Сотню своих обличий —
 Хокусай. Вид Фудзи от храма — Фудзи с кукушкой. Из серии «Сто видов горы Фудзи».
Хокусай. Вид Фудзи от храма — Фудзи с кукушкой. Из серии «Сто видов горы Фудзи».
— Конечно, я слышала, что она возникла в одну ночь, извергая пламя и производя страшный грохот… — Да, так говорят, и надо тебе заметить, что, родившись, Фудзи неоднократно извергала пламя и сеяла смерть. Последний раз такое случилось в тысяча семьсот седьмом году. Я слышал в детстве об этом ужасе от стариков. Фудзи гневается, но такое бывает редко. Самое главное то, что Фудзияма — обитель богини Конохана Сакуяхимэ, то есть «принцессы, заставляющей расцветать деревья». И мне кажется, что Конохана животворит не только деревья, а каждого, кто видит ее гору. Останавливаясь по пути, отец и дочь вглядывались в Фудзияму. В утреннем тумане она маячила, как серый призрак. Днем, отражаясь в озерах, она казалась удвоенной и сверкала своей снежной короной. Когда вечерело, ее вершина полыхала закатным огнем на лиловеющем небе. Плавая с рыбаками на утлых челнах, они видели море, неясные берега и четкую, выделенную снеговым поясом вершину Фудзи. Если неожиданно натянут парус, он заслоняет весь пейзаж. Но чуть наклони голову, и вот из-за его края выглянет Фудзи. Как-то под вечер усталые путники подошли к небольшому храму. Тишина, безлюдье. Только шумят сосны. В келье с круглым окошком перед низким столиком сидит бонза. Не отрываясь читает сутры — священные писания буддистов. На лысой голове ползают муравьи. Не обращает внимания. Вежливо и осторожно окликнули. Не слышит. Вошли и стали за спиной — продолжает читать. — Вот досада! — шутливо обратился к дочери Хокусай. — Вероятно, этот бедняга уже давно позирует, а до сих пор никто не начал его рисовать. — Вынул бумагу и хотел было нарисовать монаха. Внезапно тот выгнул спину, заломил руки и стал зевать, долго и громко. Потом опять углубился в свое чтение, так и не заметив посетителей. Хокусай вышел и, когда храмик скрылся за бугром, весело засмеялся.

Хокусай. Фудзи из-за плотины Из серии «Сто видов горы Фудзи». — Ты знаешь, — объяснял он дочери, — этот бонза так же увлечен сутрами, как я рисованием. — Но что же в этом смешного, батюшка? — Что смешного? Да то, что из окна у него великолепный вид на Фудзияму. Вначале я подумал: чудесный сюжет — читает, не глядя на Фудзияму. Потом — еще лучше — зевает. А для того, чтобы выразить мысль еще полнее, я нарисую за его окном птиц, улетающих вдаль вереницей. В другой раз, когда пробирались по тропинке меж кустарников, Хокусай остановился и торжествующе произнес: — Ты видишь, Оэй! Чтобы лучше увидеть вершину Фудзиямы, Оэй смела паутину. Паук выткал ее поперек их пути. — Ты не увидела, — разочарованно заметил Хокусай. — Всю прелесть картины создавал этот паук. Вечная гора сквозь недолговечную паутину. Массивный силуэт сквозь кружево легчайших линий. Это красиво само по себе: круги паутины, листок, который застрял в них, и треугольник горы. А вместе с тем — как это глубокомысленно! Так неожиданно возникали всё новые сюжеты. Вершина Фудзи дерзко и неожиданно выскакивала всюду, куда бы ни повернуться: под ногами бондаря или распиловщика, занятого своей работой, меж придорожных сосен, над болотными камышами, под пеной брызг вздыбившейся волны. Ее линии резко устремлялись ввысь, и потому она казалась величественной на любом фоне. В действительности очертания горы были очень плавными. Ее склоны на редкость пологи. Даже старику не составляло большой трудности подойти вплотную к снежной вершине. Минуя поля, пробираясь через тенистые леса, сменяющиеся далее низкорослым кустарником, Оэй совершала восхождения на священную гору. По мере подъема изменялся климат. Обезьяньи стада, которые, как верили в народе, охраняли гору, далеко не добирались до ее вершины, где солнце сияло, но грело слабее, чем в долине. А для людей ни подъем, ни похолодание не были ощутительны. Вершина возносилась на их глазах медленно и постепенно. — Фудзияма рада принять нас, — шутил Хокусай. — Она расстилается под нашими ногами. Думаю, что недаром. До сих пор ни один иноземец не отважился топтать ее склоны: только своим детям помогает взойти на себя Фудзияма. Тот, кто не знает ее, не любит, будет скатываться отсюда, как водопад. Странствуя с отцом, Оэй привыкла видеть в каждом его наброске то или иное лицо священной горы. Бушующие волны, хлещущий дождь, бамбуки, сгибаемые ветром, — все это было представлено на фоне спокойной неподвижности вечной горы. Путники, ползущие гуськом по дороге Токай-до, лодки, скользящие по водной глади, подчеркивали величественность Фудзи. Если бы сам китайский мудрец Кунцзы, учивший детей беспрекословно подчиняться воле родителей, увидел Оэй, сказал бы: примерная дочь. С мужем рассталась безропотно. Последовала за отцом в его добровольное изгнание. Не жаловалась никогда. С виду и не страдала.
 Хокусай. Фудзи, видимая сквозь дым. Из серии «Сто видов горы Фудзи».
Хокусай. Фудзи, видимая сквозь дым. Из серии «Сто видов горы Фудзи».
Привольно было кочевать Хокусаю, пока стояли теплые дни, пока не истощился запас бумаги и туши. Молодые побеги бамбука, горсточка риса, чашечка чая — вот и все, чем питался он со своей терпеливой спутницей, привыкшей ночевать под открытым небом еще в детские годы. Но вот все чаще стали выдаваться холодные ночи. Не всегда удавалось найти кров. Резко вздорожал рис, не на что было купить бумаги. Как хорошо было бы возвратиться в Эдо! Там были друзья, ученики, поклонники. Там были возможности заработка. Последние деньги отдали почтальону, который бегом по Токайдо понес письмо от художника в Эдо. Ожидая ответа, сняли квартиру в Урага, ближайшем селении: хижину с продырявленной крышей, в которой было сыро и холодно. В кредит была взята у местного лавочника небольшая сумма. Художник вновь получил возможность работать. Свою подпись он изменил таким образом, что она читалась теперь не «человек, одержимый рисунком», а «одержимый рисунком старик» — «Гакеродзин Хокусай». По требованию издательства пришлось уступить «Сто видов Фудзи» за смехотворно малый гонорар. Но — лишь бы что-то! Только бы работать. Очень уж хорошо шла работа! Мастерство Хокусая необычайно возросло. Уже давно научился он немногими линиями схватывать самую суть предмета. Теперь он добивался разнообразнейших цветовых эффектов, комбинируя каких-нибудь три-четыре оттенка коричневой, синей, зеленой и черной краски. Ему удавалось из множества красок, меняющихся в течение дня, отобрать самые важные. И все — время года, пору дня, состояние атмосферы — ему удавалось передать этими немногими красками. Ни сам Хокусай, ни другие мастера не умели этого делать раньше. Почтальон-скороход привык к перебежкам из Эдо в Урага и обратно. Из Урага — с кипами рисунков. Из Эдо — с оттисками гравюр и жалкими грошами. Ученики между тем продолжали работу над «Манга», стараясь творить в духе учителя. Выходило похоже на то, как он рисовал когда-то, или хуже того. Хоккэй отважился выпустить собственный альбом — «Хоккэй Манга».
 Хокусай. Фудзи, видимая с семи мостов. Из серии «Сто видов горы Фудзи»
Хокусай. Фудзи, видимая с семи мостов. Из серии «Сто видов горы Фудзи»
Молодцом оказался Куниёси. Он отошел от стиля школы Тории. Старику казалось, что Куниёси лучше тех, на кого было затрачено много усилий, понял, что следует делать. В его рисунках Хокусаю нравилось насыщавшее каждый штрих движение. — Смотри, Оэй, — замечал мастер, — из мальчика выйдет художник. Самое главное — что он не связан заученными приемами какой бы то ни было школы и стремится передавать движение. А движение — это и есть жизнь. Молодец, Куниёси! — Конечно, папа, Куниёси молодец, — отвечала Оэй. — Но я опасаюсь, что на ближайшую неделю тебе недостанет бумаги и красок. Кроме того, ты дрожишь, зуб на зуб не попадает… Хокусай нахмурился. Принялся писать. Он обращался к своим издателям: «В это суровое время года, особенно в моих путешествиях, я вынужден переносить большие затруднения. Я одет в легкое кимоно при сильных холодах. А как-никак мне семьдесят шесть лет! Я прошу вас подумать о моем печальном положении…» Заметив, что дочь подглядывала написанное, Хокусай засмеялся и рядом с просьбой о деньгах набросал руку, держащую монету. Дальше он писал, зная, что Оэй смотрит, а может быть, стараясь убедить самого себя: «Моя рука ничуть не ослабела, и я работаю неистово, стремясь к единственной цели — стать искусным художником…» Путешествовать, рисуя водопады, в стеклянных струях которых скользят карпы, вновь и вновь изыскивать неожиданные аспекты священной горы, продолжать изучение того, как разные люди ведут себя в одинаковых ситуациях, — скажем, если разразится ливень или нужно проталкиваться по узкому мосту, заполненному пешеходами, — все это становилось мастеру год от года труднее. Однажды отважился он пробраться в Эдо украдкой. Разыскал свою старую приятельницу О-Сэн. О-Сэн, лицо которой стало похожим на печеное яблоко, узнала его не сразу. Перед этим, смешно наморщивая и без того морщеный лоб, она долго пыхтела трубочкой, которую теперь не выпускала изо рта. Соображая, делала вопросительные жесты. — Токитаро, Тэцудзо, милый, родной мой! — воскликнула наконец старушка и залилась слезами. Суетливо оправляя одежду и волосы, седые как лунь, начала она столь хорошо знакомую ей церемонию приготовления чая. Занимаясь этим, она преобразилась. На лакированном столике расставила по порядку мисочки, ковшики и чашки. Двигалась, строго соблюдая традиционные правила. Ее руки, изящные и холеные, как прежде, подчинялись смолоду заученному ритму. То застывали, грациозно согнувшись, то двигались неторопливо и плавно, помешивая чай. И вдруг мелькали так быстро, что пальцев не различить.
 Хокусай. Фудзи и путники. Из серии «Сто видов горы Фудзи».
Хокусай. Фудзи и путники. Из серии «Сто видов горы Фудзи».
И снова, будто в изнеможении, медленно изгибались у чашки. Фигура О-Сэн подтянулась, застыла. Только руки двигались, выполняя удивительный танец. Наконец чашечка готового чая взята, как хрупкая драгоценность, кончиками пальцев. Очаровательно улыбнувшись, передала она гостю чайную чашечку. Уютно примостилась на циновке. Старик отхлебнул. Чай зеленый, густой, горьковатый. Завязалась беседа, дружеская и непринужденная, как встарь между ними. Разница была, пожалуй, в том, что любивший в свое время высказаться Токитаро-Тэцудзо ничего интересовавшего подругу не мог рассказать, кроме того, что несколько преуспел в рисунке. — Называюсь уже давно «Одержимый рисунком». Все рисую, а жизнь идет своим чередом. Пора называться «Стариком, одержимым рисунком», — заметил художник, выразительно посмотрев на собеседницу. О-Сэн ответила пристальным взглядом. Провела рукой по лицу, словно хотела расправить морщины. Вздохнула: — Да, жизнь идет своим чередом… Дзиндзаэмон оставил меня давно-давно. Сыночку нашему Ихиро скоро тридцать лет будет… А знаешь, проходила я как-то мимо Кагия, слышу — поют мою песенку:
У храмика Инари
Недолго помолюсь,
Монаху дам монетку
И навещу соседку.
О-Сэн меня встречает
И чаю наливает.
«Хочу лепешек к чаю»,—
Ей сразу отвечаю.
 Хокусай. Фудзи, снег и аист Из серии «Сто видов горы Фудзи».
Хокусай. Фудзи, снег и аист Из серии «Сто видов горы Фудзи».
— Вот это мой Ихиро, — с гордостью сказала О-Сэн. — Он обладает многими недостатками, но я отдала ему все лучшее, что имела. Подойди, сыночек, и поклонись самому давнему другу твоей матери, великому мастеру Хокусаю. Молодой человек приблизился и склонился в почтительнейшем приветствии. Когда он поднял лицо, оно было спокойным и бесстрастным, как у матери. О-Сэн знала сына настолько, чтобы заметить усилия, которые он прилагал, желая скрыть свои чувства. — Ихиро, что с тобой, ты взволнован? Секунду помедлив, Ихиро произнес глухо: — Осио Хэйхатиро пал в битве. Восстание в Осака подавлено. До Хокусая доходили слухи о событиях в Осака. В этом городе у него было много учеников. Хокумэй, Хокусэй, Сюнкосай Хокусю. Все они заняты главным образом портретами актеров «Кабуки». Сам Хокусай давно отошел от этого жанра, но его мысль изображать сцену в духе национальных школ Ямато и Тоса не пропала даром. Хокусю до того, как пришел к нему, подписывался Сюнко. Это значило, что Сюнко — его идеал. Потом переменил имя, стал Сюнкосай Хокусю. Теперь у него самого много учеников. Среди них такой талантливый, как Хокуэй. Их имена и стиль рождены им, Хокусаем. Зачем ему делать театральные гравюры, если они их делают за него? Так, как он хотел бы, когда учился у Сюнсё. После таинственного исчезновения своего сына, внука Хокусая, в Осака переехал Янагава Сигенобу. Работал там и учил. Но горе подточило его. Умер, пока Хокусай был в странствиях. Конечно, в Осака меньший простор для художника, чем в Эдо. Купцы и банкиры Осака настолько богаты, что им по карману драгоценные картины старинных мастеров. Гравюры они презирают. Кроме театральных гравюр, ничего нельзя сбыть. Зато в этом жанре художники Осака работают великолепно. «Осака имеет будущее», — говаривал Хокусай. Не думал он, что будущее Осака — не только театральные гравюры, но также огонь и кровь. Нередко голодные крестьяне, доведенные до отчаяния, поднимали восстания. Жгли замки самураев и даймё, силой забирали рис, гнивший на складах оптовых торговцев. Такие восстания официально назывались «рисовыми мятежами». Зачинщиков распинали на крестах, и все шло по-прежнему. Но тут, в Осака, дело было серьезней. Главный зачинщик Осио Хэйхатиро был не из голодных. Это был самурай, начальник городской стражи. Потрясенный бедствиями крестьян, потребовал он от сёгунского наместника раздать рис из городских складов, заставить богачей поделиться с несчастными. Тот отказал. Хэйхатиро продал все, что имел, но вырученных средств оказалось далеко не достаточно, чтобы накормить умирающих от голода. Тогда Хэйхатиро поднял восстание. Запылали кварталы богачей, раскрылись житницы. Но вот все кончено. «Кончено ли?» — задумался Хокусай. И посмотрел с глубоким сочувствием на молодого человека, сохранявшего спокойствие на лице.
 Хокусай. Сосны на горе Отокояма.
Хокусай. Сосны на горе Отокояма.
Был вечер. Приближалась седьмая ночь седьмого месяца. «Танабата» — «ночь влюбленных звезд». Хокусай ничего не сказал по поводу гибели Хэйхатиро. Молчал, чувствуя, что молчание затянулось. Взволнованно оглядывался по сторонам. Тут только заметил в комнате ветки бамбука. На них были навешаны фрукты — груши и сливы, — печенье, звездочки, вырезанные из бумаги. О-Сэн во всем соблюдала традицию. Это принято делать в праздник «танабата». Неожиданно распрощался. Обещал скоро прийти. Юноша смущенно отошел в сторону, а у стариков были на глазах слезы: знали, что свиделись в последний раз. Оэй ожидала отца за воротами. Обрадовалась, что дождалась. Грустное лицо просияло. Некоторое время шли молча. Потом Хокусай оживился. Ничего не сказал о трагедии в Осака. На улице о таких вещах не говорят, тем более с женщинами. Рассказывал о том, как в детстве познакомился с О-Сэн, как разыскивал Харунобу, а познакомился с Сиба Коканом. Вдруг ни с того ни с сего заметил: — И самое забавное, что я побывал у О-Сэн в седьмой день седьмого месяца. Как это я мог забыть, что сегодня — «танабата»… — А я, — отвечала Оэй, — прекрасно об этом знала. С начала года ты все твердишь об этом празднике… Она сказала неправду, но неумышленно: сама думала постоянно о «танабата», а сегодня особенно. «Танабата» — «ночь влюбленных звезд». С детства знала легенду этого праздника. Его звали Кэнгю. Ее — Сёкудзё. Он пас небесные стада, она была небесной ткачихой. Влюбились и позабыли о работе. Их разлучили. Поселили на разных берегах небесной реки. Видеться разрешили раз в году, в седьмую ночь седьмого месяца. Моста через реку нет. Небесная сорока сочувствует любящим. Перекинет крылья через реку, по ним переходят они раз в году на свидание. Если ночь дождлива и холодна, сорока помочь не в силах. Приходится ждать еще год. Посмотрела Оэй на небо — все в тучах. Вздрогнула от холодного ветра. Опустила голову. Пожалела небесных влюбленных. А может быть, себя и Нанхаку Томэй, своего мужа. При жизни Томэя была к нему невнимательна. Больше думала об отце. Сама рисовала. А год назад, когда она странствовала с отцом, умер Томэй. Между тем Хокусай продолжал говорить. Задумавшись, Оэй перестала улавливать ход его мысли. Заключая какие-то свои рассуждения, Хокусай сказал: — Выходит, О-Сэн сделала больше меня. Воспитала сына, который произнесет то слово, которое мы про себя шептали. И будет время, когда над нашей Японией забрезжит заря. Недаром зовут нашу родину Страна Восходящего Солнца! «А я что сделал, кого оставлю после себя? — думал старик. — Я просто рисовал, что видел. Конечно, я не достиг еще того, о чем мечтаю. И все же моя Фудзияма пребудет вечно. Нет и не будет японца, который ее не полюбит, как я. Но сотни видов Фудзи не хватило, чтобы выразить мою, нашу общую любовь. Я устал». — Кто закончит мою поэму о Фудзи? Последние слова Хокусай произнес вслух. — Мне кажется, — ответила Оэй, — то, что ты делаешь, нельзя закончить. Это самое будут делать и тоже не кончат многие другие. И все-таки людей Японии, ее дороги, ее гору каждый будет видеть. И всегда твоими глазами. Ты говорил мне, что знал хорошо знаменитую О-Сэн. Вот и сейчас с ней увиделся. Но знаешь, почему ты не рисовал ее никогда? Хокусай вскинул голову: — Действительно, почему я не рисовал ее? Представь, не могу объяснить… — Потому, что ее раньше тебя рисовал Харунобу, потом Утамаро и многие другие. Тебе ничего не осталось добавить.
 Хокусай. Фудзи в праздник Танабата. Из серии «Сто видов горы Фудзи».
Хокусай. Фудзи в праздник Танабата. Из серии «Сто видов горы Фудзи».
 Хокусай. Фудзн осенью. Из серии «Сто видов горы Фудзи».
Хокусай. Фудзн осенью. Из серии «Сто видов горы Фудзи».
Хокусай покачал головой, выражая недоумение. Потом сказал: _ Нет. Тут другое — я только сегодня начал ее понимать. — И живо добавил: —А это правда, что появились люди, которые смотрят моими глазами. Вот кто припомнился мне: Хиросигэ. Никогда у меня не учился,вышел из школы Утагава, которую я терпеть не могу, а делает то самое, что я собирался сделать. — Этот Хиросигэ, так же как мы с тобой, исходил много раз и Токай-до, и другие дороги Японии. Сотни раз любовался Фудзиямой. Может быть, просто-напросто он видит и любит то же, что ты? — Не знаю. Во всяком случае, Хиросигэ великий мастер. И больше на меня похож, чем даже Хоккэй, с которым столько лет были вместе. Но слушай, почему ты не говоришь, что продолжишь мою работу? Оэй ответила серьезно и даже строго: — Я всегда была при тебе. Жила для тебя. А художник, ты сам говорил, только тот, кто сам по себе. — Смягчилась и добавила: —Единственное, что от меня останется, — это рисунки, в которых я изображала тебя. Ты-то ведь кроме как в шутку не рисовал своих портретов… Тучи разошлись, и на небе засияли звезды: Кэнгю (Алтаир), Секудзе (Вега), Млечный Путь, который их разделяет. Хокусай и Оэй оба посмотрели ввысь. Оба вздохнули тяжело и скорбно. — Прояснилось, — проговорила Оэй, — значит, сорока поможет влюбленным звездам увидеться, — и вдруг зарыдала. Знал Хокусай, что дочери тяжело. Почему не отослал от себя в свое время? Слишком привык. Не мог без нее. С этой ночи постоянно думал, как виноват перед дочерью. Мучился. От этого ей было еще тяжелее. Часто плакала. А он рисовал дальше. Пока не почувствовал, что приходит его смертный час. Заболел. Знал, что не встанет. И все-таки беспрерывно шутил. Оэй не знала, что отец говорит серьезно, а что на смех. Но, что бы он ни говорил, плакала.
 Хокусай. Фудзи, видимая из-за водопада. Из серии «Сто видов горы Фудзи».
Хокусай. Фудзи, видимая из-за водопада. Из серии «Сто видов горы Фудзи».
Хокусай шутил по поводу своей смерти в одном из последних писем: <Эмма, царь загробного мира, постарел и решил уйтц на покой. Он выстроил себе неплохую виллу и приглашает меня написать для ее стен несколько какэмоно. В ближайшие дни я собираюсь отправиться туда, прихватив, разумеется, все мои эскизы. На углу главной улицы загробного царства я найму для себя квартиру и буду искренне рад, если вам представится случай меня навестить». Последние рисунки Хокусая представляли всякого рода кошмарные образы, и можно было подумать, что он в самом деле работает над эскизами росписей адского дворца. Но вот пришло время, когда «старик, одержимый рисунком», уже не мог держать в руке кисть. Не работал неделю подряд. Это был на памяти Оэй первый и последний случай. Пришла в отчаяние. Вызвала сестру, оповестила друзей. Пока оставалась вдвоем с отцом, тот держался бодро, делал вид, что не понимает ее беспокойства. — Ты думаешь, я не поправлюсь? Глупости. У меня все идет по плану. Не помнишь разве, что цели я достигну только в сто десять лет? У меня все не так, как у других. Я умру не раньше, чем тогда, когда сделаю свое дело. На следующий день дом заполнили родственники больного. Его разбудили. Оказывается, привели доктора. Хокусай смотрел на озабоченные лица, видел слезы. Его подавило все это. Вздохнул тяжело. Трудно сказать даже, вздохнул или простонал. Затем поник. Пробормотал, ни к кому не обращаясь: — Я не хочу умирать. Умирать, не дожив до ста, — как глупо… Все собравшиеся стояли со скорбными лицами. Никто не ободрил старика. Он впал надолго в беспамятство. Девяностошестилетие Хокусая не отмечалось. Но вдруг 13 апреля 1849 года больной почувствовал себя лучше. Открыл глаза. Через раздвинутую стенку дома увидел цветущий сад. Подул теплый ветерок. — Свобода, прекрасная свобода! — прошептал он. — Вот если придет лето, пойти бы в поле… Это было последнее, что Хокусай произнес в жизни.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, в котором рассказывается, как Хокусай, хотя и умер, продолжал жить, и еще о том, почему я его люблю
В канун «О-сёгацу», японского Нового года, дома украшают. Каждое украшение — символ. Папоротник — счастье, омар — долгая жизнь, апельсин — жизнь многих поколений. На улице выставлены сосны в кадках. По две. Одна, с гладкой корой, — это женщина. Другая, с шершавой, — мужчина. Тут же ветви бамбука и сливы. Они воплощают красоту, силу и вечность. Всего этого люди желают друг другу, и, разумеется, каждый желает себе. Надеясь, что в Новом году все пожелания сбудутся, заранее празднуют и веселятся. Готовятся к «О-сёгацу», будто от этого дня зависит свершение всех желаний. Вдоволь насмеются, пока приготовят новогоднее рисовое печенье «моти». Полакомятся, и глядь — все идет по-старому. Редко кому дается счастье, долгая жизнь, сила, красота и все прочее. Еще реже — вечность. Об этом мечтают в день «О-сёгацу». Но эти мечты не праздны: они дают силы для жизни на целый год, даже слабейшим и самым несчастным. О тех, кто получил все, о чем другие только мечтают, нужно писать книги. Вот почему рассказано было о Хокусае. В своем труде он поднимался до вершин возможного счастья. Ведь большего счастья, чем радость познания и свершений, нет для человека. Он жил долго. Верил, что будет так. Шел к своей цели уверенно, неторопливо, не впадая в отчаяние. Он был силен и телом и духом. Внешне не был красив, но жил, постигая мир красоты. И то, что он создал, было прекрасным. Род его не был продолжен внуком. Но Хокусай остался жить во многих поколениях. Не только в Японии, но и в других странах. И будет жить вечно. Трудно сказать, понимал ли художник, что так будет. Знал ли он, что был счастлив? Едва ли. Он был чересчур умен, чтобы философствовать попусту. Был человеком дела. Потому-то свершил задуманное. Не хвастался, когда говорил, что станет чудом среди художников и в каждом его штрихе будет жизнь. Одно за другим «О-сёгацу» справляла Япония после смерти Хокусая. Надгробный камень с именем Хокусая на кладбище в квартале Асакуса, рядом с могилами его близких, покрылся зеленой плесенью. Правда, надпись не попортилась, хорошо видна — «Гакиодзин Мандзи но гака» — «Могила одержимого рисованием»… Многое изменилось в Японии за четверть века, истекшую после его смерти. Никого из лиц, упомянутых в нашей повести, уже не было в живых. В 1868 году народное возмущение дошло до предела. Последний сёгун был низложен. Самодержавным владыкой провозгласили микадо, по имени Мэйдзи. Мэйдзи провел ряд реформ по требованию купцов, ремесленников и землевладельцев, которые были его опорой. Уделы даймё были у них отобраны, страна объединилась. Были отменены ограничения в торговле с заморскими странами. Ликвидированы сословия. В наследие от сёгунских порядков осталась нищета большинства населения и многосложный полицейский аппарат, охранявший права богачей. Наследники сёгунских «смотрящих» легко перешли на службу к микадо. Японские промышленники и коммерсанты с энтузиазмом принялись осваивать технические достижения Европы. Европейские художники были в восхищении от сокровищ искусства, открытых в Японии. После выставок 1862 года в Лондоне, 1867 года в Париже, 1875 года в Вене, куда японским правительством было доставлено огромное количество экспонатов, мода на все японское распространилась в европейских странах. Непременной в каждом зажиточном доме стала «японская гостиная», на стенах появились японские картины и цветные гравюры. Коллекционеры в ажиотаже скупали сотнями и тысячами японские произведения. Гравюры «простонародной» школы «укиё-э» японскими аристократами ценились ниже любых других вещей. Полузабытые в среде японских эстетов имена Харунобу, Утамаро, Хокусая, Хиросигэ прогремели в Европе. Подобно тому как японские живописцы увлекались необычностью и новизной приемов ранга — «голландских картин», так же среди европейских художников распространился «японизм». Хокусай. Фудзи и скалы. Фудзи, видимая из провинции Овари. Из серии «Сто видов горы Фудзи».
Хокусай. Фудзи и скалы. Фудзи, видимая из провинции Овари. Из серии «Сто видов горы Фудзи».
В гравюрах японских мастеров «укиё-э» увидели они тот идеал, к которому стремились. Им надоели античные сюжеты, коричневые тона, симметрично расположенные натурщики, вообще все правила, выработанные в художественных академиях. Хотелось представить все то, что их окружало в подлинной жизни: суету парижских улиц, лондонские мосты в тумане, веселую пестроту красок, трепет солнечных лучей, прозрачность воздуха. Гравюры Хокусая убедили их в том, что все это возможно. Выяснилось, что нет ничего в природе такого, что было бы недостойно кисти художника. Оказалось, что самыми простыми приемами — несколькими линиями, тремя-четырьмя цветовыми оттенками — можно выразить самую суть предметов. «Манга» и «Сто видов Фудзи» стали учебниками, по которым Эдуард Манэ, Эдгар Дега, Джеймс Вистлер и многие другие художники Европы постигали искусство и жизнь. Сотни кораблей теперь курсировали между европейскими и японскими портами. На иностранцев в Эдо никто не обращал внимания: обычные, непременные фигуры в уличной толпе. Зато иностранцев по-прежнему удивляло все, что они находили вокруг.
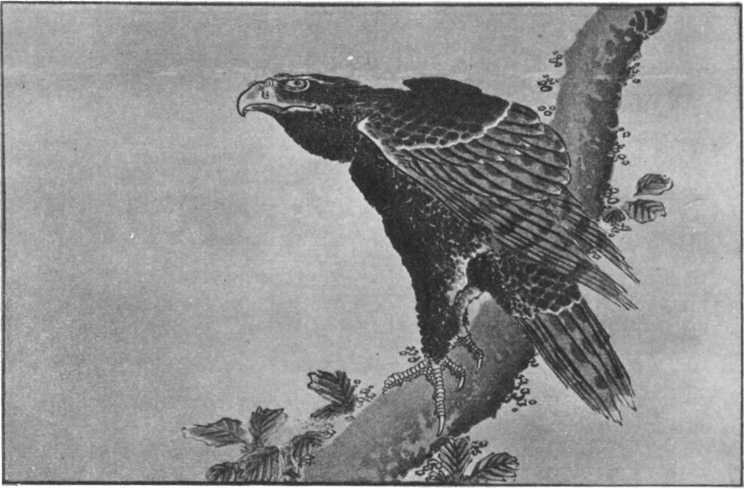 Хокусай. Орел.
Хокусай. Орел.
В 1876 году приехал в Японию Эмиль Гимэ. Сын известного химика, инженер по профессии, он был влюблен в искусство Востока. Путешествовал по Китаю, Индии, Японии. Всюду собирал, не жалея средств, изображения диковинных богов, скульптуры, картины. Записывал все, что только мог узнать. На этот раз его сопровождал молодой художник Феликс Регамэ. Природа Японии на всю жизнь очаровала Регамэ. Едва увидев, уже полюбил холмистые горизонты, изрезанные очертания берегов. Какие плавные витиеватые линии! Наряду с ними еще выше и величественней кажется вершина Фудзи. Строгость и правильность ее заостренной вершины приковывает взгляд, резко контрастируя со всем окружающим. Конечно, вид Фудзиямы вызывал в памяти имя Хокусая. Пока Гимэ расспрашивал ученых японцев о древних богах, Регамэ пытался узнать что-нибудь о личности Хокусая. Но странное дело: крупнейшие знатоки искусства не могли удовлетворить его любопытство. Вежливо переводили беседу в иное русло. Объясняли достоинства и секреты школ Кано и Тоса. С необычайной вежливостью намекали на то, что не вполне разделяют восторги по поводу школы «укиё-э». Некоторые, судя по всему, о Хокусае даже не слышали. Последними представителями «укиё-э» считали Харунобу и Утамаро. Создавалось впечатление, будто в Париже лучше знают Хокусая, чем в Эдо. — Видите ли, уважаемый господин Регамэ, — сказал один важный императорский чиновник, блистая превосходным знанием французского языка, — Хокусай не заслужил признания у понимающих толк в искусстве, потому что темы и стиль его произведений были рассчитаны на вкус плебеев. — Возможно, я ничего не понимаю в искусстве, — отвечал Регамэ, — хотя у нас в семье все занимаются живописью, и отец и братья. И все же не верится, что Хокусая не ценят на его родине. — Почему же? — любуясь своими длинными ногтями, улыбнулся эстет. — Есть и у нас поклонники Хокусая. Босяки и базарные торговцы до сих пор вспоминают о нем. Некоторые художники, особенно те, которым нравится выискивать в жизни все грубое и уродливое, считают себя его последователями.
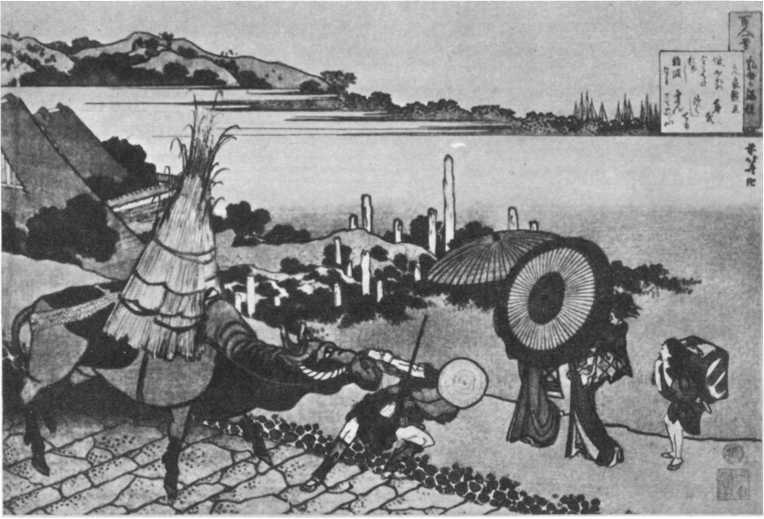 Хокусай. Озеро Нанива. Из серии «100 поэм, рассказанных няней».
Хокусай. Озеро Нанива. Из серии «100 поэм, рассказанных няней».
Последние слова остро заинтересовали Регамэ, и он сделал вид, что не заметил плохо прикрытой издевки. — Выходит, что у Хокусая есть ученики? Не откажите в любезности назвать их. Нехотя собеседник процедил: — Ну, вот, например, некий Кёсай, рисовальщик карикатур. Регамэ поспешил разыскать Кёсая. Это был очень известный человек в Эдо. Кёсай был ярым врагом сёгунских порядков и несколько раз отсидел в тюрьме. После 1768 года, когда пал сёгун и к власти пришел император Мэйдзи, Кёсай стал председателем Конгресса художников. Его имя было известно всей стране, и, казалось бы, своей антисёгунской деятельностью должен он был заслужить благодарность нового режима. Но вышло не так. Полицейский аппарат независимо от того, кого обслуживал — сёгуна или микадо, — знал Кёсая как человека неблагонамеренного. При императорской власти он также подвергался полицейским репрессиям. Подобно Хокусаю, который не жаловал иностранцев, Кёсай принял Гимэ и Регамэ сдержанно-вежливо.
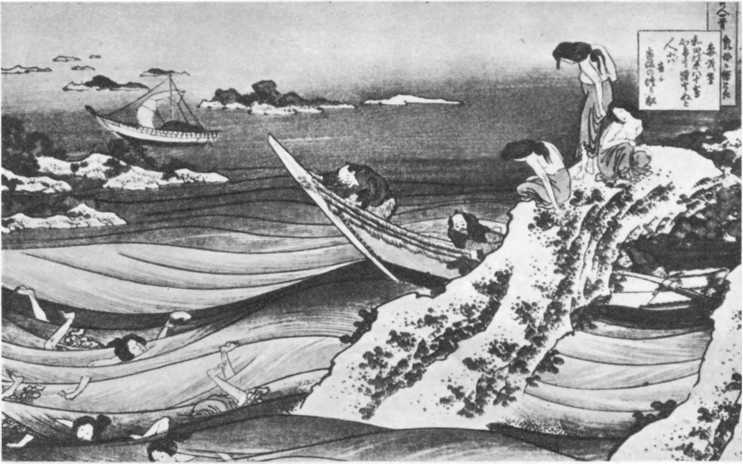 Хокусай. Ныряльщицы за жемчугом. Из серии «100 поэм, рассказанных няней».
Хокусай. Ныряльщицы за жемчугом. Из серии «100 поэм, рассказанных няней».
— Будучи поклонниками великого Хокусая, рады познакомиться с его учеником и продолжателем, — обратился Гимэ к художнику. Французов сопровождали императорские чиновники, и это испортило дело. Кёсай поклонился и отвечал: — К большому моему горю, я никогда не учился у великого Хокусая. Правда, моим наставником был Куниёси, лично знавший этого великого мастера. Конечно, я прилагаю все силы, чтобы продолжить дело Хокусая, считая его вместе со своим учителем величайшим мастером нашего времени. Беседа была недолгой. Упросили Кёсая показать работы. Смотрели рисунки, которые могли составить славу любому парижскому художнику. Убийственно язвительные карикатуры. Фантастические образы — какие-то страшные привидения. А рядом — полные величия и силы фигуры. Кёсай делал свои эскизы красной краской, а затем подправлял черной тушью. Что-то напоминало в них почерк титанов итальянского Ренессанса, а вместе с тем — Хокусая. Хотя бы вот этот юноша, взваливший на плечи гигантскую рыбу, — образ столь же могучий, как у Микеланджело. — Такое же сопоставление огромной рыбы и человеческой фигуры, — отметил Регамэ, — было в одном из рисунков Хокусая. У вас, однако, человек победил рыбу, а там рыба оттолкнула его ударом хвоста. Кёсай хотел что-то ответить, но спохватился и промолчал. Сравнение иностранца было удачным. Куниёси рассказывал ученикам, как родился замысел рисунка у Хокусая. Сидя у костра на переправе, слышал он будто бы нелепую историю. Какой-то рыбак собирался почистить и зажарить рыбу тай. Рыба выбила у него нож, он упал, а она ушла в море. Хокусай трактовал этот сюжет символически: нельзя покоряться установленному порядку. А у меня была, думал Кёсай, сходная мысль: самое страшное чудище должно покориться человеку. Прощаясь, французы выразили свое восхищение виденными рисунками. — Вы после Хокусая лучший мастер «укиё-э», — заметил Регамэ. — Нет, — ответил Кёсай, — «укиё-э» уже не существует, а Хокусай был основателем новой школы. Мы называем этот стиль Хокусай-риу. — В чем же отличие этого Хокусай-риу от «укиё-э»? — Главное у Хокусая было то, что он всю жизнь следовал принципу «симбарансё», то есть стремился к достижению всеобщих, универсальных знаний. Мастера «укиё-э» обратились к сюжетам из окружающей жизни, но, в сущности, у них было несколько любимых сюжетов: красивые женщины, ремесленники за их работой, адтеры «Кабуки», уличные сцены Эдо. Хокусай познал и претворил по-своему все стили, бывшие до него в Японии, — Тоса или Ямато, Кано, «укиё-э», а кроме того, сумел использовать кое-что из приемов ранга — голландских картин. Эти приемы он не возвел в правило подобно Сиба Кокану, а пользовался ими так умело и осторожно, что не было японца, который бы не понял их и не признал. Много было в Японии мастеров, которые писали пейзажи. По большей части это были живописцы школы Кано. Однако даже прославленный Сэссю писал не японские, а китайские пейзажи. Первым художником, изобразившим пейзаж родной страны во всем его многообразии и прелести, был Хокусай. Мы, последователи Хокусая, благодарны ему за то, что в своих книгах оставил он нам неоценимое руководство. Мы знаем благодаря ему, что и как следует изображать.
 Хокусай. Собиратель хвороста. Из серин «100 поэтов Китая и Японии».
Хокусай. Собиратель хвороста. Из серин «100 поэтов Китая и Японии».
Регамэ поблагодарил, поклонился, а про себя подумал: «Если это правда, Хокусай, выходит тогда, все сделал, что надлежало свершить десяткам поколений». В 1878 году в Эдо вышел последний, пятнадцатый том «Манга», подготовленный поклонниками Хокусая. Между прочим, туда был включен заимствованный из его другой книги рисунок — рыба тай убегает от человека. В этом же году открылся «Музей Гимэ». Все свои коллекции, в том числе собрание гравюр Хокусая, Эмиль Гимэ пожертвовал родному Парижу. Париж гораздо дальше от Эдо, чем любой русский город. Но странно подумать, русские художники ездили в Париж, чтобы знакомиться с Японией в «Музее Гимэ». Здесь открыл для себя Хокусая Иван Яковлевич Билибин, часами не мог оторваться от гравюр японского мастера Дмитрий Исидорович Митрохин. Частым гостем здесь был высланный царской полицией из Крыма поэт и художник Максимилиан Александрович Волошин. В 1906 году замечательный художник Билибин продолжал работу над иллюстрациями к «Сказке о царе Салтане» Пушкина. Однажды с кипой рисунков пришел к нему застенчивый юноша. Он плоховато говорил по-русски, но было в нем что-то, способное расположить с первого взгляда. — Вы с Украины, как видно? — с дружеской усмешкой приветствовал его Билибин. Молодой человек только что окончил гимназию захолустного городка Глухова и поступил на факультет восточных языков Петербургского университета. Звали его Георгий Иванович Нарбут. Судя по его рисункам, он был необычайно талантлив. В Петербург он ехал не только потому, что его привлекал университет. Он лелеял мечту познакомиться с Билибиным, который был его любимым художником. Выяснилось, что жить Нарбуту негде, и Билибин поселил его у себя. Восхищение Нарбута вызывала акварель Билибина к «Сказке о царе Салтане» — «Бочка по морю плывет». Волна, разлетаясь брызгами, тонущими в звездном небе, перекатывает бочонок, в котором заключен со своей матерью царевич Гвидон. Снизу рисунок ограничен широкой полоской русского узора. Создавая свои иллюстрации, Билибин внимательно изучал русское народное искусство, старинные украшения книг и так называемые лубочные гравюры. Знакомил новоявленного ученика со всеми источниками своего творчества. — Иван Яковлевич, а скажите мне все-таки, как удалось нарисовать вам такую чисто русскую волну? Эта вещь поражает меня движением линий, она очень проста, но все же в старинном русском искусстве нет ничего подобного. — Дорогой мой, — отвечал Билибин, — истинно прекрасное легко сочетается с любым национальным стилем. Конечно, эта волна русская. А создавал я ту вещь, изучая секреты японского мастера. — И он показал Нарбуту один из листов «36 видов Фудзи».
 Хоккей. Гора Фудзи. Суримоно.
Хоккей. Гора Фудзи. Суримоно.
— Какая сила линий! Какое движение! Сила и грация одновременно — впервые такое вижу! — в полном восторге приговаривал Нарбут. — И вот чего я не пойму, — продолжал, переводя глаза с работы Билибина на гравюру Хокусая, — на первый взгляд обе волны чем-то похожи, но приглядишься, и оказывается, вы не позаимствовали ничего. А я, случись такой шедевр под руками, не удержался бы да и скопировал все, как есть. Убрал бы ненужные для пушкинского текста детали — лодки и горную вершину, — осталось бы только пририсовать бочку. — Ну, это как сказать! — усмехнулся Билибин. — Просто это выходит, по-вашему, убрать гору, вместо горы сделать бочку! В произведении великого мастера нельзя изменить ни единой черточки. Каждая мелочь здесь связана с целым, а все линии и пятна интересуют Хокусая не сами по себе, а постольку, поскольку выражают его мысль. В пушкинских строчках совсем другой смысл… — Простите, Иван Яковлевич, — перебил Нарбут, — но о какой мысли, каком смысле вы говорите? У Пушкина «в синем море волны хлещут», у этого (как это вы его назвали?) Хокусая тоже волны хлещут. Только у Пушкина на волнах бочка, а здесь — лодки. Неужели от этого волны не могут иметь одинаковый рисунок? Билибин развел руками: — Ну, батенька, придется вам все объяснять, как малому ребенку! — Подумал с минуту и начал: — Мою иллюстрацию пока что оставим в покое. Обратимся к японской гравюре. Что хороша она, сами видите. Правильно сказали — здесь сила, движение, грация линий. Еще больше — сама жизнь. Теперь разберемся, каково содержание этой гениальной вещи и как оно выражено. Больше всего внимания как будто бы уделено волнам, по площади они занимают половину листа. Другая половина — небо. И все же в первую очередь привлекает внимание сравнительно небольшая деталь — вершина горы Фудзияма, выглядывающая из-за моря. Эта вершина — смысловой центр композиции. Волны бушуют, пенятся. По ним скользят лодки, взлетая и стремительно падая. В действительности такие громадные волны за несколько секунд не оставили бы и следа от лодок: Но зритель далек от этой мысли. Он видит, что маленькие лодки уверенно пронизывают волну за волной. Волны вздымаются, разлетаясь брызгами, проплывают лодки. Все движется, вот-вот изменится на глазах у зрителя. Все ненадежно, суетно, преходяще. А гора, белая, как пена, — она недвижима, постоянна, величественна. Таким образом, рассказано немало. Как же это сделано? Разумеется, при помощи линий и пятен, характер и расположение которых глубоко продуманы художником. Если бы он бездумно срисовывал то, что у него перед глазами, ни движения волн, ни спокойствия горы не получилось бы. Музыкант-композитор заставляет нас испытывать то или иное настроение при помощи звуковых ритмов, художник — при помощи линейных, светотеневых и цветовых. Правая половина гравюры в нижней части пересечена линиями волн и лодок, опускающимися справа налево к центру. От центра линии волны взлетают ввысь, причем наивысший гребень, поднявшись, низвергается влево вниз. Так из противоборства двух линейных потоков рождается впечатление силы, динамики разбушевавшейся стихии. Плавным, протяженным линиям, преобладающим в левой половине, в правой противопоставлены дробные, дающие рисунок пены. От этого кипение волн, загромождающих почти всю левую половину гравюры, кажется еще неистовей. Справа большая часть листа — небо, тон которого к горизонту сгущается до черноты. На этой черноте выделяется белый конус Фудзиямы.
 Хиросигэ. Станция Мисима. Из серии «53 станции Токайдо».
Хиросигэ. Станция Мисима. Из серии «53 станции Токайдо».
— Хитро! — воскликнул Нарбут. — Выходит, что линии заставляют глаз зрителя двигаться по листу, как того пожелает художник! Вот чего следует добиваться каждому графику! — Ну вот, — облегченно вздохнул Билибин, — наконец вы поняли один из секретов Хокусая. И, скажу вам, не только Хокусая: в ритме линий, в продуманных «мелодиях» красок — основа очарования древнерусских икон, книжной гравюры, иранских миниатюр, русского узора и других замечательных созданий разных народов. Вот почему, работая, как мне кажется, в русском вкусе, я смог научиться многому у великого мастера. Надеюсь также, теперь вам ясно, почему я не мог убрать гору и заменить ее бочкой? Нарбут рассмеялся и махнул рукой. Отошел к окну и закурил. Стояла белая ночь. Над темной грядой зданий небо было светлым, почти белым. В зените резко и неожиданно темнело. Как на гравюрах Хокусая. Только у Хокусая белизна обрывается вверху листа синей-синей полоской. Такого синего не увидать в Петербурге. Дымок от папиросы, струясь и кудрявясь, вырисовывал витиеватые линии. Совсем как тучки у Хокусая. На другой день вместе с Дмитрием Митрохиным пошли на штранд. Песок, одинокая сосна на первом плане, вдали водная гладь. Митрохин сделал рисунок, подкрасил его акварелью. — Да ты, брат, в японскую веру обратился, Хокусаем заделался? — иронически спросил Нарбут.
 Хиросигэ. Фейерверк. Из серии «100 замечательных видов Эдо».
Хиросигэ. Фейерверк. Из серии «100 замечательных видов Эдо».
А сам с этих пор увлекся мастерством Хокусая. Позже, создавая произведения, безукоризненно следующие принципам украинского народного творчества, поглядывал на японские гравюры. Собрал их немало, несмотря на скудные средства.
Последние комментарии
1 день 19 часов назад
2 дней 4 минут назад
2 дней 1 час назад
2 дней 3 часов назад
2 дней 4 часов назад
2 дней 5 часов назад