В отблеске гроз. Без объявления войны

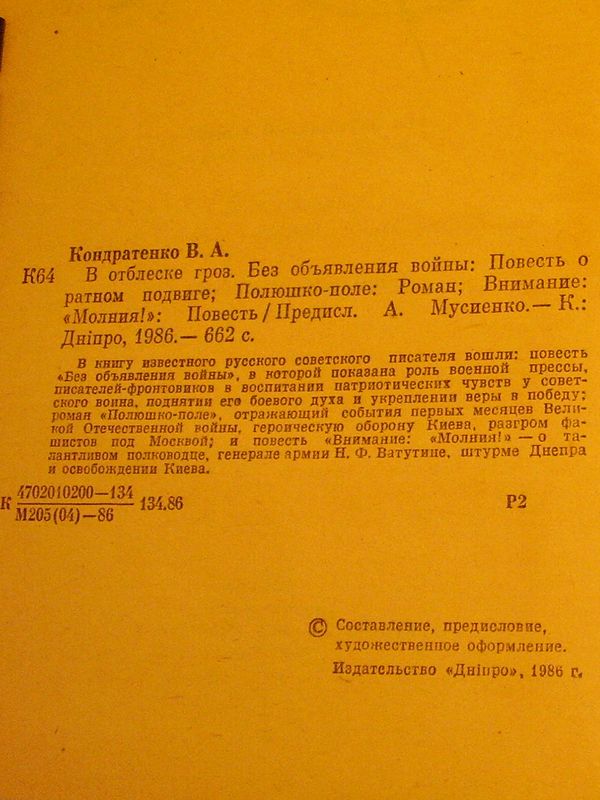
Предисловие Алексея Мусиенко
ПЕВЕЦ РАТНОГО ПОДВИГА
«На окраине села Новые Петровцы в невысоких кустах разместился КП Ватутина, а чуть дальше — командармов Москаленко и Рыбалко. До переднего края всего восемьсот метров. Противник все время освещает местность ракетами. В наплывающем с Днепра тумане над кустами дрожит то зеленовато-мертвенный, то маслянисто-желтый свет. Сюда прибывают вызванные командиры частей и соединений. Идут по траншее полковники и генералы, останавливаются у блиндажа командующего фронтом... За плотно закрытой дверью идет совещание. За столом, на котором пестрит различными знаками оперативная карта, рядом с Ватутиным сидит представитель Ставки маршал Жуков, по правую сторону — генералы Москаленко, Рыбалко, Черняховский и по левую — Гречко, Кальченко, Иванов, Крайнюков и Шатилов. Напряженная тишина. Ватутин, положив руки на оперативную карту, окидывает всех взглядом. — Настал час, которого мы так давно ждали. Ставка Верховного Главнокомандования приказала нам освободить Киев. Октябрьскую годовщину мы должны встретить с вами в родном Киеве. Освобождение столицы Украины — это великий праздничный подарок нашему советскому народу...» Так по-военному чеканно, предельно выразительно запечатлено в повести Виктора Кондратенко «Внимание: «Молния!» историческое заседание на рассвете 3 ноября 1943 года Военного совета 1-го Украинского фронта, которое знаменовало собой начало битвы не только за Киев, но и за всю Правобережную Украину. А спустя час после этого совещания пятьсот гвардейских минометов, ласково прозванных советским народом «катюшами», обрушили с Лютежского плацдарма на врага адский огонь, рев и грохот. Огненные хвосты ракетных снарядов осветили местность багровыми всполохами, и там, где проходила немецкая линия обороны, глухо застонала, задрожала под мощными ударами, встала на дыбы израненная земля. Сорок минут дышал громом триста сорока орудий каждый километр в полосе прорыва на днепровском берегу. С документальной точностью воссоздает писатель тяжелейшую битву под стенами Киева, стремясь максимально приблизить современного читателя к драматическим событиям далекой уже осени сорок третьего, сделать его свидетелем того, как после массированного артналета ринулись в мутное небо советские бомбардировщики, чтобы расстелить на вражеских позициях «бомбовый ковер», а вслед за ними, поливая пехоту огнем пулеметов, прошли на бреющем ИЛы. Наступающие полки 38-й армии с ходу прорвали на два километра в глубину оборонительную полосу фашистов, казалось, стойкость противника сломлена, ему уже не устоять на поле боя. Чтобы развить успех, командующий фронтом бросает в прорыв прославленный гвардейский танковый корпус генерала Кравченко. Но вскоре стало ясно: в глубине обороны гитлеровцы оказывают все более яростное сопротивление, темп наступления угасает. Неужели сбывается клятва, данная фельдмаршалом Манштейном Гитлеру: «На Днепре мы сумеем доказать, что подвижная оборона сильнее любого русского наступления»? Атаки сменялись контратаками, артналет следовал за артналетом, не прекращались штурмовки и бомбовые удары. Дождливый, сумрачный день промелькнул в ожесточенном сражении. И ночью Лютежский плацдарм был похож на огнедышащий вулкан. А на рассвете бой загремел с еще большим ожесточением. Истекая кровью, советские полки вновь и вновь шли на штурм вражеских твердынь. Оборона гитлеровцев во многих местах дала трещину, но прорвать её на всю глубину нигде не удалось. Наступил полдень, а полной ясности в исходе боя не было ни у Ватутина, ни у его соратников. С первых же страниц повести «Внимание: «Молния!» читатель попадает в атмосферу предельного эмоционального накала, напряженнейшей интеллектуальной работы, высочайшей ответственности и гражданского долга. Вполне логично, что в повествовании о грандиозной битве на Днепре в центре внимания писателя оказался образ прославленного советского полководца Николая Федоровича Ватутина. Однако перед нами встает обаятельный живой человек с присущими ему болями, сомнениями, тревогами. Ибо бывший фронтовик В. Кондратенко, лично знавший Ватутина, поставил перед собой цель не сочинить слащавый панегирик освободителю столицы Украины, а создать глубоко психологический портрет советского военачальника младшей генерации, у которого при виде того, как захлебывается наступление на Лютежском плацдарме, «учащенно, гулко билось сердце, и от нарастающей тревоги сохли губы. Сейчас он, как никогда, был в ответе за судьбу фронта». «Каким же путем развить атаку и протаранить дьявольскую полосу обороны с ее укрепленными высотками, траншеями, бетонными колпаками и заминированными лесными завалами? — мучительно размышлял командующий фронтом. — Вводить в бой главные силы или не вводить?» Ведь по утвержденному Ставкой плану боевой операции танковую армию и кавалерийский корпус, находящиеся в резерве, он должен был ввести только и только в прорыв. Но прорыва, несмотря на все усилия наступающих войск, пока не было. И вполне может случиться, что главные силы увязнут в боях местного значения и через день-другой просто нечем будет выйти на оперативный простор, как это недавно случилось на Букринском плацдарме. В минуту высочайшего нервного напряжения разведка доносит: Манштейн срочно выводит танковые дивизии из Букринской излучины, а к Бердичеву из рейха спешно движутся эшелоны с «тиграми» и «пантерами». Яснее ясного: не завтра, так послезавтра все это «зверье» появится на Лютежском плацдарме и тогда... Что произойдет тогда, Ватутин прекрасно понимал. И, чтобы не допустить нового Букрина, он нашел в себе смелость пойти на величайший риск — вопреки указанию Ставки, принял решение немедленно кинуть в бой танковую армию генерала Рыбалко. Писатель умышленно ни единым словом не комментирует этот поступок командующего фронтом, но читатель воздает должное смелости, мужеству и находчивости молодого полководца. Только глубоко уверенный в себе, мыслящий, не страшащийся роковых ударов судьбы человек мог так поступить! И проникнутые к нему глубочайшим уважением, мы с замиранием сердца ожидаем вестей от наступающих. Что там: прорыв, наконец, или же новый Букрин? Вот в глухих сумерках возвращается на КП в Новые Петровцы разгоряченный боем генерал Рыбалко и докладывает: «Протаранили восемь километров. Дальше наступать невозможно. От дождя и тумана в лесу непроглядная темень. Огонь потерял точность. Танки заняли круговую оборону. Что делать дальше? Ждать утра? Опасно! Подойдут «тигры» с «пантерами». Они укрепят оборону... Я приехал посоветоваться с вами, Николай Федорович. Нам осталось пройти еще каких-нибудь три с половиной километра, и мы на оперативном просторе. Но как выйти на него? Как сейчас поступить?..» Не нужно быть военным стратегом, чтобы понять: положение сложилось воистину критическое — в бой введены все наличные войска, а их наступательные возможности исчерпаны. Ожидать же утра (а значит, терять драгоценное время) ни в коем случае нельзя: никому не известно, что может предпринять через несколько часов хитрый Манштейн! Как же быть? Что предпринять?.. Повесть «Внимание: «Молния!» тем и ценна для современного читателя, что она не дает на все вопросы однозначного, заранее обусловленного ответа. Стратегическое дарование одного из самих молодых полководцев Советской Армии времен Великой Отечественной войны Виктор Кондратенко раскрывает не с помощью высоких эпитетов или авторских восхвалений (после победы над гитлеровским рейхом это простейший и легчайший способ!), а в изображении сурового и напряженного поединка двух противоборствующих военачальников. В книге мы видим, что судьба не раз сводила Ватутина с Манштейном на поле брани. На основе изучения архивных материалов автор исторически достоверно показал, как драматически складывались их ратные взаимоотношения. Первая их встреча произошла в самом начале войны на северном участке советско-германского фронта, когда самоуверенный, быстро продвигающийся по служебной лестнице после легких побед на Западе «лучший стратег вермахта», племянник фельдмаршала Гинденбурга фон Манштейн появился в Прибалтике. Подобно всеуничтожающему тайфуну, его отборный танковый корпус устремился на Ленинград. Но манштейновский «блиц» нисколько не смутил тогдашнего начальника штаба Северо-Западного фронта — Ватутин быстро сумел разгадать тактику любимца Гитлера: назад не оглядываться, на фланги не обращать внимания и стремительно продвигаться вперед вдоль шоссейных дорог. С помощью своих верных помощников крестьянский сын из Белгородской области, успевший закончить Полтавскую пехотную школу (1922), Киевскую высшую объединенную военную школу (1924), Военную академию им. Фрунзе (1929) и Военную академию Генштаба (1937), в сжатый срок сумел подготовить и осуществить такой силы фланговый удар, что после битвы под Сольцами больше месяца хваленый Манштейн вообще не появлялся на Восточном фронте. Второй их смертельный поединок состоялся в районе Тормосина в январе 1943 года, когда Манштейн, став с повеления Гитлера во главе группы армий «Дон», повел «тотальное наступление» к Волге с целью деблокировать окруженные в Сталинграде войска 6-й армии Паулюса. Поначалу казалось, успех сопутствует самому способному генералу на Восточном фронте: возглавляемые им переброшенные из Франции и Балкан в донские степи полнокровные дивизии, преодолевая упорнейшее сопротивление потрепанных в предыдущих боях советских частей, продвинулись на шестьдесят-семьдесят километров на восток. По меркам сорок первого года им оставался всего лишь суточный переход, чтобы достичь заветной цели. Но в снежную непогодь дивизии Воронежского фронта, возглавляемые Н. Ф. Ватутиным, по приказу Ставки внезапно нанесли удар по левому крылу тормосинской группировки гитлеровцев, навсегда похоронив в заснеженной Задонщине честолюбивые планы восходящей звезды вермахта. Оказалось, что и во второй раз хваленый Манштейн оказался битый Ватутиным. В третий раз судьба свела их на знаменитой Курской дуге в июле 1943 года. Убежденный, что начавшаяся битва будет последней в Восточной кампании, совершенно уверенный, что именно ему, фельдмаршалу Манштейну, предначертано выиграть ее с блеском и таким образом взять реванш за Сталинград, любимец фюрера бросил в бой почти полуторатысячную бронированную армаду «тигров», «пантер», «фердинандов». Что могло устоять против такой лавины огня и стали? И первый эшелон нашей обороны действительно был смят и раздавлен. За неделю кровопролитных сражений фашистским гренадерам лишь на тридцать шесть километров удалось ценой астрономических потерь вгрызться в расположения советских войск. Но зря Манштейн ликовал, предвкушая скорую победу. Несмотря на предельную накаленность обстановки, не унывал и Ватутин, хотя и не преуменьшал опасности, сил противника, его умении противоборствовать. По собственному опыту он уже знал: победы над Манштейном давались нелегко, их приходилось добывать в упорном поединке невероятным напряжением силы воли и ценою больших жертв. Только когда разразился на Прохоровском поле невиданный за всю историю войн встречный танковый бой и уральские «тридцатьчетверки», выдержав сокрушительный удар «стальной Европы», нанесли противнику тяжелый урон, Николай Федорович облегченно вздохнул: выстояли — значит, победили! Ведь ему хорошо был известен стратегический замысел Ставки: измотать противника в оборонительных боях, а затем силами Воронежского и Степного фронтов перейти в решительное наступление с целью освобождения Левобережной Украины и выхода на рубеж Днепра. Принципиально иначе оценивал после сражения под Прохоровкой обстановку Манштейн. Несмотря на то, что ему так и не удалось разгромить и обратить в бегство советские армии, надменный, самоуверенный, презирающий все славянское, чистопородный тевтон был глубоко убежден: после такого сражения силы русских предельно иссякли, а значит, в обозримом будущем они не способны не только наступать, но и активно обороняться. Он верил своей интуиции, что своим «белгородским замком» намертво закрыл «советам» выход на просторы Украины, поэтому решил укрепить подвижными частями северный и южный участки фронта. Ватутин не стал ему в этом препятствовать. Более того, он приказал прекратить любые атаки после трехнедельных боев. Фронт остановился и замер, на деле подтверждая вывод «виднейшего германского стратега». А тем временем Ватутин накапливал силы и незаметно готовил войска к грандиозной наступательной операции. И когда Манштейн начал выводить из района недавнего сражения танковые дивизии для укрепления Орловского плацдарма и «донецкого балкона», советские войска обрушили на голову врага удар, вследствие чего через два месяца почти вся Левобережная Украина была освобождена... И вот их новая встреча на Днепре. Конечно, после Сольц, Тормосина и Курской дуги, наученный горьким опытом Манштейн прекрасно знал, с кем имеет дело, и со всей серьезностью готовился взять убедительный реванш за все предыдущие поражения. Казалось, обстоятельства вполне способствовали этому. Ведь геббельсовская пропаганда вовсе не для красного словца окрестила Днепр «Восточным валом», сокрушить который не под силу никакой армии в мире. Это утверждение было близко к истине: холмистый, густо изрезанный глубокими оврагами, опоясанный почти километровой водной преградой с мощным течением правый берег с его отвесными кручами действительно выглядел неприступным бастионом. Но, воодушевленные блистательными победами, советские воины с помощью местных партизан, используя подручные средства, с ходу преодолели седой Славутич и к концу сентября прочно закрепились во многих местах Заднепровья. По мере прибытия подкреплений маленькие пятачки отвоеванных участков быстро разрастались, сливаясь в большой Букринский плацдарм. Но что удивительно — это мало тревожило командующего германской группы армий «Юг». Из донесений наземной и авиационной разведок Манштейн понял, что главные силы русских нацелены на Большой Букрин, и втайне радовался этому. Ведь не единожды битый фельдмаршал вынашивал план операции, от которого в сладостном предчувствии замирало сердце. Только бы удалось заманить в Букринскую излучину и сковать на оборонных рубежах моторизованные и танковые дивизии генерала Ватутина, а окружить их охватывающими ударами с севера и юга, расчленить и уничтожить в «котле» для Манштейна не составит особой сложности. Вот где вермахт сможет рассчитаться с большевиками и за Сталинград, и за Курскую дугу, и за Левобережную Украину! «Днепровский рубеж должен истощить ударные силы Советов и открыть нам путь к ничейному исходу войны», — с упорством маньяка неустанно повторял в те дни Манштейн своим приближенным. Но даже среди его окружения уже мало кто верил в эти бредни. К примеру, начальник оперативного отдела штаба группы армий, весьма проницательный и категоричный подполковник Шульц-Бюттгер еще под Прохоровкой пришел к убеждению: «Война проиграна окончательно и бесповоротно. Наш солдат потерял веру в успех сражения. Только мир может спасти немецкий народ от ненужных потоков крови и неоправданных страданий». Более того, его все чаще стала посещать мысль, как именно добиться мира: «только нам, фронтовикам, под силу убрать маньяка, погубившего под Сталинградом цвет нашей армии». Мысль, которая через год приведет его после неудавшегося покушения на Гитлера на гестаповскую виселицу. Интересно и убедительно показал Виктор Кондратенко в своей повести процесс разложения гитлеровского генералитета. Так, командующий 48-м танковым корпусом, опытный генерал граф Кнобельсдорф, предчувствуя катастрофу на Днепре, просто удрал с поля боя. Дабы не разделить «лавров» Паулюса, он в срочном порядке прошел врачебную комиссию и, несмотря на решительные возражения Манштейна, отбыл в фатерлянд в длительный отпуск, якобы поправлять расшатанное здоровье. Не блистал оптимизмом и его преемник — генерал Хольтиц. С откровенностью закоренелого пропойцы он прямо заявил фельдмаршалу: «Господин командующий, мы воюем под мрачным небом и упорно удерживаем на Днепре, по сути, уже потерянные позиции. Катастрофа зреет!» Но Манштейн, подобно своему полоумному фюреру, продолжал витать в мире несбыточных грез и наивно верил, что на Дпепре непременно случится чудо и он «заставит большевиков в бесплодных атаках израсходовать здесь всю свою ударную силу». Правда, поначалу могло показаться, что надежды его сбываются: две общевойсковые и одна танковая армии Воронежского фронта прочно увязли в изматывающих боях под непрерывными осенними дождями. Да, первая попытка прорвать в Букринской излучине оборону противника и выйти подвижными частями на оперативный простор закончилась для советских войск неудачно. «На плацдарме сложилось равновесие сил, — анализируя обстановку, пришел к выводу Ватутин. — Если ценою больших жертв мы и разобьем врага, то на оперативный простор сможем выйти разве что с одними обозами... Преодоление больших и малых оврагов и взятие безымянных высоток теперь не откроет дорогу на Киев... Я должен найти в себе смелость приостановить наступление». Несомненной заслугой автора повести «Внимание: «Молния!» является то, что он нигде не стремится задним числом приукрасить историю, не выбрасывает из нее теневых страниц, а со свойственной истинному летописцу объективностью повествует суровую правду о невероятно трудном, а потому и беспримерном ратном подвиге советских людей в смертном бою с фашизмом. Да, были у нас в войну и неудачи, и просчеты, но не они определяли ход событий, а именно на них выковывалось военное искусство советских полководцев, закалялись характеры простых воинов. И непродолжительная заминка под Букрином нисколько не умаляет достоинств Ватутина: ведь на войне блистательные успехи очень часто чередуются с горькими поражениями и разочарованиями. В изображении Виктора Кондратенко генерал Ватутин — убежденный реалист, умеющий трезво смотреть на вещи. Приобретенный за годы войны опыт настоятельно подсказывал ему в этой ситуации: в Букринской излучине нельзя лезть на рожон, надо искать обходный маневр, ударить там, где противник меньше всего ожидает его появления! Именно в те трудные дни и ночи у него рождается грандиозный замысел: перенести направления главного удара с юга на север, для чего необходимо перебросить с Букринского на Лютежский плацдарм танковую армию генерала Рыбалко... После тщательного обсуждения этого замысла Военный совет фронта признал целесообразным за счет второстепенных направлений сколотить мощный бронированный кулак, сосредоточить его на Лютежском плацдарме и нанести внезапный мощный удар по глубоко-эшелонированным оборонным укреплениям севернее Киева. Генштаб и Ставка, изучив представленный оперативный план, не возражали против него. Но при одном условии — фронт должен обойтись только своими армиями. Итак, оставалось самое главное — осуществить намеченную операцию. Силой своего воображения автор «Внимание: «Молния!» перенес нас в святая святых крупного воинского организма — фронтовой штаб. Читатель становится свидетелем напряженнейшей работы лучших стратегических умов, мучительных коллективных исканий оптимальных решений в проведении важнейшей боевой операции на Восточном фронте после Курской дуги. Ведь Ватутину и его соратникам предстояло решить множество сложнейших проблем. И прежде всего: как незаметно вывести из Букринской излучины, считай, из-под самого носа Манштейна и переправить через Днепр сотни КВ, «тридцатьчетверок», тягачей, бензозаправщиков, походных мастерских? Как в глубочайшей тайне совершить такой армадой многокилометровый марш, а потом переправить эту технику за Десну и Днепр?.. Помогли боевая выучка войск, слаженная работа штабов, искусная маскировка. В невиданно короткий срок (всего за четверо суток!) командование фронта сумело переправить на Лютежский плацдарм танковую армию генерала Рыбалко вместе с артиллерийским корпусом прорыва генерала Королькова, мотопехотой и конницей. Кроме того, из тыла было подвезено, разгружено и переправлено через Десну и Днепр более тысячи вагонов с боеприпасами, продовольствием, инженерными средствами. Оставался до конца невыясненным только один вопрос: заметил ли Манштейн крупную передислокацию советских войск, понял ли замысел нашего командования? Ответ на него могло дать только сражение. И вот настал рассвет 3 ноября 1943 года... Многодневная битва за Киев является кульминацией повествования Виктора Кондратенко. И не столько потому, что она знаменовала собой начало изгнания гитлеровских захватчиков со всей Правобережной Украины, а преимущественно потому, что эта боевая операция стала своеобразным венцом стратегического дарования Николая Федоровича Ватутина, в ней молодой советский полководец наиболее искусно и убедительно переиграл хваленого фашистского кумира, мастера маневренной обороны барона фон Манштейна. Правда, был в этом сражении момент, когда оказались исчерпанными все наступательные возможности и перед войсками фронта реально замаячил призрак нового Букрина. Но в том и состояло величие Ватутина, что он сумел сплотить возле себя таких выдающихся боевых соратников, как генералы Гречко, Иванов, Москаленко, Черняховский, Рыбалко, Трофименко, Жмаченко, Епишев, Крайнюков, Кравченко, Шатилов. Именно они в критическую минуту нашли оригинальное, обеспечившее успех решение — впервые в истории войн было предложено предпринять ночную танковую атаку с освещением местности прожекторами, фарами, ракетами. «Свет — наше оружие, — заключил генерал Ватутин. — Мы должны обрушиться на фашистов, подобно молнии в ночном мраке. Поэтому условным сигналом к решающей судьбу Киева атаке, у нас будет: м о л н и я!..» Для потомков В. Кондратенко создал волнующую картину невиданной ночной атаки под Киевом — атаки, которая, спустя полтора года, точь-в-точь будет повторена при штурме Берлина. А происходило все так: «За двадцать минут до начала атаки прожектористы заняли свои места в боевых порядках танковой армии, и Рыбалко на своем КВ прибыл в первый эшелон... Кто-то близко проскакал на коне. И вдруг повеяло далекой конармейской молодостью. В памяти ожили сигналы буденовских горнистов и прозвучал боевой клич: «Даешь Киев!...» И вот сейчас он, бывший буденовец, подаст сигнал к новому освобождению Киева... Больно подумать: уже семьсот семьдесят шесть дней томится Киев в неволе. «Пора!» — сказал Рыбалко радисту. И тот сейчас же передал по рации: «Внимание: «Молния!» И сразу вспыхнули прожекторы, зажглись фары, взлетели и рассыпались тысячи ракетных огней... От ярких зеркальных глаз прожекторов мрак отпрянул в глубину леса. Показались изгибы окопов, пулеметные гнезда, поставленные на прямую наводку пушки. Свет ударил в амбразуры, в люки, в смотровые щели. Застал врасплох гарнизоны дзотов, ослепил экипажи «тигров». А все «тридцатьчетверки» и КВ включив сирены и открыв огонь, ринулись в лес на штурм...» Эта ночная атака и предрешила успех всей Киевской операции. На рассвете 6 ноября 1943 года Ватутин вместе с представителем Ставки маршалом Жуковым и членами Военного совета фронта доложил Верховному Главнокомандующему: «Задача, поставленная Вами по овладению Киевом — столицей Украины, войсками Первого Украинского фронта выполнена!» Да, Киев навсегда был освобожден из фашистской неволи, но ратные взаимоотношения Ватутина с Манштейном не закончились на этом. В близком будущем их еще ожидало ожесточенное Житомирское сражение, Ровенско-Луцкая операция и Корсунь-Шевченковское побоище, окрещенное самими гитлеровцами «Сталинградом на Днепре». И как бы ни складывались эти битвы поначалу, в конце концов фельдмаршал Манштейн всюду был тяжко бит генералом Ватутиным. Об этом прославленном советском полководце уже писали поэты и публицисты, историки и мемуаристы, но наиболее рельефно и талантливо удалось вылепить его художественный образ Виктору Кондратенко в повести «Внимание: «Молния!». Удалось прежде всего потому, что он показал своего героя в постоянном противоборстве с таким очень опытным и опасным противником, как фельдмаршал Манштейн. Перед читателями как бы прорисовываются в экстремально напряженных условиях два психологических портрета, два противоположных человеческих типа, представляющие и воплощающие разные общественные формации. Вот любимец фюрера Манштейн. Надменный, импозантный, недоступный, корчащий из себя полубога, он вращается только в генеральской среде и среди придворной камарильи, а рядовой солдат вермахта — безвестный исполнитель всех стратегических замыслов — для него просто не существует. Война для этого потомственного милитариста — всего лишь лестница к высоким чинам и богатству, а предел его мечтаний — высшая награда рейха «бриллиантовые мечи» к рыцарскому кресту. Сорокалетний Ватутин — прямая противоположность спесивому «фон-барону». Простой, общительный, доброжелательный к людям, прошедший нелегкий путь от рядового к генералу, он чувствует себя среди простого народа в родной стихии. К удивлению присутствующих, командующий фронтом может прочитать наизусть стихи ординарца Мити Глушко «Уже солдат заводит разговор, как воевать среди лесов и гор», отведать каши из солдатского котла вместе со встретившимися танкистами, найти доброе слово, утешить бородатого старика на днепровском мосту, спешащего с нехитрым домашним скарбом на плечах в Борисполь, чтобы «больше не попасть под немца...» А какой это заботливый и любящий сын! За счет сна и отдыха он выкраивает час-другой времени, чтобы проведать мать в родном селе. Как истинный патриот, Ватутин совершенно не печется о личном благе, все его помыслы связаны с Родиной, свободной и счастливой. Именно ради этого он готов пожертвовать собственной жизнью. История по справедливости рассудила персонажей повести В. Кондратенко. Отпрыск прусской военной аристократии Эрих фон Манштейн, изгнанный из вермахта Гитлером за вереницу тяжких поражений, канул в небытие, изредка напоминая о себе лишь в презренном списке нацистских военных преступников, а крестьянский сын, воспитанный советским строем, Николай Федорович Ватутин после своей гибели ушел в бессмертие. Воплощенный в гранит, он навечно застыл на величественном постаменте у днепровской кручи и стоит в распахнутой шинели, с непокрытой головой, как бы вслушиваясь в мирный гомон матери городов русских и напоминая грядущим поколениям о ратном подвиге их предшественников. Литературная критика единодушно оценила произведение Виктора Кондратенко как достойный вклад в современную советскую литературу. В прессе было высказано утверждение, что небольшая по объему повесть «Внимание: «Молния!» может быть поставлена в один ряд с такими известными книгами о войне, как «Живые и мертвые» К. Симонова, «Горячий снег» Ю. Бондарева, «Блокада» А. Чаковского, «Человек и оружие» О. Гончара, «Война» М. Стаднюка, «Солдаты» М. Алексеева, «Судьба» П. Проскурина, ибо в ней «точно воспроизведена накаленная атмосфера героического времени, правдиво обрисованы характеры людей, которые одолели огненные версты кровопролитнейшей и тяжелейшей из войн». Но писателю наиболее дороги, конечно, отзывы рядовых читателей, для кого, собственно, и пишутся книги. «Созданная Вами широкоформатная панорама победного похода Советской Армии в 1943 году волнует и впечатляет, — одним из первых откликнулся на повесть врач из Канева Н. Ищенко. — Многие картины, фрагменты фронтовых будней, словно довженковские кинокадры, кажется, буквально выхвачены из горячих дней и ночей Юго-Западного — Воронежского — 1-го Украинского фронтов. Спасибо за прекрасно воздвигнутый памятник рыцарям Великой Победы». «...Мы, бывшие фронтовики, под началом генерала Ватутина громили отборные манштейновские армии на Курской дуге, освобождали от них Левобережную Украину, форсировали под вражеским огнем осенний Днепр, штурмовали укрепленный Киев, — прислали коллективное письмо автору от имени ста тридцати семи шахтеров города Стаханов Герой Социалистического Труда Т. Ф. Кариков, П. Г. Курилов, В. П. Олейник. — Не можете себе представить, с каким волнением и благодарностью мы читали и перечитывали Вашу повесть «Внимание: «Молния!». Волшебством художественного слова Вы словно возвратили нас в годы молодости, предоставили радость еще раз прожить Великое Время Побед. Низкий Вам шахтерский поклон за создание великолепного образа нашего незабываемого «Генерала-вперед», как воины 1-го Украинского любовно прозывали своего командующего за его суворовский напор и блистательные победы. Еще с тех далеких дней октября 1943 года мы помним Ваши поэтические строки, напечатанные армейской газетой: «В быстрых тучах, как шарик ртути чуть заметен аэростат. У Днепра — генерал Ватутин на плацдарме что с боя взят...» Помним и любим их. Но в прозе (не в обиду будет Вам сказано) Вы сумели выгранить образ этого человека более масштабным, величественным и реальным. Как бывшие фронтовики, мы со всей ответственностью заявляем: да, именно таким, как Вы изобразили, мы знали Николая Федоровича. Тем и ценна повесть, что Вы нарисовали образы реальных героев, добывших на поле брани своим потомкам право свободно жить и творить. Спасибо за доброе святое дело! Ждем на-гора новых произведений о людях ратного подвига». Но чаще всего читатели и в письмах, и на творческих вечерах не только высказывают свое отношение к повести, а и проявляют живой интерес, как она создавалась, откуда писателю известны даже самые затаенные черты характеров его персонажей, мельчайшие детали их биографий. Не был ли он у Ватутина ординарцем, выведенным в книге под именем Мити Глушко — пресимпатичнейшим начинающим поэтом, который, кстати, весьма часто цитирует фронтовые стихи самого В. Кондратенко? Чем обусловлена такая приверженность автора к военной теме на протяжении многих лет?.. «А тем, что вся моя жизнь теснейшим образом связана с армией, — недавно объяснил в интервью с корреспондентом РАТАУ Виктор Андреевич. — Случилось так, что в раннем детстве я остался круглым сиротой (отец погиб на фронте первой мировой войны, мать умерла во время эпидемии тифа). Вот и пришлось мне познавать этот мир под звуки полкового горна, дробь подков мчащегося в атаку эскадрона, перезвон шашек красных конников, в подразделении которых моя мужественная бабка Мавра Васильевна долгое время служила поварихой. Потом была учеба в танковой школе, длительная служба в мехчастях, огненные дороги войны... А вообще на все эти вопросы вы найдете исчерпывающий ответ в моей книге «Без объявления войны». Книга «Без объявления войны» весьма своеобразная и интересная. Ее жанр автор определил как «повесть о ратном подвиге», снабдив красноречивым эпиграфом из поэтического наследия А. Блока: «Позволь хоть малую страницу из книги жизни повернуть». Многим она показалась вещью мемуарной, в своем роде итоговой для творчества И. Кондратенко, но это глубокое заблуждение. Из книги мы не узнаем многих важнейших биографических вех автора. К примеру, вряд ли Виктору Андреевичу в своих мемуарах стоило бы умалчивать о том, что в девятилетием возрасте он, воспитанник красного кавэскадрона, умел оседлать коня, галопом промчаться по степи, срубывая палкой по пути фиолетовые «головы» роскошного чертополоха, что учился он в одном классе и за одной партой в харьковской школе на Харьковской набережной с ребятами Сережей Борзенко и Игорем Муратовым, которые впоследствии стали известными советскими писателями, что, будучи токарем на заводе «Электросталь», делегировался как победитель соревнования на Всеукраинский слет ударников первой пятилетки, что по направлению комсомола служил в мотомехчастях... Именно в эту пору окончательно сложилась творческая судьба В. Кондратенко. Еще в школьные годы он увлекался литературой, редактировал стенгазету, но, только надев солдатскую шинель и познав суровость армейских будней, почувствовал непреодолимое желание рассказать миру о славных боевых друзьях и серьезно занялся работой над словом. На коротких привалах и в перерывах между учениями возмужавший юноша писал проникнутые оптимизмом и гражданским пафосом стихи, которые и составили первый поэтический сборник, увидевший свет в 1934 году. Книга молодого воина была замечена и должным образом оценена командованием, вследствие чего В. Кондратенко получил приглашение на работу в армейскую прессу. С тех пор он на долгие годы стал «чернорабочим газетной строки». Как военный корреспондент бывал в воинских частях, знакомился с будущими героями и замечательными военачальниками, принимал участие в освободительных походах на Западную Украину и в Бессарабию. Но обо всем этом мы не найдем и слова в книге «Без объявления войны». Как не найдем в ней упоминания об одном событии в биографии, связанном с рождением Виктора Кондратенко как прозаика-ратописца. После возвращения из освобожденных районов Западной Украины он, по просьбе коллег-журналистов, выступил со своими впечатлениями о боевом походе. Рассказ тот, наверное, был не особенно искусен, но предельно правдив, эмоционален, богат наблюдениями. Об этом свидетельствует тот факт, что после выступления к В. Кондратенко подошел спецкор ТАСС, широко известный по романам «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» писатель Евгений Петров и, пожав руку, сказал: — То, что я услышал от вас, потрясающе интересно и важно. Почему бы вам не написать книгу о всем виденном и пережитом? Такой золотой жизненный материал не должен пропадать. — Книгу? — удивился молодой журналист. — Но ведь я поэт и с прозой не дружен. — А что вам мешает попробовать свои силы в прозе? История нашей литературы свидетельствует, что поэты довольно часто становились хорошими прозаиками. Уверен: у вас получится славная книга. Только не мудрите. Для настоящего прозаика главное — писать правду, только правду жизни! Пишите так, как рассказывали! Даже после такого авторитетного напутствия вряд ли В. Кондратенко осмелился бы взяться за «не свое дело», если бы через несколько дней в газете «Правда» (№ 277 от 6 октября 1939 года) не прочитал на второй странице корреспонденцию Евг. Петрова, которая начиналась: «Вот рассказ младшего лейтенанта Кондратенко...» А далее почти слово в слово приводилось его повествование о варварском уничтожении бродячей бандой пилсудских жандармов двух заднестровских украинских сел Круйское и Варен вместе со всеми жителями. Напечатанный в газете, этот рассказ поразил молодого армейского собкора каким-то исторически объективным и закономерным приговором бессмысленной жестокости и вандализму. И он впервые остро почувствовал долг перед читателем поведать правду о гуманистической миссии Красной Армии в сентябрьские дни 1939 года. «Это было время особого душевного подъема, — скажет позже Виктор Андреевич. — Воодушевленный вниманием Евгения Петрова и друзей-журналистов, я чувствовал особый прилив творческих сил. Каждый день после работы спешил к письменному столу, чтобы искренне рассказать о Великом Походе... В сороковом году вышла моя первая прозаическая книга «От Збруча до Сана». Но меня мучило сомнение: «Сумел ли я передать в ней значение нашего дела? А вдруг она окажется всего лишь блеклым отсветом подвига моих боевых товарищей?» Ответ на все сомнения не заставил себя ждать. Как-то в редакцию газеты Киевского особого военного округа «Красная Армия», где работал Виктор Андреевич, зашел автор известного романа о Николае Щорсе «Путь на Киев» Семен Скляренко и, познакомившись с начинающим прозаиком, вручил ему исписанный лист бумаги. — После прочитанной книги «От Збруча до Сана» я убедился: вы уже состоявшийся литератор, — сказал он. — Вот моя вам рекомендация в Союз советских писателей Украины. Вторую, как мне известно, написал Александр Копыленко. Как, устраивает?.. Да, всего этого читатель не найдет на страницах «Без объявления войны». И вполне закономерно. Ведь Виктор Кондратенко вовсе не ставил перед собой цель поведать миру о своей творческой биографии. Он стремился создать книгу о фронтовых товарищах — армейских писателях и газетчиках, которые своим словом воодушевляли советских бойцов на ратные подвиги. Поэтому книгу «Без объявления войны» справедливее считать гражданским отчетом, искренней исповедью перед грядущими поколениями тех мастеров слова, которые в грозную для Родины годину «перо приравняли к штыку». Свое повествование В. Кондратенко начинает именно с первого дня войны. Точнее даже не дня, а ее первых минут, когда над Киевом появилась армада люфтваффе. Многие киевляне, проснувшиеся на рассвете 22 июня 1941 года от грохота, никак не могли понять, что творится в безоблачном небе. Да, мир еще не знал о разбойничьем нападении фашистских варваров на Страну Советов, а в Киеве уже погибло 25 и тяжело ранено было 76 человек. «Бух-бух-бух!.. Удары все сильней, все отрывистей. Просыпаюсь и сразу не могу понять: откуда летят эти грозные удары? — описывает свое первое ощущение начинающейся всенародной беды В. Кондратенко. — Прислушиваюсь. Самолеты! Пронзительный свист, вой, взрывы. Бомбы рвутся где-то на западной окраине Киева... От заводских гудков дребезжат оконные стекла. Воют паровозные сирены. Город трубит тревогу». Общеизвестно, с каким единодушием и решимостью поднялся советский народ на защиту своей Родины. В послевоенные годы написано сотни романов и повестей, научных монографий и мемуарных книг, создано множество кинофильмов и художественных полотен, рассказывающих о вкладе рабочих, колхозников, транспортников, медработников и даже домохозяек и пионеров в дело победы над фашистскими вандалами. Виктор Кондратенко обратился к теме, до сих пор мало освещенной в нашей литературе: мастера слова в Великой Отечественной войне. И это вполне понятно и закономерно. Как журналист фронтовой газеты он с первого дня войны вынужден был изучать «грамматику боя, язык батарей». Точнее: не только он, а десятки его собратьев по перу, которые уже 22 июля сорок первого объявили себя «мобилизованными и призванными». Нельзя без волнения читать строки книги об историческом митинге в Союзе писателей Украины. Какое созвездие имен, известных нам еще из школьных учебников, собралось в крохотном «садике с беседкой, с фонтанчиком и тенистыми аллейками». Павло Тычина, Микола Бажан, Александр Корнейчук, Иван Ле, Андрей Малышев... Сколько вдохновенных речей было произнесено на том митинге! Именно в тот день Украина услыхала проникновенные тычиновские слова: «Ми чуем, нене, ми йдемо на бій!» Тогда впервые из уст Бажана прозвучала его торжественная «Клятва» со знаменитым рефреном: «Ніколи, ніколи не буде Вкраїна рабою фашистських катів!» «Я верю: настанет день великой Победы, когда Красная Армия вышибет врага с нашей родной земли и освободит народы Европы от гитлеровской тирании», — такими словами закрыл митинг Корнейчук и пожелал своим коллегам счастливого боевого пути, быстрого возвращения в родной Киев с победой. Да, никто из присутствующих не предполагал тогда, какие долгие-предолгие огненные версты лежат перед ними, сколько испытаний выпадет на их судьбы и далеко не всем суждено будет дожить до Победы. Прямо с митинга большинство писателей отправлялись к исполнению своих уже воинских обязанностей. Как очевидец событий В. Кондратенко утверждает, что группа литераторов во главе с Бажаном, Малышко и Собко поступала в распоряжение ЦК КП(б)У, в фронтовое радиовещание были откомандированы Иван Ле, Леонид Первомайский, Яков Качура и Михаил Тардов, в редакции армейских газет отбыли Олекса Десняк, Микола Упеник, Микола Шпак, Василь Кучер, Иван Гончаренко и другие. В первую неделю войны в распоряжение командования Юго-Западного фронта было направлело 40 писателей, 45 кинооператоров, сотни журналистов, которые в слове и на пленке обязаны были запечатлеть героев первых сражений. Именно в эти дни родилась крылатая фраза «музы надели солдатские шинели». Каждый день с газетных полос, из репродукторов и киноэкранов звучал страстный голос летописцев войны, навечно вписывая в историю ратный подвиг советского народа. По вполне понятной причине в центре повествования Кондратенко — жизнь редакции газеты «Красная Армия», в которой он проработал многие годы. Но что это за повествование! Наверное, впервые так точно и честно, а главное — с глубоким знанием дела в этой книге описаны напряженные редакционные будни в начальный период войны. Частые переезды редакции в связи с отступлением наших армий, постоянные жестокие бомбежки, скудность информации об оперативной обстановке на фронте, хроническая нехватка материалов для печати, а еще — потери, невосполнимые потери военных корреспондентов на передовой. Но, несмотря на невероятнейшие трудности, маленький творческий коллектив умудрялся вовремя выпускать фронтовую газету. Это, несомненно, был в своем роде подвиг. И творили его ежедневно совсем негероические по меркам мирных дней люди. Перед читателем проходит целая галерея преданных своему делу редакционных работников: от уравновешенного, казацкой силушки главного редактора Ивана Ивановича Мышанского до юркого смекалистого шофера Хозе — сына испанского республиканца. Все они не выглядят на одно лицо, а отличаются друг от друга. Только человек, прекрасно знавший в жизни всегда суетливого, вечно неспокойного ответственного секретаря «Красной Армии» Урия Крикуна и военкоров Буртакова, Вирона, Гончарука, Полякова, Нидзе, Шамшу, мог так колоритно, с дружеской лукавинкой, буквально несколькими штрихами нарисовать их портреты, наделить неповторимыми чертами их характеры. И в то же время создать коллективный образ, коллективный тип армейского журналиста времен прошедшей войны. Именно в этом и состоит первейшая заслуга книги «Без объявления войны». Но, конечно же, не боевой путь (безусловно, славный и поучительный) родной для В. Кондратенко «Красной Армии» был самоцелью его повествования. Писатель ставил перед собой более значительную задачу. А именно: рассказать современному читателю, в каких условиях создавались фронтовые газеты, какую роль играло печатное слово в постижении советскими воинами науки ненависти, уяснить, насколькополно армейская пресса творила летопись ратного подвига нашего народа. Успешно решить эту задачу без глубокого освещения работы «мозгового центра» любого печатного органа нельзя. А в редакциях армейских газет таким «мозговым центром», безусловно, являлось писательское ядро. В творческой биографии Виктору Кондратенко повезло: ему посчастливилось работать в «Красной Армии» плечом к плечу с талантливейшими газетчиками и с такими выдающимися мастерами слова, как Александр Твардовский, Александр Довженко. Вместе со своим ровесником поэтом Борисом Палийчуком он почти ежедневно наблюдал, как корпеют над строкой «два великих Александра», проникался их думами, учился мастерству, одним словом, прикасался к их творческой лаборатории. И в книге «Без объявления войны» он правдиво рассказал о том, как вырабатывалось политическое лицо газеты, как вынашивались замыслы принципиально важных рубрик, определялись темы отдельных полос и разворотов, как выхватывались военкорами из кипени фронтовой жизни громкие газетные «гвозди». И рассказ этот волнует и впечатляет читателя прежде всего тем, что В. Кондратенко впервые поведал нам совершенно новые, доселе неизвестные факты из фронтовых биографий своих маститых коллег. ...Огненный август 1941 года. Многие недели безуспешно штурмовали Киев вымуштрованные гренадеры фельдмаршала фон Рейхенау, кровопролитные бои беспрерывно клокотали практически на всей Правобережной Украине. Танковые дивизии группировки Клейста, невзирая на громадные потери, фанатично рвались к днепровским переправам у Канева, Черкасс, Кременчуга, Днепропетровска, Запорожья. Из действующих частей в политотдел штаба фронта ежедневно поступали донесения о массовом героизме советских воинов и народных ополченцев. В это грозное время редактор газеты «Красная Армия» полковой комиссар Мышанский вызвал к себе писателей и, определив каждому из них маршрут командировки на передовую, поставил задачу: ярко рассказать на страницах газеты о подвигах наших бойцов и командиров. Александру Твардовскому выпало ехать в район Канева вместе с В. Кондратенко: он должен был поведать читателям о боевой работе Днепровской флотилии в составе монитора «Жемчужин» и канонерских лодок «Верный» и «Передовой» при обороне каневского моста, а Виктору Андреевичу предписывалось отыскать на правом берегу бронепоезд № 56, любовно именуемый нашими воинами «Борисом Петровичем», и подготовить полосу о блистательном боевом пути героического экипажа «крепости на колесах». На следующий день редакционной полуторкой они добрались в Переяслав, а оттуда — в приднепровское село Келеберду, где временно находился штаб 26-й армии. Именно там писателям стало известно, что по приказу командарма Костенко советские войска, действуя дерзко и смело, разгромили во встречном бою два полка ударной группы фашистского генерала Шведлера и прошедшей ночью освободили город Богуслав, пытаясь таким образом помочь 6-й и 12-й армиям преодолеть кризисную обстановку под Уманью. Воодушевленные радостными вестями, военные корреспонденты решили немедленно выехать в передовые подразделения и встретиться с героями своих будущих очерков. Но на каневском мосту попали под жесточайшую вражескую бомбардировку. «Тридцать шесть пикировщиков устремились к железнодорожному мосту, — читаем об этом событии в повести «Без объявления войны». — С вершин каневских гор, с кораблей зенитные орудия открыли огонь. Ничего нового в воздушном нападении не было. Гитлеровские летчики действовали по шаблону. Точно так же они атаковали черкасский мост. Вот флагман «клюнул» носом и с воем вошел в пике. За ним последовали другие. Пытались бомбить не только мост, но и корабли. Монитор и две канонерские лодки вначале прижимались к левому берегу, потом отошли от него, усилили зенитный огонь и, умело маневрируя, уклонились от атак пикировщиков. Над песчаными берегами поднялись гигантские столбы пыли и дыма. Глядя на них, Твардовский проронил: — Переправа, переправа! Берег левый, берег правый...» Принято считать, что история создания «Василия Теркина» доподлинно всем известна. Ведь о ней обстоятельно рассказал сам Александр Твардовский еще в 1951 году в «Ответе читателям» — послесловии к своей «Книге про бойца». Но, оказывается, автор поведал далеко не обо всех деталях поиска будущего литературного героя, истоках творчества. И об этом красноречиво свидетельствует повесть «Без объявления войны». Как очевидец событий, В. Кондратенко в частности приоткрыл в ней завесу над одними из первых, если не самыми первыми шагами Твардовского на тернистом пути создания бессмертной поэтической жемчужины времен войны. Это было глубокой осенью 1941 года. В заснеженный Воронеж, где в то время находилась редакция «Красной Армии», приехал из Москвы А. Довженко, который упросил командование прикомандировать его к газете Юго-Западного фронта. Ведь, по убеждению Александра Петровича, «война была сильнее Дантового ада. И прежде, чем снимать этот ад, надо видеть его помноженным на муки нашего народа. Тогда что-нибудь получится». На стакан чая к знаменитому кинорежиссеру, который в то время жил в одной комнате с В. Кондратенко, зашли Твардовский с Безыменским, Палийчук с художником Капланом. Обсуждали последние события на фронтах, слушали московские новости. Незаметно разговор зашел о газетной работе, в частности — о сатире, которая во все времена веселила людей, поднимала их настроение, давала выход ненависти и презрению к врагу, вселяла уверенность в свои силы. В тот декабрьский вечер и родилась идея выпускать еженедельное сатирическое приложение к армейской газете, которое по предложению Бориса Палийчука решено было назвать «Громилкой». Почему именно «Громилкой»? Да потому, что во многих частях так называли наводящие на фрицев ужас советские реактивные минометы. А представить читателям «Громилку» попросили Александра Трифоновича, имевшего немалый опыт в этом деле еще с финской кампании. И вот в канун Нового, 1942 года вышел первый номер сатирического приложения к газете «Красная Армия». Под выразительной карикатурой (Гитлер и Геринг воровато выглядывают из-за бугра, а в них целится сверху штыком советский воин-гвардеец), были тиснуты такие поэтические строки:
«На войне, в быту суровом,
в трудной жизни боевой,
на снегу, под зябким кровом —
лучше нет простой, здоровой,
прочной пищи фронтовой.
И любой вояка старый
скажет попросту о ней:
лишь была б она с наваром,
да была бы с пылу, с жару —
подобрей, погорячей.
Жить без пищи можно сутки,
можно больше, но порой
на войне одной минутки
не прожить без прибаутки —
шутки самой немудрой.
Поразмыслишь — и выходит:
шутка тем и дорога,
что она живет в народе,
веселит бойца в походе,
помогает бить врага.
Друг-читатель, не ухмылкой,
а улыбкой подари,
не спеши чесать в затылке,
а сперва родной «Громилки»
первый номер просмотри».
С походным ранцем за спиною,
С вишневой трубкою в зубах
Еще к безвестному герою
Выходит он на пыльный шлях...
Ночевал я в травах при дороге,
Воду пил из мутного ручья.
Мне машину заменяли ноги,
С ветром, с пылью подружился я.
Фронтовая жизнь корреспондента —
Дым землянок, подвиги, друзья...
И в бою тяжелые моменты:
Вспомнить — жутко, а забыть нельзя.
После дымной грозы медуницей
На рассвете повеют ветра.
Голубые мне снятся криницы
И веселые зори Днепра...
Без объявления войны (повесть о ратном подвиге).

1
Позволь хоть малую страницу Из книги жизни повернуть.Александр Блок
Бух-бух-бух — гремит медная ступа. Моя бабушка Мавра Васильевна проворно толчет сухари. Я — маленький мальчик — сижу в одной сорочке на ступеньке деревянного крыльца. У моих ног поводит острой мордочкой рыжий пес Кайзер. Он ловит на лету сухарные крошки. Солнце освещает веранду. Тень от оконных рам падает на дощатый пол и делит его на светлые квадраты. А ступа гремит и гремит: бух-бух-бух. Удары все сильней, все отрывистей. Просыпаюсь и сразу не могу понять: откуда летят такие грозные удары? Бух-бух-бух. Хороша ступа! С нарастающим гулом на кручах Днепра бьют зенитки. На подоконнике дрожит бутылка денатурата, припасенная для разжигания примуса. Она сливается с лиловым воздухом. За окном чуть светает. В комнате все вещи приходят в движение. Что-то легкое падает с ночного столика и тяжелое — с этажерки. Прислушиваюсь. Самолеты! Пронзительный свист, вой, взрывы. Бомбы рвутся где-то на западной окраине Киева. Хочу вскочить с постели. Нет сил. Разбитость. После крупозной пневмонии трудно даже откинуть одеяло. Десять дней мучил жар и кашель. Только вчера серебристый столбик ртути показал нормальную температуру. Слух ясно улавливает рокот бомбардировщиков. От заводских гудков дребезжат оконные стекла. Воют пароходные сирены. Свистят паровозы. Город трубит тревогу. Дверь распахивается, и в комнату вбегает мой сосед по квартире Микола Шпак. Он кричит: — Что такое? Что случилось? Война?! — Не знаю... — Ты же в военной газете работаешь. — Микола встряхивает кудрями. Поэт всегда делает так, если чем-нибудь недоволен: он не может примириться с моей неосведомленностью. — О господи, неужели война? — Я не узнаю обычно звонкого голоса жены Шпака. Он скорбный, глухой. — А может, это не война, а маневры? Вы, кажется, забыли о сообщении ТАСС. — Гудки смолкли, но Микола продолжает громко говорить: — Подождите-ка минутку... — Он шуршит газетами, сваленными на диване в кучу, и, найдя нужную, бросается к окну. — Сейчас... Сейчас... Вот оно! «Летние сборы запасных Красной Армии и предстоящие маневры имеют своей целью не что иное как обучение запасных...» В комнате посветлело, но читать трудно. Микола долго ищет еще какой-то важный абзац. — Обучение запасных? — Зина машинально включает настольную лампу. На улице раздается яростный свисток — впечатление такое, будто к окну летит сильная струя воды из пожарного шланга. Зина поворачивает выключатель. Микола вспыхивает: — Свет в окне!.. — и нежно гладит руку жены. — Пойдем, Зинушка, дети проснулись. — На пороге оборачивается: — А все-таки у меня есть надежда: это еще не настоящая война — обучение запасных, — и закрывает дверь. За окном — приглушенные голоса, шум, похожий на проливной дождь. Встаю с постели. Вверх по Тимофеевской движется колонна новобранцев — плывет к железнодорожному вокзалу плотной тучей. Острый гребень соседней крыши странно бугрится. Верхушки пирамидальных тополей, словно метлами, на какой-то миг смахивают с неба свет зари. Я хватаюсь за спинку кровати — ну и качка. Еще одно усилие. И вот вылазка к окну закончилась благополучно. Только сердце стучит гулко-гулко и покалывает. Достаю из футлярчика термометр. Что покажет? В комнате совсем светло. В солнечных лучах большая книжная полка. Цветные корешки переплетов создают своеобразный узор. За книгами в углу желтеют удочки. Ах, эти удочки! Держу под мышкой термометр, а сам мысленно переправляюсь через Днепр. Дарницкий луг. Такие высокие травы, такое пестрое изобилие цветов. В дождливый ветреный день я ловил рыбу на Ориках. Удочка стояла на мыске, и поплавок — пробка от шампанского — маятником ходил посреди глубокого заливчика. Э-ге-ге, вижу, он уже пыряет посреди озера и, пока сбрасываю одежку, щуковка желтым копьем летит по волнам в самые дальние заросли куги. Велико желание поймать крупную щуку. Хмелит рыбачий азарт. Не страшна даже студеная вода. Плыву стремительным кролем добрых сто метров. Осматриваюсь. По ветру стелется густая гибкая куга, и кажется: вот-вот накроет тебя гребень темно-зеленой волны. Капельками ртути мелькают водяные пауки, рыба ушла в глубину и почти утопила удилище. Вблизи старой коряги дрожит вода, она расходится кругами. Там бьют ключи. Нырнув, сразу почувствовал их силу. Холодная, жгучая глубина. Коченеет тело. Спускаясь на дно, вынужден держаться за лесу. Опора ненадежная. Как только рука нащупала какие-то корни, щука рванулась и, точно нитку, порвала туго натянутую жилку. Меня подхватило течение и вынесло на поверхность. А в небе мечется встревоженная чайка. Где-то близко в зарослях куги ее гнездо. Пока плыву к берегу, она с криком нависает надо мной — то падает ковшиком, то расплескивает крылья. В сумерках я возвратился с Дарницкого луга домой. Как ни напрягал грудь, как ни дышал глубоко, а воздуха не хватало, легкие будто набиты опилками. Утром явился молчаливый старик-врач и стал выслушивать. Я хрипел, кашлял. Врач опустился в кресло и задержал взгляд на акварели Верещагина. Воин времен Тамерлана в грозном боевом убранстве натягивал тетиву лука. Молчаливый старик, погрозив ему пальцем, достал из кармана бланк для рецепта и придвинулся к письменному столу. — Ну-с? — пожевал губами. — Так-с... — И прописал мне отвратительно горькие порошки сульфидина да еще вдобавок, какую-то приторную микстуру. Достаю из-под мышки термометр. Не-ет, не-ет! Не напрасно глотал полынную горечь и пил почти сахариновой сладости смесь — наша берёт. Тридцать шесть и девять. Но все-таки, девять... За этой границей близок постылый постельный режим. Осторожно кладу термометр на край письменного стола. В медной оправе хмурит широкие брови Владимир Луговской. Поэт стоит у рампы на сцене киевского ДКА. Всматриваюсь в снимок и впервые за многие месяцы среди слушателей в полутемном зале нахожу себя и знакомых артистов ТЮЗа. Слышится рокочущий бас: — Не хныкать, не ныть, не бояться... А над кроватью в глубокой раме застыли на снегу пегие лошаденки. Бородатые возчики в черных свитках, подпоясанные красными кушаками, грузят на сани голубоватые глыбы льда. Меня всегда радовала эта картина художника-передвижника Сергея Ивановича Светославского свежестью зимнего утра, сияньем льда и снега. Сани как будто отъезжают, удаляются, тускнеют ледяные глыбы... «А может быть, Микола прав: идут маневры, строго приближенные к настоящей боевой обстановке? Конечно, возможен серьезный конфликт с Германией, но его уладят, войны не будет». С этими мыслями засыпаю. Сквозь сон слышу, как скрипит дверь. Открываю глаза — в комнате возбужденный Микола. — Ты знаешь... — резко встряхивает красивыми светлыми кудрями. — И надо же такое... Зина ходила на Сенной базар и вот принесла новости. Молочницы, говорят, видели, как немецкие самолеты бомбили Дарницкий мост. Сбросили бомбы и все целехонькие ушли. Ну как тебе нравится — целехонькие! А наши что? Дремали?! Подпустили разбойников и не всыпали им? Да, не всыпали?! А еще говорят: фашисты воздушные десанты сбрасывают и в Киеве появились переодетые в милицейскую форму шпионы. Надо же такое... Слушает всякую чушь. Шпак — импульсивный человек. Его серо-голубые глаза то задумчивы, то насторожены. Он словно проверяет точность найденного образа или прислушивается к ритму будущих стихов — легко вспыхивает и моментально успокаивается. Семья у него немаленькая, и живется поэту нелегко. Но он самоотверженно создает сказание о гражданской войне. Часто читает мне отрывки. Колоритно, с интересными ритмическими переходами написан рейд партизанской конницы. Ну вот... В таком духе. — Пряча в папку совершенно синие от множества помарок, исписанные вдоль и поперек листки, резко взмахивает рукой. — Трубить, так в большие трубы! Все силы отданы эпической поэме. Это его надежда. Зина всячески ободряет мужа и терпеливо ждет эпилога. А пока... приходится довольствоваться случайными гонорарами и кое-как сводить концы с концами. Микола не унывает. Временные материальные затруднения не могут погасить его творческого энтузиазма. Сейчас, чутко прислушиваясь к далекому звуку самолетов, он стучит кулаком по столу: — Если это война, то я не буду кропать стишки в тылу. Только фронт... Только... Ты видел, как я стреляю. В бою промаха не дам! В памяти возникает тоннель армейского тира. Оборонная секция Союза писателей проводит соревнования по стрельбе. На линии огня Андрей Малышко и Анатолий Шиян, их сменяют Иван Гончаренко и Вадим Собко. Старый солдат Михаил Семенович Тардов выбивает пять четверок. Спешит к барьеру Семен Скляренко, медленно прицеливается Владимир Сосюра. Победитель Микола Шпак — все его пули попали в яблочко. — Ты смотри, — удивляется Сосюра и карандашиком обводит пробоины. — Так, вот так, — бойкой скороговоркой одобряет меткую стрельбу Скляренко. Пятый месяц в кабинете Шпака рядом с картой Советского Союза висит памятная мишень... Зина заглядывает в окно, кричит с балкона: — Микола, включи радио! Люди говорят — будут важные известия. — Опять говорят... — вскипает Шпак. Он подходит к приемнику и резко переводит рычажок. Появляется Зина с тремя дочерьми. Девочки насторожены. Смотрю на стенные часы. Стрелки сходятся. Полдень. В приемнике легкий шум, потрескивание, и вдруг: — Внимание! Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза! Я почти не дышу. Микола застыл у приемника. По скорбному лицу Зины текут слезы. Да, случилось то, чего опасались все советские люди, — война! Вернее — вероломное нападение. Гитлер верен своей бандитской тактике: вермахт перешел нашу государственную границу без предупреждения. Никаких претензий и переговоров. Язык силы: бомбовые удары и — танки вперед! Зина, всхлипывая, встает с дивана. Окруженная испуганными дочерьми, пошатываясь, идет к выходу. — Они еще пожалеют... эти новые ордынцы, получат свое! — гремит в коридоре Микола. И тишина. Бомбили Киев, Севастополь, Минск... Мысль работает лихорадочно. Где наступает враг? Дан ли ему отпор? Какая обстановка сложилась на фронте? Больше всего тревожит неизвестность. Эх, и надо же в такое время болеть. В редакции мои товарищи, наверное, склонились над картой, собираются на главное направление, а я прикован к постели. Кто-то стучит в наружную дверь — громко, настойчиво. Старик-врач? Но с такой силой! — Что случилось? Кто там ломится? — сердито спрашивает Микола. Оказывается, испортился звонок, и посыльный сержант Хозе с усердием испытывает прочность армейских каблуков, на которых красуются серебристые подковки. Хозе смугл и строен. В пожелтевшем комбинезоне, туго подпоясанный ремнем, сержант стремительной осой влетает в комнату. Говорит быстро, с едва уловимым акцентом, слегка растягивая гласные: — Полковой комиссар товарищ Мышанский приказал... — Ладно, Хозе, вскрывай пакет, я распишусь. Записка редактора «Красной Армии» — газеты Киевского Особого военного округа предельно лаконична: «23 июня в 8 часов утра приказываю прибыть в редакцию». Я приподнимаюсь на локте: — Хозе, кто в редакции? Что слышно? — «Юнкерсы» бомбят точно как в Испании. Когда я мальчишкой покидал Барселону... — Погоди, Хозе, с воспоминаниями. Кто же в редакции? — Я не присматривался. После первой бомбежки получил пакеты и сразу давай баранку крутить. А потом по лестницам бегать, до самых крыш подниматься. Зато вниз хорошо: сел на перила и — с ветерком. Хозе прикладывает руку к пилотке. Четкий поворот — и я уже слышу, как прыгает он по ступенькам, цокая подковками. Что же делать? Как быть? Жду с нетерпением врача. Конечно, он скажет: надо еще полежать. Но я не могу. ...В коридоре шарканье ног, легкое покашливание. — Ну-с? — Врач садится на край постели. — Так-с... Давайте-ка выслушаю... — Но не спешит доставать стетоскоп. — Война, голубчик. Война! — Сухоньким кулачком постукивает по ночному столику. — Ужасно... Ужасно... Я-то знаю ее — кровавую, голодную, тифозную. Японскую видел, германскую пережил и всю гражданскую прошел. Старичок, пожалуй, не станет меня задерживать. А впрочем, зачем мне больничный листок? Все просто: встал и ушел. Врач еще постучал кулачком по столику и, уставясь на акварель Верещагина, неожиданно сказал: — Вначале думал — фальшачок. Внимательно присмотрелся, вижу — отличная вещь. — Окинув взглядом картины, одобрительно кивнул. — Коллекция небольшая, всего-навсего семь вещиц, но подобраны со вкусом. — И дальше продолжал доверительным голосом: — Я, голубчик, сам страстный собиратель, можно сказать, фанатик. А как начал? Прямо-таки удивительно... Служил врачом в Первой Конной. И вот, когда буденновцы вышибли беляков из Крыма... в бывшем полевом госпитале врангелевцев среди мусора и хлама неожиданно увидел жемчужины — этюды Коровина и Левитана! — Он оживился. — И пошла, как говорится, завертелась карусель — крымские базары, комиссионки, поездки в соседние города, поиски и, конечно, находки. Куплю, бывало, картину, а краска рыбьей чешуей шелушится. Сколько там дыр и осыпей — холст светится. Хозяйка удивленно спрашивает: «Ну зачем вам такое сито?» А я, одержимый, мчусь к реставратору. Проходит какой-нибудь месяц, и верите — чудо! Все осыпи и дыры ушли. Даже губитель красок — мебельный лак — снят. Картина живет, сияет. Так вот... Немало я спас полотен и музеям подарил немало. Добрая сотня картин еще висит в моем доме. А сегодня услышал: война. И ничего не мило. Все, чем жил, — потеряло свой смысл. Как мне любоваться живописью, если три моих сына ушли на фронт. — Старичок-врач, спохватившись, достал из кармана стетоскоп и выслушал мои легкие. — Хрипов почти нет... — Пошевелил мизинцем лежавшую на столике записку редактора и глянул на меня в упор. — Однако температура держалась высокая. Если повторится воспаление, то... совершенно незачем спешить на войну. Даю вам законную отсрочку, на пять дней. Следите за температурой и постарайтесь не простудиться. — Короткий поклон. — Будьте здоровы, голубчик. За окном снова шум, похожий на сильный ливень. Идет колонна новобранцев. Встану. Хватит лежать. Сегодня — разминка, а завтра — поход. Томительно тянется время. Монотонно тикают стенные часы. Медленно темнеет небо, и сгущаются необычные городские сумерки: Киев не зажигает огней. Внезапно на стене противоположного дома вспыхивает свет. Раздается крик, потом свисток, и одуванчик фонаря исчезает. Увижу ли я вновь освещенный огнями Киев? Когда окончится война? Об этом сколько не думай — все остается загадкой. В полночь на большой высоте проходят вражеские бомбардировщики. Я никогда еще не переживал такой ночи, наполненной шарящими лучами прожекторов, воем сирен, гулом самолетов и разрывами зенитных снарядов. Воздушная тревога! Отбой... Снова тревога и снова зыбкая тишина. Лежу, прислушиваясь к милицейским свисткам и четкому шагу патрулей. Сон бежит от меня, но есть утешение: июньская ночь коротка, скоро станет светать. Мысли... Мысли... Цепкая память восстанавливает прошлое. Возникает палуба морского парохода. Сигналя, он входит в гирло Днепра. Герой Перекопа, чудесный венгр Матэ Залка стоит у высокой мачты. Справа — светлая днепровская вода, слева — черная морская. Пламенеет закат. И хорошо видно, как по всему гирлу Днепра летят белогривые кони. Скорей, скорей из темницы на волю. А навстречу буруном шумит разъяренный морской табун. И там, где они сшибаются, пронзительно кричат чайки. На ветру гривы коней превращаются в гребни волн, а следы от копыт — в пенистые воронки... Отчетливо слышу голос Матэ: — Мир сейчас разделен, как эта вода, на светлую и черную силы. С палубы морского парохода память переносит на опушку векового леса. Окончен освободительный поход в Западную Украину — наши танки где-то за Дрогобычем вышли на новую границу. Только узкая дорога отделяет нас от черной силы. В сумраке вспыхивают десятки огней, и на фоне зубчатого пламени отчетливо видно, как фашисты грабят село. А потом... Солдаты фюрера справляют победный пир у походных костров, и губные гармоники разносят вальсы Штрауса. Может, эти мародеры уже пируют в наших селах? За окном сереет небо, и, наконец, в предрассветном затишье наплывает сон. Какие-то неугомонные кузнечики не дают мне покоя. Скачут и скачут. Звенят и звенят. Открываю глаза. Дребезжит старый, разгневанный будильник. Тянусь к ночному столику, нащупываю термометр. На кой шут он?! Беру стакан и наливаю из термоса чай. Жую почти резиновой крепости кусок сухой колбасы. В путь собираюсь недолго. Главное — блокнот, самописка, бритва, мыло и полотенце. Все вместилось в маленьком чемоданчике. Не глядя, беру с полки книгу. Александр Блок. Наугад открываю страницу. Какую же загадать строку? Двенадцатую снизу. Вот она... Читаю вслух: «Я не первый воин, не последний». Повторяя про себя так неожиданно сверкнувшую блоковскую строку, поворачиваю в замке ключ. Выхожу из парадного и носом к носу сталкиваюсь с Миколой. — Ты пошел? — Пошел, Микола. — Скоро и я... Может быть, встретимся? Во дворе тихо. Писательский дом после тревожной ночи еще не проснулся. Оглядываюсь. Микола стоит на крыльце. Машет мне рукой. Из окна нижнего этажа выглядывает с намыленной щекой прозаик. Артистический жест — и хорошо поставленным голосом он говорит: — Приветствую поэтов, приветствую воинов, — и, закрывая мохнатым полотенцем воспаленный, с экземными чешуйками подбородок, прячется за листьями чайной розы. Кто мог тогда знать: пройдет несколько месяцев — и хорошо поставленный голос зашипит на страницах нацистской газетенки. И, получив гитлеровский паек, обладатель поставленного голоса будет прятаться за чайной розой, пересчитывать у окна ячменные зерна и морить голодом свою жену, ребенка. По знаку предателя в этом дворе гестаповцы схватят партизана по кличке Комашка. Эх, Микола, Микола!.. Стоишь ты в белой косоворотке, добрый сердцем и русокудрый, в двух шагах от подколодной змеи. Поведут тебя на расправу новые ордынцы в мундирах мышиного цвета, и поставленный голос ужалит: — Ага, попался, партизан! На прощание еще раз оглядываюсь. Микола машет и машет рукой. Кое-как добираюсь к троллейбусной остановке. Все-таки осилил первый большой переход. В троллейбусе отдохну, а там — трамвай помчит на Печерск, остановится у Лавры. Еще один такой переход — и я в редакции. Под каштанами на улице Ленина толпится народ. Тесно на широких тротуарах Крещатика. Все куда-то спешат с узелками, корзинами, чемоданами. На лицах настороженность, тревога. Тяжело смотреть на проводы новобранцев. На троллейбусной остановке обнимает сына старушка-мать, мечется молодая женщина с маленьким ребенком на руках, прощаясь с мужем. На Комсомольской площади долго жду трамвая. Как всегда,позванивая, красный вагончик медленно сползает с горы. Возле Дома обороны какой-то шум. Кричат женщины, размахивая лопатами. Кого-то схватили, ведут. — Шпион! — гудят голоса. Кто-то силой пробивается сквозь толпу. Это вызывает ответную ярость: — Крепче держи его! — Не пускай! Вдруг из трамвайной очереди по-ястребиному проворно выскакивает невысокий, чуть сгорбленный наш ответственный секретарь Урий Павлович Крикун. Он опрометью бросается к толпе. — Не сметь! — взвизгивает тоненьким голоском батальонный комиссар. — Не трогать! Толпа неохотно расступается. Я с трудом спешу к Урию Павловичу на помощь. — Человек наш. Ручаюсь за него. Понимаете, свой он, свой, — успокаивает Урий Павлович не на шутку разъяренных женщин. Гул толпы затихает. — Если вы ручаетесь, значит, свой, — смягчается пестрая косынка. — Уж больно похож на фрица — блондин и глаза голубые, — оправдывается белая блузка, усеянная крупным красным горошком. — Вы так всех женихов перекалечите, — укоряет слишком бойких девушек Урий Павлович. Между тем, сквозь толпу, согнувшись, пробирается художник Казимир Генрихович Агнит-Следзевский. Я знал его как изобретательного оформителя книг и острого газетного карикатуриста. Подписывался он всегда: Агнит. Его рисунки часто встречались и на страницах юмористических журналов. Садимся в трамвай и, пока он тащится на Печерск, пытаемся шутками развеселить мрачного Агнита. Какая-то ловкая девчонка успела сильно ударить под ребро. Только на конечной остановке художник начинает усмехаться: «Чем Агнит знаменит? Он лопатами бит». — А все-таки, маэстро, вы сами виноваты, — выскакивая из трамвая, говорит Крикун. — Высмеивали в своих карикатурах нелепые поступки людей, а сами допустили непростительную небрежность — на пилотке нет звезды, гимнастерка без петлиц. У народа зоркий глаз. Вот и поплатились. Подходим к редакции. Двери всех гаражей и складских помещений — настежь. Начальник издательства подполковник Марк Михайлович Лерман бурно объясняется с нерасторопными грузчиками, никому не дает спуска. Его опытный глаз, натренированный долголетней хозяйственной службой, замечает малейшую оплошность. — Государственное добро, государственное! — на весь двор гремит Марк Михайлович. — Как ты грузишь, как?! Помятая банка типографской краски вызывает у него ярость. Крикун, здороваясь, подает руку, но Лерман с криком: «Не мешай!» — бросается к головному грузовику и откидывает брезент: — Стоп! Не так уложены банки с краской, не так! Где этот разбойник старшина Богарчук?! — И начальник издательства громом влетает в склад. Марк Михайлович обладает оглушительным голосом, но вместо «р» выговаривает «и». Порой его грозные замечания вызывают у подчиненных только улыбку. Я с частыми остановками поднимаюсь на третий этаж. В конце длинного коридора — широкое, освещенное солнцем окно. И там, как на ярком экране, вижу Миколу Бажана, Андрея Малышко, Вадима Собко, Савву Голованивского и Бориса Палийчука. — Кто бы мог подумать? Кто? — говорит Бажан. — Трудно даже поверить. Без объявления войны... Уже льется кровь. — А верить приходится. — Собко то разматывает серебристую цепочку с ключиком на конце, то снова наматывает её на указательный палец. — С выздоровлением, старина, — говорит мне Палийчук. — Как самочувствие? — спрашивает Малышко. В карих глазах Андрея напряженность. В минуту тревоги у него всегда появляется складка на лбу. Вот и сейчас она глубокая, резкая. Хочет что-то сказать, но подскакивает Крикун. Поправляя на ходу вечно спадающие очки, обращается к Бажану: — Микола Платонович, зайдите, пожалуйста, к редактору. Совещаются у редактора очень долго, а нам не терпится узнать, что же происходит на фронте. Все мы почему-то уверены — на редакторском столе лежит первая военная сводка, и, конечно же, сейчас там обсуждают сложившуюся обстановку. Я стою у окна, а мои товарищи молча прохаживаются по коридору. Наконец из редакторского кабипета выходит Крикун. Дружно берем его в кольцо. — Ничего особенного сообщить не могу, — разочаровывает Урий Павлович. — Однако... — загадочно продолжает, — кое-что есть и для вас немаловажное... Отныне в редакции существуют только три отдела — фронтовой жизни, партийный, информации. — И тут же сообщает другую новость: — Организовано фронтовое радиовещание. Там будут работать писатели Иван Ле, Леонид Первомайский, Михаил Тардов и Яков Качура. Могу еще добавить: большая группа писателей во главе с Миколой Платоновичем Бажаном поступает в распоряжение ЦК КП(б)У. Уходит с Бажаном Собко, прощается Малышко. Я провожаю его к выходу. Он с горечью говорит: — А мы собирались с тобой снова провести лето в Прохоровке. Крючки купил и запасные лесы, удочки приготовил. Когда же теперь на зорьке пойдем на ту песчаную косу, где так славно ловился подуст? Наверно, не скоро увидим шевченковский дуб и тот обрыв, над которым шумит сосна Гоголя. Слушаю его и так ясно вижу благодатное приднепровское село в ярко цветущих подсолнухах. И все те укромные стежки-дорожки, по которым, чуть свет шагали к Днепру, и ту лодочную стоянку, где часто встречали мудрого деда Гуру — старого матроса с «Очакова». По вечерам, у рыбачьего костра, Андрей любил петь старинные песни. Немало их знал Малышко, но поражал своей памятью и дед Гура. — У меня сейчас такое чувство... помнишь, когда Тарас Бульба со своими сыновьями поехал на Сечь и они, покидая родные места, оглядываются. — Карие глаза Андрея темнеют, на лбу появляется резкая складка. — Ты помнишь? «Вот уже один только шест над колодцем с привязанным вверху колесом от телеги одиноко торчит в небе; уже равнина, которую они проехали, кажется издали горою и все собою закрыла. — Прощайте, и детство, и игры, и все, и все!» С разгона, тигровыми прыжками берет крутую лестницу лейтенант Иван Поляков, останавливается на площадке, кричит: — Старшина Богарчук несет ящики с оружием! Сейчас получать будем. — Какое оружие? Где оно? — выскакивая из коридора, живо интересуется заведующий корреспондентским пунктом «Известий» Осип Готлиб — человек могучего телосложения. Он в хорошо выглаженном черном костюме, в белоснежной рубашке с темной бабочкой. Длинные волосы аккуратно причесаны. Готлиб всем своим видом напомипает почему-то строгого пастора. — Слушай, давай не будем прощаться, — говорит мне Малышко, — так лучше, скорей встретимся, — и он нащупывает ногой ступеньку. — Где же обещанное оружие? Где? — спрашивает Осип Готлиб. Спускается на нижнюю площадку и оттуда кричит: — Несут! Несут! Семеро бойцов под руководством старшины Богарчука вносят в красный уголок тяжелые ящики. Я начеку. Вот-вот в коридоре должен появиться Урий Павлович Крикун. Только что в редакторский кабинет важно проследовал недавний начальник отдела боевой подготовки батальонный комиссар Виктор Николаевич Синагов. Сегодня он получил повышение по службе — стал заместителем ответственного редактора. Только что побывал в политуправлении, вернулся оттуда с каким-то пакетом. Может быть, Синагов привез сводку о положении на фронте? Если это так, то Крикун должен кое-что знать. Выйдя из редакторского кабинета, Крикун взглянул на меня, усмехнулся: — Вы действуете, как самолет-перехватчик. Разве не знаете? Я умею читать чужие мысли. — Он развел руками. — Ничего нового нет. Редакция надеялась получить хоть какую-нибудь информацию от наших ребят Выглазова и Вирона. Они уже в Полевом Управлении фронта. Но... Тернополь молчит. — Пристально взглянув на меня, добавил: — Голубчик, надо отдохнуть, набраться сил. Я хочу предложить вам диван в моей каморке, где хранятся газетные подшивки. Вот ключ. Устраивайтесь. Поблагодарив Урия Павловича, пошел получать оружие. — Где же вы были? — сокрушенно покачал головой Богарчук. — Приписники разобрали все пистолеты и винтовки. Остались одни револьверы. Возьмете наган? — С удовольствием. Он безотказный. Я расписываюсь в получении оружия, а за моей спиной клацают затворы. — Беда, прямо-таки дети... Будто елочные игрушки получили, — старшина торопливо сворачивает в трубку ведомости. — Была б моя власть, всех бы поставил по команде смирно. Только я положил в брезентовую сумку две гранаты, как в комнате раздался оглушительный выстрел. Под высоким потолком лопнул матовый шар, брызнули мелкие стекляшки. От близкого выстрела старшина Богарчук оглох на правое ухо и усердно чертыхался. Похожий на пастора Готлиб выглядел так, словно его застукали прихожане наедине с легкомысленной девицей. В его руках дымилась винтовка. — Что же делать? — растерянно произнес он. — Фу ты... Неосторожный выстрел! В красном уголке! Разлетелся вдребезги большой матовый шар с тремя электрическими лампочками. ЧП! Мы еще жили понятиями мирного времени, все чувствовали неловкость, думали: сейчас соберется вся редакция. «Доигрались, субчики-голубчики». И полковой комиссар Мышанский начнет нас стыдить, отчитывать. Поглядывая на дверь, больше всего опасаюсь появления заместителя ответственного редактора Виктора Николаевича Синагова. Если сюда заглянет он, то часика два придется нам, не выходя из этой злополучной комнаты, разбирать и собирать винтовку. В коридоре шаги. Все притихли. Скрипит дверь. Сперва показывается нос, потом козырек фуражки. На пороге — Урий Павлович. — Что здесь, собственно говоря, происходит? — Под сапогом у него хрустят кусочки стекла. Ответственный секретарь смотрит на потолок. Там еще покачивается одинокий медный круг. — Будьте весьма осторожны. — Крикун грозит пальцем и уходит. Беру сумку с гранатами, несколько пачек патронов, завернутый в промасленную пергаментную бумагу наган и отправляюсь в свое убежище. Каморка, где хранит Крикун газетные подшивки, тесная. До самого потолка загромождена широкими полками. Душно, открываю форточку и падаю на диван. Вскоре сержант Хозе приносит котелок рисовой каши. — Ты что, Хозе, на целую роту? — Так больше ничего нет в столовой. А батальонный комиссар Крикун говорит: «Достань, Хозе». Что я могу достать? Когда все закрыто. А другие товарищи тоже настаивают: «Прояви, Хозе, инициативу». — Какие товарищи? — Они идут сюда. — Привет тебе, приют священный, — входя в каморку, выводит чистым приятным баритоном могучий казачина Иван Поляков в ладно пригнанной кавалерийской форме. Из-за его широкой спины показывается усеянный веснушками Михаил Нидзе. Он, как всегда, снимая пилотку, проводит расческой по своим буйным кудрям цвета красной меди. А за ним переступает порог широкобровый Владимир Шамша. Он шуршит бумагой и ставит на нижнюю полку изящный белый кувшинчик с маленькими стопочками. — Прошу прощения, во всех ближних киосках, как сговорились, — одна сувенирная тягучка. — Шамша наполнил стопочки густым ликером. — За выздоровление! — Немного помолчал. — И чтобы мы все вернулись в наш Киев с победой. После чая и горячей каши я моментально засыпаю. Сквозь сон слышу топот ног, пальбу зениток, бомбовые удары. Дом дрожит и качается. Но я на дне глубокого сна. Просыпаюсь и вижу: в струистых ветвях березы тлеет закат. Долго же я спал. В каморку заглядывает Борис Палийчук. — Ну, знаешь... Ты иголка в трех стогах сена... Еле нашел. После освободительного похода в Западную Украину, как-то встретившись с Борисом Палийчуком в Клубе писателей, предложил ему пойти работать в красноармейскую газету. Он согласился. Я доложил редактору. Тот дал свое «добро. С тех пор мы с Борисом почти неразлучны. Ездим в дивизии, вместе пишем очерки и стихи. Ведем в газете уголок юмора. Наш герой — бывалый воин Антон Протиркин — завоевал в округе известность. На редакционных летучках уже не раз отмечались наши юмористические стихи. Один только начальник издательства Марк Михайлович Лерман продолжает усматривать в печатании стихов «ненужный расход денежного довольствия» и, несмотря на все наши протесты, выплачивает гонорар всего по двадцать копеек за строчку. В каморку заходит, запыхавшись, Аким Гончарук. Он быстро летел по лестнице, спешил заглянуть в подшивку «Красной звезды». С досадой осматривает полки — нужную увезли в редакционный поезд. На груди у Гончарука орден Красного Знамени. Награда немалая, и получил он ее за подвиг в бою на озере Хасан. В редакции ходит молва: Аким отличный пулеметчик, даже снайпер. Так ли это? Я не знаю. Но газетчик он настоящий и товарищ на редкость надежный, о таком человеке говорят: «С ним я пошел бы в разведку». Оказывается, на секретарском столе у Крикуна Аким видел важные материалы. На первой полосе пойдут Указы Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации, о введении военного положения в ряде местностей страны. Гончарук коротко пересказывает содержание приказа командующего Юго-Западным фронтом. Герой Советского Союза генерал-полковник Михаил Петрович Кирпонос обратился к войскам с призывом разгромить зарвавшегося врага. Аким слышал: звонили из РАТАУ — поступила первая сводка Главного Командования Красной Армии. — Сколько нового, ошеломляющего... — роняет Борис Палийчук. Дверь, чуть не слетев с петель, распахивается настежь. — Приготовиться! Всем приготовиться! Скоро выезжаем на фронт. — Крикун возбужден и, даже не замечая, больно тычет мне в грудь толстым секретарским карандашом. — Поедете со мной в «эмке»... — Когда? — Час еще точно не установлен... Ждите сигнала. Я остаюсь в комнатушке один. У меня все приготовлено к походу. Долго не слышно никакого сигнала. А что, если в суматохе Урий Павлович забудет меня в этой каморке, словно старую подшивку? Эта мысль заставляет вскочить с дивана. Приподнимаю плотную штору. Во дворе все машины выстроены в ряд, боковые дверцы закрыты, в кабинах не видно водителей. Пожалуй, Крикун перестарался, рано забил тревогу. Томительно тянется время. Раскрываю на диване подшивку, которая так славно служила мне вместо подушки. Всматриваюсь в газетную страницу. Что это? В лучах слово «Красная». Под ним крупно набрано «Армия». Над чуть растянутой вогнутой буквой «м» — пятиконечная звезда. Это же комплект «Красной Армии» времен гражданской войны! Пожелтевшие страницы гремят орудийными залпами. «Красный фронт», «Оперативные радиосводки», «Борьба с Петлюрой», «В стане Врангеля». С интересом перелистываю страницы. Газетная бумага сменяется грубой оберточной. На Правобережной Украине на красные войска наседают банды петлюровцев и гетманских сечевиков... И вот уже газета печатается на толстой синей бумаге — я видел такую в харьковских бакалейных магазинах, в нее заворачивали сахарные головы. На юге развивает наступление белый генерал Деникин. Он подходит к Киеву, и накануне сдачи города редакция переезжает в Новозыбков. Не хватает наборщиков, на исходе «сахарная» бумага. В глаза бросаются строчки: «Вот-вот на радость буржуям умрет красный трубач. Но боевой сигнальщик живет. На помощь приходит начдив Николай Щорс. Он приказывает оборудовать для газеты специальный поезд, чтобы с колес печатное слово шло прямо в полки». А за окном — гул моторов. Неужели сигнал к отъезду? Приподнимаю шторку. Водители опробуют моторы и, убедившись в их исправности, покидая кабины, хлопают дверцами. Ложная тревога. Прислушиваюсь. Где-то за стеной приглушенно звенит гитара и тихо-тихо поет Поляков: «В саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть». Какой хороший голос у этого казачины... Принимаюсь опять перелистывать газетные страницы. В жаркий августовский день у села Белошины, под Коростенем, на руках у Ивана Дубового умирает легендарный комдив. «Щорс вскинул бинокль, пытаясь обнаружить позицию петлюровского пулеметчика. Бинокль выпал из рук Щорса, и голова его поникла. Николай Щорс прожил ещё пятнадцать минут и, не приходя в сознание, умер». С тяжелым чувством переворачиваю страницу. Вот уникальный снимок — три красноармейца с гранатами в руках стоят на броне захваченного ими белогвардейского танка. На борту бронированной громадины выведено белой краской: «За Русь Святую!» И лаконичная текстовка: «Захвачен и послан в качестве трофейного подарка в Москву В. И. Ленину». Стараюсь рассмотреть лица красноармейцев. На давнем снимке трудно узнать, молодые они или старые, эти сильные духом люди. У одного фуражка без козырька и обмотки размотались. Вороты гимнастерок распахнуты — жарко. Листаю дальше: командующий Южным фронтом Михаил Васильевич Фрунзе говорит жителю Строгановки Ивану Ивановичу Оленчуку: «Смотрите же, дорогой. Проводите войска. Я надеюсь на вас». Старый соляр Оленчук ночью через Гнилое море — Сиваш — ведет головной отряд 15-й дивизии. Ветер меняет направление, с востока наплывает туман, в Сиваш катятся волны Азовского моря. Оленчук чутьем угадывает брод... Последняя газета — 17 ноября 1920 года. На первой странице броская шапка: «Полный разгром Врангеля!» Нет, это еще не последняя. Кто-то аккуратно приклеил к толстому картону карманчик и вложил туда юбилейную. Она вышла через десять лет после победы над черным бароном. Интересно! Первыми редакторами «Красной Армии» были профессиональные революционеры, члены партии с 1899 года. Кончилась гражданская война — и они полномочные послы в Италии, в Норвегии и Швеции. А какие находчивые корреспонденты! Интервью с Фрунзе, беседы с Горьким, Барбюсом, Кашеном. И как все живо, увлекательно написано. Обидно, что подшивка попалась мне на глаза так поздно. Как мало я знал о своей родной газете. — Выходи строиться! — по всем этажам и лестничным клеткам — снизу и сверху звучит команда. Кладу на полку подшивку. «Да, были газетные асы! У них можно поучиться чувству долга, оперативности и умению выполнять самые трудные задания». Беру сумку с гранатами, наган. «Я не первый воин, не последний...» И, повторяя про себя блоковскую строчку, спускаюсь по лестнице. Двор гудит голосами и моторами. Полковой комиссар Иван Иванович Мышанский, отдав последнее приказание водителям, садится в головную машину. — Поехали! — звучит его зычный голос, и редакционная колонна трогается. Ночь теплая. От яркой луны — воздух лимонный. Белеют стены. Над верхушками тополей шеломом былинного богатыря поблескивает золотой купол звонницы. За рулем Хозе похож на проворного ястребка. Хотя июньская ночь светла, но езда в колонне без фар, с неожиданными остановками, требует осторожности. Хозе внимателен и молчалив. Крикун нервничает. Он долго, не закуривая папиросу, как дятел, постукивает мундштуком по крышке серебряного портсигара. Тук-тук... Тук-тук... Промелькнула исклеванная гайдамацкими пулями знаменитая стена «Арсенала». На Крещатике дом с белыми колоннами и широким балконом напоминает мне о литературном вечере. Совсем недавно в переполненном зале городского Совета звучали стихи и сиял электрический свет, а сейчас он тих и темен. Грустно. Все хорошее в прошлом. На бульваре Шевченко Хозе проронил: — Легли на курс. Крикун наконец закурил. Он съежился и зарылся в шинель. Затемненный город кажется незнакомым и совсем необычным. Лунный бульвар, лунные улицы и... только патрули да разъезды конной милиции.. На рассвете по гранитным глыбам, разбросанным вдоль дороги, узнаю Коростышев. Басит под колесами мост. Внизу вьется Тетерев. Его берега скалисты и круты. — Что там такое? Вы ничего не слышите? — спросонья спрашивает Крикун. — Воздушная тревога, — невозмутимо отвечает Хозе. Где-то возникла пробка, и наша редакционная колонна останавливается. Машины усиленно сигналят. — В укрытие! — кричит Урий Павлович, сбрасывая шинель. Мы выскакиваем из «эмки». Слишком поздно искать убежище. С моста в Тетерев не прыгнешь: высота солидная — дух захватывает. А в небе свистит немецкий самолет. Ои скользит над шоссе, идет прямо на мост. Все ближе, ближе — длинная, тощая, пепельно-желтая змея. Жалом кажется красный кок винта. «Мессершмитт»! Идет на бреющем. Вот он чуть вздрогнул. Сейчас полоснет пулеметной очередью. Я чувствую противную сухость во рту, жар печет губы. А «мессер», посвистывая, проносится над мостом и, не открывая огня, уходит. — Ах ты, проклятый свистун. Как напугал... Так незаметно, по-воровски подкрался. — Урий Павлович поправляет съехавшую на затылок фуражку. В машине он удивляется: — Собственно говоря, почему он не стрелял? — Это не охотник, а разведчик. В глубоком тылу он не обстреливает, больше высматривает. — Пожалуй, вы правы, — соглашается со мной Крикун и снова зарывается в шинель. На горизонте Житомир. Вблизи шоссе на топком лугу свежие бомбовые воронки. Они настораживают. Круглые, черные ямы с болотной водой напоминают котлы, в которых застыла смола. На станции — скопление составов, и там, без устали посвистывая, пыхтят маневровые паровозы. Улицы, в большинстве застроенные одноэтажными домами, только начали оживать. На траве, на кустах и на клумбах — плотная серая пыль. Мостовая в темных масляных пятнах — прошли танковые колонны и оставили свой след. За городом солнце припекает все сильней и сильней. В степи жара и удушливая пыль. Обгоняем обозы — тылы каких-то частей, а потом долго стоим возле железнодорожного переезда, ждем, пока уберут с пути поврежденные бомбежкой вагоны. За Винницей короткий привал. Экономный и прижимистый Лерман выдаст на редкость скудный сухой паек. На все протесты, не повышая голоса, твердит: — Ты наркомовскую норму знаешь? Получай положенное. Никто из сотрудников редакции точно не знает «наркомовской нормы», и Лерман легко выходит из словесной перепалки победителем. Полковой комиссар Иван Иванович Мышанский разговаривает с подчиненными резко. График движения нарушен. Под угрозой своевременный выход газеты. Редактор бросает колкие слова водителям. Но что они могут поделать? На железнодорожных переездах пробки, пробки и пробки. Вот и крути баранку, попробуй проскочить забитые вагонами полустанки. А впереди еще больше двухсот километров пути, и легко можно попасть под бомбежку. Редактор принимает решение: легковые автомобили выстраиваются в отдельную колонну. Медлительные, тормозящие движение грузовики образуют второй эшелон, меня назначают командиром головной машины. Легковушки вихрят пыль и уходят. Я сажусь в кабину грузовика. Его водитель Иван Индык — могучий медлительный детина. Покончив с бутербродом, он включает мотор и принимается в пути за пшеничные сухари. Индык способен умолоть кольцо колбасы, а потом с невинным видом спросить у старшины Богарчука: — А где моя порция? Всматриваюсь в небо. Оно пока чистое. Прислушиваюсь. Нет, самолетов не слышно. На зубах запасливого Индыка похрустывают и похрустывают сухари. Течет и рябит вымощенная булыжником дорога. Все спокойно. Постепенно напряжение спадает. Глубокой ночью въезжаем в Тернополь. Водителям город знаком, и вскоре на его западной окраине находим редакционный поезд. Попыхивает движок, мерно работает ротация, по насыпи прохаживаются патрули. Здравствуй, фронтовая редакционная жизнь! Кабинет редактора находится в купе плоскопечатного цеха. Захожу и докладываю о прибытии второго эшелона. — Можете отдыхать, — бросает Мышанский, не отрываясь от газетной полосы, пахнущей свежей типографской краской. Иду в спальный вагон — жаровня. В мягком купе духота. Младший политрук Владимир Буртаков, спускаясь с верхней полки, ворчит: — К дьяволу эту баню, пойду спать в другое место. Вслед за Буртаковым я тоже покидаю спальный вагон. Спускаюсь с железнодорожной насыпи и от караульного начальника узнаю: в распоряжении редакции есть еще домик и клуня. Ночь теплая, лунная и пока тихая. Деревянный домик стоит на отшибе. Он окружён хлебами. В саду нахожу клуню. Боже, все луговые цветы и травы подарили ей свой аромат. Просто не верится: почему же никого не прельстило молодое пахучее сено?! Зарываюсь поглубже, и кажется — пью душистый чай, еще глубже, глубже — какие-то сухие цветики пахнут медом. После пыльной дороги не могу надышаться настоем степных трав. Сквозь сон слышу короткие автоматные очереди, пистолетный выстрел, чей-то крик: — Стой, стой! И все смолкает. Просыпаюсь от шелеста и хруста. Кто-то разбрасывает надо мной сено. Крикун. — Кажется, я нашел вас на седьмом небе... Вставайте! Собственно говоря, есть срочное задание. — Какое? Но Урий Павлович уже внизу шелестит сеном: — Скорее! Ничего не поделаешь, приходится расставаться с уютным сеновалом. Выхожу из клуни и вижу: в саду, у походной кухни, с котелками и кружками собрались почти все сотрудники редакции. Из разговоров узнаю: в эту ночь начальник караула дважды подавал команду «в ружье». На ближней улице диверсанты обстреляли дом, в котором поселились летчики. А утро на редкость мирное: под крыльцом кудахчут куры, на заборе поет петух. Ветви старой груши нависают над крышей деревянного дома с просторной верандой, украшенной вверху ромбиками цветных стекол. Над этой сияющей радугой резной карниз приютил ласточек, они с бойким щебетом вьются у гнезд. Вблизи сходятся две пыльные полевки и дальше в хлебах образуют широкий, накатанный шинами тракт. А за ним возвышается усеянная сплошной жужелицей насыпь и там — броская зелено-красная лента редакционного поезда: семь пассажирских и пятнадцать товарных вагонов. Кто выбрал такую неудачную стоянку?! Никакого укрытия и никакой маскировки! А что, если поезд заметят «юнкерсы»? Зениток у нас нет. В распоряжении караула всего лишь два ручных пулемета. Их огонь вряд ли отгонит вражеские пикировщики. Мне вспоминаются многие наши стоянки во время освободительных походов в Западную Украину и Бессарабию — укромные и тенистые железнодорожные ветки на сахарных заводах. И небо тогда было спокойное. А сейчас оно вот-вот зазвенит натянутой до предела струной. Опасно! Пока я рассматриваю так беспечно выбранную стоянку из кустов сирени появляется Крикун. Подходя ко мне, он торопливо перелистывает блокнот: — Слушайте внимательно! В четыре часа двадцать пять минут звено старшего лейтенанта Ивана Ивановича Иванова не позволило противнику разбомбить наш аэродром. Запомните! У нас три истребителя, у противника девятка пикировщиков... Когда у Иванова кончились боеприпасы, пошел на таран. Настиг бомбардировщик и винтом отрубил ему хвост. Да, вот еще одна немаловажная деталь, — спохватился Крикун. — Она может вам пригодиться. Бой проходил в небе над той местностью, где знаменитый поручик Нестеров впервые в истории авиации таранил австрийский самолет. — Летчик Иванов жив? Крикун потупился: — К сожалению, погиб. Итак, размер стихотворения — двадцать строк. Через час необходимо заслать в набор. — И фуражка Крикуна уже мелькает в кустах сирени. Я нахожу под грушей тенистое местечко и раскрываю блокнот. Но попробуй сочинить стихи, когда в беседке старший политрук Петр Кисиль выдает корреспондентам карты Генерального штаба Красной Армии! Разве можно устоять от соблазна получить новенькие, хрустящие пятикилометровки? К тому же Иван Поляков уверяет: — Судьба каждого корреспондента поставлена на карту. Выпадет тебе Львов или Дрогобыч, туда и пошлют. Это уже твой участок фронта. Я получаю карту. Смотрю — Ковель. На этом направлении должны действовать части Пятой армии генерал-майора танковых войск Михаила Ивановича Потапова. Зимой я бывал в полках этой армии с Иваном Ле и Михаилом Тардовым. Наша писательская бригада наперекор трехдневной вьюге провела творческие встречи с воинами дальних гарнизонов. А потом в Луцке нас принял командарм Потапов и пригласил на товарищеский ужин. Пришел начальник штаба генерал-майор Писаревский и член Военного совета дивизионный комиссар Никишев. Они оказались начитанными и остроумными людьми. Возвратясь в Киев, долго вспоминали встречу с генералом Потаповым и его ближайшими помощниками. Я сложил карту в гармошку. Очевидно, меня пошлют в Пятую армию... Это хорошо. Возможно, встречу знакомых бойцов уже героями сражений и смогу написать о них совсем необычные стихи и очерки. Какие? Будущее покажет. Надо увидеть поле боя, почувствовать его, поговорить в окопах с воинами. На фронте и жизнь иная, и необычное всюду. А пока слышу тревожное: на Сокальском направлении фашисты вбили в нашу оборону танковый клин. Пытаются его расширить. И обнадеживающее: в Терпополь прибыл Жуков. Георгия Константиновича видели в штабе фронта. Говорят: начальник Генерального штаба выехал на передовые позиции. Энергичный, решительный Жуков рубанет по вражескому клину! А ведь не так давно... Я мысленно переношусь в Киев, в освещенный огнями зал. Звучит песня о Жукове, которую я написал совместно с Борисом Палийчуком. В первом ряду партера сидит Жуков. После концерта командующий округом быстро уходит, и неизвестно, понравилась песня ему или нет. На следующий день набираюсь смелости, звоню Жукову: — Георгий Константинович, с вами говорит один из авторов песни. Вы слушали ее вчера. Нас интересует ваше мнение. — Песня понравилась. Она правдива. В гражданскую войну я действительно был лихим рубакой. Хлопает калитка, и в саду появляется капитан Леонид Вирон. Даже в полевых условиях он не теряет армейского лоска. Русый чубчик вьется, на новеньком мундире — ни пылинки, ни соринки, а сапоги, старательно начищенные бархаткой, могут заменить зеркало. Леонид Вирон приносит новость: — Крикун формирует фронтовые бригады. Сегодня в действующую армию поедут первые корреспонденты. — А кто? — Куда? — Тайна. — Пойдем к Урию Павловичу. К такой поездке надо заранее готовиться. Пошли, братцы, пошли. Вирон, важно вышагивая по тропинке, охлаждает ретивых: — Я пытался что-нибудь выудить. Не вышло. У него на все вопросы один ответ: «Собственно говоря, все в свое время. Возвратится из штаба редактор, узнаете». — Крикун, конечно, ничего не скажет, — раздаются недовольные голоса. — А вы знаете, какими словами кончается «Граф Монте-Кристо»? — спрашивает Вирон. — Ага, не знаете! — И победоносно выпаливает: — «Вся человеческая мудрость заключается в двух словах: ждать и надеяться». Работа моя над стихами не движется. С полным котелком гречневой каши рядом со мной, в тени, по-походному располагается лихой кавалерист Иван Поляков. Смахивая с черных усиков разваренные крупинки, он говорит: — Смотрю на тебя, а ты такой задумчивый, даже очень грустный. О чем печалишься? Крикун на фронт не посылает? И ты скис! Мы еще поездим, повоюем. Решаю бежать в клуню. Поляков — говорун, сорву задание. А жара звереет. В клуне спресованная духота, зато можно уединиться. Тихое местечко помогает. Перечитываю написанное. Как бы это получше передать напряжение воздушной схватки. Я был на Львовщине, там, где совершил первый в мире таран поручик Нестеров, а сейчас повторил его старший лейтенант Иванов, помню ровное-ровное поле и на горизонте темные слитки лесистых холмов. Найдена последняя строчка. Теперь можно покинуть душную клуню. Знаю, Крикун любит точность. Уже поглядывает в секретарском купе на часы. В запасе у меня пять минут, успею показать стихи Палийчуку. — Прочти, Борис. — Ну что ж... По-моему, хорошо. Вот только эти две строчки... — Он немного подумал. — Понимаешь, лучше так... В купе редакционного поезда, взглянув на часы, Крикун одобрительно кивнул, постучал толстым секретарским карандашом о столик, молча вычеркнул лишнюю запятую и отправил стихи в набор. А за окном громоздкий ЗИС-101 тянул к поезду серую полоску пыли. Заслышав шум автомобиля, Урий Павлович вскочил: — Пошли... Полковой комиссар Иван Иванович Мышанский приказал всем корреспондентам собраться в садике. Сидим на солнцепеке и даже не чувствуем тридцатиградусной жары. Лица вытянуты, напряжены. — На Сокальском направлении идут ожесточенные бои. Слушаю редактора, не отрывая взгляда от карты. Сокаль... Сокаль... Вот оно, небольшое местечко на Западном Буге. — В районе Устилуга стрелковая дивизия генерала Алябушева продолжает удерживать государственную границу, — долетает голос редактора. Устилуг... Устилуг... Вот он! Почти рядом Владимир-Волынский... Бои идут на широком фронте. Приблизительно восьмидесятикилометровая пограничная полоса в огне. Сердце стучит гулко-гулко. Тревога нарастает и нарастает. — Какой бы ни была напряженной и острой оперативная обстановка, святое дело фронтовой газеты — укреплять веру в нашу победу. — Развернув листок, редактор называет фамилии корреспондентов, которые должны выехать в действующую армию. Буртаков толкает меня локтем: — Мы в резерве. Как же так? Я огорчен не менее Буртакова, но не подаю виду. А вспыльчивый Владимир взрывается: — К черту резерв! Знаю, это штучки Крикуна. Буду протестовать. — Остынь. Буртаков срывается с места и летит что-то доказывать Урию Павловичу. Но тот на ходу бросает: — Собственно говоря, есть порядок и нельзя нарушать дисциплину. Пока вы свободны. Проводить товарищей на фронт приходят все сотрудники редакции. Как-то странно видеть в легковых машинах винтовки. Иван Поляков дает советы, а Владимир Шамша старается с Акимом Гончаруком разместить оружие так, чтобы оно не мешало в пути. Несмотря на жару, капитан Николай Выглазов садится в легковушку в каске. Опускает боковые стекла Михаил Нидзе и, как все, начинает мудрить в «эмке» с громоздкими винтовками. Его яркие веснушки не может потушить даже июньский загар. В головной машине писатели Иван Ле и Савва Голованивский. Карты для удобства свернуты в гармошку. Приготовления закончены. Под колесами оживает пыль. Она все плотней, все гуще. И когда рассеивается, виден один серый изгиб дороги, а за ним хлеба и хлеба. Строиться! — звучит команда. Старший политрук Петр Кисиль выдает корреспондентам специальные пропуска, и «резерв» отправляется в штабную столовую завтракать. Тернополь похож на раненого воина, которому только что сделали перевязку, — все витрины магазинов, все оконные стекла крест-накрест заклеены белыми бумажными полосами. У гастрономов очереди. Разбирают муку, сахар, консервы, спички, соль. Много людей пришло из ближних сел с корзинами, мешками. На лицах озабоченность и тревога. Штаб Юго-Западпого фронта занимает массивный четырехэтажный дом. Он окрашен в темно-зеленый цвет. Дубовая дверь, сияет начищенной медной ручкой. У входа, на узком тротуаре, выложенном узорчатыми цветными плитами, — настороженные часовые. Пропуск и удостоверение личности дежурный капитан проверяет внимательно. Я вхожу в штаб фронта с каким-то особенным трепетом. Этот старый, добротный дом сейчас хранит многие военные тайны. На столе у командующего лежит оперативная карта со стрелами ударов, с множеством флажков, на которых обозначены номера своих и чужих дивизий, и генерал Кирпонос старается как бы приподнять завесу над будущим. А эта завеса — тысячи человеческих жизней. Судьба Родины. — Проходите, — бросает мне дежурный. В коридоре нижнего этажа пахнет жареным луком. С каждым шагом запах усиливается и безошибочно приводит в буфет. Большая комната шипит лимонадом, булькает кефиром. Все столики заняты. Помня о «наркомовской норме» Лермана, на всякий случай запасаюсь кольцами сухой колбасы. Буфетчица подает мне сверток. И тут я замечаю — у окна освобождается столик. Позади слышу такой знакомый, с хрипотцой голос: — Можно присоединиться? Тардов?! Оглядываюсь, он. — Михаил Семенович, вот неожиданность. Тардов садится рядом. Смеющиеся карие глаза, плывет по лицу едва заметная улыбка. — Что нового? — И, не дожидаясь ответа, продолжает: — Поехали ваши? — И тихо-тихо: — Трудно командарму Потапову. Он прикрывает важную магистраль — прямую дорогу на Киев... Немец будет жать. Его повадку знаю по прошлой войне. Я привык видеть Тардова в элегантном костюме за редакторским столом или же дома в шерстяной полосатой пижаме, сидящего в глубоком кресле у старинной вертящейся этажерки, заполненной всевозможными справочниками. А тут на тебе: простая гимнастерка на нем, да еще с куцыми рукавами. Но я не удивился, когда, положив в стакан кусок сахара, Михаил Семенович достал из планшетки книгу на французском языке и, нежно погладив потрепанный переплет, сказал: — Удивительная находка. Заглянул в книжный магазин и случайно приобрел у местного букиниста. Уникум. Даже война не могла убить его любовь к редким книгам. В Киеве у Тардова большая библиотека. Я не знаю, сколько она насчитывает томов. Да и дело порой не в количестве книг, а в продуманном подборе. Царский солдат, красногвардеец, чекист, писатель Тардов многие годы собирал книги по истории искусств. Настойчиво разыскивал все, что писали красные бойцы и командиры о гражданской войне. Каждый день у Золотых ворот навещал бородатых букинистов, чьи старческие лица напоминали пожелтевшие титульные листы, и, не торгуясь, щедро платил им за уникальные издания. — Вас надо поздравить. В Тернополе выходит первый номер «Красной Армии». Прямо с ходу... Молодцы... — Тардов помешивает ложечкой чай. — Сегодня же начнется и фронтовое радиовещание. Иван Ле с Леонидом Первомайским подготовили первую передачу. Яша Качура помог, кое-что я дал. «Говорит Юго-Западный фронт». Ну как, внушительно? Пробираясь от столика к столику, Кисиль бросает: — Кончай завтрак, поехали! — И тихо добавляет: — Я узнал, сейчас будет объявлена воздушная тревога. Тогда здесь надолго застрянем. Тардов остается в здании штаба, и я прощаюсь с ним. Под вой сирен редакционная полуторка вылетает на окраину Тернополя. Пепельно-желтая девятка «юнкерсов» заходит на бомбежку. В бинокль видны черные кресты на плоскостях. Девятка стонет от тяжелого груза, будто захлебывается воздушной волной. Ее спешат перехватить наши краснозвездные «ястребки». Но из глубины жаркого июньского неба появляются длинные, как змеи, «мессеры». Вспыхивает воздушный бой. «Юнкерсы» действуют дерзко. Они не обращают внимания на заградительный огонь зениток и, не меняя курса, запускают пронзительные свистульки, пикируют на железнодорожный вокзал, а потом на небольшой высоте уходят на запад. Отгремела бомбежка, затихли частые залпы зенитных батарей, а мы все еще стоим наготове с винтовками и ручными пулеметами у редакционного поезда и смотрим с болью в душе, как вдали, за красноватой полосой черепичных крыш, раскачиваясь, поднимаются в прозрачном воздухе пять черных столбов дыма. — Отбой! — Кисиль берет ручной пулемет на предохранитель. Я собираюсь отправиться на свой сеновал. Но из вагона выглядывает ответственный секретарь: — Четвертая резервная бригада, немедленно к редактору! — И Крикун широко распахивает дверь. Неужели едем? Как быстро сбылось желание! Мимо меня, радостно подпрыгивая, проносится Буртаков. А за ним не спеша, вразвалку шагает, как всегда сохраняя полную невозмутимость, лейтенант Филь. У него такие же волосы, как и у Михаила Нидзе, — цвета красной меди, только на лице меньше веснушек. Нидзе — горяч. Филь — сдержан. Жара усилилась. Железные вагоны накалены. Воздух как в парилке. Но полковой комиссар Иван Иванович Мышанский в шерстяной гимнастерке. Его борцовская грудь туго перетянута зеркальным ремнем. На столике карта, прикрытая газетой, и папиросная коробка с черным всадником на фоне голубых гор. Буртаков, Филь и я стоим по команде «смирно». — Давай-ка без «струнки», — мягко говорит Мышанский. — Надо ехать, сынки. Есть задание. Слушайте меня внимательно. Командующий фронтом генерал-полковник Михаил Петрович Кирпонос потребовал от войск самых решительных наступательных действий. Ваша задача: проследить за тем, как выполняют в частях приказ командующего, найдите подлинных героев фронта и напишите о них статьи и очерки, чтобы на примере лучших учились побеждать врага все воины. — Мы хотели бы знать, товарищ редактор, какое положение на том участке фронта, куда вы посылаете нас, — сказал Буртаков. — Многое вам придется выяснить на месте. Участок горячий. Однако в ближайший час наступательные действия наших механизированных войск внесут в оперативную обстановку решительную поправку. Вероятно, вы собственными глазами увидите разгром танкового клина. От этих слов даже в жарком купе стало легче дышать. «Разгром танкового клина! Дадим газетную полосу. Нет, пожалуй, разворот», — подумал я, пока Мышанский распечатывал коробку «Казбека». Переложив папиросы в портсигар, он сказал: — Поедете в Пятую армию! — В штаб? — спросили мы хором. — Нет. Он покинул Ковель и находится в движении. Постарайтесь проскочить прямо в девятнадцатый мехкорпус Фекленко, там близко действует и девятый корпус Рокоссовского. На четвертые сутки вы должны быть с материалами в редакции. Не увлекайтесь. Помните, газету надо выпускать. — А на какой машине поедем? Кто ее поведет? — спросил Филь. — На «эмке». Водитель Хозе, — редактор похлопал меня по плечу. — Вот старший. Командир машины. В полуоткрытую дверь просунулся Крикун и запротестовал: — У секретариата забирают последнее запасное колесо. Я не могу отпустить Хозе. Прикажете пешком ходить в штаб фронта за информацией? Да, пешком?! — Запасное колесо — вещь хорошая, а запасной материал — еще лучше, — отрезал редактор и обратился к нам: — Ну, сынки, пойдем дальше: ищите отважных людей, они подскажут интересные темы. Я надеюсь на вашу инициативу. И последнее: советую не ехать на Кременец, а взять курс на Шепетовку. В Ровно у коменданта города выясните обстановку. Крикун сказал: — Всем отъезжающим необходимо зайти к заместителю редактора. Он ждет в своем купе. — Значит, едете, орлы? Так... Так... По крупицам собирайте боевой опыт. Важно знать, как воюет противник. Хм... хм... — В горле у Синагова першило, и он никак не мог откашляться. Прощаясь, заместитель редактора задержал руку Буртакова: — Тебе особое задание... Помимо всего, думай о полосе: бой в окружении. Покажи роль политрука или комиссара в тяжелой обстановке. У меня все. Счастливой дороги. Какой молодец Хозе! Пока я выписывал командировки и оформлял путевой лист, он успел достать лишнюю канистру бензина и две запасные камеры. Теперь надо спешить к Лерману. Взглянув на командировки, Марк Михайлович буркнул: — Через полчаса ехать, а они уже о консервах думают. — По пути на склад спросил: — Ты наркомовскую норму знаешь? — Что дадите, то и возьму. Вам видней. Марк Михайлович просиял: — Другой коленкор, а то вынь да положь. Пишут целые полосы, а наркомовской нормы не знают. — И, не скупясь, выдал самые разнообразные продукты.
2
Пылит, вьется пустынная дорога на Староконстантинов. Кое-где на обочине мелькают лиловыми кляксамиколючие будяки. Ни деревца, ни рощицы. Если появится вражеский самолет, укрыться негде. Я сижу возле Хозе. За моей спиной Буртаков, и рядом с ним Филь. Водитель освобожден от наблюдения за воздухом, а мы всматриваемся в небо. Оно знойное, без единого облачка. В руках у Буртакова СВТ — самозарядная винтовка Токарева. Иногда он забывает о ней, и моя спина чувствует дуло. — Ты взял ее на предохранитель? — Не беспокойся. — Смотри, а то ещё влепишь на ухабе заряд. Через несколько километров непослушная десятизарядка снова долбит мою спину. Не так просто разместить в «эмке» четыре винтовки. То одна мешает, то другая не дает покоя на ухабистой дороге. — Я еще ни разу не стрелял из СВТ. Надо на остановке попробовать. — Не открывай огня без надобности, — советует Буртакову Филь. Хозе не вступает в разговор. Он ведет по плохой дороге «эмку» на предельной скорости. Не останавливаясь, минуем пыльный, забитый конными обозами Староконстантинов и довольно быстро выезжаем на шепетовский шлях. Пыль взрывается под колесами, как порох, оглянешься — шлях в дымовой завесе. В машину врывается горячий ветер. Почему все-таки штаб Пятой армии находится в движении? Редактор сказал: «Он покинул Ковель, и его трудно найти». Неужели так серьезно нарушена связь? И снова мысли и мысли, не дающие покоя. Если нашим войскам приказано срезать вражеский танковый клин, то надо готовить контрудар. Наступательную операцию может провести успешно не кочующий, а только устойчивый штаб. На окраине Шепетовки я увидел небольшую танковую колонну. «Замыкающий отряд, — мелькнула обнадеживающая мысль. — Главные силы прошли!» Синие дымки над танками, рокот моторов как бы приблизил желанную победу, и уже виделся разгром вражеского танкового клина. В лесу за Шепетовкой первый привал. Сворачиваем с дороги, выбираем укромную поляну и, проклиная жару, красные, как вареные раки, не вылезаем, а вываливаемся из «эмки». Скорей в тень. Отдых. Слишком старательно всматривались мы в небо. От напряжения так болят глаза, что сразу и не замечаем, какие над нами шатры буйной зелени раскинули дубы-великаны. Слух улавливает близкое журчание ручья, стук дятла и свист пеночки. — Сколько здесь земляники! — восклицает Хозе. Действительно, вся поляна смотрит на нас красными глазками, из-под каждого листочка выглядывают спелые ягоды. Хозе открывает консервные банки, ломтиками нарезает копченое сало. Только мы взяли по куску хлеба, как из кустов на поляну в разорванной кофте с криком выскочила женщина: — Товарищи командиры, спасите! На нас бандиты напали. Спасите! Мы бросились к машине, схватили винтовки. — Где? Кто? — Идемте скорей... Пока они далеко не ушли... — всхлипывая, торопила нас женщина. — Хозе, оставайся у машины и никого не подпускай. — Я с вами... — Хозе, выполняй приказ. Сержант с винтовкой наперевес застывает посреди поляны. Мы едва поспеваем за молодой женщиной. Глотая слезы, она отрывисто говорит: — Мы жены командиров. Пешком идем от самой границы... И такое несчастье — два мерзавца... Они тихо подкрались и, угрожая финками, забрали у нас деньги, часы. А потом приставили нож к горлу... Проклятые насильники. — Как они одеты? — В черных спецовках... В кепках... Быстрый бег оказался мне не под силу. Я почувствовал задышку и присел на мшистый пень. Немного передохнув, углубился в лес и услышал голоса. Оказалось, в лесу располагался полевой госпиталь, и поднятая по тревоге рота охраны уже успела прийти на помощь пострадавшим. Бойцы бросились прочесывать чащобу, а мы возвратились к машине. — Вот тебе и полянка с ягодками, — проронил Буртаков. Ели молча, торопливо. Быстро собрались к отъезду. Хозе осмотрел скаты, постучал по ним заводной ручкой. Потом ловко развернул «эмку» и по собственному следу выбрался на дорогу. Как ни придирчиво осматривал Хозе скаты, а все-таки одно колесо подвело. Подкатив на окраине Новограда-Волынского к полосатому шлагбауму КПП, мы услышали треск. Хозе открыл дверцу и, глянув на заднее колесо, что-то сказал по-испански. Дежурный пограничник многозначительно посмотрел на своего напарника. Тот метнулся в посадку. Пока Хозе менял колесо, появился капитан с тремя бойцами. — Чья машина? — грозно спросил. — Редакции фронтовой газеты. — Хозе протянул капитану путевой лист. — Машина задерживается, предъявите документы, — потребовал капитан. — Вы не имеете права так поступать, — вскипел Буртаков. Его карие глаза сузились. — Когда надо — имею, — отчеканил капитан. — Выполняйте приказ начальника контрольно-пропускного пункта. — Он долго рассматривал наши командировки и удостоверения. — Кто старший? Следуйте за мной! — Капитан повел меня в посадку и остановился у замаскированного блиндажа. — Так почему ваш водитель говорит не по-нашему? — Он испанец. Подростком приехал в Советский Союз. Его отец сражался с мятежниками, погиб под Мадридом. — Какие у вас еще имеются документы? — Предъявленных мало? У меня есть членский билет Союза писателей. — Покажите. — Перелистав билет, он сразу подобрел. — Извините, — козырнул. — Прошу вас правильно понять наши действия. — И доверительно: — Много дряни идет. Попадается шпионская шваль. — Капитан вышел на дорогу и, собственноручно подняв полосатый шлагбаум, пропустил нашу «эмку». Мы въехали в пыльный, хранящий следы недавней бомбежки город. Пожары потушены, но кое-где из разбитых домов серыми змейками выползают удушливые дымки. Над окраиной Новограда-Волынского разворачиваются четыре девятки «юнкерсов». Что у них за цель? Какой объект выбрали для воздушного нападения? Бомбардировщики выстроились и на небольшой высоте повисли над шоссе. Автомобили рванулись вперед, стремительно помчались по обочинам, по хлебам, по пыльным полевкам. Гул нарастал. Воздух звенел натянутой до предела струной. О, этот нарастающий гул! Казалось, он вдавливал нас в землю. Может быть, мы так и остались бы стоять на месте в каком-то оцепенении, если бы не Хозе, который, надрываясь, кричал: — Ложись! Ложись! Я ласточкой влетел на обочине в какую-то рытвину, плотно прильнул к земле. Обдав меня пыльным ветром, близко прогремел грузовик, за ним, как сабли, сверкнули железные шины, с гиком пронеслась подвода. Только я собрался покинуть опасное укрытие, как все звуки на шоссейке заглушил свист бомб. Удар! Второй. Третий. Земля задрожала от сильных и частых толчков. И кажется: лежу я на дне ущелья, а вокруг обваливаются горы. Когда затихли разрывы и удалился гул бомбардировщиков, вылез из рытвины и увидел своих товарищей в кювете. — Не зацепило? Они молча продолжали ощупывать себя. Буртаков с облегчением закурил. — Ну, братцы, пронесло. Пыль оседала. Дым рассеивался. Мы осмотрелись. Какой здесь стоял грохот! Бомбы сыпались и сыпались, а на шоссе ни одной воронки. Пострадали хлеба. Огонь, пробежав по колосьям, оставил на зеленом поле черные круги и полосы. Четыре грузовика разбиты в щепы. Прямое попадание... После бомбежки водители машин увеличили скорость. Они старались поскорее проскочить опасный участок. Мы целиком доверились соколиному глазу, расчету и ловкости Хозе. Да, этот испанский юноша умеет крутить баранку. Даже придирчивый Буртаков молчит. Я смотрю на чистое и такое теперь опасное небо и хочу, чтобы оно затуманилось, потемнело от грозовых туч. Наивное желание. Вот показываются точки. Ох эти точки! Быстро они увеличиваются. Вскинул бинокль: ясно вижу девятку «юнкерсов». Хозе останавливает «эмку». Распахнув дверцы, ныряем в придорожный бурьян. Кто-то до нас успел побывать в кювете и даже отрыть неглубокие окопчики. «Юнкерсы», описав полукруг, вытянулись над шоссе в цепь. Флагман, слегка покачав плоскостями, сбросил три бомбы. Огромные сигары со свистом понеслись к земле и на лету стали превращаться в шары. Тени от бомб скользнули над нашим кюветом. Земля качнулась. Дым черной водой хлынул в окопчики и едва не задушил нас острой кислятиной. Минут десять мы находились в зоне землетрясения. Потом грохот затих. Пыль осела. Дым рассеялся. Девятка «юнкерсов» потянулась на запад. На борту флагмана отчетливо виднелась большая черная цифра 9. Покинув окопчик, мы побежали к «эмке». А вдруг случайный осколок прошил машину? Тогда прощай редакционное задание, никакие «попутки» не помогут выполнить его в такой сжатый срок. Хозе сел за руль. Мотор задышал ровно, без перебоев. Машина пошла. Близко подобрались к шоссейной дороге воронки. Кое-где даже обломали асфальт. В кюветах горят перевернутые грузовики. Хозе часто останавливает «эмку». Приходится помогать раненым. Запах крови, йода, спирта. Наши запасы индивидуальных пакетов иссякают. Буртаков, шаря в сумке, хмурится: — Четыре бинта осталось. НЗ! Я глянул на карту, мы только что миновали какую-то безымянную речушку, впадающую в Случь. И вдруг на окраине села Пилиповичи увидели самую большую воронку. Очевидно, для психологического воздействия фашистский летчик сбросил тысячекилограммовую бомбу. Он старательно прицелился: разворотил шоссе вместе с обочинами. Хозе, виртуозно преодолев кочки и ухабы, объехал внушительную воронку. Открытая местность сменилась лесистой. Водители приободрились. Движение наладилось, стало более ритмичным. Но вскоре лес заметно поредел. За селом Дедовичи к шоссе подступили хлеба. Водители теперь все чаще, выглядывая из кабин, осматривали небо. Я снова развернул на коленях карту. Впереди — Корец. До города десять километров. Фронтовая дорога имеет свой язык. Можно закрыть глаза и только внимательно слушать, как идут машины. Тревога водителя передается мотору. И когда раздаются частые сигналы, скрипят тормоза и до слуха долетает шипенье шин, Хозе ничего не остается делать, как резко сбавлять скорость, а мне, уже в который раз, спасать свой нос от удара о лобовое стекло. Десять километров пути... Но доберемся ли до Корца? Небо звенит... Две девятки! На шоссе машины не останавливаются. Бешено шуршат шины... У «юнкерсов» та же тактика. Каждая девятка заходит на бомбежку автоколонны с тыла, описывает полукруг, разворачивается и, вытянувшись в цепь, завывает над шоссейкой. Но теперь «юнкерсы» не просто сбрасывают свой смертоносный груз: нависают коршунами, бомбят с пике. Видно, водители машин не новички, за несколько дней войны уже успели пройти школу фронтовых дорог. Попал под бомбежку — держи интервал, не теряй скорости. Как ни завывали пикировщики, как ни свистели бомбы, а все-таки не посеяли паники, не прервали движения. Важная автомобильная дорога жила, и за сотню километров от переднего края парни в синих комбинезонах совершали подвиг. До последней возможности вели машины. На легкие раны не обращали внимания. — Рука еще может работать... — Вроде ничего... — Поднимали капоты и с удивительной сноровкой устраняли повреждения. Близкий разрыв бомбы приносит беду. Впереди нашей «эмки» темно-зеленый бензовоз мгновенно превращается в черное облако. Ослепительная вспышка — и неукротимо, яростно разливается по асфальту порывисто полыхающий бензин. Над шоссе гудят огненные вихри, крутят пыль, поднимают ее столбом, сметая с обочин песок и щебень. Человек выскакивает из охваченной пламенем кабины. Живой факел добегает до середины дороги, падает и в сильных всплесках огня становится черной головешкой. — Что они творят! Что творят! — вскрикивает Буртаков, хватаясь за десятизарядку. Хозе тормозит. У нас одно спасение — кювет. Лежа в канаве на спине, Буртаков вскидывает винтовку. — Не играйте с огнем... Они заметят нас... — Рыжебровый интендант в испуге бочонком накатывается на Буртакова, прижимает большим брюхом дуло десятизарядки к лопухам. Метрах в тридцати от кювета, на грунтовой дороге вспыхивает последняя молния бомбового урагана. «Юнкерсы» уходят. Худощавый юноша просит перевязать задетую осколком руку. Царапина глубокая, рукав гимнастерки потемнел от крови. Жаль парня. Прощай, НЗ! После перевязки юноша пошевелил рукой, согнул и разогнул пальцы. — Сойдет. Управлюсь... Батарее нужны снаряды, а тут на складе толклись, время ушло, в самый разгар бомбежки угодили. Лучше всего ночью ехать или рано утром. Вчера начальник колонны в замыкающей машине сидел, крепко водителям помогал, а этот туз-карапуз, — кивнул неодобрительно в сторону интенданта, — в головной пристроился... — Поехали! — торопит Хозе, съезжая с шоссе на грунтовую дорогу. В трех километрах от Корца пикировщики прекращают бомбежку. Действуют расчетливо, с особой точностью испепеляют только определенный участок дороги. Если автоколонне удается вырваться — «юнкерсы» не преследуют, она свободно въезжает в Корец. Маленький городок не защищен зенитками. В любую минуту безнаказанно бродящие в небе косяки «юнкерсов» могут обрушить на его опрятные домики, окруженные кустами буйно цветущего жасмина, бомбовый удар. Оглушенный близкой бомбежкой, Корец притаился. Улочки и дворики пустынны. Жители укрылись в погребах, попрятались в садиках, разбрелись по огородам, подошли поближе к отрытым щелям. Конная милиция покидает город. Это настораживает нас. Решаем заехать к военному коменданту выяснить обстановку. Комендант, проклиная плохую связь, говорит: — Механизированный корпус генерала Фекленко юго-западнее Ровно перешел в наступление. — Перешел! Хорошо... — радуется Буртаков. — Какая там обстановка? — Не берусь судить... Новых данных не имею. Связь! Как нам нужна связь! — И тут же ободряет: — До Горыни путь свободен, езжайте смело. На этом кончается выяснение оперативной обстановки. Мы выходим во двор комендатуры разочарованными. В кустах жасмина, где стоит наша замаскированная «эмка», делаем десятиминутный привал. После бомбежки и дорожной жары — тихий тенистый уголок двора с кустами цветущего жасмина, с мирно гудящими пчелами напоминает жизнь, которая так неожиданно ушла и, очевидно, не скоро вернется. — Я уверен: чья-то вражеская рука мешает точно выполнять приказы высшего командования. Где «ястребки»? Почему истребители не прикрывают шоссе? — Буртаков вспыхнул: — С воздуха дубасят, а на дороге в ответ даже выстрел не щелкнет. Вот о чем писать! Земля должна греметь залпами. Я развернул карту. — Давайте взглянем. Фекленко наступает юго-западнее Ровно. Значит, он идет на Дубно. Может быть, там у танкистов успех? — Я, как сказал комендант, «не берусь судить», — проронил Филь. — Ой Филь ты мой, Филь, а еще танкист, — с укоризной сказал Буртаков. — Если механизированный корпус перешел в наступление, то его стальная лавина, конечно, может развить успех. Да-а, мы о Рокоссовском и Кондрусеве забыли! Их мехкорпуса тоже таранят вражеский клин. А ведь есть и мехкорпус Карпезо. Смотрите, какая наступательная сила. Клин срежут, и мы прикатим к шапочному разбору. Поехали! — Заводить? — Заводи, Хозе! Над обрывистым берегом Корчика распахнутые окна приветливых домиков машут белыми занавесками, а большие застекленные веранды плавит солнце. В пути думаю о фронтовой дороге, о героях-водителях. Вот тема, рожденная войной. Как доставить груз на передовую позицию быстро и без потерь? Будет очерк... Только необходимо проехать с колонной от склада до окопов. Эх ты, черт, какой же я разиня. Борьба с вражеской агентурой... Тема? Гвоздевой материал. И он ускользнул. Из-за стычки с капитаном не заметил золотой жилы. Чувствую, как в спину опять упирается проклятое дуло. Буртаков делает это намеренно. — Бригадир, наблюдай за воздухом. Тебе там видней, а ты носом клюешь. Филь мурлычет: «Не буди меня, жена, порану, не проснусь...» — Ты лучше посматривай, лирик, а то выскочим из машины, когда над головой засвистят бомбы. — И Буртаков курит папиросу за папиросой. Я знаю, Владимир не трус, но большой придира, Филь придвигается к боковому стеклу и, оглядывая небо, продолжает тихонько напевать: «Положи головушку на рану, дрогнет ус...» Мучит жажда. Посматриваем по сторонам в надежде заметить криницу или журавль колодца. Хлеба и хлеба, колосья никнут под зноем. Дорога кажется бесконечной и огненной. — Ур-р-а! Впереди спаситель! — От радости Хозе дает сигнал. На фоне белой стены продолговатого коровника виднеется журавль. Вода такая холодная, что зашлись зубы. Наполнив фляги водой, я с Филем пошли к машине. Неожиданно у колодца грянул выстрел. За ним второй и третий. Вскинув десятизарядку, Буртаков лихо расстреливал старую шапку грачиного гнезда. А с правой стороны пылила полевка. Там скрипели колеса. Конный обоз вытягивался из хлебов. При первом же выстреле ездовые кинули поводья и, соскочив с подвод, бросились врассыпную. Погрозив Буртакову кулаком, я с досадой подумал: «Сколько у нас еще необстрелянного народа. Много ли можно ждать от обозных, недавно призванных в армию?» А полевка внезапно полыхнула огнем. Та-та-та... — заработал «максим». Будто крупные капли дождя пробежали по крыше коровника и на зеленых листах железа оставили пятнистый след. Первая очередь легла высоко, но вторая заставила Буртакова укрыться за колодезным срубом. — Прекратите огонь! — закричал я с обочины. — Прекратите! В ответ стучал «станкач». Лейтенант Филь с бранью выскочил на полевку, и от залпа крепких слов пулемет захлебнулся. — Свои! Свои! — загудели в хлебах голоса. Появился начальник обоза, пожилой перепуганный старшина. — Прошу прощения, товарищи командиры! Люди нервничают... Новички. Вчера вечером диверсанты обстреляли обоз. Ночью трижды исподтишка по нас огонь вели. Извините... Пока я к головной подводе добежал, один приписник уже полоснул пулеметными очередями... Ему показалось: диверсанты из-за колодца по обозу стреляют. Подошел забрызганный жирной грязью Буртаков и, задыхаясь от ярости, сказал: — Старшина, страх плохой помощник. Учти! — Он кое-как наспех очистил гимнастерку от комков грязи, и «эмка» тронулась. Когда далеко позади остался тополь с таким злополучным грачиным гнездом, Хозе, как бы между прочим, спросил: — Ну что, товарищ младший политрук, испытали десятизарядку? Как у нее отдача, подходящая? Буртаков стал туча-тучей. Но промолчал. Недавний командир танковой роты лейтенант Филь стукнул кулаком по спинке сидения: — Мальчишки! А еще собираемся учить бойцов воевать! В зеркальце над лобовым стеклом сузились и потемнели карие глаза. Буртаков резко подался вперед. Хозе сбавил скорость. Взмахивая красным флажком, к машине подбежал взмокший от жары регулировщик. Он козырнул: — Будьте внимательны. Местность открытая. «Мессеры» ходят на бреющем. Охотятся за «эмками». Сам черт прокладывал эту дорогу. Ни кустика тебе, ни перелеска. Кюветы — и те какие-то мелкие... Я зорко всматриваюсь в серовато-зеленые бугры, за которыми могут бродить «мессеры», да так устаю, что порой летящая навстречу стрекоза кажется самолетом. Нет сил приподнять веки. Сквозь дрему слышу голос Филя: — Не будите его. Не надо... Я проснулся на закате солнца. Нашему экипажу везло. Небо молчало. «Мессеры» не появлялись. Промелькнул поворот на местечко Гощу. Вот-вот должна была показаться река Горынь. До Ровно осталось километров тридцать. — Придется в Ровно переночевать и с рассветом махнуть на фронт, — сказал Филь. — Нельзя терять ночь. Надо собрать материал. В редакции ждут. Там надеются на нашу оперативность, — возразил Буртаков. Хозе, прислушиваясь к разговору, прибавил скорость. Пустынное шоссе блестело от косых лучей солнца. Какой-то боец, опрометью выскочив из кювета, преграждая нам путь, бросил на шоссе пилотку и, замахав рукой, крикнул: — Куда прешь? Очумел?! Хозе, остановив машину, спросил: — В чем дело? — А в том что передовая. — Что-что? — Разворачивайся, пока в машину не влепил снаряд, — сказал боец и, подняв пилотку, стряхнул пыль. Мы выскочили из «эмки». Прислушались — ни звука. Осмотрелись — ни дымка. Неужели передовая? Если фронт проходит по реке Горынь, значит, сдан Луцк и оставлено Ровно! От этой мысли шаг становится тяжелым. Каменистая тропка приводит нас к замаскированному травой и ветками орудию. С лафета встает черный как жук боец, тянет к пилотке руку. — Наводчик орудия красноармеец Ашот Саркисьян. — А в сторону: — Макаренко, позови младшего сержанта. Командиром орудийного расчета оказывается младший сержант Александр Антонович Шемусюк. Синие «мушки» на лице сразу выдают его довоенную профессию — шахтер. Если Ашот Саркисьян проворный, улыбчивый боец, то его командир, богатырского телосложения, медлителен и суров. Он бережет от случайного толчка или неосторожного движения левую руку, прижимает ее к груди. — Ты ранен, младший сержант? — спросил Филь. — Досталось вместе с командиром батареи под Луцком. Мы с ним земляки. И надо же такому случиться... В окопе один и тот же осколок зацепил. Командир говорит: давай в санбат заглянем и снова в строй вернемся. Так и поступили. Но, правда, едва от врача отбились. — Командир твой тоже шахтер? — Потомственный. У нас батарейцы все донбассовцы — шахтеры и сталевары. Только Ашот — учитель. — Ашот постиг «грамматику боя, язык батарей»? — продолжал Филь. Улыбка поплыла по лицу Шемусюка: — Можно сказать, надежно разбирается. Когда меня ранило в руку, он продолжал командовать орудийным расчетом. Две немецкие пушки разбил. Хорошо стоял на прямой наводке. — А где командир батареи? — На энпе. — Пройти к нему можно? — Тут недалеко. Пошли! Противник нас не заметит. Здесь надежные траншеи. Когда-то их наши пограничники отрыли. По реке кордон проходил. Справа от моста еще здание заставы сохранилось. Мы медленно поднимались по ходу сообщения на высотку. С каждым шагом все шире открывались каменистые берега Горыни. Вода завивала воронки и неистово пенилась. Обрушенные в речные омуты железные фермы походили на огромных зеленых кузнечиков, которые изо всех сил напрягали свои искореженные ножки, как бы стараясь выпрыгнуть из клокочущих волн. За подорванным мостом Горынь делала крутой поворот, и там, где она отражала красную медь заката, уходя в темную зелень кустов, увидели на лугу серые, приземистые немецкие танки. Головной, близко подойдя к реке, завалился в какую-то яму. Его пушка уткнулась в песок. За ним в шахматном порядке с закрытыми люками стояло еще четыре танка. — Где командир батареи? Где? — воскликнул Буртаков. — Я командир батареи. Лейтенант Скороход Григорий Сергеевич. — Из блиндажа вышел человек с усталым серо-землистым лицом. Буртаков, задыхаясь от гнева, сказал: — У вас на виду выстроились вражеские танки. Почему огня не открываете? Накажите наглецов! Командующий фронтом требует уничтожать врага всюду, где бы он ни появился. — Надо не только требовать, но и заботиться... У нас нет снарядов. Голым кулаком не стукнешь по танкам. За мостом мы прикрывали отход частей, били так, что стволы пушек стали малинового цвета. Бойцы от стволов прикуривали. — А почему не подвезли снарядов?! Чья вина? Да это же ЧП! — возмущался Буртаков. Посматривая пристально на танки с черно-белыми крестами, Филь тихо и печально проронил: «Там, где Горынь круто вьется...» В неподвижной обманчивой тишине за рекой над пыльными крышами мукомольной фабрики угасал закат. Я молча смотрел на немецкие танки. Вот тебе и срезали танковый клин. Вместо разгрома я вижу его стальное острие. Горынь приносит горечь. Прощай, все задуманное. Начинать придется не с победы, а с трудного поля боя, на котором надо во что бы то ни стало устоять. В сердце боль и тревога. А что, если и дальше так быстро начнет продвигаться враг? Что будет с нашей Родиной? Я не слышал, о чем говорил Буртаков с командиром батареи. Смотрел и смотрел на немецкие танки, пока они не превратились в черные, едва заметные бугры, а потом слились с потемневшими кустами и совсем потерялись в густых сумерках. На правом берегу Горыни над крышами мукомольной фабрики взлетела и рассыпалась белая ракета. — Что это? — спросил Филь. — Это у них сигнал к сбору, — ответил командир батареи и продолжал: — Ночью они не наступают — перегруппировывают силы, подтягивают резервы, пополняют боеприпасы, заправляют танки горючим. Но разведку ведут усиленно и до рассвета освещают пожарами свой передний край. Командир батареи оказался прав: как только наступила ночь, за Горынью вспыхнули большие яркие костры и превратились в пожары. Пламя, раздвигая ночной мрак, поднимало над рекой багровый парус. В Горыни гасли тысячи искр. — И люди в том пекле... Наши люди! — сокрушался Буртаков. — Человеческие судьбы, как искры, летят по ветру. Кто дал фашистам право жечь наши села? Теперь вы видите, как нужны снаряды. За рекой эарокотали танковые моторы. Вспыхнули и погасли фары. Рокот стал глуше. — Ушли! — сказал лейтенант Скороход. — Завтра в шесть утра загремит бомбежка. В семь откроют минометный огонь и, возможно, попытаются форсировать Горынь. Они воюют по расписанию... — А как действуют немецкие автоматчики, Григорий Сергеевич? Вашей батарее приходилось отбивать их атаки? — спросил Филь. — Встречались с ними не раз. Атакуют они больше с флангов, стараются зажать батарею в клещи, окружить. Ходят в атаку в полный рост с криком: «Рус, ком»! Пьяные, черти, настойчивые. — Пьяные? — После боя проверяли трофейные фляги — все ромом пахнут. Следя за пожарами, Филь снова спросил: — А вы не знаете, в чьих руках Луцк и Ровно? — Хотел у вас узнать. Связь скверная. Информации нет. На высотку примчался Ашот Саркисьян: — Снаряды привезли. — Быстро разгружайте. — Командир батареи заторопился. Спускаясь с высотки по ходу сообщения, сильно прихрамывал, часто останавливался. Мы вышли на шоссе в тот момент, когда артиллеристы почти выгрузили из трехтонок присланные им ящики со снарядами. Водители машин торопили бойцов, они везли боеприпасы еще и в танковую часть. Наша корреспондентская бригада, простившись с лейтенантом Скороходом, присоединилась к колонне грузовиков. Давно не приходилось «эмке» проходить по таким лесным дебрям. Вся надежда на Хозе. Тут нужно не только умение, а какое-то особое чутье, чтобы обминуть топкое место в низине и выбраться из глубоких, неожиданно возникающих на пути колдобин. Да еще не зазеваться на крутом повороте и не потерять во тьме хвост прямо-таки ускользающей колонны. Машины шли без фар, изредка подавая короткие сигналы. Мы уже начали раскаиваться, что, не выяснив дороги, так доверчиво помчались вслед за грузовиками. С нарастающим отчаянием прислушивались к сильному поскрипыванию рессор. Только бы не обломаться и не застрять в этой глухомани. В танковую часть приехали в полночь. В палатке, слабо освещенной электрическим фонарем, шло совещание. Проверив наши документы, полковник Николай Федорович Загудаев принялся уточнять с командирами боевую задачу. С рассветом танкистам предстояло прикрыть отход стрелкового корпуса. — Опять отходим на заранее заготовленные позиции, — шепнул Буртаков и до боли сжал мою руку. Из беглой оценки танкистами оперативной обстановки мелькнуло просветление: между Луцком и Ровно в районе Клевани успешно действовал 9-й механизированный корпус Рокоссовского. Правофланговая танковая дивизия 19-го механизированного корпуса Фекленко продолжала удерживать Ровно. Луцк тоже был в наших руках. — Кажется, все, — сказал полковник Загудаев, подписывая боевой приказ. Когда командиры танковых батальонов вышли из палатки, он обвел нас воспаленными от долгой бессонницы глазами. — В бою характер человека раскрывается мгновенно. Если заячье сердце, то львиная грива не вырастет. Но таких единицы. Танкисты народ отважный. Корреспондентам есть о чем писать. — Товарищ полковник, командующий фронтом требует от войск наступательных действий. Этого не видно. Они обороняются. Кто мешает выполнять приказ Кирпопоса? — спросил Буртаков. — Я могу вам назвать виновника... Наш противник. На всех направлениях, где мне пришлось вести с ним бой, он превосходил нас по силам и средствам в три раза. Но все же мы наступали. И останавливали его, и отбрасывали. Он нес значительные потери, несмотря на то, что у нас в части были считанные тяжелые машины. — Волевое лицо полковника то уходило в тень, то снова появлялось над столиком в луче электрического фонарика. Он чуть повышал голос. — И в основном — легкие танки Т-36, БТ-5, БТ-7. Эти машины ходили в освободительные походы в Западную Украину, Бессарабию. Моторы отработали свои часы, износились, требуют ремонта, а тут их запускают на всю катушку, в атаке с противником надо сходиться на полном ходу. Заметьте, у него танковая пушка сильней, чем у нас. Он может упреждать огнем подход наших легких танков. Полтора километра у него в запасе. Но воевать нам надо и бить противника тоже. Завтра у нас горячий денечек. — На последнем слове полковник сделал ударение и как бы дал нам понять, что разговор окончен. Во время ночной беседы я почувствовал, что силы мои иссякают. Фронтовая дорога измотала, и усталость прямо-таки валит с ног. Сердце покалывает, сдает, как мотор старого танка. Наконец мы вышли из душной командирской палатки. Ночь тихая. Земля теплая. На траве ни росинки. Расстелив на земле шинель, я лег рядом с танкистами под высокой сосной. Я уже засыпал, когда услышал близкий шепот: — А помнишь, Семен, из первого батальона футболиста Сашку? — Короля воздуха? Да я с ним в прошлом году в одной команде играл. Он выше всех прыгал и всегда красиво голы головой забивал. — Так ты слушай: Сашка со своей «тридцатьчетверкой» стоял в засаде. Он всегда был мастером маскировки. Уже в сумерках видит: танк немецкий ползет. Остановился. Из верхнего люка вылез гитлеряка, послал белую ракету, потом вторую. Смотрит Сашка — ползут, черти полосатые, на стоянку. Он — к орудию и врезал им как со штрафного. Что ни удар, то факел! Четыре танка сжег, только пятый успел удрать. — Прекратите шептаться! — послышался властный голос. Я ликовал. «А говорят, под лежачий камень вода не течет? Бывает и наоборот... Какой материал! Гвоздь номера! Пойдет на первую полосу. Надо только узнать фамилию танкиста и поговорить с ним». Низко на иглистых ветках мерцали звезды. Казалось, стоит лишь протянуть руку — и можно сорвать любую из них, даже ту, что горит в тени облаков. Проснулся от рокота моторов и тяжелой поступи танков. Земля дрожала. Боевые машины выходили на дорогу, строились в походную колонну. Где же мои ночные соседи? Как жаль... Опростоволосился. Разве так поступают настоящие газетчики? Я проклинал свою щепетильность и тот властный голос, который заставил танкистов прервать разговор под сосной. А танковая колонна уже грохотала на опушке. Готовился к походу второй эшелон. Досада мучила меня. Чувствовал вину перед неизвестным Сашкой-танкистом. — Ты почему такой хмурый? — с удивлением встретил меня у лесной криницы Филь. — Прощай, первая полоса... Выпустил из рук звезду. — Ты что, спросонья? Бывает... — вмешался в разговор Буртаков. — Освежись родниковой водицей, и давай к походной кухне поспешим. — Он открыл крышку карманных часов. — Время уходит... Завтрак прозеваем. Филь, прильнув к роднику, с наслаждением тянул губами прозрачную воду. Он неожиданно выпрямился, выпятил грудь и, приняв важный вид, сказал: — А ну, ответьте, что именно говорил по поводу походной кухни бравый солдат Швейк? — Филь, в точности подражая капитану Вирону, продолжал: — Ага, голубчики, попались! Забыли? Не помните? Так слушайте: «Главное на войне, — говорил бравый солдат Швейк, — это не отставать от кухни». Буртаков с прохладцей относился к юмору. Его порой не смешила даже самая остроумная шутка. Он чуть-чуть скривил губы: — Потеряли еще одну драгоценную минуту. — И недовольно щелкнул крышкой карманных часов. Только поблагодарили повара за вкусную рисовую кашу и крепкий, искусно заваренный чай, как прозвучал сигнал боевой тревоги. С пеньков слетели котелки, кружки. Экипажи второго эшелона бросились к машинам. Откинулись крышки люков, заработали поворотные механизмы башен, и танковые пушки поплыли над гибкими ветками молодого орешника. — Что случилось? — Противник... — Где? — Форсирует Горынь. Сбросил парашютный десант... Прислушиваясь к разговору танкистов, наша корреспондентская бригада все еще не теряла надежды побывать в Ровно. Вот бы на страницах газеты показать оборону крупного города. Заманчиво. — В Ровно можем попасть только с севера, — авторитетно заявил Филь. Развернули карту и задумались. Лесисто-болотистое междуречье Горыни и Случа ничего хорошего не сулило. А что, если противник продвинется до Корца? Тогда окольным путём через Олевск и Житомир не скоро вернемся в редакцию. Решили проскочить на передовую и узнать, в чем там дело. А потом действовать по обстановке. Проехав километров пять, услышали частые удары пушек. Вдали над синим морем хвои чуть заметным шариком ртути поднимался все выше и выше немецкий аэростат. — Стой, Хозе. Дальше ехать не надо, — сказал Филь. — А ты, бригадир, послушай товарищеского совета, — обратился ко мне. — Оставайся с машиной, а мы потопаем на переправу. — Там где бегом, где по-пластунски придется, а тебя до сих пор одышка после болезни мучит, — заметил Буртаков. — Давай условимся: сегодня вечером мы должны встретиться на старой стоянке танкистов. Но если обстановка обострится и тебе придется покинуть лесную поляну, выберись на шоссе и у самого поворота на Гощу жди нас до последней возможности. Я смотрел вслед моим товарищам и жалел, что не мог присоединиться к ним. А в небе уже грозно рокотала девятка бомбардировщиков. В синеве неба вокруг пепельно-желтых «юнкерсов» вспыхивали багровые разрывы. Там, где сверкал огонь зенитных снарядов, появлялись белые кольца дыма, они быстро темнели и превращались на ветру в сизые тучки. Разрывы приблизились к «юнкерсам», но вызвали только досаду — ни одного попадания. Самолеты, не меняя курса, запустили пронзительные свистульки и, спикировав на артиллерийские позиции, безнаказанно ушли на запад. К «эмке» подлетел запыленный мотоцикл. Из коляски выпрыгнул майор: — Где комдив? — Нет здесь комдива. — Как нет? Вы бросьте... Кровью истекаем. Чья машина? — Редакции фронтовой газеты. Майор с удивлением посмотрел на номер «эмки». Махнул рукой, и мотоцикл умчался. К «эмке» один за другим стали подлетать мотоциклисты и справляться о комдиве. Мы решили с Хозе свернуть с бойкой дороги, поехать к артиллеристам. Пронеслись вдоль опушки и на краю леска, далеко в глубине хлебного поля, увидели наши танки. Пушки, словно соломинки, выдували красные пузыри, и, когда они лопались, до слуха долетали выстрелы. В кружке бинокля — дымки, отдельно стоящее дерево, ветряк, трактор. Открытый, не защищенный никакой броней «Коминтерн». Он идет по хлебам навстречу разрывам. Маневрирует под огнем. Переваливает через невысокие бугры. А за ближними кустами командиры орудий взмахивают пилотками, и гаубицы посылают куда-то далеко в дымное поле двадцатикилограммовые «гостинцы», от которых воздух ходит горячими, упругими волнами и протяжно, печально шелестят созревающие хлеба. — Смотрите, трактор возвращается... И не один! У него на буксире танк, — сказал Хозе. «Коминтерн» приблизился к леску, обогнул его и, попыхивая дымком, выбрался из хлебов на дорогу. Я взмахнул рукой. Трактор остановился. Я сел рядом с водителем, и мы тронулись в путь. Лицо моего соседа покрывала такая пыль, что никак нельзя было разглядеть, молод он или стар. — Что с танком? — Снаряд боднул. Пришлось эвакуировать. — Впервые? — Под Луцком три машины вытащил. Было дело и под селом Вербой. — А что под Вербой? — Полковник Загудаев приказал взять село. Вечером он повел в атаку восемь танков БТ-7. Хорошо получилось. Не ждали нас. Полковник первым вскочил в село. А за ним все экипажи. Никто не свернул и не отстал. В селе только что немецкие артиллеристы расположились и пехоты набилось тьма-тьмущая. Все они бежали, как будто смерч по селу пыль крутил. Жалко только, очень жалко: погиб в этом бою наш любимый командир Петр Дроздов. Его танк шел по задворкам, бил чужаков по загривкам. Машину вел лейтенант Рольск. Такого мехводителя днем с огнем не сыщешь. Потом я дроздовскую «бэтушку» эвакуировал с поля боя. Глянул, а на верхнем лобовом листе круглая дыра. Вокруг пробоины сталь запеклась. Я оглянулся. «Эмка» шла следом. Разбитый тягачами и танками шлях втягивался в частый лес. Хозе, приоткрыв, дверцу, выглянул из машины, на всякий случай быстрым взглядом окинул знойное небо. Тракторист Иван Петрович Кузнецов в первый день войны получил ранение, но в госпиталь лечь отказался. Каждое утро посещает медпункт, делает перевязку и садится за руль своего «Коминтерна». По словам Кузнецова, Вербу взяли вечером. И когда окончательно очищали село от противника, особо отличились экипажи младших лейтенантов Беляева и Райгородского. На второй день семь наших танков атаковали новые позиции немцев, но были остановлены сильным заградительным огнем. Сборный пункт аварийных машин, куда спешил Кузнецов, находился в ельнике. Здесь под напильниками в тисках повизгивала сталь, раздавались тяжелые удары молота, сверкала электросварка. Взглянув на мое редакционное удостоверение, воентехник второго ранга Константин Мураф сказал: — Люди работают днем и ночью, не считаясь ни с чем. Круглые сутки — на танке и под танком, когда спят, не знаю. Наш девиз: вернем танк на поле боя! А сейчас я хочу показать вам одну машину... взглянуть на нее стоит. Углубились в ельник, вышли на поляну, где под кряжистым дубом стоял КВ. Я воочию убедился в грозной силе нашего тяжелого танка. На серой лобовой броне четыре вмятины. А башня! Словно огромными желудями, утыкана снарядами. Десять попаданий — и ни одной пробоины! — А где экипаж? — Перешел на другую машину. Воюет где-то за Горынью. Мне рассказывал водитель тягача Костин: КВ смял фашистскую оборону, раздавил гусеницами пять противотанковых пушек и пулеметным огнем опустошил пехотную роту. Гитлеровцы бросили свои позиции и побежали с отчаянным криком: «Елефант, елефант!» [1] Больше ничего не мог сообщить мне Мураф. Фамилий танкистов никто на знал. Герои остались неизвестными. А фронт грохотал за Горынью, и в пыльный ельник, где в быстром темпе шел ремонт аварийных машин, долетала канонада. Сюда с разных направлений все чаще и чаще тягачи тащили на буксирах наши легкие танки Т-26, БТ-5, БТ-7 и даже танкетки Т-27. Эти машины, говоря языком танкистов, давно израсходовали запас моторесурсов. Да и поле боя в треугольнике Дубно, Луцк, Ровно оказалось для них не таким уж близким. Восьмой механизированный корпус Д. И. Рябышева совершил четырехсоткилометровый марш. Девятый мехкорпус К. К. Рокоссовского прошел двести километров, а девятнадцатый мехкорпус Н. В. Фекленко, куда направились мои товарищи Буртаков и Филь, сделал трехсоткилометровый бросок. Танкисты под беспрерывной бомбежкой устремлялись в атаку без артиллерийской поддержки и авиационного прикрытия. И все же Рябышев вышел на подступы к Берестечку, Рокоссовский на реку Стырь. Фекленко приблизился к Дубно. Танкисты вели ожесточенные бои, отражали беспрерывные атаки. Наступление противника, который стремился выйти на шоссе Ровно — Киев, затормозилось. Подбежал Хозе: — Там на дороге завоеватели пылят... Пятнадцать пленных пехотинцев как раз расположились в кювете на короткий привал. Все молодые, крепкие. Серозеленые мундиры, видимо, во время схватки кое у кого треснули по швам. Брюки такого же цвета заправлены в сапоги с широкими голенищами. Поясные ремни — черные, и на тусклых металлических пряжках выпуклые буквы: «С нами бог». Среди конвоиров узнал моего университетского товарища Ивана Грищенко. Мы дружески обнялись. Он служил в стрелковой дивизии переводчиком и когда услышал, что я хочу написать статью «Лицо фашистского солдата», охотно взялся помогать в разговоре с пленными. Трое оказались хозяйчиками мелких галантерейных лавок, двое — домовладельцами, шестеро — крестьянами и четверо — рабочими. На вопрос, почему Германия напала на Советский Союз, двое, пожав плечами, решили отмолчаться, но потом процедили сквозь зубы чушь: — Советы предъявили Германии ультиматум. Потребовали Польшу и Румынию. Фюрер ответил войной. Семеро заявили: — Фюрер приказал, солдат пошел. Мы должны освободить ваших братьев-немцев, которые живут в России на большой реке. Названия реки они не знали. Шестеро были близки к истинным целям войны: — Германия сможет покорить весь мир. Она поставит на колени англичан и американцев, если получит русский хлеб, железо, уголь и нефть. Все пятнадцать пленных пехотинцев слепо верили словам своих офицеров: «Основные силы Красной Армии разбиты в приграничных сражениях», «У Советов нет резервов», «Через две-три недели с Россией будет покончено, германские войска вступят в Москву». Никто из пленных не высказывал своего недовольства войной и не был опечален тем, что на огромных просторах льется кровь. Я попытался узнать, как же все-таки действовали немецкие пехотинцы, прорывая нашу укрепленную полосу на границе. Но все они продолжали твердить одно и то же: «Ничего не знаем. Стояли в то время во втором эшелоне». — Правду мы все равно узнаем, — прервал пленных Грищенко. — Скажите, но только честно: как относятся немецкие войска к населению в оккупированных селах? Чернявый лавочник с тонкими усиками сказал: — Полевые войска заняты войной. С населением имеют дело охранные. — А почему на передовых позициях ночью горят села? — Мы сел не жгли. Это делают те, кто боится русской ночной атаки, — освещают местность. — Освещают местность?! — покачал головой Грищенко. Номера своей дивизии пленные не знали, а вернее, не хотели назвать. Но во время разговора удалось установить подготовку германских войск к переходу нашей государственной границы. В феврале 1941 года их дивизия прибыла из Франции в Польшу и расположилась вблизи Кракова. Здесь вместе с другими частями находилась до 24 апреля. Потом ее направили под Люблин. Отсюда 10 июня начала выдвигаться в исходный район и, соблюдая строгую маскировку, 18 июня заняла позиции в семи километрах от нашей границы, а в ночь перед нападением приблизилась к ней вплотную. Обратил внимание еще и на такое: почти все пленные имели восьмиклассное образование, но за последние три года никто из них не держал в руках книги. Зато читали фашистский официоз — газету «Фелькишер беобахтер» и тонкий иллюстрированный журнал «Дойчланд», воспевающий «подвиги» гитлеровских войск. Взглянув на часы,Грищенко заторопился: — Ты извини... Меня ждут в Политотделе дивизии. Между тем на сборном пункте аварийных машин затих бойкий перестук молотков, погасли вспышки электросварки, и после короткого затишья послышались приказания складывать инструменты в ящики и выводить из укрытий грузовики. Озабоченный Мураф бросил мне на ходу: — Мы снимаемся... Наши войска отходят на новый рубеж. Ох, этот новый рубеж... Но ничего не поделаешь. Надо и нам заводить мотор, думать о том, как выбраться из незнакомых лесов на ровенское шоссе. К сожалению, Мураф со своим хозяйством отходил в другую сторону, и вся надежда теперь на водителя. Хозе уверяет: дорогу он помнит и не собьется. Машина полностью заправлена, бензин взят про запас, его хватит до самого Терпополя. «Эмка» тронулась. Часа через два на развилке Хозе притормозил. Взглянув на дорожную стрелку, после некоторого колебания сделал правый поворот. — Странно... Но будем придерживаться правил. — Едем строго на запад, а надо на юг. Стой! Но машина спустилась уже в топкую низину, и передние колеса забуксовали. — Сели крепко... А ведь чувствовал: не надо сюда ехать. Так нет, поверил проклятому знаку, — сокрушался Хозе. Провозились с «эмкой» до самого вечера, однако все наши усилия пошли насмарку. Вначале была надежда: заблудится какая-нибудь машина и выручит нас из беды, но с приближением сумерек она угасла. Вечерняя заря наполнила лес робким розоватым светом. За топкой низинкой лозняк окаймлял круглое озеро, и туда на ночлег слетались стаи диких уток. В темнеющем воздухе слышался шорох от взмаха тугих, крепких крыльев. Потом все стихло, и лес погрузился в настороженную тишину. С наступлением сумерек прекратили всякую работу, опасаясь шумом мотора и светом фар привлечь внимание немецких диверсантов. Встреча с ними не исключалась. Ведь чья-то преступная рука повернула дорожный указатель в другую сторону. Ночная тьма быстро сгустилась. В лесу такая теплынь, даже укрываться шинелью не надо. А тревога в душе нарастает. В запасе у нас одна ночь. Если чуть свет не выберемся из болотной низинки, очутимся на оккупированной территории. Буртаков с Филем будут ждать под Гощей, а нам придется поджечь машину и выходить из окружения. Чем кончится этот поход? Неизвестно... Но мы сделаем все, чтобы пробраться к своим. В лесу послышался крик филина, и Хозе сдавил мне руку. — Что?! — А то, что это не крик птицы... — прошептал он. Крик повторился и замер. Хозе взял гранату. Я весь превратился в слух. Чуть-чуть хрустнула сухая ветка. Вот еще такой же хруст. И сразу метрах в двадцати от нас зашелестели кусты и затрещали сухие ветки. Мы притаились, приготовились к бою. Но шелест кустов удалился, и вскоре потрескивание хвороста затихло. Кто прошел: диверсант или дикий кабан? В полночной тьме это оставалось для нас загадкой. Перед рассветом снова взялись за лопату, домкрат и топор. Работали с неистовым ожесточением. В лесу уже светало, когда Хозе сказал: — Рискнем. С минуту прогревал мотор. Потом, поплевав на ладони, взялся за руль. «Эмка» вздрогнула всем корпусом, затряслась, мотор завыл от натуги. Из-под колес полетели палки и комья грязи. Рывок, еще рывок! И машина выбралась из топких колдобин. Еще не улеглась наша радость, как мы подкатили к злополучному перекрестку. Хозе сломал стрелку, указывающую ложное направление. Только повернули на нужную нам дорогу, как из кустов на лесную поляну выбежал человек в брезентовом плаще. Пронзительно свистнув, закричал: — Эй, эй, подберите раненых полковников. — Хозе, вперед! Но водитель и без команды успел прибавить скорость. Вслед нашей машине затрещали автоматные очереди. Промах! Бандитские пули не принесли нам никакого вреда. — Держите наготове оружие, может быть, еще будут останавливать, — сказал Хозе. Но больше никто не останавливал и не обстреливал «эмки». Благополучно выбрались из чащоб. Дорога повела через высокие, чуть начинающие желтеть хлеба. Наконец миновали притихший Сенов и напротив Гощи выехали на ровенское шоссе. Здесь бурлил человеческий поток. Эвакуировались различные учреждения, больницы, школы, детские садики. Толпы беженцев заполнили даже обочины. Шоссе стучало колесами подвод, сигналило, шуршало шинами машин и, когда появился немецкий разведывательный самолет, на какое-то мгновение замерло, как морская волна в шторм, достигшая самой большой высоты и готовая с новой силой ринуться дальше. Забухало одинокое зенитное орудие. Трасса красных снарядов прожгла синеву неба, и она задымилась, как полотно. Людские толпы хлынули в придорожный ельник, потом выплеснулись на шоссе и потекли вдаль. Я заметил в ельнике немало пароконных подвод, готовых тронуться в путь. На них лежали раненые пограничники, укрытые шинелями. Одна проворная медсестра подбежала к «эмке»: — Спирт есть? — Нет. — А противогазы? — Найдутся... Нырнув в машину, она вытащила из карманчиков четырех противогазных сумок пластмассовые ампулы со спиртом и побежала к раненым. Пароконные подводы тронулись. Промелькнули окровавленные повязки, бледные лица с лихорадочным блеском глаз. Это были герои первых боев на Западном Буге. О мужестве бойцов в зеленых фуражках ходили легенды. Я уже не раз слышал: «Сражайся с врагом, как пограничник», «Каждой зеленой фуражке я готов отдать честь». А ведь это говорили воины, успевшие побывать в крупном танковом сражении. Из Гощи в клубах пыли идут к шоссе три КВ. Головной останавливается. Из верхнего люка вылезает капитан и, спрыгнув на обочину, бежит к «эмке». Опять все тот же вопрос: — Где комдив? — Узнав, что я корреспондент, он советует: — Сматывайся, друг. Немецкие танки подходят. Твоя «эмка» вспыхнет, как факел. Мимо нас по шоссе проносятся грузовики. Водители выжимают из моторов предельную скорость. Какая-то трехтонка замедляет ход, и Хозе радостно кричит: — Дождались! Они! Они! Сюда скорей! Поехали! По дороге на Корец «мессеры» ходят на бреющем и держат нас в таком напряжении, что лишним словом нельзя перекинуться. До самого Новограда-Волынского преследует грохот беспрерывной бомбежки. Только когда «эмка» пошла по лесной дороге на Шепетовку, мы, наконец, свободно вздохнули. Положив на мое плечо руки, Буртаков сказал: — Мы все-таки разыскали генерала Фекленко. Обстановка была накаленной. Он смог нам уделить несколько минут. Потом побеседовали с героями боев — танкистами. Девятнадцатый корпус действовал успешно. Ты понимаешь: пыль, жара, жажда, бомбежка, трехсоткилометровый марш — и с ходу в бой. В самый тяжелый — встречный. На каждом направлении противник значительно превосходил наших танкистов в силе, и все же его отбросили на целых тридцать километров. На закате солнца Фекленко подошел к Дубно, но здесь пришлось два дня отбивать непрерывные контратаки. В боях уничтожено свыше ста фашистских танков. — Эх, если бы удалось взять Дубно и соединиться там с танкистами генерала Рябышева, тогда бы наш контрудар показал свою силу. А сейчас командующий фронтом приказал отвести войска на старую польско-советскую границу, — добавил Филь. — Есть надежда опереться на старые УРы и задержать противника. — Тут же Буртаков воскликнул: — Воздух! Но зоркий Хозе, уже заметив опасность, свернул с дороги. «Мессеры» просвистели над кронами дубов, и мы снова тронулись в путь. Тут кто-то вслед засигналил. Мы были удивлены и обрадованы. К нашей «эмке», взмахивая пилоткой, бежал Иван Поляков. — Куда вы, ребята? — Как это куда? В Тернополь... возвращаемся в редакцию. — В какой Тернополь? Вы что, не знаете? Штаб фронта переехал в Проскуров. Редакционный поезд ушел туда. Оказывается, Поляков успел побывать во Львове и с последним оперативным дежурным покинул здание штаба 6-й армии. Потом под Винниками нагнал части 8-го мехкорпуса и присоединился к 42-му танковому полку. Сердце мое забилось сильней. С этим полком я участвовал в освободительном походе в Западную Украину. В этой отличной воинской части хорошо знал многих танкистов и во время похода напечатал о них в «Красной Армии» очерк. Вместе с ними на рассвете девятнадцатого сентября 1939 года перешел Збруч и вскоре оказался в Перемышле на берегу Сана. Когда же приехал во Львов, где обосновалась редакция, мой рассказ в кругу товарищей о походе танкового полка заинтересовал писателя Евгения Петрова. Свою обширную корреспонденцию, помещенную в «Правде», он начал словами: «Младший лейтенант Кондратенко рассказывал...» Евгений Петров посоветовал мне написать книгу и ободрил: «Она у вас получится. Я в этом уверен. Вот так как рассказывали, так и пишите». Командир полка майор Галайда со своими танкистами стал героем моей книги «От Збруча до Сана». Я с нетерпением ждал, что же дальше скажет Поляков который снял у меня с пояса флягу с водой и все никак не мог утолить мучившую его жажду. Наконец, завинтив металлическую пробку, он потупился: — Я видел майора Галайду, разговаривал с батальонным комиссаром Крупниковым. Они передавали тебе привет. Но... В последнем бою и тот и другой пропали без вести. Так-то, друг... Война безжалостная, беспощадная. Пропали без вести... Каждое слово — как удар ножа. Поляков оказался более осведомленным во фронтовой обстановке, чем мы. Его новое сообщение ошеломило нас: — Львов сдан, Луцк оставлен, в Ровно вступили гитлеровцы. Цепь тяжелых потерь. Как ни горько на душе, но все же есть просвет в тучах: танковое сражение задержало немцев за Горынью на целую неделю. Это же не шутка: такую военную машину затормозить. Скажу вам и такое: нашим войскам, сражавшимся западнее Львова, грозило окружение, но теперь они отошли без потерь. У меня надежда на старые УРы. Есть возможность остановить противника, — вставил Филь. — Опытные люди говорят: после консервации их надо еще привести в порядок. В каждом доте — наладить связь, расчистить сектор обстрела, сколотить гарнизон, — вступил в разговор Буртаков. Мы тут же решили посетить Шепетовский укрепленный район. Враг был близко, а призванные из запаса пулеметные расчеты только начали осваивать технику. Болит сердце: к бою УР не готов. Шумят кряжистые дубы. Петляет лесная дорога. — Хозе, курс на Проскуров! До слуха долетает гул бомбовых ударов. Он постепенно удаляется, потом снова нарастает, и становится ясно: гитлеровцы штурмуют укрепленный район. Дремучий шепетовский лес редеет. На его опушке нагоняем «эмку», на которой возвращаются с передовых позиций в штаб фронта офицеры связи. Их дважды обстреливали из хлебов диверсанты, и теперь часто приходится останавливаться и устранять в машине неисправности. Пока водители приводили пробитую пулями «эмку» в порядок, разговорились с офицерами связи и узнали: на Украину наступает группа армий «Юг». Фашистскими войсками командует генерал-фельдмаршал Рундштедт. Этот прямой потомок крестоносцев пользуется доверием и благосклонностью фюрера. Во главе 1-й танковой группы стоит генерал Клейст — богатейший помещик, владелец обширных земельных латифундий, а б-ю пехотную армию возглавляет генерал Рейхенау — крупный промышленник и банкир. — Вот какие псы-фрицыри идут на нашу землю, — сказал Филь. На окраине пыльного, встревоженного недавней бомбардировкой Проскурова отыскали наш редакционный поезд. Железнодорожная ветка привела нас в огромный двор птицефермы, который напоминал распоротую перину. Чахлая трава и такие же кустики акации усеяны перьями и покрыты пухом. На наш приезд с фронта никто не обратил внимания. «Юнкерсы» только что бомбили поезд, и все товарищи были возбуждены, думали и говорили только о пережитом воздушном налете. Три сброшенные бомбы не принесли никакого вреда, но впечатление оставили грозное. Одна из них, не разорвавшись, вошла глубоко в землю вблизи жилого вагона. Кто-то сказал, что она замедленного действия, и сотрудники редакции с нетерпением ждут, когда же прийдет паровоз и сдвинет вагон с опасного места. Как всегда, на ходу поправляя спадающие с носа массивные роговые очки, Крикун отдает срочные распоряжения и, обращаясь ко мне, говорит: — Приехали? Очень хорошо! Подробно потолкуем в Киеве. — Проскуров покидаем?! — Вечером будем сниматься... А сейчас идите в домик редактора. Он напротив ворот птицефермы. Хочу вас обрадовать: к нам прибыло пополнение. Из Москвы приехали очень известные писатели. Будут работать в нашей редакции, — и помчался в линотипный цех отдать какие-то распоряжения. Только я вышел с Борисом Палийчуком за ворота, как на крыльце домика, в котором остановился редактор, показалась довольно внушительная фигура знакомого мне поэта Александра Ильича Безыменского. Вид у него был бравый. Из-под фуражки выбивался пышный чуб, на ремне «лимонка» и пистолет, а в руках гитара с красным шелковым бантом. Перебирая струны, он пел тоненьким, но приятным тенорком: «Не-лю-ди-мо наше мо-ре, день и ночь шу-мит оно». За Безыменским шел, протирая платком пенсне, чистенький, затянутый ремнями интендант первого ранга. Я сразу узнал Сергея Ивановича Вашенцева. К этому человеку я относился всегда с особым уважением. Когда занимался в Москве на курсах молодых писателей, он нашел время прочесть мои стихи, отобрал лучшие и напечатал в журнале «Знамя». С крыльца спустился статный, крепко скроенный старший батальонный комиссар в новой летней форме, с орденами Ленина и Красной Звезды. Обвел немигающими светло-голубыми глазами пыльную лужайку, пошел твердым, широким шагом. С Твардовским я не был знаком. В Московском доме литераторов мне не пришлось ни разу даже увидеться с ним, но стихи его я знал, любил и помнил почти наизусть поэму «Страна Муравия». И вот сейчас узнал поэта по фотографии. Узнал и почему-то сразу оробел. А что он скажет, когда прочтет мое стихотворение или очерк? Какое-то тревожное ожидание овладело мной. Последним из домика вышел наш полковой комиссар Мышанский, оживленно разговаривая с каким-то рыжеволосым интендантом второго ранга. Взглянув на меня, редактор сказал: — С приездом, сынок! Знакомься, Михаил Розенфельд. Ну кто же из журналистов не знал Михаила Розенфельда?! Он часто выступал с фельетонами в «Комсомольской правде». Но известность принесли ему не только статьи на злободневную тему — Розенфельд участвовал в полярных экспедициях. Читатели «Комсомолки» помнили его очерки о Шмидте и Папанине. Мышанскнй жестом остановил всех на середине лужайки: — Вот здесь, товарищи, располагайтесь на травке... Кабинетов и письменных столов не будет. — Усмехнулся и продолжал: — Нужно что-то придумать для души. Да такое, чтобы красноармеец прочел и повеселел в окопе. Пора открыть в газете уголок юмора и сатиры. Смех — тоже оружие и может принести пользу на фронте. Продумайте все, обсудите, как лучше это сделать. Фронту нужен герой, бывалый, неунывающий воин, который мог бы молодых необстрелянных ребят учить воевать. Пусть он развенчает миф о непобедимости немецкой армии, борется с танкобоязнью, с трусостью, с паникерством. Есть о чем писать. Я надеюсь денька через два получить от вас первый материал, а потом уголок юмора и сатиры должен быть в каждом номере. Прошу меня извинить, надо заняться отъездом. — И Мышанский ушел. Каждый, собираясь с мыслями, не спешил первым начать разговор. Твардовский сидел рядом со мной, морщил лоб и курил папиросу за папиросой. Я тихо сказал ему: «Пить и есть не так любил он, как любил курить табак». Не поворачивая головы, он так же тихо ответил: — Читал, милый, читал. И снова молчание. — Друзья, я думаю так: в первую очередь для нашего уголка сатиры и юмора надо придумать заголовок, — наконец нарушил молчание Борис Палийчук. — А что, если назвать «Фронтовой крокодил»? — предложил Вашенцев. — Се-ре-жа... — укоризненно протянул Твардовский. — Ты думаешь, это не оригинально? Да! Существует журнал «Крокодил», ну и пусть... — Сережа, — Твардовский пыхнул папироской. — Назовем его «Смехомет», — и Безыменский перебрал струны гитары. — Это то и не то, — заметил Розенфельд. — Нет, именно то! — настаивал Безыменский. — Кто за? Но все молчали. Твардовский искоса взглянул на Палийчука, потом на меня: — Кто из вас был на фронте, что там сейчас главное? — Чтобы успешно бороться с танками, надо пушки выдвигать на прямую наводку, — ответил я. — Ну, милые, бить так бить!.. Есть название: «Прямой наводкой». — Твардовский, распечатав новую пачку «Казбека», закурил. — Подходит, нашли! — Вашенцев щелкнул пальцами. — Если подходит, то пойдем дальше... У нас на Ленинградском фронте во время финской кампании был Вася Теркин, он пользовался у бойцов большим успехом. Давайте воскресим его на Юго-Западном. — Теркин... Теркин... — повторил Безыменский. — Не знаю, будет ли звучать? — Понимаешь, ухарь-парень... Тертый калач... — пояснил Твардовский. — Назовем нашего героя Федя Гранаткин. Пусть заговорит «карманная артиллерия». Но предложение Безыменского никто не поддержал. — У нас до войны в газете «Красная Армия» был свой герой — Антон Протиркин. Может быть, его оставим? — сказал я. — Братцы, вы слышите? Протиркин... — От смеха Твардовский поперхнулся дымом. — Кого же изволите протирать, фрица? Да его гвоздить надо, гвоздить! — Товарищи, стой... Стой! — как бы поднимаясь на крыльях, взмахнул руками Палийчук. — Назовем нашего героя... Гвоздев! Имя ему дадим... Иван. — По-моему, неплохо, — проронил Твардовский. — Нашли, конечно, нашли... Пусть живет Иван Гвоздев, — сказал Вашенцев. И все согласились с ним. Как-то незаметно наступил вечер. Спала невыносимая жара. И ветер погнал по небу грозовые тучи. Все облегченно вздохнули. В такую погоду бомбежки не будет. Вскоре небо озарилось вспышками молний, загрохотал гром и зашумел желанный дождь. В ливень подали паровоз, звякнули буфера, и редакционный поезд, оставив запасную ветку, пошел на главный путь. Когда перестук колес затих, все сотрудники редакции сели в легковые машины и на окраине города присоединились к штабной колонне. В хмурый, дождливый вечер штаб Юго-Западного фронта покинул Проскуров. Я снова сижу в «эмке» рядом с Хозе, а за моей спиной, тихо переговариваясь, Твардовский с Вашенцевым строят разные догадки, связанные с отходом наших войск. Нерадостный разговор идет долго и сводится к одним и тем же мучительным вопросам: не захватит ли враг с ходу Киев? Когда же, на каком рубеже мы наконец-то остановим немцев? Безыменский забился в угол кузова, и оттуда звучит тихий тенорок: «Как на чер-ный ерик, как на чер-ный бе-рег, трах-ну-ли та-та-ры во сто ты-сяч лоша-дей. И покрылся ерик и покрылся бе-рег трупа-ми по-ко-ло-тых, пострелянных людей». От этой песни еще тоскливей тянется дорога. Большая колонна машин движется медленно, часто останавливается у железнодорожных переездов, где посвистывают паровозы, растаскивая поврежденные бомбежкой вагоны. Бердичев встречает нас мутным, дождливым рассветом. Весь день идет дождь, но зато в небе не гудят косяки «юнкерсов». Миновали Житомир и ночью прибыли в Киев на свой Печерск. Но тут поступил приказ: «Помещение редакции на Цитадельной улице не занимать. Переехать на улицу Воровского и расположиться в здании газеты «Комуніст». Все были утомлены мучительно долгой дорогой — повалились на новом месте в редакторской приемной на ковер в красных розах и тут же заснули.
3
На следующий день спешу на митинг в Союз писателей Украины. Небольшой садик с беседкой, с фонтанчиком и тенистыми аллейками — все это напоминает мне о днях мирной жизни, теперь надолго ушедшей. Обнимаю Андрея Малышко, жму руку Ивану Гончаренко. Уже многие мои товарищи надели военную форму — и среди них Вадим Собко, Анатолий Шиян и Василий Кучер. Митинг открывает Александр Корнейчук. Он в форме бригадного комиссара. Говорит страстно, призывно: — Каждый писатель должен стать на защиту Родины. Приравнять свое перо к трехгранному штыку. Наш свободолюбивый народ не станет на колени перед фашистской ордой. Он в битвах отстоит честь, достоинство и независимость Отчизны. Я верю: настанет день великой Победы, когда Красная Армия вышибет врага с нашей родной земли и освободит народы Европы от гитлеровской тирании. К столику, покрытому красной скатертью, подходит Микола Бажан: — Ніколи, ніколи не буде Вкраїна рабою німецьких катів, — звучит голос его. Свое гневное, трепетно-взволнованное выступление Павло Григорьевич Тычина заканчивает стихами: — Ой і буде морда бита — Гітлера бандита. — Товарищи! — энергично взмахивает рукой Иван Ле. — Мне, бывшему солдату царской армии, посчастливилось в жизни: я имел честь в апреле семнадцатого года встречать Владимира Ильича Ленина на Финляндском вокзале и слушать его речь, которую он произнес с броневика. Клянусь стойко сражаться с врагом, не щадить своей крови и жизни. Призываю всех вас непоколебимо стоять под ленинским знаменем. После пламенных слов Андрея Малышко, закрывая митинг, Александр Корнейчук пожелал писателям, едущим на фронт работать в армейской прессе, счастливого пути и возвращения в родной Киев с победой. Я уже видел войну и подумал о том, какой огненный путь лежит перед моими товарищами, какая у каждого отныне трудная, необычная судьба. Возвратясь в редакцию, зашел в машбюро и принялся диктовать информацию о митинге прямо на машинку. За этой работой меня застал Крикун. — Так что вы привезли с фронта? Заглянув в неразлучную записную книжку, я перечислил все, что мог сделать для газеты. — У вас я нахожу свыше десяти материалов. Немедленно готовьте самое главное в номер. Весь четвертый этаж огромного здания в моем распоряжении. Тихо. Пустынно. В распахнутых настежь комнатах ни души. В Киеве началась эвакуация, многие жители уже уехали на восток. Опустели и эти, плотно забитые столами, некогда оживленные комнаты. На пятый день снова переезжаем на новое место. Перестала выходить областная газета «Пролетарская правда», и наша редакция в центре города напротив оперного театра занимает четырехэтажный дом с хорошо оборудованной типографией и великолепной библиотекой. Безыменский с Вашенцевым поражены редким собранием книг. Твардовский осмотрел все шкафы и полки. Перелистал толстую книгу Даля «Русские пословицы» и увлекся словарем синонимов. Сделал выписку — «Коси, коса, пока роса, роса долой — и мы домой» — и забыл ее на столе. В полдень редактор собирает писателей на совещание. Хвалит уголок сатиры и юмора «Прямой наводкой». В политуправлении фронта многим понравилось первое выступление казака Ивана Гвоздева. Стихи Твардовского и Палийчука доходчивы, в них затронута важная тема о дисциплине и очень своевременно подвергнута критике танкобоязнь. Закрывая короткую летучку, Мышанский усмехнулся: — Ну, а теперь посмотрим, кто у нас настоящий писатель? — Подвел всех к большому яркому ковру, где посреди роз стояла двухпудовая гиря. Он легко, словно играючи, несколько раз то левой, то правой рукой выжал гирю. Я совершенно окреп после болезни, но все же предпочел не выходить на ковер. Как ни напрягал силы Александр Безыменский, ему пришлось сойти с ковра. Неудача постигла Розенфельда. Гирю выжал Твардовский. — Молодец! — сказал Мышанский. — Саша крепкий, в кузнице молотобойцем работал, — заметил Вашенцев и подошел к гире. Подняв ее, побагровел от натуги. Пенсне съехало на кончик носа, и тут пальцы разжались, гиря выскользнула из рук и оставила на ковре пробоину, похожую на полумесяц. — Мда-а... — произнес Мышанский и катнул ногой двухпудовку под стол. Твардовский вышел на балкон и позвал меня посмотреть, как поднимают в небо первый, пробный, аэростат воздушного заграждения. Серая громадина, чуть-чуть лоснясь, напоминала кита, который в утренней синеве неуклюже проплывал над рифами — гребнями городских крыш. К нам присоединился одетый как на парад, пахнущий одеколоном капитан Вирон. Посматривая на уходящий в глубь неба аэростат, он сказал: — Александр Трифонович, вы признанный поэт. Научите несмышленыша Леонида Вирона вашему поэтическому ремеслу. Твардовский вздохнул: — Если хочешь знать: я собираюсь бросить писать стихи. — Шутите, Александр Трифонович. — Мне не до шуток. Я думаю перейти на прозу. — Но ведь это в будущем, а пока возьмите меня в ученики. Скажите, как надо писать стихи? — Все, милый, зависит от слов. Надо уметь расставлять слова. — Вот именно, расставлять. Но как? Показали бы на примере. — Пример нужен?! — Твардовский глянул вниз. Как раз в это время к парадному крыльцу подходила Вера Божко — наш газетный экспедитор. Молодая, румяная, она была одета в красное шелковое платье. Ветер обвевал ее стройную фигуру. Шла она легко, красиво. — Видишь Веру, Вирон? Что ты можешь сказать о ней? От твоего ответа сейчас зависит все. Посмотрим, будешь ты поэтом или нет? — Я о ней скажу так: вот идет наша Вера, очень красивая девушка. — Нет, Вирон, надо сказать как-то иначе... Я бы сказал: вот идет Вера, девушка кровь с молоком. И сразу видно — она молодая, здоровая, красивая. А что, если бы взять да сказать так: вот идет Вера, девушка молоко с кровью. Все очарование пропало. Учись, Вирон, расставлять слова. Последняя фраза стала в нашей редакции крылатой. Ее часто повторяли на летучках при разборе неудачных материалов. И надо отдать должное капитану Вирону, он никогда ни на кого не обижался. Под вечер на разную высоту поднялись аэростаты воздушного заграждения. Они потянули за собой в темнеющее небо длинные стропы. Ночью на большой высоте появились два воздушных разведчика. Гигантские лучи сходились, и, словно белыми ножницами, резали на куски звенящее моторами небо. Били зенитки. Мелькали красные трассы снарядов. Но самолетам удалось ускользнуть от прожекторных лучей и безнаказанно уйти в ночь. Кто-то позвонил из политуправления и приказал полковому комиссару Мышанскому усилить охрану типографии и здания редакции. Я был назначен караульным начальником. Ночь выдалась неспокойной. По улицам передвигались войска. В городе трижды объявлялась воздушная тревога. Перед рассветом, застегивая на ходу ремни, в вестибюль быстро спустился с верхнего этажа начальник снабжения Лерман и послал старшину Богарчука заводить дежурную полуторку. Чуть свет они привезли ящики с бутылками горючей смеси и гранатами. Стало ясно: происходят какие-то важные события. Но какие? Полковой комиссар Мышанский уехал в политуправление, и все с нетерпением ждали его возвращения. Появился он в редакции встревоженный и сейчас же собрал в своем кабинете командный состав. — Товарищи, противник вышел на реку Ирпень. Очевидно, он попытается с ходу ворваться в город. Возможно, нам придется участвовать в уличных боях. Прошу запастись бутылками с горючей смесью и гранатами. Все переглянулись. Застыли. Наступила гнетущая тишина. Двадцатый день войны преподнес сюрприз. Гитлеровцы всего в двадцати пяти километрах от Киева! — Так вот... Помните, как поется в песне? «Приказ голов не вешать, а глядеть вперед!» — Мышанский развернул карту и тут же между корреспондентами распределил участки киевской обороны. Ивану Полякову выпала Гута-Межигорская, Михаилу Нидзе — Вита-Почтовая, а мне и Юрию Малишевскому — Ирпенский выступ. Линия обороны здесь круто поворачивала на Забужье, опоясывала небольшой курортный городок Ирпень, сельцо Яблоньки и, захватывая половину поселка Гостомель, уходила на восток, упираясь там в болотистую реку Ирпень. ...Противник методически обстреливал минометным огнем лес. Пока я с Малишевским добирался к железнодорожному мосту, этот коварный огонь все время преследовал нас, держал в напряжении. Мы подошли к реке и увидели взорванные железные фермы. И тут узнали от пограничников, что наш Ирпенский выступ срезан. Фашисты вплотную приблизились к Ирпенской пойме. Как тяжело воевать на родной земле! Каждый знакомый уголок словно скорбно шепчет тебе речными волнами, травой, березками: как же ты мог отдать меня врагу?! Вот и сейчас с бугра, на котором мы сидим в окопе с командиром отдельного пулеметного батальона капитаном Петром Алексеевичем Заворотным, хорошо виден Ирпенский дом творчества Союза писателей Украины. На островерхой крыше все так же вертится флюгер. Только зеленый островок на взгорье уже не наш, где-то там притаились немецкие наблюдатели. В ирпенском лесу мне как газетчику повезло, я встретил интересного человека. Пограничники и уровцы, которые пять суток шли с Западного Буга по тылам врага, высоко оценили командирские способности капитана Заворотного. Они считали, что только благодаря его умелому руководству отряд пробился к своим. Капитан Заворотный, будучи начальником штаба 35-го отдельного пулеметного батальона, в первый день войны защищал Струмиловский УР. У капитана уже был боевой опыт. Он видел, как немцы прорывали нашу укрепленную линию, знал их тактику, а это имело немаловажное значение для отражения вражеских атак на реке Ирпень. Познакомившись с капитаном Заворотным, я заметил, что он вел себя под огнем противника так, будто и не свистели над его головой мины. Но это была не бравада, не желание блеснуть перед журналистами показной храбростью — просто его натренированный слух безошибочно улавливал то недолет, то перелет. Когда же воздух зашуршал шелком, он вскрикнул: — В укрытие! Из окопа по ходу сообщения перешли в блиндаж. Мины с треском рвались вблизи нашего убежища. На вид капитану можно было дать не более тридцати лет. Лицо волевое, с внимательными карими глазами. Когда он пожимал мне руку, чувствовалось, что этот человек обладает большой физической силой. — Так вы, товарищи корреспонденты, хотите знать, как немцы прорывали нашу укрепленную полосу на границе? Все это еще свежо в памяти. Прошло только двадцать дней... Сегодня они подошли на рассвете к реке Ирпень и с ходу сунулись ее форсировать. Но крепепько получили по зубам, вышла осечка. Вот что отрадно: кровь, пролитая на поле боя, не пропала даром. Пока наши войска сдерживали врага на границе, а потом под Луцком и Ровно, киевляне успели привести в порядок и усовершенствовать УР, за день до подхода противника он был насыщен войсками, полностью подготовлен к обороне. — Капитан опустился на складной стульчик, закурил. — А теперь давайте вернемся к границе. Понимаете, перед самой войной граница, как барометр, показывала бурю. «Мессершмитты» вторгались в наше воздушное пространство, вели разведывательные полеты. По ночам на берегах Западного Буга вспыхивали перестрелки. К нам пробирались шпионы, шли диверсанты, на пограничных заставах все чаще звучала команда: «В ружьё!» К началу войны инженерное оборудование Струмиловского укрепленного района, состоящего из пяти оборонительных узлов — тридцати трех долговременных огневых точек, или, как говорят, дотов, полностью не было закончено. Так как строительство сооружений продолжалось, то стройной системы артиллерийского и пулеметного огня уровцы не имели. Слабость оборонительной полосы заключалась и в том, что два левофланговых узла Владимир-Волынского укрепленного района еще не вступили в строй. А это двадцать пять километров незащищенной местности! В четыре часа утра немцы неожиданно обрушили на укрепленный район огонь дальнобойных орудий. Наш 35-й отдельный пулеметный батальон занимал позиции между дотами. Бойцы находились в окопах, дзотах. К нашему счастью, большинство тяжелых снарядов не разорвалось. Потом, уже днем, когда временно затихли боевые действия, бойцы насчитали около сотни таких снарядов. Ураганный артиллерийский обстрел сопровождался беспрерывной бомбежкой. Наш УР молчал. Немцы обстреливали и бомбили в течение часа. Когда артподготовка стала подходить к концу, пехота начала переправляться через Западный Буг. УР не открывал огня. Западный Буг в тех местах неглубокий. Немецкие пехотинцы перешли его вброд. За ними двинулись артиллеристы и перекатили на руках через речку легкие и средние пушки. Шли очень смело — в полный рост. Вероятно, думали, что бомбежка и артналет подавили нашу оборону. И тут в бой вступили пограничники, и ожил огнем весь Струмиловский УР. Противник обстрелял УР дымовыми снарядами. Густой бурый дым ослепил нас. Через амбразуры проник в доты. Стало трудно дышать. К дотам двинулись штурмовые группы. Они несли взрывчатку в черных ящиках и длинные шесты с минами. Но пулеметный батальон отбил атаку штурмовых групп. Наступило затишье. Дым рассеивался. Командир батальона капитан Гень выслал разведку во главе с младшим лейтенантом Велько. Разведчикам добыть «языка» не удалось, но они на берегу Западного Буга взяли у двух убитых гитлеровских офицеров документы и карты. Струмиловский УР штурмовал 192-й пехотный полк. На трофейных картах было точно обозначено расположение наших дотов, а командный пункт отмечен красным крестиком. Это была работа вражеских лазутчиков. Отражая натиск врага, пограничники и уровцы ждали подхода регулярных частей Красной Армии. Но связь с Каменкой, где находились старшие начальники, прервалась. Капитан Гень направил двух разведчиков в Каменку, но они не вернулись. Тогда комбат послал семь добровольцев во главе с младшим лейтенантом Баранниковым. Из этой группы возвратился один младший лейтенант Лысак, все его товарищи погибли, он не смог пройти в Каменку. Надо сказать, что в это время наши пограничники вели бой за мост на Западном Буге. Несколько раз они пытались взорвать его. Но немцы прочно удерживали захваченный мост. Однако наладить переправу войск противнику мешал с левого фланга гарнизон дота младшего лейтенанта Бессмертного, а с правого — гарнизон дота младшего лейтенанта Начфинова. Противник решил во что бы то ни стало уничтожить два этих дота. Под прикрытием орудийного огня, в дыму, штурмовые группы поползли к дотам с ящиками взрывчатки. На помощь осажденным гарнизонам пришел с деблокирующей группой младший лейтенант Велько и отогнал подрывников. В ответ фашисты усилили обстрел. Снаряд попал в бронешар и заклинил его. И вот тут-то произошло совсем невероятное. Под орудийным огнем поднялся младший лейтенант Велько и с помощью оружейного мастера сержанта Лазарева спокойно, как ни в чем не бывало, привел бронешар в порядок. В этот день младший лейтенант Велько четыре раза испытывал судьбу. Под огнем немецкой артиллерии он выходил из дота и налаживал бронешар. Потом еще дважды то же самое делал лейтенант Макеев и оружейный мастер сержант Лазарев. Когда с тыла ударили тяжелые орудия, все мы воспряли духом: помощь подоспела! Но радость оказалась преждевременной. В тылу у нас появился противник. Его 310-миллиметровые пушки стали бить по дотам прямой наводкой. Беззащитная тыловая сторона УРа ничего не могла поделать с этими орудиями. Мы только горько сетовали о том, что наши доты оказались недостроенными. Вражеская артиллерия била с фронта, била с тыла. Она вела огонь час, второй, третий. В дотах жарко. Скопились пороховые газы, дышать трудно. От прямых попаданий снарядов доты вздрагивали, качались. В ушах стоял звон. А пушки все били, били... Огнем тяжелых орудий враг разбил первый каземат второй роты и приступил к третьему. Подрывники окружили дот младшего лейтенанта Бессмертного. Они предложили гарнизону сдаться. Никто не вышел из дота, не сдался. Враг окружил и взорвал дот младшего лейтенанта Начфинова. Потом приступил к подрыву дота младшего лейтенанта Ерковича. Но тут появился Велько с деблокирующей группой. Бойцы, забросав гранатами немецких саперов, отстояли дот. А на мосту зарокотали моторами с черно-белыми крестами танки и большой колонной пошли на Сокаль. Ночь принесла затишье. Только взлетали ракеты, изредка раздавались короткие пулеметные очереди. Утром борьба разгорелась с прежней силой. Враг продолжал бить с тыла из тяжелых орудий. Снайперы повредили перископы — это помогло штурмовым группам подорвать ослепленные доты. Наш пулеметный батальон понес потери. Он уже не мог контратаками приходить на выручку окруженным гарнизонам дотов. А враг все время подбрасывал подкрепления, наращивал артиллерийский огонь. И все же УР продолжал вести бой. Никто не бросил оружия, не ушел со своего поста, не попросил у врага пощады. На третьи сутки капитан Гень приказал уцелевшим гарнизонам снять у орудий замки, забрать пулеметы, покинуть доты и пробиваться к своим. Выйти ночью из окружения помог курсант Каняров. До схватки с гитлеровцами этот паренек ничем не выделялся — тихий, скромный. Когда выступал на комсомольском собрании, всегда почему-то краснел. А начался бой — первый в атаку, первым в разведку. Пробраться под огнем в дот — пожалуйста. Если мина повредит провод, он сейчас же наладит связь. Когда Каняров ходил в разведку, ему пришлось хорошенько побродить по болоту. Местные жители считали лесную топь непроходимой, а вот он сумел найти тропку. Дикая топь не хотела смириться с человеческой дерзостью. Нет-нет, да и зачавкает ненасытная болотная утроба и, оскалив черную пасть, плеснет в грудь тухлую мертвую воду. Только отряд вышел из болота и углубился в лес — появились гитлеровцы. Велько с Матвеевым, вооружившись пулеметами, стали прикрывать отход отряда. Они пожертвовали собой, но сдержали противника, спасли товарищей. Вот и все. — Заворотный поднялся. Поздним вечером, возвратясь в редакцию, сразу же засел за очерк. Через три дня он появился в газете, сильно сокращенным. Читал его с чувством досады. В комнату в это время вошел быстрый, напористый Валентин Шумов — заведующий киевским корпунктом «Комсомольской правды». — Слушай, дружище, гоняюсь за тобой со вчерашнего дня. Есть срочное задание. Надеюсь, выручишь? Нужен подвальный очерк прямо в номер: «Киев в эти дни». Я просил написать Александра Твардовского, но он занят. Посоветовал обратиться к тебе. Ты должен рассказать читателям «Комсомолки» о своем городе. Чем он живет, как борется? Лады? — Лады... А срок? — Ты же газетчик, понимаешь... Надо спешить, побывать в разных концах города. Без помощи Хозе тут не обойтись. После фронтовых дорог он привел «эмку» в порядок, и она выглядит как новая. Едем на почтамт. Он поражает меня не только колоссальным объемом работы, но и какой-то особой человечностью, бережным отношением к каждой телеграмме и письму. Тысячи людей ушли на фронт, эвакуировались на восток, сменили в городе местожительство. Что ни письмо — судьба человека. Почтальоны сделались настоящими следопытами. Письмо с фронта или с далекого Урала не должно остаться без ответа. Если выбыл адресат — надо разыскать его родственников или знакомых. На киевской телефонной станции образцовый порядок. Связь как никогда нужна сейчас осажденному городу. И она работает бесперебойно. В киевских военкоматах несметное количество заявлений. Юноши, девушки, женщины, пожилые мужчины просятся в армию. Листаю заявления, написанные лиловыми, зелеными, красными чернилами, химическими и простыми карандашами. Беседую с пожилыми рабочими-ополченцами, с недавними студентами — бойцами истребительных батальонов, с донорами, домохозяйками, старательно возводящими баррикады на площади Льва Толстого. Работаю над очерком всю ночь и утром, отпечатав его на машинке, спешу к Шумову. — Так ты написал?! Не подвел... Посиди, сейчас прочту, может быть, возникнут какие-нибудь вопросы... — Шумов перевернул последний листок. — У меня замечаний нет. Материал буду передавать. Через два дня он позвонил: — Говорит Шумов. Очерк напечатан. Поздравляю и благодарю за выручку. Было приятно и почетно напечататься в «Комсомольской правде». В буфете за чаем, пробежав мой очерк в газете, Александр Трифонович спросил: — И это ты все из своей головушки? Я вопросительно посмотрел на Твардовского. Он продолжал: — Была у меня бабка. Неграмотная. Бывало, как только выйдет у меня книжка стихов, я накуплю связки бубликов и еду на родину. Вместе с бубликами преподношу бабке и книжку. Бублики возьмет с большой радостью. А книжку, повертев в руках с безразличным видом, положит на полочку. Однажды, приехав к бабке с бубликами и новой книжкой, преподнес ей подарки. На этот раз бабка не на бублики, а на книжку обратила внимание. Кто-то ей растолковал, что книжки привожу не чужие, а собственного сочинения. И тут она, нежно поглаживая обложку, воскликнула: «И это ты все из своей головушки? Ты и дальше так продолжай делать, милый». Вот я тебе и передаю совет моей бабки. После завтрака собрался зайти в секретариат и узнать, какие будут дальнейшие распоряжения, что готовить в следующий номер, как тут ко мне — посыльный: — Полковой комиссар приказал явиться к нему. Мышанский был явно не в духе. Он то и дело постукивал толстым карандашом по настольному стеклу. Как только вошел в кабинет, сразу засыпал вопросами: — Вы в какой редакции работаете? Кто позволил? Зачем очерк отдали в «Комсомольскую правду»? «Ах вот оно что...» Разнос продолжался минут двадцать и закончился довольно на высокой ноте: — Самовольничаете! Думаете, что все вы гении и вам все дозволено. Так что вы скажете в свое оправдание? Я не чувствовал за собой никакой вины, обида мучила. «Будь что будет», — и выпалил: — Я не крепостной казачок, чтобы у барина брать разрешение. Он моментально сбавил тон. Холодно и спокойно произнес: — Я подумаю. Возможно, вам придется перейти в другую редакцию. После разговора с редактором я вышел на улицу и побрел в парк Шевченко. Возле университета выстраивался студенческий батальон. Девушки, впервые надев военную форму и вооружившись винтовками, ахали от удивления, не узнавая своих ближайших подружек. Я думал о том, куда меня теперь закинет судьба. Уходить в другую редакцию не хотелось. С газетой «Красная Армия» был связан многие ходы. Считал ее родной. И вот такая нелепость. Утешала блоковская строка: «Не пропадем, не сгнием мы». Вернулся в редакцию под вечер. Твардовский спросил: — Ты почему такой грустный? Выслушав меня, заметил: — Сейчас пойду поговорю с ним. Не знаю, что сказал Твардовский редактору, но только вскоре появился посыльный: — Полковой комиссар просит зайти к нему. Я вошел в редакторский кабинет. На столе паровал большой никелированный чайник, на тарелке красовались бутерброды. Твардовский с Вашенцевым пили у редактора чай. Мышанский, взглянув на меня, придвинул к столу кресло: — Садись, сынок, чай пить. Я подумал: «Авось и распарит кручину хлебнувшая чаю душа». Вошел Борис Палийчук. Редактор повел разговор о казаке Иване Гвоздеве. Принялись обсуждать новые темы. Непринужденная беседа затяпулась до глубокой ночи. А наутро снова срочный вызовк редактору. — Ну, сынок, только что звонил начальник политуправления. Собирайся, надо ехать в девяносто девятую дивизию делать разворот. Она первой в Красной Армии за боевые подвиги на Украине получила орден Красного Знамени. Ты Ивана Ле, надеюсь, знаешь, и Леонида Первомайского? Бери машину, мотай в Бровары. Как только въедешь в местечко, с левой стороны будет трехэтажное здание школы. В нем теперь располагается редакция фронтового радиовещания. Там тебя ждут названные товарищи. Они знают, что надо делать дальше. Восемнадцать километров не такое уж большое расстояние, но передвигалась артиллерия, шли обозы, войска, и как ни старался Хозе, а в Бровары мы приехали с большим опозданием. У входа в школу меня поджидал недовольный Иван Леонтьевич Ле. — Где ты запропастился? Звонил в редакцию, сказали: «Два часа как выехал». А все нет и нет. Нам надо к начальнику политуправления явиться. Сейчас позову Первомайского. К начальнику политуправления нам пришлось наведываться несколько раз. Его порученец неизменно отвечал: — Он на фронте. Скоро будет. Ждите. Во второй половине дня мы были приняты бригадным комиссаром Михайловым. — Товарищи писатели, — сказал он, — как вы уже знаете, наша геройская девяносто девятая стрелковая дивизия первой в Отечественную войну награждена орденом Красного Знамени. Военный совет Юго-Западного фронта придает этому важному событию исключительное значение. Мы хотим широко в прессе и по радио осветить боевые дела стойкой дивизии, рассказать о ее храбрых бойцах и командирах. Думаю, лучше всего это могут сделать мастера слова — фронтовые писатели. Предупреждаю — командировка очень ответственная. События на том участке фронта, куда вы поедете, все время обостряются. В пути вы можете столкнуться с любой неожиданностью. Поднялся Иван Леонтьевич Ле и сказал: — Я и мои товарищи готовы выполнить любое задание Военного совета. — Не сомневаюсь, — заметил бригадный комиссар и продолжал: — С вами поедут еще некоторые товарищи из «Комуніста» и «Комсомольской правды». Старшим в вашей бригаде назначаю батальонного комиссара Ивана Леонтьевича Ле. Советую ехать не на легковых машинах, а на грузовике. Полковому комиссару Мышанскому дано указание подготовить машину. Штаб армии сейчас находится в Христиновке. Там вам оперативщики укажут точную дорогу в дивизию. Но может оказаться и так: штаб армии будет в движении, тогда вам придется проявить инициативу — действовать самостоятельно и выполнить задание, — начальник политуправления, достав из-под кипы бумаг пакет с большими сургучными печатями, подал его Ивану Ле. — Прошу вручить командованию дивизии благодарственное письмо Военного совета. Только вышли от Михайлова, налетели «юнкерсы», началась бомбежка. Пришлось укрыться в щели. От прямого попадания бомбы в каменный домик погибло семь штабных офицеров. Когда ушли «юнкерсы», мы с тяжелым чувством покинули полыхающие пожарами Бровары.
4
В редакции перед отъездом на фронт короткое совещание. Развернуты карты. Вопрос один: каким путем ехать в Христиновку? Самая лучшая дорога идет через Белую Церковь, но там бои. Можно под Каневом переправиться на правый берег Днепра, а вот какая обстановка за этим городом? Неясно. — Не будем долго мудрить. Поедем окольным путем. Он, пожалуй, самый надежный. Двинем на Переяслав, потом на Золотоношу, переберемся через Дпепр в Черкассах, а там зайдем к военному коменданту — выясним обстановку, — предложил Иван Ле. Мышанский согласился с ним. Он приказал старшине Богарчуку выдать мне автомат с двумя запасными дисками, а в кузов грузовика поставить ящик с гранатами. К нашей писательской бригаде редактор прикомандировал широкобрового, с быстрым цепким взглядом лейтенанта Владимира Шамшу и неторопливого старшего лейтенанта Николая Скачковского. К нам тут же присоединился говорливый, порывистый фотокорреспондент республиканской газеты «Комуніст» Барвик и неуклюжий на вид Борис Иваницкий — фотокорреспондент «Комсомольской правды». Я попросил редактора послать с нами водителем ЗИСа Хозе и получил «добро». Но тут вмешался начальник снабжения Лерман, и грузовик повел не очень расторопный красноармеец Ромашевский. Рядом с ним, положив на колени карту, сел Иван Ле. Я был назначен им старшим в кузове. В мою обязанность входило: через каждые два часа менять наблюдателей за воздухом и в случае появления «юнкерсов» стукнуть кулаком по крыше кабины и подать водителю сигнал тревоги. Рядом со мной сидел Леонид Первомайский в новой командирской форме, но без знаков различия в петлицах; ему еще не было присвоено звание. От пышной черной шевелюры тесная фуражка съезжала набекрень. Он часто поправлял ее, надвигал на лоб. Из-под козырька смотрели молодые умные карие глаза. Он молча курил трубку. За Дарницей потянулся бор. Началась тряска. До самого Борисполя ЗИС прыгал по горбатым серым булыжникам. На восточной окраине Борисполя Иван Ле решил не сворачивать вправо на переяславский шлях, а ехать прямо на Любарцы. Открываются ровные, необозримые поля Левобережной Украины с белыми мазанками, окруженными вишневыми садами. В человеческий рост стоят созревшие хлеба. Такого богатого урожая я не видел никогда в жизни. А кругом удручающая тишина — не слышно в поле ни одного голоска, не видно ни косилки, ни комбайна. Только над хлебами кружат коршуны. Война... Первомайский тихо роняет: — Доколе коршуну кружить? Доколе матери тужить? И грузовик тарахтит: до-ко-ле? Под вечер въезжаем в тихие безлюдные Подворки. Справа остается старинный Переяслав с темнеющими куполами церквушек. Резко поворачиваем к Днепру, снова выскакиваем на пыльный шлях и уже в густых сумерках останавливаемся на ночлег в Хоцках, во дворе комендатуры. — А не сократить ли нам, хлопцы, путь? Давайте посоветуемся с комендантом, может быть, двинем через Канев? — предложил Иван Ле. Комендант читал романы Ивана Ле и рад был встрече с их автором. Он немало удивился и тому, что в такое напряженное время писатели едут на фронт. Когда же разговор зашел о Каневе, он сказал: — Я не знаю общей обстановки, товарищи писатели, но мне известно: каневская дорога опасна. К Мироновке приближается немецкий танковый клин. — Ох, эти танковые клинья! И под Белой Церковью — клин, и под Каневом — клин, — Иван Ле махнул рукой. — Пошли, хлопцы, спать. Я лежу рядом с Первомайским и не могу насмотреться на звездное небо. Война наполнила меня каким-то трепетом и обострила чувства. Как мало прожито. Как мало ценили мы эти звездные ночи... Укладываясь спать, Владимир Шамша сказал: — Всегда я по Большой Медведице ищу Полярную звезду. «Будет ли счастливой наша звезда? Найдем ли мы за Днепром дивизию? Вернемся ли в Киев?» Леопид Первомайский тоже смотрит в небо и тихо-тихо шепчет: — О расскажите мне, звезды, про древнюю, полную муки загадку — кто есть человек? Откуда пришел он? Куда пойдет? И кто там над нами, в пространстве живет? — Повернулся на бок, добавил: — И ждет безумец ответа. — Спать, хлопцы! Завтра рано вставать, — приподнимаясь, шелестит сеном Ле. Я долго не могу уснуть. Мне кажется: с Каневских гор течет Млечный Путь и наполняет эту тихую ночь звонким, живым серебром. Едва сквозь тополиную посадку пробился свет зари, как Иван Ле поднял всех на ноги. Наскоро перекусили — и в путь. Утром миновали напуганную близкими бомбежками Золотоношу. В городке чувствовалась нервозность, порой граничащая с паникой. — Не узнаю Золотоношу, не узнаю, — сказал Иван Ле после короткой остановки, когда, свернув с Ирклиевского шляха, взяли курс на черкасский мост. Навстречу движутся гурты овец, вереницей уходят на восток трактора, мелькают полуторки с опечатанными мешками и вооруженными людьми, — видно, эвакуируется какой-то банк. Показываются большие толпы беженцев. Спешат поскорей покинуть дамбу, разойтись по степным дорогам. На контрольно-пропускном пункте лейтенант, который представился нам помощником коменданта черкасского моста, долго и придирчиво проверяет наши документы. Эта медлительность начинает раздражать Первомайского: — Так что там, печать не так поставлена?! Помощник коменданта, не отвечая на реплику, достает из планшета книжечку и, перелистав странички, обращается к Ивану Ле: — Товарищ батальонный комиссар, среди объектов, которые я должен пропускать через мост на правый берег Днепра, бригада писателей и корреспондентов не значится. Прошу до выяснения отвести машину в укрытие. Леонид Первомайский, соскакивая с грузовика, вскипает: — Лейтенант, мы, конечно же, не «объекты». И какие там еще нужны документы? — Он выхватывает у Ивана Ле из планшетки пакет Военного совета. — А что это, не документ? Не пропуск? Пакет Военного совета с большими сургучовыми печатями производит на помощника коменданта магическое действие. — Так сказали бы сразу, что вы писатели — офицеры связи. Никто бы вас не задерживал, — оправдывается он и, взмахнув красным флажком, дает знать часовым, что путь для нашего ЗИСа открыт. Я смотрю с моста вниз. Днепр, как бы утомленный зноем, лениво, сонно накатывает на песчаный берег волны. Вдруг движение машин замирает. — Воздух! — «Юнкерсы»! На деревянном мосту слышится гулкий топот ног. С левого и правого берега бьют зенитки. Небо в огненных вспышках, а попаданий нет. Девятка «юнкерсов» заходит на бомбежку. Вот она разворачивается, цепью повисает над рекой. Мы соскакиваем с машины и вместе со всеми, кто был на мосту, открываем по самолетам огонь. Флагман с воем входит в пике. Длиннющий деревянный мост вздрагивает. Он скрипит и качается. От близких взрывов летят такие брызги, что дощатый настил сразу темнеет, как от сильного ливня. Все же ни один пролет не поврежден. Не успели проводить взглядом удаляющуюся девятку «юнкерсов», как появляется новая. Люди, застигнутые на мосту бомбежкой, на чем свет стоит ругают зенитчиков и радуются тому, что все сброшенные бомбы поднимают только фонтаны воды. Черкасский мост преподнес нам серьезное испытание. Но зато мы узнали друг друга. Поведение в боевой обстановке, как своеобразная лакмусовая бумага, проявляет характеры. Перебравшись через огненный мост, почувствовали себя воинами: никто не струсил, не побежал, не бросил товарищей. Это говорило о многом: наша бригада и в дальнейшем не спасует перед опасностью, она выполнит до конца свой нелегкий солдатский долг. Черкассы — город одноэтажных домиков, фруктовых садов и тенистых тополей. Он насторожен, приведен в боевую готовность. На улицах — патрули, конная милиция, регулировщики. Маршируют новобранцы, течет поток военных машин. Бьется учащенный пульс города. Черкассы пережили уже не одну бомбежку. Они расстались с тополиной тишиной, но настроены не панически. Комендант города занят до предела размещением госпиталей, отправкой пароходов, санитарных поездов, машин, и все же он немедленно принимает нас: — Товарищи писатели, чем могу служить? Разговор с комендантом длится несколько минут. Его рвут на части телефонные звонки и дежурные командиры. По данным коменданта, оперативная обстановка на нашем участке фронта значительно осложнилась. Штаб 12-й армии в движении, он прошел Христиновку. Нашей бригаде комендант советует ехать в Корсунь, где мы окончательно сможем уточнить местонахождение 99-й дивизии. И вот наш ЗИС проносится мимо городской гостиницы с единственным балконом, нависающим над главным входом. Первомайский, толкая меня локтем, показывает на балкон трубкой. — Ты помнишь? Вспоминаем поездку с венгерскими писателями по Днепру. Двухдневную остановку в Черкассах. Память, как машина времени, возвращает в прошлое. Вот я стою с Первомайским на промелькнувшем в тополиных ветках балконе, а Матэ Залка сидит в плетеном кресле и повторяет перед выступлением в городском парке свой рассказ «Яблоки». «На южном участке Таганаша мы шли в штыковую атаку на отчаянно сопротивляющихся белых. Я кричал до хрипоты, собирая остатки своей роты, когда из калитки беленького домика вышла старушка. Она вынула из-под фартука три яблока и протянула мне: — Попробуй, сынок, освежись. Я надкусил яблоко. Во рту моем разлился незнакомый, нежный, живительный аромат освежающего сока. Я почувствовал на своих губах вкус победы». Когда же мы на своих губах почувствуем вкус победы? Когда?! За Смелой ровная степь переходит в холмистую местность. Кругом темная, сочная зелень лесов. Порой с возвышенности открывается и степная полоса с оврагами и желтеющими квадратами созревших хлебов. И как-то странно и таинственно выглядят от красного суглинка дальние дороги, словно обагренные кровью, пересекают они холмы и низины и уходят в лес. Только села здесь притихли и опустели, как муравейники перед зимой. На дороге все чаще сигналят автобусы с красными крестами. Чувствуется близость фронта. Вот к придорожной кринице с ведрами бегут встревоженные водители. — Откуда вы, хлопцы? — спрашивает Иван Ле. — Из «богуславской каши». — Богуслав держится? — Сдан. В изрешеченной пулями «эмке» раненый подполковник поправляет повязку. Иван Ле заводит с ним разговор. Подполковник достает из полевой сумки карту, кладет на колени: — Все в корне изменилось. Здесь вы не проедете, товарищи писатели. Нет никакой дороги. Вам надо возвратиться в Смелу и повернуть на Умань. Только так... Только! Но та дорога тоже тревожит. Сколько она еще продержится в наших руках, этого не берусь предсказывать. «Эмка» тронулась, а мы стали думать, что же нам делать? Ведь Умань — это снова окольный путь. — Немедленно к коменданту! — настаивает Первомайский. — А там будет видно. Корсунский комендант майор Титаренко растерян. Он отдает своим подчиненным распоряжение за распоряжением. Дежурные не успевают взяться за дверную ручку, как он останавливает их и все отменяет. Так и хочется сказать: — Комендант, да перестаньте же быть тряпкой! Корсунский комендант смотрит на нас так, будто хочет сказать: «Какой дьявол занес вас сюда? Своих забот хватает, а тут еще ломай голову, отыскивай дорогу на Христиновку». Леонид Первомайский уже знает, как надо разговаривать в таких случаях с местными начальниками. Он кладет пакет с большими сургучовыми печатями на стол перед комендантом и внушительно говорит: — Вы понимаете, что это мы должны немедленно доставить в дивизию? — Можно еще проскочить через Звенигородку, — поглядывая на пакет, поспешно отвечает комендант и крутит телефонную ручку. — Звенигородка! Алло, Звенигородка! Не отвечает... А без проверки ехать нельзя. — Он устает крутить ручку и выкрикивать: — Звенигородка! Отвечай, Звенигородка! Ручку крутит Первомайский. Молчание. К телефону подсаживается Иван Ле. Ручка жужжит, как шершень. И вдруг: — Это я, Звенигородка! — В телефонной трубке грохот боя. — С вами говорят из Корсуня корреспонденты. Хотим приехать в Звенигородку. Интересуемся дорогой на Умань и на Христиновку. Слышно, как тревожно дышит телефонистка. — Нет, нет, миленькие, сюда не надо ехать. У нас бой идет. Не рвитесь к нам. Здесь земля гудит. Ой, мои родненькие, вижу немецкие танки, — голос девушки, полный отчаяния, трепещет в трубке. — А как же мне быть? Я одна сижу... Что делать? Куда уходить? Комендант выхватывает у Ивана Ле трубку и кричит: — На Корсунь! На Корсунь! Связь прерывается. Несколько минут сидим молча, думая о судьбе телефонистки, которая до последней возможности была на своем посту. Да, невесело. Богуслав сдан. В Звенигородку ворвались немецкие танки. Слышно, как в Корсуне нарастает стук подков и колес. В город втягиваются обозы, а это верный признак — наши войска отходят. Надо и нам возвращаться назад. Засветло в Смелу не попадешь, едем в Городище. Маленький городок настроен по-боевому. Сквер у здания райкома превращен в военный лагерь. В сумерках здесь вооружается местный партизанский отряд. Командиры сколачивают взводы и роты. Винтовок не хватает. Автоматов нет. Гранат мало. У некоторых бородачей за плечами одноствольные и двуствольные охотничьи ружья. С рассветом уйдут партизаны бить на лесных дорогах врага — это всплеск народного гнева. Райкомовцы обрадованы неожиданным приездом нашей бригады. В Городище особым уважением пользуется Иван Ле. Здесь у него много читателей и давних знакомых. Первый секретарь районного комитета партии, он же и командир партизанского отряда, просит Ивана Ле рассказать народу о положении на фронте. Всех волнует судьба столицы Украины. Что там, как там в Киеве? Устоит ли город? Сдержит ли он врага, крепка ли его оборона? Маленький райкомовский зал заполнен, набит до отказа. Двери распахнуты настежь и все окна тоже. Чуть кто кашлянет, зал шипит шиной проколотой, требует тишины. Заканчивая свое выступление, Иван Ле заверяет слушателей: — Враг не прорвет укреплений под Киевом. Он несет большие потери у его древних стен. Город превращен войсками и жителями в крепость на Днепре. Ночуем в сквере вместе с партизанами, которых более двухсот человек. Чуть свет — подъем. Прощаясь с секретарями райкома, дарим им десять гранат. Отряд строится в походную колонну, а наш ЗИС минует площадь и по кривой пустынной улочке вылетает на дорогу, ведущую в Смелу. На окраине этого городка поворачиваем на Умань. Четвёртые сутки ищем дорогу в 99-ю дивизию. Запасной бензин в железной бочке катастрофически убывает. При въезде в Умань дымятся расколотые бомбами дома. На этажах все вверх дном. Скорее бы миновать это неприбранное горе. Слишком больно смотреть на окровавленные детские коляски. Уманский комендант человек волевой, решительный. Приказы отдает подчиненным четко, без всяких колебаний и требует немедленного их выполнения. Проверяя наши документы, он шутит: — Хотел вас направить, товарищи писатели, в Первомайский район, а у вас, оказывается, есть свой Первомайский. Ну ничего, поедете в Голованивский. — Кстати, есть у нас и Голованивский, только он не с нами, а в Киеве, — так же шутливо отвечает Леонид Первомайский. Мы быстро покидаем комендатуру и за Уманью встречаем в лесу на привале танкистов. Наш бригадир идет к ним, чтобы еще раз уточнить дорогу в 99-ю дивизию. Выслушав Ивана Ле, командир танкового батальона сказал: В Голованивск нельзя ехать. Наши войска отходят. И тут к нам подлетел на мотоцикле посыльный уманского коменданта: — Товарищи писатели, полковник просит вас немедленно приехать к нему. Комендант искренне рад нашему возвращению. — Обстановка резко изменилась, товарищи. Вам надо держать путь на Ивангород. Девяносто девятая дивизия находится сейчас в селе Краснополки, возможен отход в район села Подвысокое. С отправкой нас по новому пути он не торопится. Спрашивает у водителя, в каком состоянии ЗИС. Приказывает пополнить нашу бочку бензином. Предлагает нам пообедать. Но мы благодарим коменданта и спешим с ним проститься. Он еще раз звонит в Ивангород, потом вызывает Христиновку. Нам начинает казаться, что полковник под любым предлогом хочет нас задержать в Умани. Неугомонный! Он снова связывается с Ивангородом, уточняет обстановку, показывает на карте, как лучше всего проехать в село Краснополки. Все это трогает нас, и по дороге на Ивангород мы часто вспоминаем заботливого коменданта. — Он чем-то напоминает мне лермонтовского Максима Максимыча, — роняет Первомайский и начинает всматриваться в небо. В знойной синеве преобладает один звук: ве-з-ззу... Девятка тяжело груженных «юнкерсов» идет бомбить Умань. Тревожно на дороге. К ней на бреющем подкрадываются «мессеры», охотятся за машинами. Ивангород! Это последняя наша надежда пробиться в 99-ю дивизию. Неужели ни с чем вернемся в Киев? Как на это посмотрят в политуправлении? Ведь нам доверен пакет Военного совета фронта. Поручено выполнить боевое задание. Нет, только вперед и вперёд! Хорошо, что в нашей бригаде нет ни нытиков, ни маловеров. Всем кажется, что еще один поворот — и свершится чудо, мы нападем на след дивизии. И оно свершается. В Ивангороде останавливаем на улице грузовую машину. Ну как тут не обрадоваться? Она идет в нашу дивизию! Теперь только надо пристроиться в хвост полуторке и не потерять ее из виду в летучих завесах пыли. Девяносто девятая! Она где-то близко. Заметны следы боев. Хлеба помяты колесами пушек, а дорога разбита гусеницами танков. На месте села одни печные трубы — черные памятники недавнего сражения. Бомбежка, как буря, повалив вековые деревья, оставила в лесу пепельные просеки. Сбитый «юнкерс» врезался в землю, и над кустами его хвост. А за ним уже из окопов выглядывают бойцы. На восточной опушке леса Зелена Брама, вблизи села Подвысокое наконец-то находим КП 99-й дивизии. Встречает нас начальник штаба Сергей Федорович Горохов: — Поздравляем вас, товарищи, с благополучным прибытием. Мы уже тревожились. Из штаба фронта сообщили: бригада писателей и корреспондентов выехала в дивизию, а вас нет и нет. Обстановка накаленная, и могло всякое случиться. На КП вскоре появился командир дивизии полковник Павел Прокофьевич Опякин — высокий, жилистый. Час тому назад он получил в бою ранение. Его правая щека заклеена пластырем. Следом за ним пришел начальник политотдела полковой комиссар Петр Сысоевич Ильин. Наш бригадир Иван Леонтьевич Ле вручил пакет командиру дивизии. Ознакомившись с его содержанием, полковник Опякин приказал начштабу созвать летучий митинг и обратился к нам: — Мы сейчас находимся в очень сложном положении. Только что потеряли связь с нашими соседями на флангах. Возможно, дивизии придется занять круговую оборону. Но праздник есть праздник, будем открывать митинг. На пригорке, в тени старых берез собрались воины. Лица обветренные, опаленные солнцем. Стоит не парадное войско — сапоги порыжели от походной пыли и потемнели от пота гимнастерки. Поясные ремни искривились от тяжелых гранат и подсумков. У некоторых кровь проступила сквозь бинты, запеклась, стала твёрдой, как высохший сурик. Но зато, когда внезапно просвистел над верхушками берез снаряд, никто даже не шелохнулся. Полковник Опякин просит Ивана Ле огласить приказ-обращение Военного совета фронта к воинам Краснознаменной дивизии. Митинг длится недолго, но проходит с подъемом. Тут же из рук в руки переходит дивизионная газета «Звезда». Она вышла с шапкой: «Вперед, девяносто девятая, в бой, родная Отчизна гордится тобой!» На митинге принимается обращение всего личного состава дивизии ко всем красноармейцам, командирам и политработникам Красной Армии. Я быстро записываю в блокнот: «Боевые товарищи, будем стойко и умело бить немецко-фашистских захватчиков, умножать боевую славу наших отцов; бить коварного врага военной хитростью, народной смекалкой, бесстрашием и красноармейской изворотливостью. Вперед, к победе, мы победим!» После митинга нашу бригаду собирает и усаживает под березами начальник политотдела Петр Сысоевич Ильин. — Прежде чем вы, товарищи писатели и корреспонденты, спуститесь в роты и побеседуете там с красноармейцами и командирами, хочу вкратце рассказать вам о наших ратных делах, о боевом пути ныне Краснознаменной дивизии. Думаю, это вам пригодится для общей ориентации, когда будете работать над своими статьями и очерками. Начну с Перемышля. Ведь там в начале войны впервые оступилась стальная нога вермахта. Все достали записные книжки и приготовились слушать. — Пограничная река Сан делит Перемышль на две части. Двадцать второго июня ровно в четыре часа утра по железнодорожному мосту прогремел состав, груженный лесом. Только затих перестук колес, как послышался орудийный выстрел и тяжелый снаряд взорвался вблизи главного почтамта. Второй угодил в здание пограничной комендатуры. А потом уже на город градом посыпались снаряды. Гитлеровцы, занимая западную часть Перемышля, вели огонь из-за Винной горы. Как только в городе вспыхнули пожары, «юнкерсы» начали бомбить укрепления вдоль границы. Важным объектом в центре города был железнодорожный мост. Бой на мосту несколько раз переходил в ожесточенные рукопашные схватки: Потерпев неудачу, немецкие регулярные войска поспешили навести переправу у села Пралькивцы, но и там захватить плацдарм на левом берегу Сана им не удалось. Восемь часов пограничники сдерживали натиск многочисленного противника. В это время девяносто девятая стрелковая дивизия находилась в восьми километрах от Перемышля в летних лагерях. А ее двадцать второй артиллерийский полк и семьдесят первый гаубичный и еще два приданных артполка стояли в районе Нижанковичи — Добромиль. Согласно плану обороны, дивизия должна была немедленно занять Перемышлянский укрепленный район в полосе Родомны — Ольшаны. В эту полосу входил и Перемышль. Командир дивизии полковник Дементьев и полковой комиссар Харитонов отдали приказ занять район обороны. Но здесь случилось непредвиденное. Командир восьмого стрелкового корпуса, куда входила наша дивизия, генерал-майор Снегов не разрешил открыть артиллерийский огонь. Действия застав — пограничный конфликт, а регулярных войск — война. Как ни старались связисты, но соединить комкора с вышестоящим штабом не удалось. Ожидая боевой приказ, командование дивизии все же организовало боевую группу во главе с полковником Сергеем Федоровичем Гороховым и направило ее в город для спасения важных штабных документов. От бешеного артиллерийского огня здание штаба горело и рушилось. Но смельчаки спасли все документы, они вовремя пришли на помощь семьям штабных работников, помогли им покинуть горящий Перемышль. Иван Ле, Шамша и Скачковский делали в блокнотах пометки, а Леонид Первомайский весь превратился в слух и записывал каждое слово. Посреди листка записной книжки зеленели крупно выведенные два слова: «Начало битвы». Конечно же, в тот момент я даже не мог подумать о том, что это название будущей пьесы, которую через четыре месяца поставит фронтовой театр. И основой ее сюжета послужит рассказ полкового комиссара Ильина. — В двенадцать часов дня, — продолжал Петр Сысоевич, — дивизия получила приказ освободить Перемышль от захватчиков. Но время было потеряно, враг переправился через Сан. Под огнем противника дивизия быстро и организованно заняла в двух километрах от Перемышля вторую линию обороны. Вперед пошел авангард дивизии — стрелковый батальон. Его командир капитан Завадский с ходу, во фланг атаковал вражеский пехотный полк и отбросил его за реку Сан. В боях на набережной отличилась рота лейтенанта Ивана Кравченко. Отступая за Сан, гитлеровцы сбросили в тылу нашей армии два воздушных десанта. Парашютисты подняли шум, открыли беспорядочную стрельбу. Они всячески старались посеять на дорогах панику. Но мы их окружили и уничтожили. Наши артиллерийские полки подожгли за Саном немецкие склады с горючим, разгромили казармы жандармерии и здание гестапо, а за Винной горой подавили частично огонь батарей. Тогда «юнкерсы» нанесли бомбовой удар, и через Сан переправилась сто первая пехотная дивизия вместе с частями двести девяносто седьмой Берлинской пехотной дивизии. Бой на улицах Перемышля ожесточился, стал переходить в частые рукопашные схватки. Все же врагу удалось потеснить наши полки. К вечеру он овладел городом. Дальнейшее продвижение противника дивизия сдержала и закрепилась в двух километрах от города. Командир дивизии полковиик Дементьев приказал командиру первого стрелкового полка майору Кутейкину и командиру сводного отряда пограничников старшему лейтенанту Поливоде на рассвете атаковать врага и освободить Перемышль. Как только стало светать, артполки открыли по врагу губительный огонь. Два часа бушевал артиллерийский ураган. Сводный отряд пограничников вместе с бойцами первого стрелкового полка, незаметно зайдя со стороны села Вовче и Замковой горы, смело бросились на гитлеровцев. Те дрогнули. На плечах отступающего врага наши бойцы ворвались в город. Бой кипел на улицах, в домах и даже на крышах. Противник вводил в бой свежие силы. И в этот момент кто-то удачно атаковал гитлеровцев с тыла. Кто же нам помог? Командование дивизии было уверено в том, что это сделали, конечно же, пограничники или уровцы. Но когда мы соединились с храбрецами, то увидели секретаря городского комитета партии Петра Васильевича Орленко во главе вооруженного отряда партийно-советского актива. — Сколько в отряде Орленко было штыков? — спросил Первомайский. — Да, пожалуй, более, двухсот. Если будете писать об этом эпизоде, не забудьте упомянуть о директоре исторического музея Наталье Приблудной — железный боец, замечательный снайпер. Она сняла всех засевших на костеле пулеметчиков. — А где она сейчас? Ее можно повидать? — снова спросил Первомайский. — Наталья присоединилась к пограничному отряду. О дальнейшей судьбе Приблудной мне ничего не известно. — Давайте выслушаем полкового комиссара, а потом вопросы. Не будем прерывать, — сказал Иван Ле. — У нас беседа, по ходу ее могут возникать вопросы, — заметил Первомайский. — Если же я кому-то помешал, прошу меня извинить. — Он перевернул страничку записной книжки и приготовился слушать. — Я уже говорил о том, что батальоны вышли на Сан. Так вот... — Ильин покачал головой. — И радостно, и в то же время печально. Мы потеряли в бою комдива Дементьева. Личная храбрость у этого человека сочеталась с умением как-то сразу почувствовать поле боя, оценить его и принять верное решение. А враг тем временем не прекращал атак на город, но ворваться в него не мог. За проявленное мужество и находчивость в бою командир сводного пограничного отряда старший лейтенант Поливода был назначен комендантом Перемышля. Ему удалось спасти Перемышльское отделение госбанка со всеми его ценностями. На седьмой день войны девяносто девятая дивизия согласно приказу комкора Снегова, уничтожив все тяжелое вооружение и оборудование укрепленного района, оставила Перемышль и пошла на восток. Враг уже глубоко вклинился своими танкомеханизированными полчищами в расположение наших войск и занял Львов. Девяносто девятая четыре раза выходила из вражеского окружения. Она наголову разбила сто первую пехотную дивизию, нанесла поражение двести девяносто седьмой Берлинской пехотной дивизии и уничтожила три пехотных полка других дивизий. С боем прорвала фронт под Винницей, прошла через Умань и уже на этом направлении освободила села Краснополки и Камянече. После беседы с начальником политотдела Иван Ле и Леонид Первомайский остались на КП дивизии взять интервью для газеты «Комуніст» у полковников Опякина и Горохова, а все остальные корреспонденты направились в роты. Я попросил полкового комиссара Ильина помочь мне разыскать лейтенанта Кравченко. Сейчас же по его распоряжению младший сержант Водка повел меня по лесной тропе в роту. На опушке леса бойцы заняли оборону недавно, но уже успели окопаться, искусно и старательно замаскировать позиции. Кравченко был в каске. Я заметил на ней пулевые царапины. Ротный носил небольшие усики и подстригал клинышком густую каштановую бородку. Он, пружинисто выпрыгнув из окопа, подал руку: — Здравствуйте, товарищ корреспондент. Мне только что звонил начподив. Слушаю вас и хочу предупредить: как бы нашему разговору не помешал противник. Времени у нас мало. — Ваша рота освобождала Перемышль, с боями прошла шестьсот километров. Чему научил этот поход командира роты и его бойцов? — Видите ли, когда бойцы нашего батальона атаковали немецкий полк и вышибли его из Перемышля, я подумал: что случилось? Откуда такая удача? Конечно, все рвались в бой; горели желанием поскорей выйти на берег Сана, восстановить государственную границу. Наступательный порыв, как вы сами знаете, — предвестник успеха. Но тут было и другое. Заняв город, фрицы не закрепились в нем. Они надеялись легко пойти вперед. А легкость на войне марширует рядом с поражением. Нельзя недооценивать противника. Когда теперь занимает какой-нибудь рубеж наша рота, она прочно укрепляет его и старательно маскирует. В окопе послышался жужжащий звук зуммера, дежурный телефонист протянул лейтенанту трубку. — Зашевелились? — переспросил ротный. — Ладно... Посматривай там. — Передав трубку телефонисту, снова подсел ко мне. — Так вот о чем еще надо сказать: во время похода в наших боевых порядках находилась артиллерия. Она поддерживала стрелков метким огнем. Пехота сумела наладить с орудийными расчетами четкое взаимодействие. Этот огневой таран и щит всегда выручали нас. Я хорошо знаю предвоенные уставы. Они не заостряли внимание бойцов и командиров на залповом огне. А противник наступает скученными боевыми порядками. И вот тут-то залповый огонь приносит успех в отражении атак. И не только наземных... Вы видели сбитый «юнкерс», а ведь его полет прервал залповый огонь. В эту минуту явились вызванные ротным герои недавних боев красноармеец Кобзев и сержант Тищенко. Они поделились опытом, как надо отсекать вражескую пехоту от танков. Вспомнили о геройском поступке младшего политрука Алиева и старшего сержанта Гусева. Ночью на развилке дорог эти два храбреца, притаившись в хлебах, подпустили на близкое расстояние пехотную колонну и расстреляли ее из пулеметов. Свист мин прервал беседу. Но залпы минометных батарей не произвели на ротного никакого впечатления. Он усмехнулся и пояснил: — Они засекли наши ложные позиции. Пока бьют впустую. Дежурный телефонист, выглянув из окопа, сказал: — Товарищ командир роты, корреспонденту приказано возвратиться на КП дивизии. Кравченко вывел меня на тропку, дал в сопровождение двух автоматчиков. Низкое солнце уже плавало в синем разливе хвои, когда откуда-то налетел ветер и погнал над лесом разорванные в клочья первые грозовые облака. На КП дивизии звучат отрывистые команды. Комендантская рота занимает круговую оборону. В броневик политотдельцы грузят какие-то документы. Быстрым шагом к Ивану Ле подходит полковой комиссар Ильин: — Ваши все в сборе? — Все. — Есть серьезный разговор, товарищи. Дивизия занимает круговую оборону. Минут через тридцать фашисты перережут последнюю дорогу, ту, по которой вы приехали к нам. Командование дивизии приняло решение: вы обязаны немедленно покинуть район села Подвысокое. Это приказ. Он не подлежит обсуждению. Вы должны выполнить свое задание: возвратиться в Киев и написать о боевых делах дивизии. Будет иное время, мы еще с вами встретимся. А сейчас все в машину! Водитель, заводи мотор! Мы заняли в кузове грузовика свои места. Иван Ле сел в кабину. И тут к нему подбежал капитан: — Товарищ батальонный комиссар, дорога, по которой вы приехали к нам, только что перерезана. Поезжайте прямо по лесной просеке, нигде никуда не сворачивайте. Когда увидите хлебное поле, сразу берите круто вправо и мчитесь вдоль опушки. Как только доедете до отдельно стоящего сухого дерева, за ним так же круто делайте поворот влево. Помните: торной дороги не будет, но вы должны там заметить примятые хлеба, найти след от машин, он поведет вас навстречу бою. Не обращайте внимание на огонь, только держитесь следа. Это ваше правильное направление. К машине подошел полковник Горохов. — Дорога каждая минута. Двигайтесь, товарищи. Счастливого, пути! По крыше кабины забарабанили крупные капли. Грузовик набрал скорость. В листве зашумел дождь. Лес быстро наполнился сырым мраком. ЗИС выскочил из узкой просеки, сделал правый поворот, пошел вдоль темной опушки леса. Где же это отдельно стоящее сухое дерево? Как бы не проморгать его, не промчаться мимо?! Все мы зорко следим за дорогой, но сухое дерево заметить не можем. — Вот оно, вот, вижу! — крикнул Шамша. Действительно, из дождевой дымки, напоминая старый серый ветряк, выплывает одинокий сухой дуб. Еще один поворот влево... Теперь ЗИС, подпрыгивая, летит с большой скоростью через поле прямо на огненные вспышки. — Куда мы едем? Куда? — раздался встревоженный голос. Но об этом поздно спрашивать. Казалось, машина приближается к сплошной огненной стене. И вот-вот наткнется ни кинжальный огонь пулеметов. Но это только казалось. Совсем неожиданно бой словно расступился, загремел слева и справа. Мрак скрывал в хлебах фигуры немецких солдат, но зато хорошо было видно, как близко вспыхивают и перебегают огни... Машина мчалась по узкому коридору между сходящимися здесь цепями вражеской пехоты. Красно-зеленые нити трассирующих пуль тянулись к машине и еще больше придавали ей скорости. После стремительной скачки по хлебам ЗИС вырвался из огненной полосы. Впереди шумело дождем темное поле. Перебегающие в хлебах огни отстали, они удалились на значительное расстояние и стали похожи в наплывающем тумане на маслянистые пятна. Шум боя затих. Грузовик перестал подпрыгивать. Мы ехали медленно, без дороги, неизвестно куда, просто напрямик. Как ни осторожен был водитель, а всё же умудрился налететь на какой-то межевой столб. Грузовик пошел вниз с крутого косогора. Отчаянно заскрипели тормоза, но это не помогло. Машина перекинулась и на боку по мокрой траве соскользнула в балку. Пострадал только один — фотокорреспондент Барвик. При падении поранил руку, но сгоряча бросился помогать товарищам. Я не знаю, откуда появилась у нас такая сила, мы дружно взялись и одним махом поставили машину на колеса. Промыли рану пострадавшему, сделали перевязку, усадили его в кузов. Затаив дыхание, теперь прислушивались к мотору. Заведется он или нет? Мотор чихал, глох. Тревога нарастала. И вдруг сердце машины заработало ровно, без перебоев. А дождь усилился. Земля рыхлая, скользкая. Мы надели на задние колеса цепи, и это помогло грузовику выбраться из балки. Снова полное бездорожье. ЗИС прыгает по кочкам, ломает кустарник. Того и гляди случится новая авария. — Где же дорога? — Куда идет машина? — раздаются в кузове голоса. — Держитесь, хлопцы, мы на верном направлении, — во время короткой остановки ободряет Иван Ле. Дорога оказалась приблизительно в пяти километрах от балки, где мы потерпели аварию, и не какая-нибудь проселочная, а широкая, грунтовая. Иван Ле, остановив ЗИС, выпрыгнул из кабины: — Выбрались, хлопцы, выбрались! Этот шлях ведет на Ивангород. — Хвалю тебя за стойкость и гениальную ориентировку! — воскликнул Первомайский. — Только ты, Иван, мог выручить нас из такой беды. И вся бригада, соскочив с машины, бросилась обнимать Ивана Ле. Тут же заговорили о наших товарищах, которые остались в окружении. Сумеют ли они прорвать пятое вражеское кольцо? Встретимся ли когда с ними? Но мы всегда будем помнить о том, что наверняка обязаны им своей жизнью. Ливень прекратился, но зато пошел словно просеянный сквозь сито мелкий, густой, назойливый дождик. В третьем часу ночи, измученные дорогой, наконец, въехали в Ивангород. Заметив «тридцатьчетверку», остановились возле боевой машины. К нам подошел танкист, и мы узнали, что в селе, кроме нас, нет военных. «Тридцатьчетверка» исправная, боеприпасы есть, но в баках ни капли горючего. Командир с башенным стрелком и радистом пошли доставать бензин. Танкист указал нам у дороги пустую хату, и мы расположились в ней на ночлег. Леонид Первомайский был назначен часовым. Он пошел охранять грузовик. Через час его должен был сменить Иваницкий, а потом заступить на дежурство Шамша. Несмотря на усталость, Иван Ле решил не спать. Он присел к столу, обхватил голову руками и застыл. Я уже засыпал, когда раздался сильный взрыв. Хата вздрогнула, с потолка посыпалась штукатурка, и со звоном вылетели оконные стекла. Схватив оружие, выбежали на крыльцо. — Леонид, ты жив? Что случилось? — встревоженно спросил Иван Ле. — А черт его знает... Хочу дать очередь. — Куда? В кого? — Какой-то подлец бросил в танк связку гранат. — Ты не ранен? — Нет. Из люка выглянул танкист. — Я хотел стукнуть, но передумал. Влепишь в хату, пострадают невинные люди. Фашист смылся. С рассветом дождь усилился. Опасаясь, что дорога окончательно раскиснет, мы тронулись в путь. Покидая Ивангород, случайно обнаружили полевой узел связи. От пограничников, которые обслуживали его, узнали: из вражеского кольца вышли батальоны 206-го полка. Они спасли знамя 99-й дивизии. Пробилась к своим группа полковника Горохова. О судьбе командира дивизии, начальника политотдела и двух других полков никто ничего не знал. Мы рассказали пограничникам о танке, который оказался без горючего, и они пообещали помочь экипажу. Между тем дорога на Христиновку превратилась в черное месиво. Колеса пилили глубокую колею. ЗИС от натуги содрогался всем корпусом. Ухаб на ухабе. Все чаще приходилось подталкивать машину. Жидкая, липкая грязь била фонтанами из-под колес. Подъезжая к Христиновке, мы попытались почиститься, но Иван Ле безнадежно махнул рукой: — Ну, як чорти. В Христиновке нам повезло: сумели проскочить местечко, когда за него уже завязался бой. Дорога пошла на Умань. Она спускалась с горы в широкую низину. Только миновали бревенчатый мост, перекинутый через мелкую речушку, как что-то захрустело в нашей машине. Она остановилась. Мотор выл, но колеса не двигались. — Шестеренка коленчатого вала полетела. Проклятая шестеренка, — водитель беспомощно разводил руками. — Что теперь делать? Где достать? Все соскочили с машины и оттянули ее на обочину. С горы спускался тягач. В нем сидел какой-то полковник. Он испуганно оглядывался назад. Первомайский, остановив тягач, попросил полковника выручить бригаду писателей, взять на буксир ЗИС. — Что-что? — вскричал с негодованием полковник. — Писали: «Любимый город может спать спокойно». Полюбуйтесь, как спит спокойно Христиновка. А вы с фронта бежите?! Всех бы за это к стенке поставить. К стенке! — А ты куда, на фронт летишь? Трус! Покажи документы, кто такой? Я свои предъявлю. Но вездеход тронулся и окутал Первомайского облачком синеватого дымка. Мы вернулись к машине расстроенными встречей с чиновным паникером. Наши товарищи уже разобрались в аварии. Иван Ле, осмотрев наполовину беззубую шестеренку, швырнул ее в кювет и, подозвав меня, сказал: — Прохожие говорят — на окраине села находилась МТС. Машин там сейчас нет, но, возможно, ты найдешь шестеренку? У нас аховое положение, — обвел взглядом заречные холмы, где на фоне серого неба можно было заметить, как из-за кустиков выглядывают немцы. Огня они не открывали, а следили за тем, что делается в низине. Видимо, это была вырвавшаяся вперед малочисленная разведка. Она не решалась вступить в бой. За речушкой, кроме нашего ЗИСа, ремонтировались две «тридцатьчетверки», а восемь легких танков БТ-7,выстроившись в линию, охраняли их. Моросил дождь. Тучи затянули все небо. В такую погоду, на наше счастье, «юнкерсы» не могли появиться. Я шел в МТС вдоль реки. На окраине села повстречался невысокий дедок с прокуренными усами. Он спросил: — Куда вы идете, товарищ командир? — В МТС, достать шестерню для ЗИСа. — Не можно туда, не можно. Там чужаки прошли. Зеленые, ну чисто тебе лягушки, — дедок огляделся по сторонам, шмыгнул простуженным носом и указал палкой на сельский магазин. — Вон где шестеренку искать. Видел ее, она там есть. Но окна магазина закрыты ставнями, на дверях пудовой гирей чернеет замок. — Церковный, с давних пор висит, — заметил дедок. — Принеси, старина, лом. — Эге-е, — протянул дедок, — у нас бабы — как попы. На все село ославят: колхозный сторож Омелько замок сломал, магазин ограбил. Дайте расписку мне, где было бы сказано, что я, согласно приказа, для нужд Красной Армии помогал открыть магазин. — Зачем она? — Эге... Герман был в восемнадцатом годе да сплыл, а Советская власть, она крепко стоит. Наши возвратятся и деда к ответу могут призвать, что да как? На тебе справку, читай. Я вырвал из блокнота листок: — Будет расписка. — Ни-ни... Боронь боже. Действуйте сами, а я вам в магазине потом помогу. Вскинув автомат, я прицелился в замочную скважину. Пули взвизгнули, дали рикошет. Но внутри замка что-то хрустнуло. Он открылся. — Показал язык, — одобрительно качнул головой дедок. Переступил порог полутемной бакалейной лавки, и сердце мое прямо оборвалось. Поспешный вывоз товаров оставил на полках беспорядок и неразбериху. Мы принялись шарить по всем опрокинутым ящикам в надежде найти шестерню. В одном углу стоял запах керосина, в другом — залежалой кожи, а там, где над прилавком возвышалась старенькая касса, пахло туалетным мылом и мятными пряниками. Дедок позвал на помощь двух хлопцев. Один из них, чубатый, заглянув случайно в ящик с одеколоном, вскочил на прилавок и стал пританцовывать: — Нашел, нашел, ей-бо нашел, вот она, шестерня! В магазин с криком вбежали женщины: — Товарищ начальник, фашисты близко. Придут они, все разграбят. У нас детки малые. Дай нам мучицы, разреши взять сахарку. — Все забирайте, все! — Я выскочил из магазина и, поглядывая на холмы, стремительными перебежками поспешил к машине. Закипела работа. Шамша раздобыл где-то прочные жерди, Скачковский — веревки, а Иваницкий — толстую доску. Поднять мотор и надеть на коленчатый вал шестерню помогли танкисты. Когда зарокотали двигатели «тридцатьчетверки», заработал и наш мотор. ЗИС, преодолевая глубокую грязь, пополз вслед за танками. Колеса машин месили черноземное тесто и каждую низинку преодолевали, как непроходимое болото. Судя по карте, до Умани осталось каких-нибудь десять километров, но это расстояние ЗИС прошел за шесть часов! А небо постепенно светлело, тучи рассеивались, и, когда мы въехали в Умань, в городе прозвучал сигнал воздушной тревоги. По дороге в Смелу почувствовали, что силы наши в борьбе с непролазной грязью иссякают. Иван Ле остановил ЗИС: — Пусть хоть немного просохнет дорога. Привал. Все повалились на мокрую траву спать. Один Первомайский, достав из сумки блокнот, принялся что-то записывать. Я проснулся от сильной жары. Припекало солнце. Все спали. Первомайский, борясь с дремой, держал в руке открытый блокнот с набросками стихотворения «Ивангород». Густые зеленые чернила ярко блестели. «Ветер, дождик, тьма слепая, орудийный дальний рык. В грязных лужах утопая, проплывает грузовик». За этим четверостишием шли помарки, а затем отшлифованные строчки: «Вглядываюсь в дождь секущий, вслушиваюсь в ночь и тьму. Вот так ливень проклятущий, нет и нет конца ему. Вдруг — как бахнет в небе сонном! Затряслось окно со звоном, и разверзлась ночь в дыму. Что в ответ ты не ударишь, друг, товарищ боевой? А в окно кричит товарищ: «Что случилось? Ты живой?..» Все точно, все как было. Стряхивая сон, встает Иван Ле. — Хлопцы, по коням! Небо гудит. Грохот бомбежки преследует отходящие части. Знойный воздух вздрагивает от взрывной волны и становится кислым от порохового дыма. В хлебах чернеют бесчисленные воронки. Пламя выжигает колхозные нивы, и ветер, пропитанный запахом горелого зерна, горький, как полынь. Ну и дорожка! На окраине Смелы снова послышался под мотором предательский хруст. Неужели полетела шестерня? — Опять она, проклятая! — Хлопнув дверцей, Иван Ле остановил проходивший мимо тягач. На буксире въехали во двор смелянской комендатуры. Комендант города был в чине полковника. Узнав о нашей беде, прежде всего пригласил в столовую, а когда обед закончился, к подъезду подкатил отремонтированный ЗИС, и мы тепло поблагодарили коменданта за гостеприимство и заботу. Дорога на Черкассы совсем подсохла. Небо ясное, и «юнкерсов» не видно. Черкассы! Мы недавно были в этом городе, но как он изменился. Разрушенные бомбардировкой домики, следы пожаров. На улицах завалы, окопы, траншеи. Благополучно проскочили деревянный мост через Днепр. Миновали Золотоношу, Переяслав. В лучах заходящего солнца показалась старинная шестикупольная деревянная церквушка с узкими голубыми оконцами, украшенными резьбой. Как раз в это время в селе Рогозове располагался на ночлег 92-й пограничный отряд, которым командовал в Перемышле подполковник Яков Иосифович Тарутин. На контрольно-пропускном пункте, проверяя наши документы, пограничники, узнав, что мы возвращаемся из 99-й дивизии, дали знать в штаб. Пришел батальонный комиссар Григорий Васильевич Уткин, пригласил нас в отряд. Начались расспросы: когда и где мы покинули 99-ю дивизию? Кто жив, кто ранен, кто убит? — Вы должны понять наши чувства, товарищи, ведь мы вместе с 99-й дрались за Перемышль. Да и мы сможем кое о чем рассказать. Этот рассказ «кое о чем» батальонного комиссара Уткина продолжался после ужина до глубокой ночи, и каждый из нас в своем блокноте исписал немало страниц. Когда же Уткин упомянул о Наталье Приблудной, назвав ее самым лучшим снайпером отряда, Первомайский спросил: — А можно ее повидать? — К сожалению, она на несколько дней выехала в Киев. — Уткин усмехнулся. — Сегодня произошел такой казус... Заходит Наталья в финчасть и говорит: «Я Приблудная. Хочу получить деньги». А начальник финчасти у нас человек суровый, никогда даже не улыбнется. Глянул он на нее искоса: «Приблудных теперь много, а денежки счет любят. На всех не настачишься». А Наталья ему: «Да у меня такая фамилия». Раскрыл начфин ведомость и впервые за всю войну расхохотался. Начальник штаба отряда капитан Агейчик подробно рассказал о том, как во время боя старший лейтенант Поливода сумел эвакуировать все ценности Перемышльского отделения госбанка. Мы узнали, что сводный батальон Поливоды насчитывал всего двести пятнадцать человек и был вооружен помимо винтовок четырьмя станковыми и шестью ручными пулеметами. А перед ним дрогнул и побежал целый немецкий полк. Прав Суворов: воюют не числом, а уменьем. С рассветом в путь. Полевая дорога. Хлеба и хлеба... Вскорости засинели киевские кручи... Слышится гул артиллерийской канонады — тяжелый, слитный, нарастающий... В редакции нас ждут не дождутся. Прямо с машины входим в кабинет редактора, докладываем о выполнении задания. — Теперь за работу, друзья! Полковой комиссар Мышанский устанавливает жесткий срок сдачи материалов. К вечеру наша бригада должна сделать газетный разворот. На следующий день статьи и очерки о 99-й дивизии, опубликованные в газетах «Красная Армия» и «Комуніст», передает и широко комментирует фронтовое радиовещание. Открывая очередную летучку, Мышанский сказал: — Начальник политуправления фронта высоко оценивает работу выездной бригады писателей и корреспондентов, которую возглавлял Иван Леонтьевич Ле, и объявляет всем участникам поездки благодарность.
5
Я люблю редакционные летучки: сколько страсти, огня вызывают они, когда «испытанные остряки» — очередные обозреватели — стряхивают со страниц, пахнущих свежей типографской краской, так называемую газетную пыль. Летучки хороши не только тем, что скрещиваются сабли и летят стрелы даже в признанных газетных метров, на них как-то сразу видно, «что такое хорошо, что такое плохо». Но дело не только в этом. Да, острые сабли беспощадно наносят удары по тяп-ляпам, по таким заголовкам, как «Бой самолета с танком», по фразам: «часть мужа выехала на фронт». В пылу схватки они еще высекают искры и настоящего вдохновения, новизны, прозорливости, и нередко корреспонденты прямо с летучки едут в дивизии выполнять срочные задания. Все подчинено одной цели: укрепить веру нашей армии в победоносный исход войны, поддержать на передовых позициях боевой дух в войсках, показать, что даже в самой тяжелой обстановке все решает быстрота, смекалка и стойкость. Как правило, перед летучкой, пока не появится редактор, корреспонденты обмениваются информацией. Ночью с передовой приехал Иван Поляков, а ранним утром Шамша с Нидзе. Даже скупые, отрывистые фразы позволяют судить о положении под Киевом. На севере спокойно, на западе орудийная перестрелка, а вот на юге противник ворвался в укрепленный район. Наши войска оставили Мышеловку и Пирогово. С высот Голосеевского леса немцы просматривают южную окраину Киева. Они прорвали там вторую полосу укреплений и подошли к третьей, а это уже окраина города. Михаил Нидзе с опушки Голосеевского леса привез тревогу: «Все пленные твердят: Гитлер приказал седьмого августа взять Киев и провести на Крещатике парад войск». В редакции снова заговорили об уличных боях, в которых, возможно, придется принимать участие и сотрудникам фронтовой газеты. Редактор находится в политуправлении, и очередную летучку проводит Виктор Николаевич Синагов. После ее окончания просит меня задержаться. — Гм... гм... — откашливается заместитель редактора. Выпив стакан чаю, медленно прохаживается. — Гм... гм... Из Иванково на южную окраину Киева перебрасывается пятая воздушно-десантная бригада. Состоит она из опытных парашютистов, хорошо обученных бойцов. Командир бригады полковник Александр Ильич Родимцев воевал в Испании, он Герой Советского Союза. Недавно окончил академию имени Фрунзе. Не правда ли, это интересно? — Так какое будет задание? Синагов карандашиком обводит на карте зеленый пятачок Голосеевского леса. Местность холмистая и овражистая. Она окаймлена коричневыми жилками шоссейных дорог. — Воздушно-десантная бригада совместно с другими частями будет очищать от противника Голосеевский лес. Сделайте статью, нет, даже целую подборку об опыте боя в лесистой местности. — Значит, бригада находится на южной окраине Киева? — Вы сейчас спускайтесь по улице Ленина на Крещатик. Там полковник Родимцев встречает свои батальоны. На Крещатике, вблизи универмага, стояла группа военных. Молодой светловолосый полковник с Золотой Звездой на груди отдавал офицерам связи распоряжения. Потом он вопросительно взглянул на меня. Проверив удостоверение и командировку, слегка улыбнулся: — Это хорошо, что к нам в бригаду пожаловал корреспондент фронтовой газеты, да еще писатель. В Испании я был знаком с Эрнестом Хэмингуэем. Мне стало не по себе. Сколько раз просил уже Урия Павловича Крикуна не вписывать в командировочное удостоверение слово писатель. Но тот стоит на своем: — Нет, нет, так авторитетней. К тому же вы действительно являетесь членом Союза писателей. Пока я ответственный секретарь редакции, извольте подчиняться. Поджидая появление батальонов, Родимцев принялся расспрашивать меня о писателях, работающих в редакции. Выяснилось, что он хорошо знает Сергея Ивановича Вашенцева. Знаком с Твардовским и Безыменским. Узнав о моем редакционном задании, заметил: — Видите ли, бригада еще по-настоящему пороху не нюхала... Боевого опыта у десантников нет. Как сложится лесной бой, предугадать трудно. — Улыбнулся, глянул в упор: — Будет удача, будет и газетная полоса. Вдали на Крещатике показались войска, наш разговор прервался. Половина бригады была переброшена из Иванкова в Киев на машинах, а вторая — совершила пеший переход. Бойцы в синих комбинезонах прошли немалый путь, но как только вступили на главную улицу Киева, батальоны подтянулись, ряды стали стройными. На войсках лежал отпечаток суровой сплоченности. В этот момент ко мне подошел Михаил Нидзе и сказал, что к десантной бригаде прикомандирован он, а я должен возвратиться в редакцию. — Произошла маленькая накладка. Гм... гм... — Как всегда откашливаясь, заметил Синагов. — Завтра поедете в командировку. Пока участок фронта уточняется, готовьтесь. Твардовского тоже посылают в командировку. Он предлагает мне сходить с ним в писчебумажный магазин купить блокноты. Твардовский был не в духе: утром развернул свежий помер газеты и нашел в своих стихах исправленную без его ведома строчку. Повстречав в коридоре Крикуна, Александр Трифонович, с трудом сдерживая гнев, сказал: — К чужим словам надо относиться с уважением. — Приношу вам, дорогой, извинение, сам не знаю, как это случилось. — Крикун прошмыгнул в свой кабинет. Ответственный секретарь принес извинение, но Твардовскому от этого не стало легче. Он бережно относился к каждому слову, и неудачно исправленная строчка сидела в его сердце занозой. В помещении не так чувствовалась жара, как на улице. Стоял душный августовский день. Твардовский шел как обычно своим твердым, размашистым шагом. Мы перешли через площадь, стали спускаться по улице Ленина вниз. Твардовский остановился, окинул взглядом вывески: — А не зайти ли нам сначала в одно местечко? Мы вошли, к моему удивлению, в совершенно пустую винную лавку. — По стаканчику, — бросил продавцу Александр Трифонович. Складывая на прилавке медные и серебряные монеты в стопочки, борода ответила: — Военным запрещено. — Хлебнуть винца я захотел и заглянул в трактир. Нельзя, сказал трактирщик мне, взглянув на мой мундир, — громко произнес Твардовский. Бородатый продавец, оторвавшись от своих бело-желтых столбиков, заметив на груди Твардовского награды, воскликнул: — А вам можно, вам можно. Я отвечаю. — Уж как-нибудь я сам за себя отвечу, — Твардовский, круто повернувшись на каблуках, вышел из лавки. В писчебумажном магазине, купив блокноты, мы на всякий случай запаслись перочинными ножичками. Вышли на улицу, и тут из толпы послышался радостный возглас: — Саша! Саша! Твардовский оглянулся, поспешил навстречу какому-то крепышу. Александр Трифонович и крепыш-незнакомец стали о чем-то оживленно разговаривать. Твардовский замахал мне рукой: — Иди сюда! Знакомься — Аркадий Гайдар. Я любил повести Аркадия Петровича. Особенно нравилась «Тимур и его команда». И вот мне протягивает руку ее автор. Одет Гайдар в летнюю красноармейскую форму. Гимнастерка без петлиц. На пилотке — звезда. На груди орден «Знак Почета». В руках полевая сумка, туго набитая какими-то книгами. — Так что ты делаешь в нашем фронтовом Киеве? — спросил Твардовский. — А вот читай, — Гайдар развернул удостоверение, напечатанное на редакционном бланке «Комсомольской правды», и, помахивая им, как флажком, добавил: — Я теперь военный корреспондент. Уже неделю живу в Киеве и регулярно читаю вашего казака Ивана Гвоздева. — Нравится? Или пора ему по шапке дать?! — Я думаю, у вас дело пойдет хорошо, если избежите шапкозакидательства. Уже был в прошлую войну такой лихой герой, как Козьма Крючков. В атаке семерых немцев на пику нанизывал. Вот и надо в вашем Гвоздеве избежать крючковщины. Мне кажется, писать следует чуть-чуть возвышенно, но так, чтобы каждый боец был уверен в том, что и он может совершить такой же подвиг, как и ваш казак Гвоздев. Не может быть большой разницы между жизнью — фронтовой действительностью — и выдумкой. — А ты думаешь, мы лыком шиты? — усмехнулся Твардовский. — Нет, не думаю. Но души надо больше, души. Возможно, появится у вас в дальнейшем и другой герой фронта. Медленно поднимаясь вверх по улице Ленина, остановились возле аптеки, под тенью старого каштана. Гайдар продолжал: — Я тоже думаю написать о своем герое — часовом на мосту... Только что побывал на Днепре. Воздушный налет. Воют сирены, свистят бомбы, а часовой стоит на посту и не сдвинется с места. Вот выдержка! Я задумал очерк, возможно, он будет называться «Мост». — Помолчав, спросил: — Кажется, где-то тут близко ваша редакция? — Вон зеленоватый дом напротив оперы. Заходи в первое парадное, поднимайся на третий этаж, всегда тебя рады видеть. — А колеса у вас есть? — Найдутся. Можешь завтра поехать с нами в командировку. — Завтра? Нет, Саша, не могу. Надо кое-что передать в «Комсомолку». Да, с транспортом тяжело. Многое бы успел сделать, но на «попутках» трудно работать. Колеса нужны, ой как нужны. Хочу встретиться с командующим фронтом, попросить у него машину. Михаил Петрович Кирпопос не откажет. Он старый мой знакомый. Ну, ладно, — заторопился Гайдар, — обязательно загляну к вам, а сейчас в корпункт бежать надо, у меня с Москвой разговор. В редакции Александр Трифонович рассказал Вашенцеву о встрече с Гайдаром. Потом достал из потертого портфеля книжку, протянул ее мне: — Прочти и поучись. Написано давно, а не устарело. Жизнь, милый, какой бы ни была далекой, если это только настоящая жизнь — никогда не умирает. В Москве только что вышел Бёрнс в новых переводах Маршака, и Самуил Яковлевич с дарственной надписью прислал сборник стихов Твардовскому, который бережно хранил его. Твардовский перед командировкой долго писал письма. В Москву — товарищам, в Чистополь — жене. Письма Марии Иларионовны он носил вместе с записной книжкой в полевой сумке, с которой ни при каких обстоятельствах не расставался. Заметив, что мной перевернута последняя страпица, спросил: — Ну что? Как? — Маршак хорош. Но «Джон Ячменное Зерно» у Багрицкого звучит эмоциональней. Твардовский терпеливо стал доказывать, почему считает Маршака непревзойденным переводчиком стихов Бёрнса. Перевод Багрицкого он знал наизусть и тут же принялся сравнивать его с новым русским текстом баллады, сделанным Маршаком. Это сравнение явно пошло в пользу последнего. Но я принялся отстаивать перевод Эдуарда Багрицкого, оправдывать некоторые неловкости в строчках, подмеченные Твардовским, вроде «Три короля из трех сторон». Александр Трифонович, наморщив лоб, обратился к Вашенцеву: — Сережа, я думал, младший брат Кондрат будет учиться, а он решил других переучивать. — И, подойдя к окну, глянул куда-то вдаль, замкнулся. Мне было неприятно. Пробежал холодок отчуждения. И это накануне совместной поездки на фронт! Я понимал, наладить сразу прежние отношения с таким человеком, как Твардовский, трудно. Положил сборник стихов на стол и вышел из комнаты. Где-то на южной окраине города грозно грохнула артиллерия. Вмиг отлетев, забылись мелкие обиды. Ночью пушки стали бить сильней, слитней. В городские кварталы, подобно горным обвалам, врывался грохот бомбежки. Мысли все время возвращались к десантникам полковника Родимцева. Что там, в Голосеевском лесу? Идет ли атака или она захлебнулась? Как будто бы артиллерийский гул чуть-чуть удалился.
6
Был ранний час. В кабинет редактора входили корреспонденты и, дружно дымя папиросами, рассаживались вблизи письменного стола. У распахнутого окна стоял Твардовский. Казалось, он рассматривал здание оперы. Я подошел к нему и услышал стихи. Он тихо-тихо шептал: «В мураве колеи утопают, а за ними, с обеих сторон, в сизых ржах васильки зацветают, бирюзовый виднеется лен, серебрится ячмень колосистый, зацветают привольно овсы...» Тут он заметил, что его слушают, и замолчал. Мне стало неловко, и я выпалил: — Бунин! Он посмотрел на меня пристально: — Да, Бунин. Давай, милый, дочитывай. Моя память хранила это прекрасное стихотворение, мы вместе с Александром Трифоновичем дочитали его до конца. В кабинет вошел редактор, и на письменном столе появилась карта с разноцветными флажками, ромбиками, стрелками. В эту минуту мысли, пожалуй, у всех корреспондентов одинаковые: куда пошлют в командировку? Какое будет задание? Важно и то, с кем придется ехать и на какой машине. Лучше на полуторке. Надо зорко следить за воздухом. «Мессеры» ходят на бреющем. У редакторского стола, как всегда, суетится маленький, похожий на быструю птичку, Урий Павлович Крикун. С красными, воспаленными от постоянного недосыпания глазами, ответственный секретарь просматривает удостоверения и ставит печати. Крикун — неутомимый редакционный ас. Лучше него никто не сверстает газету. Он обладает еще одним удивительным даром: буквально в последнюю минуту заметит пропущенную всеми опечатку. Фронт гремит от Черного до Баренцова моря. Битва моторов на земле и в облаках вносит большие поправки в тактику, а наш Урий Павлович все еще находится в плену лихих кавалерийских атак и острых сабель. Выдавая командировочные удостоверения фотокорреспондентам, он говорит самым серьезным тоном: — Вы, ребята, должны постараться и привезти в редакцию такие снимки, чтобы видно было, как наши конники саблями рубят головы фашистам. Острыми саблями! — И он резко взмахивает толстым секретарским карандашом. Полковой комиссар Мышанский, уточнив по карте наш маршрут и расположение нужных нам частей, сказал: — Друзья, прежде всего хочу сообщить вам приятную новость: наши войска успешно очищают Голосеевский лес от фашистов. Назначенный Гитлером на седьмое августа парад в Киеве с треском провалился. Вчера со мной разговаривал командующий фронтом генерал-полковник Михаил Петрович Кирпонос. Мне особенно запомнились его слова: «Киев будет жить, если его оборона будет активной. Войскам надо чаще переходить в контратаку, а газете поддерживать их смелые действия». Начальник штаба фронта генерал-майор Василий Иванович Тупиков советует нам обратить внимание на фланги киевской обороны. Удар с Каневского плацдарма Двадцать шестой армии генерал-лейтенанта Костенко на Богуслав ещё более должен улучшить оперативную обстановку под Киевом. Редактор тут же определил наши обязанности. Твардовский с Голованивским должны побывать на кораблях Днепровского отряда, защищающих Канев. Шамша и Гончарук направлялись в кавалерийскую дивизию генерал-майора В. Д. Крюченкина. Мне предстояло где-то за каневским железнодорожным мостом на правом берегу Днепра найти бронепоезд № 56 и описать подвиг его команды. Канев мне был знаком. Там я не раз поднимался на Тарасову гору встречать восход солнца. Теперь эту местность видел на военной карте со всеми ее особенностями. 26-я армия, которой командовал генерал-лейтенант Федор Яковлевич Костенко, входила в состав Юго-Западного фронта и обороняла Днепр от Процева, южнее Киева, до местечка Липского — севернее Черкасс. Штаб армии находился на левом берегу Днепра в селе Келеберда. Редакционная полуторка быстро пронеслась по Крещатику, свернула на Петровскую аллею и помчалась по Цепному мосту. Занималась заря. Она еще скупо освещала луга. Ее розоватый отсвет отражался только в дальних заливах. Днепр под горой был холодным и тусклым. Цепной мост не знал ни минуты покоя. Вспомнился восторженный отзыв Гайдара о мужестве часовых. Они смело стояли на своих постах и, как показалось мне, прислушивались к железобетонной громадине. Война отзывается на мосту каким-то особым эхом. Перестук колес, гудки автомобилей, скрип тормозов — все имеет свой ритм, свой голос. Днепр медленно несет свои воды. Вдали на Трухановом острове зеленеет гряда кучерявых верб. В Голосеевском лесу бьют пушки и заливаются пулеметы. А над Переяславским шляхом звенят «юнкерсы», в нескошенных хлебах чернеют воронки, и тени вражеских пикировщиков скользят над полями. Больно смотреть на хлеба. Колосья не шепчутся, не шумят. Поваленные ветрами, прибитые к земле ливнями, они не желтеют, не золотятся, потеряли свою буйную силу. Жаркое солнце иссушило их, окрасило в непривычный, какой-то печальный темно-коричневый цвет. У Бёрнса три короля пытались погубить ячменное зерно и не смогли. А современные пушечные короли обрекли на гибель неоглядные колхозные нивы. От Киева до Переяслава девяносто километров, а едем уже четвертый час и преодолели всего половину пути. Слишком часто на горизонте появляются «юнкерсы», и хотя их девятки проходят стороной, все же нам необходимо делать остановки и маскироваться. В кузове полуторки лежит запасное колесо, на котором сидит Твардовский и всматривается в глубокое, беспрерывно звенящее моторами небо. Едем почти молча, настороженно. В степи показываются древние курганы. Синеющая полоса днепровских круч в солнечный, ясный день гремит необычным громом. Из-за гребней двух курганов, стоящих у самой дороги, наконец-то показываются колокольни переяславских соборов. В городке расположились тылы воинских частей. Он довольно оживленный. Под колесами прогремел деревянный мост, перекинутый через пересохшую Альту. Позади остался городской рынок. Полуторка пошла по тенистой тополиной улице, и тут с криком: — Александр Трифонович! Александр Трифонович! — какой-то военный, выскочив из кустов сирени на мостовую, бросился догонять машину. Застучали кулаки по крыше кабины. Водитель затормозил. Твардовский, спрыгнув с машины, обнял подбежавшего военного. И к нам: — Братцы, знакомьтесь — Юра Крымов! Фронтовая дорога приносит нам неожиданную встречу с автором недавно нашумевшей повести «Танкер «Дербент». — Как же ты меня, Юра, узнал? Грузовик шел быстро, а я сидел в кузове так низко на запасном колесе. — А ты знаешь, промелькнуло твое лицо, и я, не раздумывая, во весь дух помчался за машиной. — Это по-рыцарски. Только смотри, рыцарь, не попади под трамвай. — Твардовский улыбнулся. — Помню твой «Танкер «Дербент». Крымов, достав из планшетки пачку только что полученных писем, принялся делиться московскими и чистопольскими новостями. И тут же спохватился: — Да что же мы стоим посреди улицы? При выезде из города есть чайная. Поехали! Чайная оказалась простой мазанкой. Стояла она у дороги, почти на самом берегу Трубежа. Пока буфетчица нарезала хлеб и подогревала на плите кулеш, Крымов принялся рассказывать о своей работе в редакции армейской газеты. Стоит она в Переяславе. Авторский коллектив дружный, и, по его мнению, газета хорошая, делается с душой. Он часто бывает на передовых позициях. Пишет пока мелкие заметки. Много материала остается в записной книжке на будущее. А вот каким будет будущее, это его тревожит. Для того, чтобы написать книгу о войне, по его твердому убеждению, все же нужен какой-то «глоток победы». — Чем богаты, тем и рады, — сказала нам пожилая официантка, ставя на стол миски с кулешом. Крымов разлил в стопки водку, и тут послышалось: вез-зу, вез-зу. В небе шел тяжелогруженный бомбардировщик. В открытое окно ворвался неистовый свист. От оглушительного взрыва подпрыгнули сдвинутые нами столики. В лицо брызнул горячий кулеш. Мы выскочили на улицу и увидели невдалеке большую дымящуюся воронку. Пепельно-желтый «юнкерс», попав под огонь зениток, развернулся и пошел за Трубеж. Сброшенная им пятьсоткилограммовая бомба не принесла никакого вреда, но испортила всем настроение. В чайной битое стекло влетело в кастрюлю с кулешом и перемешалось с винегретом. — Все пропало, все. Подавать на стол нечего, — сокрушалась перепуганная взрывом бомбы официантка. На берегу Трубежа простились с Крымовым, и полуторка тронулась. «Юнкерсы» стерегли шлях на Золотоношу. Возле кургана Выбла Могила, некогда воспетого Тарасом Шевченко, пришлось спуститься с горы и уйти в лес, а потом пробираться между озер, путаными луговыми дорогами, где выручает только чутье Хозе. Уже темнело, когда редакционная полуторка въехала в приднепровское село Келеберду. Наш бригадир старший политрук Петр Кисиль пошел в политотдел выяснять обстановку и доложить о прибытии в армию корреспондентов фронтовой газеты. За Днепром часто бухали пушечные выстрелы. Там разгоралась пулеметная перестрелка. Поджидая Кисиля, вся бригада стояла возле полуторки и молча смотрела на багровое зубчатое зарево. Вспыхивали прожекторы. Высоко над Тарасовой горой скрещивались полосы яркого света. В каневском небе бродили «ночники». Пришел Кисиль с дежурным командиром и объявил: — Политотдел выделил нам хату. Дежурный проводит. В хате жила старуха с дочкой и маленьким внуком Миколой. Добрый белобрысый мальчик принялся от всей души угощать нас тыквенными семечками и сразу завоевал симпатию, стал нашим любимцем. В дороге мы проголодались и, как только устроились на ночлег, тотчас же приступили к ужину. В хату вошел старший инструктор политотдела батальонный комиссар. Яблоков Яков Яковлевич несколько лет тому назад исполнял обязанности редактора газеты «Красная Армия» и, конечно же, поспешил навестить корреспондентов. Яблоков сказал нам, что 26-я армия ударами на Богуслав и Звенигородку пыталась помочь 6-й и 12-й армиям преодолеть кризисную обстановку в районе Умани. Войска, руководимые генерал-лейтенантом Костенко, наступали дерзко, смело. Взятие Богуслава ошеломило противника. Но группа гитлеровского генерала Шведлера оказалась сильней. Богуслав пришлось оставить. Теперь на Каневском направлении наши войска отходят к Днепру и ведут упорные оборонительные бои. Яблоков посоветовал мне искать бронепоезд № 56 у Каневского моста поздно вечером, когда он приходит туда на заправку и дозарядку. А Твардовскому и Голованивскому — посетить корабли ночью. Твардовский запротестовал: — Что же мы тогда увидим? Да и матросам отдыхать надо, а тут откуда ни возьмись корреспонденты. — В иное время поговорить с матросами не так просто. Днепр кипит. Налет за налетом. Там только ночью можно свободно вздохнуть, — стоял на своем Яблоков. Утро выдалось солнечным. На Днепре тишина. Всматриваясь в синее небо, Твардовский тихо проронил: — Как пахарь, битва отдыхает. Но битва не отдыхала. Над селом пролетел наш «ястребок». Микола, выскочив на крыльцо, увидел красные звезды на крыльях самолета, закричал: — Ой мама, ой баба, тот самый, тот самый... Александр Трифонович глянул на Миколу, встрепенулся от этой мальчишеской радости и тут же сосредоточился, ушел в себя. Не спеша, побрел по садику, погруженный в свою думу, словно слепец, натыкаясь на кусты сирени. Остановился, что-то записал в блокноте и начал ходить по тропке, то ускоряя, то замедляя размашистый шаг. Подошел к столику. Присел на край скамейки. Подумав, заглянул в блокнот, переписал набело стихотворение и протянул Петру Кисилю сложенный вчетверо листок: — Вот первый взнос в нашу корреспондентскую копилку. Хозе открыл мясные консервы, нарезал хлеб. Только мы проглотили первые куски, как из-за Тарасовой горы послышался нарастающий гул. Девятка «юнкерсов» развернулась над Днепром и, как обычно, заходя на бомбежку, вытянулась в цепь. С каневских гор ударили зенитные батареи. Корабли, охранявшие железнодорожный мост, тоже открыли огонь. От разрывов зенитных снарядов небо покрылось густыми сизыми барашками. А «юнкерсы» продолжали сбрасывать бомбы и казались неуязвимыми. Петр Кисиль пошел в штаб армии. Мы ждали его с нетерпением. Возвратясь, он сказал: — Положение такое: «юнкерсы» сбросили на мост пятьдесят бомб, но нет ни одного попадания. Наши зенитчики пока ведут огонь слабо. Все они из приписного состава, боевого опыта еще мало. Потом речь зашла о бронепоезде. «Борис Петрович», как условно называли штабные связисты бронепоезд, сейчас ходил в огневые налеты на северной окраине Канева. Три корабля — монитор «Жемчужин», канонерские лодки «Верный» и «Передовой» — не только охраняли каневский железнодорожный мост, но часто поднимались вверх по Днепру, удачно действовали под Ржищевом и Трипольем против гитлеровских войск, пытавшихся там навести переправы. Однако общая обстановка на каневском участке фронта складывалась не в нашу пользу. Части 26-й армии, ведя упорные бои, все же под натиском превосходящих сил противника отходили к Днепру. В заключение Петр Кисиль посоветовал разыскать на северной окраине Канева политотдел девяносто седьмой стрелковой дивизии. Его начальник полковой комиссар Медведев в случае необходимости окажет помощь. В Келеберде соблюдалась строгая маскировка. Чтобы попасть на мост, пришлось воспользоваться окольной луговой дорогой. У железнодорожного моста, подняв красный флажок, часовой предупредил водителя: — Дорога находится под обстрелом. Будь внимательным. За мостом в двух километрах виадук. Там поворот на Канев. Его надо быстро проскочить. Противник может накрыть минометным огнем. Бросается под колеса серая, накатанная шинами дорога. Мы стоим в кузове пригнувшись и не отрываем взгляда от песчаного поворота. Он все ближе, ближе. Подпрыгивая, тарахтит полуторка. Ну, кажется, проскочили опасное место... И вдруг с правой стороны свистят мины. Полуторка летит сквозь железный треск, сквозь ослепительные вспышки и мгновенно вырастающие черные кусты дыма. Скрипят тормоза. Впереди два пылающих грузовика перекрыли дорогу. Кто-то громко стонет, зовет на помощь. Соскакиваем с машины, чтобы помочь пострадавшим, и сами попадаем под минометный огонь. А наша полуторка стремительно по откосу объезжает горящие грузовики. Хозе делает под обстрелом поворот и удачно проскакивает виадук. — Огонь перенесут за насыпь. Назад нельзя... Только вперед! За мной побежал Голованивский. Вскоре нас догнал Твардовский. Фашисты действительно переносят шквальный огонь за насыпь. Они понимают, что именно там попавшие под неожиданный обстрел люди будут искать спасение. Из дыма вынырнул боец. Показалось, что он прижимает к щеке красный платок. Подбежал ближе, и мы увидели, что он ладонью прикрывает рану: — Товарищи командиры, не бросайте меня! — Не бросим. — Подхватываю его с Голованивским под руки. Бежим в лозы, к передовым позициям. С тем же сухим железным треском рвется мина, и так близко, что волна огненного воздуха бьет в грудь. Еще одна перебежка — и мы возле окопов: — Сестричка, помоги раненому. — Сейчас... Сейчас... — Она склоняется над бойцом. — Да он убит. Вы мертвого принесли. — Как мертвого? — Ничем помочь нельзя, осколки прошли насквозь... А минометный огонь опять нарастает, и нам приходится нырять в окоп. Земля в нем сырая и по цвету напоминает оцинкованный патронный ящик. Кому-то же пришло в голову окопаться в низине, вблизи болота. Только часа через два прекращается минометный обстрел, и мы, несмотря на жаркий августовский день, сильно продрогнув, покинули холодный, как погреб, окоп. Вот он — злополучный поворот на Канев. Как бы снова не попасть под обстрел. Ускоряем шаг и видим: под горой стоит редакционная полуторка. Хозе, заметив нас, бросается навстречу, машет рукой: — Сюда! — Живы наши? — Беда, Александр Трифонович, Гончарук ранен. Справа в первом дворе санбат. Он там. Гончарук стоял у плетня под желтыми шапками подсолнухов, как журавль, на одной ноге. Правая забинтована, держал он ее на весу. Владимир Шамша заботливо поил его из фляги водой, сворачивал для товарища самокрутку. — Как самочувствие, Аким? — спросил Твардовский. — Маленько полихорадило, а сейчас вроде теплей стало. Хирург осколок вынул, впрыснул противостолбнячную сыворотку, а вот из санбата отпускать не хочет. Признаться, здесь мне не по душе. — Погоди, я сейчас... — Твардовский решительно откинул полог палатки. Минут через пять он вышел оттуда вместе с дежурным хирургом. — С недельку ваш товарищ должен быть под наблюдением. Беру с вас, товарищи корреспонденты, слово, что каждый день лейтенант будет посещать медпункт и делать перевязку. Только так. Помните об этом. Поблагодарив врача, мы посадили Акима в кабину полуторки, и она пошла на паромную переправу. Владимир Шамша тотчас же отправился разыскивать конников. А наша неразлучная троица стала подниматься по крутой тропе на холм, где, казалось, должен был находиться политотдел 97-й стрелковой дивизии. С каждым шагом открывался утопающий в зелени садов Канев. Над белыми хатами нависали ветки старых яворов и тополей. Плетни были лиловыми, а желтоватые соломенные крыши сливались с песчаным днепровским берегом. Снова из-за Тарасовой горы послышался гул самолетов. Как и в прошлый раз, «юнкерсы» развернулись, вытянулись над рекой в длинную цепь. Тридцать шесть пикировщиков устремились к железнодорожному мосту. С вершин каневских гор, с кораблей зенитные орудия повели огонь. Ничего нового в воздушном нападении не было. Гитлеровские летчики действовали по шаблону. Точно так же они атаковали черкасский мост. Вот флагман «клюнул» носом и с воем вошел в пике. За ним последовали другие. Пытались бомбить не только мост, но и корабли. Монитор и две канонерские лодки вначале прижались к левому берегу, потом отошли от него, усилили зенитный огонь и, умело маневрируя, уклонялись от атак пикировщиков. Над песчаными берегами поднялись гигантские столбы пыли и дыма. Глядя на них, Твардовский проронил: — Переправа, переправа! Берег левый, берег правый... Наступило затишье. Но это было предгрозье. «Юнкерсы», описав полукруг, набрали высоту над лесистыми холмами и с пике принялись сбрасывать бомбы на позиции зенитных батарей. Самолеты приближались к нашему холму. Хотя на нем и не стояли зенитки, мы все же почувствовали опасность и вслед за моряком, который только что подавал разноцветными флажками какие-то сигналы кораблям, по длинной деревянной лестнице спустились в яму. Наше убежище по своей форме напоминало колокол. Земля здесь звенела. На дне глубокой ямы, из которой многие годы жители города для своих домашних нужд брали песок, мы с особой чуткостью улавливали колебания каневских гор. Нас охватило неприятное ощущение. Казалось, вот-вот над головой сомкнется узкое голубоватое отверстие, и мы навсегда останемся внутри этого песчаного колокола. Порой дым застилал узкое голубоватое отверстие, и тогда мы крепко сжимали друг другу руки, собирая всю волю, чтобы подавить желание броситься к лестнице и преждевременно покинуть безусловно надежное, но слишком чуткое к бомбовым ударам убежище. Земля перестала звенеть и вздрагивать. Лаз над головой заголубел. И мы, поднявшись по лестнице, со вздохом облегчения покинули яму. «Юнкерсы» ушли, но в воздухе еще стояли тучи пыли и дыма. Вершины холмов окутывала коричневая мгла. Ветер с Днепра рассеивал ее. Корабли приблизились к левому берегу и стали там, где над Дпепром нависли густые лозы. Под горой, из-за поворота, показался бронепоезд. Он шел медленно, задним ходом, и был весь в зеленых ветках. Недолго постоял возле моста. Очевидно, взял там боеприпасы и на тихом ходу двинулся к линии фронта. Мы решили все-таки разыскать политотдел 97-й стрелковой дивизии. Справились у зенитчиков, получили ответ: — Ищите его где-то на северной окраине Канева. Но эта окраина гориста, там немало разбросанных по откосам хат и сплошная зелень густых сливовых садов. Зашли в батальон 12-й танковой дивизии. Нам дали связного. Он привел на КП 97-й стрелковой дивизии. Здесь мы познакомились с ее командиром — полковником Мальцевым. Несмотря на занятость, он принял нас. Мы узнали, что на каневский железнодорожный мост наступает 94-я немецкая пехотная дивизия. Стояла она во Франции и на восточный фронт прибыла из Нанта. В боях на Украине понесла значительные потери. Дважды пополнялась, и важно было отметить — в ее составе под Каневом появились довольно пожилые, призванные из резерва солдаты. Командует дивизией опытный генерал-майор Пфейфер. Он окончил академию генштаба и написал несколько книг по тактике. Его более высокий начальник — командующий группой армий «Юг» генерал-фельдмаршал Карл-Рудольф фон Рундштедт особенно гордится своими предками. Все они на протяжении восьми столетий не расставались с огнем и мечом. Рундштедт, по показаниям пленных, пользуется особым доверием и благосклонностью фюрера. Беспрерывные зуммеры полевых телефонов заставили комдива прервать беседу. Он пожелал нам успеха в работе, и связной повел нас в политотдел. Медведев — кадровый политработник, безусловно, принадлежал к тем комиссарам, которые еще во время гражданской войны в любой обстановке всегда проявляли большую выдержку. По своему характеру он напоминал Ильина из девяносто девятой дивизии. Та же тактичность и доброжелательное отношение к людям. — Давайте о делах не говорить, пока не пообедаем, — Медведев пригласил нас к накрытому на скорую руку столу. Но именно за обедом завязался деловой разговор. Узнав, что Твардовский с Голованивским собираются с рассветом посетить корабли, он запротестовал: — Днем, на корабли?! Ни в коем случае. Только ночью. — Нам уже говорил об этом в Келеберде батальонный комиссар Яблоков. Но мы хотим побывать, на кораблях днем, — возразил Твардовский. — Корабли... Вас тянет романтика. Знаете, она связана с большим риском для жизни. У нас на земле немало героических дел. — Медведев встал из-за стола. — Вот сейчас убедитесь. Пошли! Мы поднялись по тропке в гору и вскоре вошли в дворик, где с полсотни пленных немецких солдат приводили свои пыльные мундиры и сапоги в порядок. За колодезным срубом под охраной часового на старой телеге сидели два обер-лейтенанта. Твардовский обратил внимание на лысого, морщинистого солдата, у которого на подбородке и щеках седая щетина. В руках он держал сапоги с широкими, словно ведра, голенищами, но надеть их не мог — на пятках горели кровавые волдыри. Он шагнул вперед, бросил сапоги на траву и пробормотал: — Война пльохо, это не есть гут. Этот пятидесятилетний резервист оказался бухгалтером из Веймара, недавно призванным в армию. — У большинства пленных солдат настроение подавленное, — доложил переводчик начподиву. — Говорят: это не Франция. Хотя они и подошли к Днепру, радости мало. Их роты понесли значительные потери. Старшие начальники твердят: солдаты, Днепр форсируем — все изменится. — А что офицеры? — До сих пор не могут прийти в себя. Все не поймут, как это они очутились в плену? — И только? — Нет, не только. По их мнению, война Германией выиграна. Победа — лишь вопрос времени. Ее принесут люфтваффе и танковые клинья. — Федор Гаврилович, — обратился начподив к лейтенанту Белкину, — расскажите писателям, как взяли фашистов в плен. — А чего же... Рассказать можно. Значит, так: послали меня делегатом связи в наш левофланговый полк.Вместе со мной пошел политрук Сергеев. Вручили командиру полка приказ о наступлении. С рассветом к нам на помощь подошли три танка, и полк стал наступать. Гитлеровцы ответили контратакой. Завязался тяжелый встречный бой. Мы решили с Сергеевым возвратиться в штаб дивизии и доложить о создавшейся обстановке. Выходя из-под обстрела, стали встречать одиночных бойцов. К нам присоединилось девять человек. Вижу — в лощинку спускаются немецкие минометчики и занимают позицию. Мы в хлебах, они не видят нас. Приказал бойцам незаметно подобраться к ним. Подползли ребята и с криком «ура» бросились в штыки. Четырнадцать немцев подняли руки вверх. Один офицер что-то закричал и застрелил двух своих солдат. Я сразил его короткой очередью. Второй рыжий офицер, вон тот, что сидит на телеге, понял: деваться некуда — и бросил оружие. Пошли мы дальше уже с пленными. Тут к нам присоединилось еще девять красноармейцев. Стали выходить из хлебов, видим — немцы. Подобрались к ним и снова с криком «ура» ударили в штыковую. Семерых закололи, а тридцать шесть солдат во главе с офицером сдались в плен. — Лейтенант Белкин усмехнулся. — Вот они фрицы, все налицо. — Да-а, — протянул Твардовский. — Выступи так наш казак Иван Гвоздев в газете, сказали бы — выдумка. А настоящий героизм видишь каков?! Пришел бравый старшина и попросил у начподива разрешения выстроить пленных для отправки за Днепр, в штаб фронта. — А что скажет нам лучший пулеметчик Давид Шапиров? — обратился Медведев к хмурому красноармейцу. — Товарищ полковой комиссар, когда я смотрю, как относятся к пленным у нас, как их кормят и поят, то не могу без крепкого слова вспомнить кирпичный завод на окраине Умани, превращенный гитлеровцами в концлагерь. Наша рота попала в окружение. Патроны кончились, а фрицы тут как тут: рус, плен! Загнали меня за колючую проволоку. Три дня находился в плену, да горя хлебнул там столько, что на всю жизнь хватит. По дороге в Умань охранники хлестали нас плетками, колотили прикладами. Кто выбивался из сил, отставал от колонны — тому крышка. Подскакивал на коне гитлеряка, вскидывал автомат и давал короткую очередь. В концлагере за три дня сто пятьдесят пленных получили ведро воды и два ведра недоваренного проса. Нас не так голод мучил, как жажда. Днем приказывали стоять по команде смирно. У товарищей подкашивались ноги, и они садились на землю. Охранники усматривали в этом нарушение лагерной дисциплины и длинными палками загоняли провинившихся в яму с жидкой глиной. Под рев и хохот фашистов измученные люди захлебывались жидкой глиной и тонули. В лагере я ничего не ел и не пил — боялся заболеть. Как ни ослабел, а все же хватило сил: ночью сделал подкоп под колючей проволокой и ушел от верной смерти. Я прошу вас, товарищи писатели, рассказать об этом в газете. Пусть вся наша армия знает, что такое фашистский плен. В политотделе полковой комиссар Медведев дал нам прочитать показания военнопленных. Одно из них нельзя было не записать в корреспондентский блокнот: «Как только войска перешли русскую границу, командир роты ознакомил солдат с инструкцией главного командования. Она отменяла обязательное применение военно-уголовных законов к военнослужащим германской армии, повинным в убийстве и грабеже мирного населения». Все было предельно ясно: человеческую жизнь на оккупированной территории в любую минуту мог растоптать сапог фашистского солдата. Медведев, взглянув на часы, сказал: — Пора, пошли в укрытие. — В чем дело? — спросил Твардовский. — Семь часов вечера, как по звонку... — Дальнейшие слова полкового комиссара заглушил грохот зенитных батарей. Мы поспешили к щели. «Юнкерсы» шли волна за волной. Уходила девятка бомбардировщиков — на смену появлялась новая. Солнце из-за каневских гор хорошо освещало пойму Днепра. Черные свастики и кресты на пикировщиках вырисовывались резко, зловеще и казались тенью смерти. С заходом солнца бомбежка прекратилась. Каневский мост не пострадал, корабли тоже. Только на берегу Днепра горели хаты, да где-то за железнодорожной насыпью раздавались пулеметные очереди. Грохнули пушки бронепоезда, и все стихло. Время шло, и мы стали думать, как же на следующий день выполнить главное редакционное задание — побывать на кораблях и бронепоезде. Полковой комиссар Медведев связался с моряками. Они пообещали чуть свет прислать катер. Связной проводит Твардовского с Голованивским к Резервному озеру и заодно покажет мне тропку, которая ведет через болото на стоянку бронепоезда. Встали еще затемно. Заботливый Медведев принес хлеб, колбасу и котелок чаю. Перекусив, поблагодарили полкового комиссара за гостеприимство, собрались в путь. Знаем, впереди нелегкий денек. Чем он кончится? Неизвестно. Но об этом лучше не думать. Светает. Вместе со связным начинаем спускаться с крутого холма. Тропка от росы скользкая. Твардовский раздавил сапогом сливу и чуть не слетел под кручу. Потом это случилось с Голованивским, он с трудом устоял на тропке. Ну и гора! На каждом шагу сливы и сливы. А сорвешь с ветки — зеленая, поднимешь с земли — червивая. — Эх, еще бы недельку... — Твардовский посматривает на синеватые сливы. Под их тяжестью ветки гнутся до самой земли. С высокого холма стараемся разглядеть полоску Днепра. Как ни напрягаем зрение, нет, ничего не видно. Пойма в тумане, еще не продута ветром. Не хочется расставаться с товарищами, по связной показывает мне протоптанную тропку, уходящую в камыши. На прощание молча поднимаем над головой руки и крепко сжимаем их. Это означает: до встречи! Пробираюсь через топкое, усеянное кочками болото. Камыши, густой лозняк и липкая грязь. Иду медленно, долго. Сквозь листву видны запыленные стальные башни. Вот и железнодорожная насыпь. Гремит залп бортовых орудий. Невольно прильнул к земле и увидел редкое зрелище. От орудийного залпа все правые колеса бронепоезда подпрыгнули в огненном вихре. Рельс, на котором они только что стояли, спружинил. Когда же стальная громада с тяжелым звоном опустилась, все ее правые колеса точно стали на рельс. Зазвенели буфера. Бронепоезд тронулся с места. В этот момент открылась стальная дверца, и светловолосый юноша в синем комбинезоне протянул руку: — К нам? Давай скорей, что стоишь истуканом? Это был комиссар бронепоезда младший политрук Василий Казарин. Командир «крепости на колесах» старший лейтенант Петр Кириллович Ищенко находился на совещании в штабе армии. После знакомства я попросил Казарина показать дневник боевых действий. Это была скупая, немногословная запись. Но каждая строка говорила о железной воле команды бронепоезда № 56, принявшей боевое крещение в первые дни войны. Бронепоезд сражался с врагом сорок четвертые сутки. 5 июля 1941 года на Юго-Западном фронте перешли в наступление 6-я пехотная армия и 1-я танковая группа врага. После жестоких боев противник прорвал нашу оборону в районе Новограда-Волынского. Танки Клейста устремились вперед, за ними двинулись пехотные корпуса Рейхенау. На второй день после боев радисты бронепоезда приняли тревожные шифровки. Враг окружал со всех сторон. На железнодорожных переездах появились гитлеровская пехота, артиллерия на механической тяге, бронемашины и танки. «Мы можем взорвать бронепоезд, — обратился тогда к команде старший лейтенант Петр Кириллович Ищенко. — Но это будет только на радость врагу. Огонь наших пушек и пулеметов мы обрушим на захватчиков, будем пробиваться на соединение с нашими главными силами». На совещании командного состава Ищенко наметил маршрут. Командир бронеплощадки лейтенант Черняев произнес самую короткую речь. Она состояла из четырех слов: «Боеприпасы, уголь, вода, продукты!» Продуктов было мало. Сухари и консервы, да и то в обрез. Установили строгий паек. Лейтенант Николай Цепковатый занялся рельсами, шпалами, костылями. В его подчинении находились дорожные мастера, и он понимал, какая тяжесть ляжет в походе на плечи ремонтной бригады. Команда бронепоезда спешно запаслась углем и водой. Надо было торопиться, уйти подальше от шоссе. Каждую минуту могли появиться вражеские разведчики — мотоциклисты. Бронепоезд осторожно шел в сумерках. Всматриваясь в темнеющие поля, наблюдение вел интендант 3-го ранга Губский. Он заметил отблески пламени. Била артиллерия. Бронепоезд остановился. Младший лейтенант Гаврильченко с двумя бойцами отправился на ручной дрезине в разведку. На опушке леса немецкая батарея вела сильный огонь. В темную дождливою ночь в тылу врага оказался не только наш бронепоезд. Моторизованные войска гитлеровцев вышли в тыл советским частям. Кто-то пробивался на восток, но встретил на своем пути этот огневой заслон. Бронепоезд незаметно подошел к роще, занял огневую позицию и притаился. Он выжидал. На опушке леса сверкнуло пламя, и в этот миг все пушки и пулеметы «крепости на колесах» ударили по врагу. Шквал артиллерийского огня. Бронепоезд промчался мимо рощи и чуть свет внезапно появился на окраине Бородянки, захватив гитлеровцев врасплох. Начальник штаба капитан Мартыненко корректировал огонь. Пушки «крепости на колесах» били прямой наводкой. Пылали танки, обломки фашистских орудий. Противник открыл ответный огонь. Термитный снаряд попал в командирскую рубку, прожег броню, ранил командира отделения связи сержанта Прокуророва. Сержант не растерялся, не дал вспыхнуть пожару. К переезду устремились два танка, пытаясь преградить путь бронепоезду. Командир главного орудия старший сержант Смирнов метко послал снаряд, и головной танк вспыхнул. Второй танк подбил Кожевников. Под Дружней после сильного боя бронепоезд вырвался из окружения. Воины бросились обнимать друг друга, поздравлять своих командиров с боевым успехом. Вот и Пост-Волынский. Но нельзя даже думать об отдыхе. Закипела работа, и как только команда «крепости на колесах» закончила погрузку боеприпасов и продуктов, радист принял шифровку — приказ главнокомандующего войсками Юго-Западного направления маршала Буденного. Бронепоезд направлялся на станцию Мироновка. «Юнкерсы» беспрерывно бомбили железнодорожные пути. Но ремонтные бригады засыпали воронки, укладывали новые шпалы, заменяли разбитые рельсы. Глубокой ночью смогли уйти в тыл санитарные поезда, теплушки с эвакуированными. За ними двинулись эшелоны с хлебом, цветными металлами и оборудованием. К рассвету станция Мироновка опустела. Ищенко, собрав команду «крепости на колесах», сказал: — Спасибо вам, товарищи! Мы эвакуировали в тыл тысячи людей, спасли много народного добра. По местам! Бронепоезд, покинув станцию, укрылся в удобной выемке. Бойцы во главе с начальником штаба Мартыненко занялись маскировкой. Бронепоезд был покрыт специальной сеткой. Каждую ночь бойцы меняли траву, запасались свежими ветками. Чтобы рельсы на запасном пути, где стоял бронепоезд, не блестели, их покрывали мазутом, глиной, черноземом. — «Костыль» летит! — предупредил воздушный наблюдатель. В светлеющем небе кружил вражеский разведчик. Он что-то высматривал, часто снижался. И не напрасно. В степи показалась кавалерия. Отходили части пятого кавалерийского корпуса имени Блинова. Вдруг появились танки. Их все больше и больше. Команда бронепоезда тогда еще не знала, что она встретилась в степи с ударной группой Клейста. Танки двигались по буграм, спешили по пыльным дорогам, старались закрыть конникам пути к отходу. Они брали кавалерию в клещи и теснили ее к полотну железной дороги. Хорошо замаскированной «крепости на колесах» гитлеровцы не заметили. Сигнал! Пушки прямой наводкой ударили по головным машинам, и те вспыхнули в степи факелами. Кавалерия устремилась к бронепоезду под прикрытие его огня. Проскакивая мимо, конники кричали: — Спасибо, братцы, за выручку! А «крепость на колесах» дышала огнем. Командиры орудий Смирнов и Соколов расстреливали машину за машиной. Но особо отличился наводчик Малашенко. Он даже не смотрел в панораму — было некогда — и наводил прямо по стволу. Ни один его выстрел не пропал даром. Два танка, охваченные дымом, отползают назад. Наводчик посылает новый снаряд. С перебитой гусеницей третий танк, словно гигантский волчок, кружится на месте. — Смотри, фашист вальсирует! — кричал Малашенко Елизарову. Снаряд попал в бронированный вагон, ранил старшего электротехника Бакштейна и механика Алексеева. Они едва держатся от потери крови, но подача тока не прекращается. По-прежнему плавно поворачиваются стальные башни и аккуратно подаются снаряды. Сделав перевязку Бакштейну и Алексееву, лекпом Губский под пулями пробрался к раненым на открытую площадку, поил их водой, делал перевязки. За некоторыми тяжелораненными приходилось следить — ненависть к врагу не давала им покоя: они вскакивали и хватались за оружие. Танкистам Клейста не удалось преградить путь бронепоезду в этом тяжелом и неравном бою. Ощетинившись огнем, он отошел, на полном ходу ворвался на станцию Мироновка, рассеял там пехоту. Гитлеровцы не успели даже подорвать рельсы. Мироновка, Темпы, Лазирцы, Канев — вот места новых боевых подвигов бронепоезда № 56. Закрываю журнал боевых действий. Казарин предлагает побывать в боевых рубках, познакомиться с командирами орудий, наводчиками и заряжающими. В боевых рубках жарко, душно. Они пропахли пороховыми газами, пропитались пушечной смазкой. Так и хочется распахнуть стальную дверь, чтобы повеял днепровский ветер. На бронепоезде всюду порядок и строгая дисциплина. Комиссар — очень молодой человек и звание у него скромное — младший политрук. Но по всему видно — политический вожак. Бойцы относятся к нему с уважением. И оно, несомненно, завоевано волей, энергией, личной храбростью комиссара. Пять дней на высоких днепровских кручах и особенно на северо-западной окраине Канева шла жестокая битва. Юноша комиссар и пожилой суровый начштаба ждали боевой приказ. И вот из штаба армии на бронепоезд возвратился его командир — старший лейтенант Петр Кириллович Ищенко. Военный совет Юго-Западного фронта принял решение: отвести 26-ю армию на левый берег Днепра. Командарм Костенко приказал команде бронепоезда прикрыть основную каневскую переправу. Прикрыть — это значит стоять на правом берегу до последней возможности. Не дать гитлеровцам захватить мост и переправиться через Днепр на плечах отступающих войск. Защищая главную переправу, сам бронированный богатырь уже не мог отойти за Днепр. От разрыва бомбы сместилось с осей стодевятиметровое металлическое пролетное строение. После восстановительных работ каневский мост пропускает только грузовики, артиллерию. На бронепоезде тревога. Гремит рупор, трепещут на ветру сигнальные флажки, в боевых рубках не смолкает «ревун», похожий по звуку на автомобильную сирену. На горизонте видны пожары. Горят хаты в Бобрице. Пылают они и в Тростянце. Рядом с железнодорожным полотном вьется грунтовая дорога. По ней движутся запыленные машины и подводы. На смотровых стеклах автомобилей пулевые пробоины, трещины. К Днепру, на каневский мост, длинной вереницей спешат обозы, машины. Кавалеристы ведут в поводу усталых, взмыленных коней. Запыленные, черные от пороховой гари, в бинтах — выходят из большого боя. Низко со свистом проносится снаряд. Люди уже привыкли к этому и не обращают никакого внимания. Вдруг в тон ему звонко заржал в лозах жеребенок: — И-и-и... И этот высокий звук, казалось, продлил полет снаряда. Головы бойцов, как по команде, повернулись в ту сторону. Кто-то улыбнулся. В развалинах каневского вокзала струится дым. На путях скелеты разбитых вагонов. Бронепоезд идет в огневой налет, спешит на помощь стрелковому полку. Скоро Бобрица. Она уже занята фашистами. Наша разведка установила: на ветряках сидят вражеские наблюдатели, а на колокольне установлены пулеметы. Бортовые орудия дают залп. В бинокль хорошо видно, как разлетаются крылья ветряных мельниц. Каким-то особым, соколиным взглядом присматривается наводчик Иван Малашенко к церквушке. Четвертым снарядом он сбивает пулеметчиков с колокольни. Из-за дальних бугров выползают шесть танков. Пять орудий бронепоезда вступают в бой. Длится он недолго. Танки задним ходом отползают в укрытие. Враг обрушивает на бронепоезд огонь минометных и артиллерийских батарей. Из перелесков показались пехотные колонны, пыльными серозелеными тучами приближаясь к полотну. Гитлеровцы идут во весь рост, засучив по локоть рукава, что-то горланят и беспрерывно строчат из автоматов. Ни шрапнель, ни осколочные снаряды не могут остановить это взбесившееся стадо. С бронированных площадок открыли огонь шестнадцать пулеметов. Только им удалось сначала остановить, а потом рассеять наступающую пехоту. Но и сам бронепоезд едва не попал в западню. В тылу на железнодорожной насыпи уже появились подрывники с черными ящиками тола. И если бы зенитка не ударила по ним прямой наводкой, то рельсы взлетели бы на воздух. Беспрерывно маневрируя, бронепоезд усиливает огневой бой. Стволы орудий накалились до малинового цвета. Вода в кожухах станковых пулеметов кипит. В рубках орудийные расчеты задыхаются от пороховых газов. Противник отвечает шквальным минометным огнем. Бьют его дальнобойные пушки, теснят бронепоезд к мосту. В кружке бинокля не только отходящие войска. К мосту идут женщины, старики, дети. Они с узлами, торбами, с корзинами. Люди эвакуируются по-разному. Старик навьючил корову мешками и шагает с ней к Днепру. Какая-то женщина, опасливо оглядываясь, везет пожитки в детской коляске. Мальчик несет плетеную корзину, из которой выглядывает гусь. Тяжелый снаряд, перелетев через железнодорожную насыпь, разрывается в болоте. Из камышей выпрыгивает разъяренное огненное чудовище и тянет за собой ввысь, как черную гриву, болотную грязь. Над болотными камышами вьется чайка. Ее крик как плач. «Чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче». Думал я побывать на могиле Кобзаря, на Тарасовой горе, но туда уже не пройти. В небе показываются «юнкерсы». Разворот над Тарасовой горой, и потом, повиснув над Днепром, той же длинной цепью идут бомбить мост. В кружке бинокля вздрагивающие, как поплавки, мачты кораблей, темнеют горбатые фермы моста, полоска Днепра. Все заволакивает дым. «Как там, на кораблях? Твардовский с Голованивским сейчас в самом пекле. Только бы обошлось все благополучно. Скорей заходи солнце, кончайся невыносимо жаркий день с проклятой бомбежкой». Мельком смотрю на солнце и не могу понять — когда же наступит вечер. Под шквальным огнем перестал ощущать время. А «юнкерсы» продолжают настойчиво наносить удары по железнодорожному мосту, по кораблям, по паромным переправам и как бы не замечают бронепоезда. Зенитчики на открытой платформе начеку. Но пикировщики проходят стороной. А пока на железнодорожном полотне идет артиллерийская дуэль. «Крепость на колесах» ходит в огневые налеты. Начштаба Мартыненко по вспышкам засекает вражеские батареи и со снайперской точностью корректирует огонь. Гитлеровцы усиливают обстрел железнодорожной линии. У механика бронепоезда старшего сержанта Васяновича все меньше и меньше остается простора для маневрирования. Противник стремится сделать «крепость на колесах» неподвижной. С каждым артиллерийским и минометным обстрелом отрезок пути сокращается. Воет сирена. Четыре «юнкерса», высоко поднявшиеся над железнодорожным мостом, пикируют на бронепоезд. От бомбовых ударов вздрагивает насыпь. Зенитчиков на открытой платформе ослепляет пыль. Скрипят тормоза. Звенят буфера. Бронепоезд маневрирует. Зенитка, пулеметы, винтовки дышат огнем. Механик бронепоезда Васянович то мгновенно затормозит, то снова стремительно двинет вперед стальную громадину, то вдруг моментально отойдет назад, прижмется к железнодорожному мосту. Осколками пробит котел и тендер. Васянович останавливает бронепоезд. Отбомбившись, четыре «юнкерса» набирают высоту и уходят. Сильно пострадал бронепоезд. Вся его левая сторона лишилась брони. Погиб механик — старший сержант Николай Неня. Тяжело ранен лейтенант Александр Черняев. Взрывная волна сбросила с бронеплощадки начштаба капитана Федора Мартыненко. Тридцать «юнкерсов» атакуют бронепоезд. Видно, как отделяются от флагманского самолета и летят, переворачиваясь, похожие на огромные черные сигары бомбы. «Юнкерсы» стелят «бомбовой ковер». Воронки горбят насыпь. Вместе со шпалами вздыбились рельсы. Повален набок бронепаровоз. Сдвинуты с рельсов бронеплощадки и повреждены орудийные башни. За новой воздушной атакой следует наземная. Немецкая пехота рвется к железнодорожному мосту. На помощь команде бронепоезда приходит корабельная артиллерия, и гитлеровцы отходят. Девятнадцать черных от дыма, оглушенных человек занимают оборону вдоль насыпи и продолжают удерживать переправу. Ремонтным бригадам удается восстановить одну бронеплощадку, и она действует как дот. В рупоре голос комиссара Казарина: — Держитесь, чекисты, наша крепость живет! Ночью приходит приказ командира: взорвать поврежденный бронепоезд. Лейтенант Николай Цепковатый с командой подрывников заминировал искалеченные бронеплощадки. Через минуту раздался взрыв. А каневский мост под беспрерывным огнем бризантных гранат. Шрапнель осыпает железные фермы, рикошетит и с визгом летит в темный Днепр. За мостом, задыхаясь от быстрой перебежки, вваливаюсь в ход сообщения. Он приводит меня в блиндаж. За столом, освещенным фонарем «летучая мышь», саперные командиры ведут спор. А в сторонке, на сене, сидят Твардовский и Голованивский. Оба повернулись к свету и что-то записывают в блокноты. Увидев меня, обрадовались. — Слава богу, все в сборе. — Твардовский спрятал в карман блокнот. — А вы давно здесь? — Да нет, недавно. Прямо с корабля на бал. — Помолчал, а потом, словно от холода, поежился: — Если бы Савва не столкнул меня в воронку, не сидеть мне в этом блиндаже. Мина в трех шагах разорвалась. — Просто удивительно, — развел руками Голованивский. — Мина свистит, а он ни с места. Хорошо, что рядом воронка. — А как на корабле? — Планшеткой голову от бомб прикрывал. Помогло! В шутке Твардовского была горечь. Разговор прервался. Каждый из нас хотел собраться с мыслями, прийти в себя после всего пережитого. В ушах еще звенело от бомбежки, и так хотелось пить, что, припав к котелку с водой, трудно было от него оторваться. В блиндаже работала рация. Москва передавала последние известия. И вдруг в блиндаж ворвался голос Левитана: «В течение четырнадцатого августа наши войска вели ожесточенные бои с противником от Ледовитого океана до Черного моря... На южном направлении бронепоезд НКВД в совместных действиях с кораблями Днепровской флотилии уничтожил более трех тысяч немецких солдат». — Это о нас Москва говорит на весь мир! — воскликнул радист. Борьбу с гитлеровцами за каневский мост вел 32-й отдельный железнодорожный батальон. Им командовал майор Фиклинец. К утру обстановка на мосту обострилась. Гитлеровцы минометным огнем повредили на нижних поясах ферм не только основную, но и дублирующую электропроводку. Как ни старался лейтенант Котляров со своими бойцами устранить неполадки, ему это не удалось. Наружная электросеть так и не сработала. А командарм Костенко, позвонив по полевому телефону, приказал немедленно разрушить каневский мост. Это требовал и представитель Юго-Западного фронта полковник Маркелов, который находился на подрывном пункте вместе с командирами рот, капитаном Лавренчуком, старшим лейтенантом Спиридоновым и военным инженером Тишиным. — Несработка! — сказал дрогнувшим голосом Тишин и перекусил папироску. Он отвечал за общее техническое руководство и понимал, какая вина ляжет на него и подрывников старшего лейтенанта Потапа Чинюка, если фашисты захватят мост. Посоветовавшись с командирами рот, Тишин приказал вывести из укрытия, сделанного в насыпи, нагруженную взрывчаткой трехтонку, выехать на середину моста и там поджечь бикфордовы шнуры. Но доберется ли туда под прицельным огнем врага машина со взрывчаткой? Не взлетит ли на воздух от прямого попадания снаряда или мины? Подбросив на ладони спичечный коробок, командир взвода подрывников Чинюк сказал: — Я пошел. — И, проворно повернувшись, выскочил из блиндажа. Все бросились к амбразуре. Столпились, застыли. Противник вел огонь. Мины, не задевая железных ферм, падали в Днепр, и над волнами по ветру летел черный дым. — Вот она, идет! — Полковник Маркелов еще ближе придвинулся к амбразуре и, чтобы лучше видеть, навел на мост бинокль. — Идет, идет! Молодец, Чинюк, не обращает внимания на обстрел. Трехтонка на месте. Чинюк поджигает бикфордовы шнуры. В блиндаже все притихли. Было слышно, как на мосту по доскам гулко стучат подбитые железными подковами сапоги. Чинюк с водителем трехтонки сбежали с моста, и только они скатились по откосу в окоп, как сверкнула шаровая молния и сломала мосту хребет. Днепр вспенился, забурлил, тяжело ударил в берег новой волной. — Сработала трехтонушка, сработала! — потирал руки Тишин. — Один стодевятиметровый пролет полностью обрушился в воду, второй упал только одним концом. Три пролета по сорок пять метров со стороны Канева и такой же один левобережный остались неразрушенными. — Маркелов опустил бинокль: — Товарищ Тишин, как вы поступите дальше? — С наступлением темноты приступим к новым взрывам. — Смотрите, Тишин, головой отвечаете. — Разрушим, товарищ полковник. А потом самим же придется все восстанавливать. — Тишин улыбнулся. После взрыва двух пролетов к нему вернулось полное спокойствие. Как только железные фермы рухнули в Днепр, обстрел моста прекратился. Наша корреспондентская бригада по сыпучим пескам сквозь заросли лозняка пробиралась в Келеберду. Твардовский остановился, глянул на искалеченные железные фермы и, как бы что-то проверяя на глаз, проронил: — А вода ревет в пучине под подорванным мостом. — Раздвинул рукой лозы, еще раз посмотрел на Днепр. Вечером простились с армейскими политотдельцами, и редакционная полуторка покинула село Келеберду. Вершины гор осветило высоко взметнувшееся пламя. В густых сумерках гремели мощные взрывы. Тишин обрушивал в Днепр фермы каневского моста. Двадцать шестая армия отошла на левый берег Днепра. В редакцию мы приехали ранним утром. Твардовский с Голованивским принялись обстоятельно отвечать на вопросы. — Погодите, друзья, погодите! — Вашенцев заходил по комнате. — Вы рассказываете о такой бомбежке. На мост в общей сложности налетало по семьдесят три «юнкерса», а вы были рядом на кораблях и в бронепоезде. Как же уцелели? Как? А вы знаете, я все понял и скажу, почему вы остались живы. — И Сергей Иванович воскликнул: — Поэтов трудно разбомбить. Так родилась в редакции новая крылатая фраза. Пришел замредактора батальонный комиссар Синагов. Поздравил меня и Бориса Палийчука с присвоением воинских званий. Сергей Иванович Вашенцев принялся рассказывать о посещении перед отъездом на фронт ГлавПУРа, где ему было обещано высоким начальником звание генерал-майора интендантской службы. — А ведь неплохо получить такое звание и возглавить выездную писательскую бригаду на каком-нибудь участке фронта. Надеюсь, друзья, вы с охотой поедете со мной? — спросил Вашенцев и добавил: — Как там сказано у Лермонтова? «Их ведет, грозя очами, генерал седой». Улеглась радость встречи, и многие перед летучкой поспешили в буфет запастись бутербродами. Твардовский, отозвав меня с Палийчуком в сторону, сказал: — На войне без шутки не проживешь. Давайте, братцы, повысим Сергея Ивановича в звании. Позвали Веру и Нину, девушек, ведающих редакционной почтой. Александр Трифонович попросил их из старых телеграмм составить Вашенцеву поздравление с присвоением очередного воинского звания. Телеграмму вместе с газетами положили Вашенцеву на подушку и вышли из комнаты. Он вот-вот должен был возвратиться из буфета. Началась летучка. Крикун с Кисилем принялись планировать материалы, посвященные воинам 26-й армии. Редактор занялся беглым просмотром почты, и в это время Твардовскому передали записку. Он показал ее мне. Вера с Ниной били тревогу. Оказывается, в комнату Вашенцева случайно зашел Урий Павлович Крикун, обратил внимание на телеграмму и пришел в недоумение: как же она миновала секретариат? Взял да и положил ее вместе с поступившей почтой в папку редактора. Что-либо предпринять было поздно. Мышанский уже держал в руках поздравительную телеграмму. Прочел ее раз, другой, наморщил лоб. Видимо, ему не очень нравилось то, что в редакции вдруг появился такой высокий начальник. Но делать было нечего. Повертев в руках телеграмму, он взглянул на Вашенцева: — Сергей Иванович, вы интендант первого ранга. — Так точно. — Так вот, пришла телеграмма... В ней сказано о присвоении вам очередного воинского звания. Значит, вы генерал-майор интендантской службы. Все принялись поздравлять Вашенцева. Я почувствовал, что у старого дивана, на котором я так удобно расположился, стали слишком острые пружины. Шутка зашла далеко. Она катилась с горы, словно снежный ком, и превращалась в лавину, грозившую нам большой неприятностью. Мышанский тут же позвонил в военторг и спросил, можно ли заказать форму для генерала интендантской службы. Военторговцы попросили подождать денька три: у них не было нужного материала на лампасы. Когда после летучки Твардовский рассказал Мышанскому историю с телеграммой, тот, хотя и отчитал нас, но, вспомнив о своем звонке в военторг, расхохотался. Уладив все в редакторате, наша троица направилась к Вашенцеву. Сергей Иванович, взглянув на нас, насторожился: — Чувствую какой-то подвох. — Сережа, ты уже был почти генералом. Но тебе, милый, не хватило сукна на лампасы. Великодушно извини нас. — Твардовский скрестил на груди руки. — Так это вы?! Да как вы посмели послать такую телеграмму редактору? — вскипел Вашенцев. Но тут вовремя появился Крикун, пришел нам на помощь, рассказал Вашенцеву все как было. Удивительно милый, сердечный человек, Сергей Иванович остыл: — Великодушно извиняю. Но помните, на войне я еще постараюсь найти сукно на лампасы, вот получу очередное воинское звание и тогда поставлю вас по команде смирно. Все уладилось. Я развернул свежий номер «Красной Армии» и на третьей полосе прочел стихи Твардовского. «И, спинкой мелькнув меж подсолнухов голой, бежит на задворки трехлетний Микола... И вот, развернувшись, летишь ты обратно. Машина работает ровно и внятно. И вновь под тобою — прибрежные села, и щурится, глядя под солнце, Микола. Кричит с огорода: — Ой баба, ой мама, бежите, глядите, — тот самый, тот самый!» Эти строчки перенесли меня в приднепровское село. Вновь увидел маленького Миколу, машущего загорелой ручонкой краснозвездному «ястребку». И то, вначале тихое, золотистое, как подсолнухи, утро. А потом вспененный бомбами Днепр. «Бронепоезд сражался с врагом сорок четвертые сутки». Писал, не замечая времени, и поднялся из-за стола, когда уже стало темнеть. В газете очерк выглядел солидно. Внимание привлекал удачный снимок воинов в касках и комбинезонах на фоне замаскированного ветками бронепоезда. Вся третья страница «Красной Армии» посвящалась подвигам стального богатыря.
7
Кончились горячие дни августа и наступили напряженные сентябрьские. Только вернешься из Голосеевского леса, не успеешь, как принято говорить в редакции, «отписаться», как надо ехать в ирпенский лес или в Остер на Десну, где противник грозит Киеву фланговым ударом. Наши войска теперь обороняют Киев с трех сторон — с юга, запада и с севера. Трудно решить, где таится большая опасность для киевской обороны — на юге или на севере. Тревожат фланги. Возможно, Киев будет сражаться с врагом в окружении. Пока это только догадка, но все же вывод один: надо готовиться к новым испытаниям. Поздним вечером, когда прожекторные лучи старательно обшаривали киевское небо в поисках ходивших на большой высоте «хейнкелей», мне позвонил по телефону Крикун: — Собирайся в дорогу. С рассветом едем в Чернигов. Вошел Олекса Десняк: — Слушай, друже! Я узнал, что ты едешь в город, который дорог моему сердцу. Вернешься — зайду узнать новости. Знаешь, теперь мы соседи. Наша армейская газета разместилась в оперном театре. Вот оно как! Ну, будь удачлив. — Он медленно направился к выходу. На пороге оглянулся: — Смотри там, чтоб Десну не перешли фашистские батальоны. Я уже собирался лечь спать, как раздался телефонный звонок: — Прошу прощения. Это Гайдар. Твардовский едет в Чернигов? — Нет, не едет. — Жаль... Я хотел с ним проскочить на Десну. — Подышал в трубку: — Тогда к вам, армейцам, просьба: приютите на полуторке нашего фотокорреспондента Бориса Порфирьевича Иваницкого. — Иваницкий — старый знакомый, местечко найдется. — Договорились. Ветер распахнул балконную дверь. Прожекторные лучи шагали по крышам, по тучам. Я смотрел на темные слитки домов и не знал, что провожу последнюю ночь в осажденном Киеве. В Чернигов было решено ехать на двух машинах, чтобы, как сказал Крикун, «выйти на оперативный простор» — выяснить в штабе 5-й армии обстановку, разделиться на две группы и махнуть сразу на Десну и на Днепр. И вот под шинами шуршит Черниговское шоссе. Оно выложено красными и темно-коричневыми кирпичами. Машина летит, словно по верхушкам ельника. За Броварами встречаем какие-то ошалелые грузовики и легковушки. Они проносятся мимо со свистом на самых больших скоростях. Впереди что-то случилось! Но что? Бомбят дорогу? Так не слышно гула самолетов. Возможно, у Остра прорвался противник? Но тогда бы к месту прорыва спешили наши войска. А пока их не видно. У Козельца на шоссе догорают две «эмки». В кювете валяются разбитые грузовики. Выяснили: под бомбежку попал штаб 21-й армии. Как же он здесь очутился? Ведь это же армия Брянского фронта. А может быть, она пришла на помощь защитникам Киева? Враг заметил переброску войск и нанес бомбовой удар? Все может быть. Под Козельцом приходится задержаться. «Юнкерсы» бродят над шоссейкой. Время уходит. Рассчитывали добраться до Чернигова часа за четыре, а теперь вряд ли попадем туда к вечеру. Надо еще побывать в штабе 5-й армии. За Козельцом, далеко на горизонте показались черно-бурые тучи. Они росли, ширились и, охваченные пламенем, зловеще клубились. Пылал Чернигов. До города оставалось более семидесяти верст, а уже все небо на севере заслонили огненные купола. Штаб 5-й армии располагался в лесном урочище в двадцати пяти километрах от Чернигова. Штабные командиры жили и работали в палатках, тщательно замаскированных ветками. Я был знаком с командиром Михаилом Ивановичем Потаповым, но, к сожалению, повидать его не удалось. Он находился с представителями штаба фронта где-то на передовых позициях. В лесном урочище вблизи штаба стояла редакция армейской газеты «Боевой поход». С помощью ее редактора батальонного комиссара Ламкина Крикун быстро уточнил обстановку и заказал статьи штабным работникам. Поздно ночью собрались у Ламкина, пришел поэт Владимир Аврущенко. — А, товарищи киевляне! — воскликнул. — Люблю ваш город. Там все дышит стихами. Но разговор пошел не о стихах. По мнению Ламкина, обстановка на участке 5-й армии стала кризисной. Противник варварской бомбардировкой разрушил и сжег Чернигов. 21-я армия Брянского фронта вынуждена отходить в совершенно другом направлении. Танки Гудериана, которые заняли Почеп и Стародуб, могут повернуть на юг и пойти по тылам Юго-Западпого фронта. Беседа наша затянулась, на сон остались считанные часы. Рассвет хмурый. Небо светлеет медленно. Но мы уже в дороге. Подъезжаем к Чернигову. Навстречу ветер несет пепел и черную летучую копоть. Миновали высокий мост через Десну. Дорога пошла в гору. На холмах дымятся окна старинных церквей. В городе машины пробираются среди развалин по узкой мостовой, заваленной битыми кирпичами. Из подвалов серыми змейками выползают удушливые дымки. На центральной площади дымятся коробки домов. Когда-то здесь были магазины, а теперь на тротуарах валяются почерневшие от огня книги, поломанные пластинки, патефоны с помятыми боками и множество детских игрушек. Из глухих подворотен несет смрадом. Воздух пропитан запахами обугленного дерева и горелой резины. Фотокорреспондент Борис Иваницкий просит водителя полуторки не торопиться. Он часто соскакивает с машины, ловит своей «лейкой» бушующее над домами пламя. В тихом зеленом Чернигове, расположенном на высоком берегу Десны, было немало одноэтажных домиков. На их месте сохранились одни кирпичные квадраты фундаментов, на песке стояли железные кровати да валялась кое-какая уцелевшая посуда. Возле одного такого кирпичного фундамента мы остановились. На опаленном огнем песке, под железной кроватью виднелось очертание человеческой фигуры. Борис Палийчук палочкой чуть-чуть пошевелил песок. От легкого прикосновения песок зашевелился, начал осыпаться. Контуры человеческой фигуры потеряли очертания, растворились. Долго все стояли, пораженные увиденным... Над нами внезапно навис «юнкерс», и мы бросились искать укрытия. Но пикировщик, очевидно, вел разведку. На небольшой высоте описал круг и удалился, не сбросив ни одной бомбы. КП 45-й дивизии, куда мы спешили, находился на окраине города во дворе монастыря. Блиндажи охранялись зенитной батареей. В толстой каменной стене бойцы сделали амбразуры, приспособив ее к круговой обороне. В состав дивизии входил прославленный в гражданскую войну Таращанский полк. Когда-то он освобождал Чернигов от кайзеровских оккупантов и петлюровских банд, теперь же полк защищал его от гитлеровских захватчиков. Командир дивизии геперал-майор Григорий Иванович Шерстюк, узнав о наших редакционных заданиях, одобрил их. Он посоветовал нам пока не разбиваться на группы, быть вместе. Комдив дал нам связного, и мы поехали в батальон Бувайлика. Батальон занимал оборону на опушке леса. За желтым морем подсолнухов виднелись Пески. Там уже были гитлеровцы. Они часто открывали пулеметный огонь. Стрелковый батальон, которым командовал Михаил Бувайлик, недавно стойко стоял на Западном Буге, упорно защищал Сарны, отличился в боях под Коростенем и Малином. За оборону этих городов комбат был награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды. Бувайлик не только знал бойцов и командиров своего батальона, а помнил даже, кто, где и при каких обстоятельствах в самый напряженный момент боя проявил отвагу. В блиндаже разговор зашел о том, как же комбат руководит боем. — Батальон — большой сводный оркестр. Надо только умело дирижировать, следить, чтобы все рода войск сыгрались, как музыканты, — сказал Бувайлик. Комбат пригласил нас к завтраку, а затем вся корреспондентская бригада направилась к пулеметчикам лейтенанта Киселева. Хотелось поговорить с лучшим пулеметчиком батальона Иваном Тюриным, истребившим в последних боях свыше трехсот гитлеровцев. На лугу разорвался снаряд. К нам долетели ослабевшие осколки и зашуршали в траве, как змеи. Пришлось ускорить шаг и вскочить в траншею. Здесь мы и встретили пулеметчиков Лисицина и Мазина. Лица их были печальными. Пуля снайпера, попав в прорез пулеметного щитка, сразила Тюрина. Лисицин с Мазиным оказались учениками Тюрина. Они дружили с ним, перенимали у него боевой опыт. Лисицин рассказал нам, как Тюрин, раненный на Западном Буге, три раза попадал в течение ночи в окружение и метким пулеметным огнем прокладывал путь роте. Борис Иваницкий заснял на передовой позиции пулеметчиков, и мы возвратились на КП батальона. Бувайлик настоятельно потребовал, чтобы корреспондентская бригада выехала в штаб 45-й дивизии. Согласно полученному приказу он отходил на новый рубеж обороны. Казалось, на фронте установилось полное затишье. Перестали бухать одиночные орудийные выстрелы, смолкли пулеметные очереди. Предвестники танковых атак — «юнкерсы» — не показывались в небе. Урий Павлович Крикун загорелся желанием побывать на Днепре. Иваницкий, сославшись на неясность обстановки, попробовал отговорить его, но Крикун стоял на своем. — Вперед, на Днепр! Потянулись грибные леса с тихими безлюдными дорогами. Мы выбрались на шоссе — ни подвод, ни машин. На перекрестках не видно регулировщиков. С каждым пустынным километром тревога закрадывалась в сердце. Да и сам Крикун, почувствовав в этой стерильной тишине что-то недоброе, остановил «эмку». — Я решил возвратиться на КП дивизии. Скоро начнет вечереть, пойдут незнакомые лесные дороги, ночью легко заблудиться. Машины развернулись, пошли на Чернигов. И тут до слуха долетела артиллерийская канонада. Водители развили предельную скорость. Все ясно: вблизи Чернигова на берегах Десны идет ожесточенная битва. «Юнкерсы» бомбят город. Пожары разрастаются. На товарном вокзале горят бесконечные штабеля дров. Две огненные волны сливаются на железнодорожном переезде. Они преграждают путь в город. Каким-то чудом нашим машинам удается проскочить сквозь пламя, которое начинало охватывать деревянный настил, перекинутый через рельсы. На КП дивизии увидели генерала Шерстюка с автоматом в руках. На поясе у него висели две «лимонки». Сразу поняли: обстановка тяжелая. Кто-то из командиров крикнул: — Товарищ комдив, вот они! Нашлись корреспонденты. Немолодой бритоголовый генерал был храбрым воином. Он спокойно отдавал штабистам последние распоряжения. Потом подошел к нам и сказал: — Гудериан прорвался с танками и пехотой. Возвращайтесь в Киев. За Десной враг рвется к шоссе. Спешите, товарищи. Времени у вас мало. — А как же вы? — спросил Крикун. — Дивизия пойдет другим путем. Желаю вам удачи. — И генерал Шерстюк надел каску. Пустынный Чернигов охвачен пожарами. Горячий воздух удушлив. Центральная городская площадь в огненном кольце. Гудящее пламя провожает нас почти до самой Десны. Бомба разворотила половину проезжей части моста. Никто не огородил и ничем не отметил опасное место. Заскрежетали тормоза. «Эмка», в которой ехали Крикун и Палийчук, закачалась и чуть-чуть не полетела в Десну. За рекой — темная туманная ночь. По крыше кабины стучат дождевые капли. Огненный купол пожарища превращается в багровое пятно. Оно растворяется в тумане и гаснет. На обочине какие-то военные поднимают руки. Просят подвезти. Останавливаем машины. Оказывается: писатель Иосиф Фельдман и политрук Евгений Разиков безуспешно разыскивают редакцию дивизионной газеты. — Садитесь в машину! Едем в штаб армии, — бросил Крикун. Машины сразу набирают скорость. Рядом со мной в кузове полуторки сидит Фельдман. Онзнаком мне по Харькову еще с детских лет. Но мы встретились в такое время, когда даже лишним словом переброситься некогда. Все наше внимание приковано к шоссе. В чьих оно руках? Неизвестно. Вдали взлетают ракеты. Дрожит мертвенно-бледный свет. Все отчетливей слышатся пулеметные очереди. Шоссе делает поворот. Мы стоим в кузове. Поддерживаем друг друга и всматриваемся в дождливую темень. Машины летят прямо на выстрелы. Немецкие зеленые ракеты освещают шоссе. Бой идет в каком-то селе. Длинные пулеметные очереди. Крики. Горят соломенные крыши хат. В косой сетке дождя гаснут искры. Впереди снова дождливая темень, полная неизвестности. Не пропустить бы придорожный щиток с двумя козулями, за ним поворот в штаб армии. Водители своевременно замечают знак нужного нам лесного урочища, сворачивают на грунтовую дорогу. Здесь стоит какая-то подозрительная тишина. Что-то не то... Дорога, ведущая в штаб, без охраны. Из леса вырываются две легковушки и, остановившись на миг, сигналят. — Куда вы? — слышится из темноты голос. — В штаб армии. — Он на колесах. Покинул КП. Разворачивайтесь.. За нами идут немецкие танки. — Легковушки, фыркнув моторами, рванулись в ночь. — Немедленно в Киев! Больше скорости, — приказывает Крикун водителям. На шоссе пришлось остановиться. Фельдман и Разиков решили разыскать редакцию дивизионки. Напрасно мы доказывали им, что возвращаться в Чернигов опасно. Вряд ли они в такую ночь найдут свою редакцию. Немцы наверняка перерезали шоссе. Выход только один: ехать в Киев. Но Фельдман и Разиков, простившись с нами, пошли на шоссе в Чернигов. С тяжелым чувством возвращаемся в Киев. Гудериан прорвался на севере. Далеко ли он продвинулся? Найдутся ли у нас резервы, чтобы остановить его? Как ни велика опасность, но почему-то наша корреспондентская бригада уверена: одной танковой клешней гитлеровцы не смогут окружить Киев. О юге не думаем. Все мысли заняты только Остром. Это взрывное направление. Приближается развилка дорог. Что она преподнесет нам? Промелькнул поворот на Остер. Тревога отлегает. В ночной степи тишина. Линия фронта здесь проходит еще по Десне. На обочинах шоссе под Калиновкой моряки занимают оборону, устанавливают пушки, боцманы, как на палубе корабля, свистят в дудки. К ним подходят роты 4-й дивизии НКВД и отряд народного ополчения киевского завода «Арсенал». Серое, мутное небо нависает над кручами Днепра. На улицах Киева только конные патрули. И кажется: в эту дождливую рань даже фронтовой город не хочет просыпаться. Вот и улица Ленина, где стоит редакция. Но что это? Возле оперного театра выстроилась колонна машин. Не наши ли? «Мы покидаем Киев!» С этой мыслью тяжело примириться. Штаб фронта уже на колесах. Он оставил Бровары, редакции приказано выехать в Прилуки. Теперь ясно: Гудериан не остановлен. Танковый клин продвигается, оперативная обстановка сложная... Выхожу на балкон. Вдали виден дом, где я жил. Редактор дал тридцать минут на сборы. Еще можно заехать домой, взять в дорогу самые необходимые вещи. В памяти возникают любимые стихи. «Но сердце укрыто шинельным сукном и думать о доме не надо». Огонь войны пожирает города, сколько вокруг мук и крови. Уложенные в чемодан вещи кажутся мне никчемными. Больно смотреть на Киев. Когда его увижу снова? Каким он будет — разрушенным, сожженным? Люди еще спят, а беда кружит над ними коршуном. Звучит команда: — По машинам!
8
Днепр суров и пустынен. Он в дожде, в тучах. Не слышно пароходных гудков, не видно ни одного катера. У Труханова острова виднеется одинокая лодка отважного рыбака. Снаряды, словно стеклянные бутыли, лопаются над железнодорожным мостом. Но они не могут остановить движения поездов. Киев покидаем молча. Позади Цепной мост. Лавра то уйдет в тень, скроется в тучах, то снова появится на высоком берегу Днепра. В пути заходит разговор о том, когда же мы вернемся в Киев. Я с Палийчуком верим: если будем живы, через год увидим Киев. Твардовский и Вашенцев добавляют еще шесть месяцев. Голованивский с Безыменским присоединяются к нам. Кроме писателей, в машине едут наборщики, цинкографы, и нет ни одного человека, который бы не надеялся в скором времени возвратиться в Киев. За Броварами сворачиваем на грунтовую дорогу. На шоссе мы не обращали внимания на дождь, а теперь колеса начинают нырять в колдобины. Дождь льет и льет. Дорога раскисает. Машины в низинах плывут по лужам. Приходится часто соскакивать с полуторки, подталкивать «эмки» и особенно неповоротливый, громоздкий редакторский ЗИС-101. В пути нагоняем машины фронтового радиовещания. — Куда вы? — кричу Леониду Первомайскому. — В Прилуки. — Мы тоже. Под Прилуками стоит на размытой ливнями дороге Крымов. Он рад неожиданной встрече с нами. Устал, измотался. Возвратясь с фронта, Юрий не застал на старом месте редакции армейской газеты. Прошло два дня, а он все еще никак не может напасть на ее след. К вечеру редеют тучи, проглядывает солнце, но поля дышат холодной сыростью. В Прилуках останавливаемся в небольшом одноэтажном здании. Как-то надо скоротать ночь. Вносим охапки мокрого сена, стелем на полу и накрываем тяжелым, почерневшим от дождя брезентом. — Братцы, где бы достать наркомовскую норму, продукт номер десять? Промок до ниточки, знобит. — Твардовский, ежась и вздрагивая, сбросил с плеч отяжелевшую от дождя шинель. Но в наших флягах — вода. Трудно уснуть — брезент холодный, как броня. Крымов шепчется с Розенфельдом. Разговор ведет Юрий: — У Киплинга есть строчки: «Великие вещи две как одна: во-первых, любовь, во-вторых, война». Они недавно всплыли в памяти и поразили меня. Ты слышишь, Миша, даже он на первое место поставил любовь. Это великое чувство не затоптать врагу походными сапогами в грязь, не изранить осколками. Любовь не гаснет даже под навесным огнем. Она как первый подснежник — синий лирик среди снега и льда. Мой новый роман будет о любви, о девушке в серой шинели. — Сейчас не до любви, она может скороспелой получиться. — Ах вот оно что... Походно-полевая жена?! Ты думаешь, война упростила нравы? Это далеко не так. — Братцы, скоро светать начнет, — ворочается с боку на бок Твардовский. Шепот затихает. От порывов ветра дребезжит оконное стекло, и, стекая с крыши, булькает вода. Утром начальник политуправления фронта приказал переехать редакции в Пирятин. В полях поникли, прибитые дождями, хлеба, теперь их никто не уберет и не обмолотит. Небо хмурое, дождливое. На дороге сплошные лужи и колдобины. Она забита тылами отходящих частей. Тянутся бесконечные обозы, даже на обочинах скрипят подводы. Редакторский ЗИС-101 вырывается вперед. Мышанский спешит в село Верхояровку, куда переехал штаб Юго-Западного фронта, чтобы узнать место будущей стоянки редакционного поезда. Верхояровка в семи километрах от Пирятина и находится на нашем пути. Когда редакционная колонна машин добралась туда, редактор уже ждал нас на дороге. Он подал знак следовать за его машиной. Дорога уходит в свежую, сочную зелень свекловичных полей. Лужи в низинах широкие, их невозможно объехать. Идет борьба за каждый метр пути. Цепи, тросы, доски и наши плечи — все на помощь мотору! А чуть рассеются тучи и проглянет солнце, «юнкерсы» тут как тут. Пока нам везет — ни одна бомба не сброшена на редакционные машины. Продержаться бы еще часа два до темноты. Впереди снова огромная лужа. Юрий Крымов, так звонко подающий команды, когда мы вытаскиваем машины из колдобин, вдруг куда-то исчез. Появился он радостный: — Ребята, я нашел своих. Буду с вами прощаться. Вон вдали за свекловичным полем село. Знакомый шофер утром видел там машины моей редакции. — А сейчас вечер, твоя редакция переехала в другое место. — Пойду и проверю. — Ты два дня разыскивал редакцию и не нашел. Я боюсь, так будет и сейчас. Едем с нами в Миргород, — продолжал настаивать Твардовский. — Ты сказал Миргород — и сразу вспомнилось: «Я ехал в дурное время. Тогда стояла осень с своею грустно-сырою погодою, грязью и туманом...» Как же там дальше? Ага! «Опять то же поле, местами изрытое, черное, местами зеленеющее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвета небо». Вот и сейчас все как у Гоголя, — Крымов полез в кузов полуторки, взял там свою десятизарядку, надел каску, туже затянул на подбородке ремешок. В реющей на ветру плащ-палатке взбежал на обочину, оглянулся: — У вас впереди не дорога, а океан. Попутного ветра! — Зашагал по свекловичному полю, постепенно сливаясь с его зеленью и чернотой. Пробил последний час его жизни. Крымов шел в неизвестное село, уже занятое гитлеровцами, навстречу выстрелу... А на шляху медленно рассасывалась пробка. Под колесами бурлила и хлюпала лужа, она цепко держала засевшие в черном месиве машины. Водители откуда-то притащили старые плетни, и все принялись гатить топкие колеи. Полоска зари погасла за соломенными крышами дальнего села, когда колонна редакционных машин двинулась, наконец, к Суле, потянув за собой всю дорожную грязь. За Сулой в Лубнах узнаем тревожную весть: «На юге под Кременчугом прорвался Клейст. Его танковая группа захватила Хорол. Клейст спешит соединиться с Гудерианом». Мышанский приказывает подтянуть хвост колонны, двигаться вперед. Все встревожены. Где теперь штаб фронта? По каким дорогам отходят наши армии? Неужели мы попадем в окружение? Ночь туманная. Как сквозь сито, просеивается мелкий, беспрерывный дождик. Темень непроглядная. В степи под Ромоданом железная дорога проходит вблизи грунтовой. Вдруг раздается стук колес, ветер доносит запах паровозного дыма, искры вспыхивают и гаснут. Кто-то кричит: — Наш, наш! Прошел, пробился! Так ли это? Перестук колес затихает. Но почему-то хочется верить, что прошел редакционный поезд, выскользнув из вражеского кольца. А что нас ждет в Ромодане, если Хорол занят противником? Пока опять подтягивается хвост автомобильной колонны, в кузове полуторки, прикрыв карту полой шинели, освещаю ее глазком электрического фонарика. От Хорола до Ромодана каких-нибудь сорок пять километров, и туда под покровом ночи может устремиться вражеский подвижной отряд. Возможен другой вариант: танки Клейста выйдут на левый берег реки Хорол и потом, отрезая наши войска от переправ, двинутся по прямой дороге на Миргород. Кое-как наша колонна подтянулась. Поверка закончена. Пока движемся без потерь. Благополучно проходим через Ромодан. Над поймой Хорола плотная завеса тумана. Дождь хлещет и хлещет. Странно, в Миргороде мост через Хорол никем не охраняется. Нет ни часовых, ни регулировщиков. Останавливаемся за мостом в каком-то здании, где недавно был военный госпиталь. В комнатах стоит густой запах лекарств, но зато можно сбросить промокшие шинели. Однако передышка длится недолго. Мышанский собирает командный состав на совещание. Он хочет послать бригаду корреспондентов для установления связи с отходящими частями и сбора необходимого для газеты материала. Синагов предлагает подождать до рассвета. Крикун поддерживает его. Но редактор непреклонен: — Ехать! В пути отстали два грузовика с редакционным имуществом и малолитражка, которую ведет художник Резниченко. Им надо оказать помощь. Против такого довода, конечно, нечего возразить. Старшим бригады назначен батальонный комиссар Шубин. Крикун предложил ему полуторку, но тот, несмотря на размытую дождями дорогу, поехал с бригадой на легковой машине. Редактор, тут же назначив меня караульным начальником, приказал взять красноармейцев и с пулеметом занять оборону у моста. Мы расположились в лозах на берегу Хорола, найдя там кем-то отрытые окопы. За мостом послышались голоса, приближался тяжелый топот ног. Высланные на разведку бойцы вернулись с командиром стрелкового батальона. К нам подошел полковой комиссар Мышанский, комбат ему доложил: — Немцы заняли хутор Дыркачи. Их танки продвигаются. Они сейчас приблизительно в шести километрах от Миргорода. Стрелковому батальону поставлена задача оборонять мост через Хорол. — Комбат пожаловался на нехватку боеприпасов, попросил пачку папирос и, узнав, что на окраине Миргорода расположилась редакция фронтовой газеты, посоветовал Мышанскому, не теряя ни минуты, покинуть город. Пока редактор разговаривал с комбатом, я спустился в окоп, осветил электрическим фонарем карту. Где этот хутор Дыркачи? Вот так сюрприз! Не Хорол, а Лохвица таила самую большую опасность. Гитлеровцы перешли через Сулу и двинулись на Миргород. И тут же с горечью подумал о корреспондентской бригаде Шубина. Теперь она находилась в окружении, ей грозила встреча с вражескими танками. — Тревога! По машинам! — звучит команда. Фашисты приближаются к Миргороду. Почему они так быстро здесь появились? Сейчас это некогда выяснять. Все мысли заняты дорогой. Как бы в тумане не влететь в бомбовую воронку. Машины идут без света, но водители стараются быстрей оторваться от противника. Рассвет в степи тихий. За Великими Сорочинцами Псел в солнечном тумане. Неужели остались позади вражеские танковые клинья, «юнкерсы», беспрерывный дождь с непролазной грязью?! Небо голубеет. Путь на Ахтырку свободен. В этом небольшом городке, расположенном за лесистой долиной Ворсклы, находим штаб 21-й армии и узнаем: наше положение не из легких, но Юго-Западный фронт продолжает борьбу. Сломить его и полностью уничтожить фашистам не удалось. В Харькове работает его возрожденный штаб, там же находится политуправление, которое возглавляет теперь генерал-майор Сергей Федорович Галаджев.
9
Уходит в желтеющую степь дорога на Харьков. И вот с Холодной горы смотрю на живые дымки заводов. Прошло восемь лет, как я ушел служить в армию и покинул город, в котором родился и рос. С юга на восток и дальше на север разворачивалась величественная панорама индустриального города. Бинокль приблизил знакомые окраины. Заиковку я узнал по серо-зеленой церкви и красной пожарной каланче. Там немощеная Киевская улица с тополями и акациями. Белый домик с зелеными ставнями и такой же крышей. Стоит распахнуть калитку — зашумит старая, знакомая до каждой веточки яблоня. Повеет детством, юностью. Колонна машин стала спускаться с Холодной горы, и тут кто-то из печатников заметил на Южном вокзале редакционный поезд: — Смотрите, вот он! Только что пришел! Вспомнилась ночная степь под Ромоданом, когда поезд промчался мимо наших буксующих машин. Да, он стоит на запасном пути, его движок готов заработать и возвестить о том, что редакционная жизнь снова идет полным ходом. Но пока мы можем обойтись без нашего походного печатного комбината. Редакция «Красной Армии» занимает дом в центре города, в Спартаковском переулке, где находится местная военная типография. Получаю отпуск на сутки, спешу на свою родную Киевскую улицу. За Воскресенским мостом ускоряю шаг, сердцо бьется гулко-гулко. Подхожу к Заиковке. Вот она, та горка, с которой когда-то в детстве с таким трепетом спускался на коньках. Теперь она кажется совсем маленькой. Так когда-нибудь оглянешься на свою жизнь — и она тоже покажется маленькой и ничем не приметной, если струсишь в такое грозное время. Сейчас видится в жизни самое главное: надо отстоять Родину. На моей Киевской улице заметно поредел строй тополей, но зато выросла у домиков акация и сирень поднялась над заборами. Я вошел во двор и услышал: бух-бух-бух. Бабушка Мавра Васильевна сидела на ступеньках деревянного крыльца и толкла в медной ступе сухари. От удивления я остановился и замешкался. Это же я все видел во сне, когда ранним утром в Киеве загремели на днепровских кручах зенитки. Сейчас не было только рыжего песика Кайзера, да и я был не маленьким мальчиком. Бабушка поняла мое удивление по-своему: — Ты извили меня, старую. Я тебя, внучек, в окошко выглядела, на улицу не раз выходила, а вот занялась сухарями и не встретила. — Она не знает, где и посадить меня, то стул придвинет, то старое, скользящее на медных роликах кресло. — Приехал! Жив! Невредим! Если первая пуля тебя миновала, вторая не тронет. Отца твоего проводила на германскую — не вернулся, а потом сына на гражданскую — пропал без вести. А ты должен жить и немца прогнать. Позволь мне за тобой поухаживать. Ты ведь круглым сиротинушкой рос. — Концом платка вытирая слезы, она спешит на кухню и разжигает примус. Комната аккуратно побелена. На стенах все те же дорогие моему сердцу фотографии. На занятии рабочей литературной студии Леонид Вышеславский вдохновенно читает стихи, а за столом сидит внимательный Игорь Муратов и рядом с ним, как всегда, Борис Котляров набрасывает в блокноте дружеские шаржи. Где теперь мои товарищи? Что с ними? Шестеро ребят в полосатых майках с хрустальным кубком — моя непобедимая волейбольная команда. Токарный цех и я за карусельным станком. А вот в клубе имени Блакитного руководители ВУСППа во главе с Иваном Кондратьевичем Микитенко провожают молодых литераторов в армию. Вместе со мной Петро Дорошко, Зельман Кац, Степан Крыжановский идут на срочную службу. Смотрю на лица и слышу знакомые голоса... Я уходил в армию и не думал, что клубы порохового дыма могут подкатиться к родному порогу. Грустно и больно. Вечером выхожу в садик. Старая яблоня еще плодоносит. Тополь такой же зеленый и могучий, как в дни моей юности. Притаившись в его густой листве, я заучивал стихи Есенина и ждал, когда из калитки соседнего дома выйдет гимнастка Валя и мимо кустов сирени проплещет на ветру голубая блузка. Лучи прожекторов, пробежав по небу, осветили высокую колокольню, каменный карниз. Когда-то ночью, поднявшись по громоотводу, я поймал там голубя. Смотрю на карниз и снова чувствую, как под рубашкой испуганно бьется птица, а под ногой оседает железный ржавый костыль и витая проволока громоотвода жжет мне ладони. В ту пору я мог крутить на турнике солнце, и только спортивная закалка помогла мне спуститься с колокольни. Сильные прожекторные лучи осветили небо в разных концах города. Они то сходились, то расходились, но не гасли. Как будто вот-вот должны появиться ночные бомбардировщики. И они появились. По звуку определил — «хейнкели». «Ночники» наносили удар по заводам. Харьковское небо заискрилось трассами снарядов и пуль. Залпы зенитных батарей слились с разрывами бомб. На восточной окраине Харькова показалось пламя пожара. Горели дома на Конной площади, и ветер доносил запах дыма. Полнеба заняло багровое варево. Не было больше звездной ночи. Все же ночное нападение «хейнкелей» было отражено. «Ночникам» не удалось подавить противовоздушную оборону и безнаказанно бомбить заводы. Гул вражеской бомбардировочной эскадры откатывался на юг. Зарево пожара еще долго оседало и меркло за крышами домов. Когда оно погасло, остались считанные часы до конца моего короткого отпуска. Бабушка поднялась чуть свет, накормила меня оладьями и пошла провожать. — Думала эвакуироваться, да ноги отказываются служить. За восьмой десяток перевалило. Куда мне, старой, податься? Людям обузой буду. Эх, была бы силушка, да такая, как в гражданскую, когда в конном полку поварихой работала. И поездила с тобою, малышом, и чего только в ту пору на белом свете не повидала. А теперь какую же могу принести пользу? Вспоминай меня почаще, вспоминай. А я тебя буду ждать. И вот что тебе хочу сказать: по-глупому не лезь в огонь, а уж там, где надо, не будь трусом. Прощайте, серебристые тополя, немощеная улица с белыми, желтыми и голубыми домиками. Все знакомое, родное, словно отрываю от сердца. В путь! Мне с детства трубачи трубили тревогу. Я слышал топот красной конницы и видел вспышки клинков. Оборачиваюсь, бабушка у калитки машет рукой. Мол, иди, иди. Встретив меня в редакции, Крикун воскликнул: — Я знал, что вы явитесь вовремя. Редактор только что вернулся из политуправления. Сейчас начнется совещание. Поедете на фронт. Газета испытывает недостаток в материале. Открывая совещание, редактор сказал: — Наш Юго-Западный фронт стабилизировался. Подошли свежие резервы, но в основном на оборонительных рубежах находятся прежние закаленные в боях дивизии. Итак, начинается новый этап в редакционной работе. Получаю задание разыскать в 300-й стрелковой дивизии лейтенанта Телушкина и описать подвиг его пулеметчиков. Редактор предупредил меня, чтобы в будущем очерке или статье было четко показано: пулеметный огонь — бог на поле боя. Потом Мышанский отметил красным карандашом село Резуненково, где, по последним данным, находился КП дивизии. Пока Хозе заправлял «эмку» бензином и получал на дорогу сухой паек, я развернул карту и хорошенько изучил маршрут. Шоссейка шла через Люботин на Валки почти до самого села Резуненково, расположенного на берегу болотистой речки Коломак. Дорога несложная, но вызывает тревогу открытая местность. Вблизи шоссе ни леска, ни перелеска, укрыться от авиации негде. Хозе как всегда расторопен и настроен по-боевому. Явился с ручным пулеметом и доложил: — Можно ехать. — А пулемет зачем? — Полковой комиссар приказал взять. Едем одни. С Холодной горы бросаю взгляд на Харьков. Город быстро уходит вдаль. Наблюдаю за встречными машинами. Водители ведут их спокойно. Значит, фронт устойчив. В небе на небольшой высоте изредка показываются воздушные разведчики, но дорогу «юнкерсы» не бомбят. А вот за Валками над шоссейкой все время бродят «рамы». Стараются прервать движение машин, сбрасывают небольшие бомбы. И все же нашей «эмке» удается проскочить самый тяжелый, блокируемый с воздуха двадцатикилометровый участок дороги от хутора Ясеновый до поворота, ведущего в Резуненково. После того, как под колесами запылила полевка, в сердце невольно закралась тревога. А найдем ли мы КП дивизии в указанном месте? Может, данные редактора устарели? Хозе сбавил скорость. Вся долина Коломака изрезана мелкими оврагами. Всюду невысокие, но удивительно красивые дубки, окруженные кустами калины. Потом потянулись пески, густо заросшие красноталом. Больше всего беспокоила тишина. Лучше ехать на грохот боя, чем за каждым поворотом дороги встречать гнетущее молчание. На всякий случай взял в руки пулемет, а Хозе достал из сумки гранаты. Вскоре показалось село. Увидели артиллерийские позиции, и тревога улеглась. Однако наше появление немало удивило артиллеристов. Не зная обстановки, которая сложилась в последние часы, пронеслись на «эмке» по дороге, где уже не раз побывала немецкая разведка. Но удача есть удача. Встреча с вражеской засадой по какой-то случайности миновала нас. На КП дивизии познакомился с начальником штаба — полковником Леонченко. Узнав о моем редакционном задании, он сказал: — В этом вопросе, пожалуй, только я сейчас могу вам помочь. Комбат Телушкин в госпитале, политрук Ткаченко погиб, но с некоторыми бойцами, героями обороны острова Молдаван Вольный, я вас познакомлю. На участке 300-й дивизии затишье. Передовые позиции — на окраине села, окруженного высокими серебристыми тополями и могучими темно-зелеными яворами. Я благодарен полковнику Леонченко. Только с его помощью удалось найти защитников днепровского острова пулеметчика Федора Долматова и сержанта Тихона Гордона. Они сказали, что перед трехсотой дивизией стояла сложная задача. Она обороняла пятидесятикилометровую полосу, проходившую восточнее Кременчуга по левому берегу Днепра, и вдобавок еще три острова — Дурной Кут, Молдаван Вольный и Корячок. Самым важным был Молдаван Вольный. Этот остров находился на изгибе Днепра и позволял держать под огнем широкое зеркало реки. Я слушал рассказы его защитников и старался, ничего не записывая, полней запечатлеть в памяти оборону острова. Захватив Молдаван Вольный, на плацдарм между реками Псел и Ворскла переправлялись дивизии 17-й полевой армии. Казалось, все говорило за то, что именно здесь, спешно наведя понтонные мосты, противник готовит основной удар. 38-я армия, руководимая генералом Фекленко, старалась сбросить гитлеровцев в Днепр и, несмотря на свою малочисленность, все же теснила их самоотверженными контратаками. Но в районе Кременчуга Клейст скрытно переправился через Днепр. 1-я танковая группа рассекла оборону нашей 297-й стрелковой дивизии и устремилась на Хорол. — Выходит, Клейст перехитрил нас. Ну а если бы удалось установить точное место переправы танковых дивизий, смогли бы наши войска в то время помешать им осуществить столь глубокий прорыв? — спросил я Леонченко. — Парировать удар было нечем. Все равно Клейст вышел бы на оперативный простор, — ответил полковник. Беседа в окопе продолжалась. С Леонченко я был знаком всего несколько часов, но почему-то казалось, что знаю его давным-давно. Мне сразу пришелся по душе этот суровый, прямой человек, умеющий не только подготовить дивизии к бою, но и заметить в ротах бойцов смелых, смекалистых и по достоинству оценить их героизм. — Если будете писать о стойких бойцах, то в первую очередь скажите слово о нашем Тихоне Гордоне. Сегодня отправим его в Харьков на командирские курсы, через несколько месяцев станет лейтенантом. Это право Тихон завоевал в бою, — сказал Леонченко. — Обо мне уже писал в дивизионной газете «Честь Родины» наш писатель, — заметил Тихон Гордон. — А кто это ваш писатель? — спросил я. — Лейтенант Петр Дорошко. Вместе на острове были. Он видел, кто и как там воевал. Сам помогал нам отбивать атаки гитлеровцев. — Как бы мне повидать Дорошко? Это мой товарищ, — обратился я к начштабу дивизии. — Это можно. Леонченко вылез из окопа и, маскируясь за высокими плетнями, зашагал к хате, в которой должен был находиться Дорошко. Полковник хвалил его за храбрость и за то, что писатель-воин все время находится на передовой рядом с бойцами и часто, пряча блокнот в карман, берется за карабин. И в то же время Леонченко чисто по-человечески опасался за дальнейшую судьбу храбреца. — Порой слишком горяч Дорошко, горяч, — повторял нач-штаба. — Я уже говорил редактору дивизионной газеты батальонному комиссару Мешкову, чтобы присматривал за нашим писателем. Не один Дорошко должен все время появляться на переднем крае, да еще в тех местах, где все горит. Увидел я Дорошко с карабином в руках. Он старательно чистил оружие. Как раз в этот момент противник повел по хутору минометный огонь. Мины рвались недалеко от хаты. При каждом разрыве на подоконнике подпрыгивали два больших глиняных кувшина и на пол брызгало молоко. — Петро, что же ты позволяешь фрицам молоко расплескивать?! Он оглянулся. — Ты?.. — Как видишь. Хозяйка хаты, взглянув на кувшины, метнулась к ним: — Зачем добру пропадать, — разлила молоко в кружки. — Пейте, хлопцы. — Давненько мы с тобой не виделись, — сказал Дорошко. Из разговора с ним я понял, что он доволен работой в дивизионной газете. Журналисты подобрались в редакции опытные. С ними у него установились самые дружеские отношения. Как только началась война, он решил во что бы то ни стало попасть в действующую армию, но это оказалось для лейтенанта запаса не так просто. Военный комиссариат отправил его в тыловую железнодорожную часть. И только настойчивость Петра помогла ему добиться встречи с работником штаба Харьковского военного округа, и тот после некоторого колебания все же решил удовлетворить просьбу писателя — послал его на фронт. Покидая Харьков, я, конечно, не думал, что мне посчастливится повидать на передовых позициях Дорошко, встретить там такого отзывчивого человека, как Леонченко, и с его помощью быстро справиться с редакционным заданием. В запасе еще оставалось два дня, и я решил побывать в соседней дивизии, так как она тоже стойко вела бои на Днепровском плацдарме. Леонченко и Дорошко пошли проводить меня. Полковник, заметив в «эмке» ручной пулемет, тяжело вздохнул: — А у нас есть роты, где сейчас нет ни одного пулемета. Дорошко принялся уговаривать меня оставить ручной пулемет в дивизии. — Так и быть, берите, — сказал я. Полковник Леонченко тут же написал справку о передаче оружия и поставил печать. Потом старательно объяснил Хозе повороты на луговой дороге. В соседней дивизии я провел весь день на передовых позициях и записал о пулеметчиках немало интересных эпизодов и весьма поучительных историй, связанных с боевым опытом. Я заметил, что дивизия переходила от «ячейковых» окопов к траншейной обороне и душой этого был комдив генерал-майор Николай Павлович Пухов. С ним я познакомился на КП дивизии. Узнав о том, что я приехал из Харькова, он спросил: — Как там город, сильно пострадал? Немцы часто бомбят? — «Ночники» нападают больше на заводские районы. В Харькове осталась жена Пухова со своей престарелой матерью. Вот уже третью неделю он не получает от них писем и сильно тревожится. Николай Павлович любил и хорошо знал рабочий Харьков. Из этого города в августе он прибыл в Золотоношу, где вступил в должность командира стрелковой дивизии. Основу этого войскового соединения составили приписники. На станции Козельщина, выгрузившись из вагонов, полки с ходу пошли в бой. — Еще не хватало умения воевать, но преданность Родине, ненависть к врагу делали каждого бойца стойким, я бы сказал, несокрушимым, — заметил Пухов. — Сегодня я узнал, что вы, Николай Павлович, на своем веку встречаетесь с немцами второй раз. Что вы можете сказать об этих «встречах»? — Я помню спесивого кайзеровского солдата, затянутого в мундир, в кованых сапогах, в тяжелом шлеме с большим медным орлом. А сейчас вижу суетливых вояк в брюках навыпуск, со свастикой на груди. Рукава засучены, как будто идут на короткий кулачный бой. Разница во внешнем виде есть, а нутро одно и то же — разбойничье стремление грабить и угнетать другие народы. Николаю Павловичу вспомнилась молодость и возвращение с германского фронта в родной дом, где не было даже лишней корки хлеба. В августовскую ночь мать со слезами проводила его за околицу. И отравленный немецкими газами демобилизованный царский солдат Пухов с котомкой за плечами подался на Дон добывать у станичников хлеб. Теплушки качали его по России. Перекликались усталыми голосами паровозы. По ночам долго смотрел на небо и думал о своей путеводной звезде — она казалась ему полным мешком зерна. На каждом полустанке видел плакаты и читал призывы Ленина. В Лисках недавний фронтовик Пухов вошел в штаб отряда по борьбе с белыми бандами, и его настоящая путеводная звезда оказалась иной. Она заблестела на красноармейской фуражке. С того часа он никогда не разлучался с ней. Покидая на следующее утро КП дивизии, я, конечно, не знал, что в скором времени этот, как мне показалось, медлительный человек с тихим голосом станет командующим славной 13-й армии. И, конечно, не знал, что судьба снова сведет меня с ним на Курской дуге, где так ярко блеснет его полководческий талант. В полдень с Холодной горы открылся Харьков. Но индустриальная панорама города стала иной. На востоке уже виднелся частокол потухших заводских труб. В редакции доложил Мышанскому о выполнении задания. Назвал ряд тем. Он одобрил их и тут же запланировал в ближайший номер газеты. Все шло хорошо. Я уже собирался покинуть редакторский кабинет, как вдруг Мышанский спросил: — А где ручной пулемет? Его надо немедленно передать охране поезда. Вместо ответа положил на редакторский стол справку, выданную мне полковником Леонченко. — Что-о? Да как вы посмели распорядиться по своему усмотрению таким оружием? Ведь участились налеты вражеской авиации. Она уже дважды бомбила редакционный поезд. Возьмите свою справку — знать ничего не хочу. Вы должны к вечеру вернуть ручной пулемет. Покинул я редакторский кабинет с тяжелым чувством. Ничего в свое оправдание не скажешь. Мышанский прав. Пулемет необходим поездной охране. Но что делать? Возвращаться в дивизию, просить полковника Леонченко возвратить пулемет? Стыдно. Да и управимся ли мы с Хозе вернуться к вечеру? А вдруг на передовой с пулеметом что-нибудь случилось. Я попал в скверную историю и не знал, как из нее выбраться. Выручил старшина Богарчук: — Хозе сказал, что вы собираетесь ехать в дивизию за пулеметом. Это верно? — Придется. — У меня в каптерке лежит ручняк, кто-то привез из корреспондентов. Подобрал на поле боя. Только он неисправный. — Давай, старшина, неисправный. Мы спустились в подвал. Я взял у старшины ручной пулемет, сел в машину и помчался на оружейный завод. Вечером отремонтированный «Дегтярев» уже поблескивал вороненой сталью в редакторском кабинете. — Быстро управились, — заметил Мышанский. — А теперь поезжайте на Балашевский вокзал, сдайте пулемет начальнику поезда капитану Мартыненко. Возвратился я в редакцию поздно ночью. На проходной дежурный красноармеец Индык доложил: — Тут уже дважды приходил какой-то оборванец. Спрашивал, когда вы будете в редакции. Сказал, что он Разиков. Дальше я уже не стал слушать Индыка и выбежал на освещенную полной луной улицу. Ко мне подошел в старом, рваном ватнике и коротких штанах Разиков и с какой-то робкой надеждой спросил: — Вы меня узнаете? Я только что вышел из окружения... — Пошли, Женя, со мной. В каптерке еще трудился Богарчук, пересчитывая пачки папирос и куски мыла. — Старишна, выручать так выручать! Выдай политруку Евгению Разикову обмундирование. Ведь оно у тебя, наверное, есть в запасе? — Кое-что найдется. Только сапоги будут старые. — Не беспокойтесь, сойдет, — вмешался Разиков. Евгений Разиков воспитывался в семье писателя Константина Георгиевича Паустовского. Он был образован, начитан, всегда предупредителен. Слушая его, просто не верилось, как же этот близорукий, исхудалый юноша вынес такое испытание. — Вы, конечно, помните ту ночь, когда я с Фельдманом пошел в Чернигов? — спросил Разиков. — Ее трудно забыть. — Нам удалось проскользнуть в город и присоединиться к артиллеристам. Надо сказать, противник не смог захватить ни одного орудия. Пушки мы утопили в Десне. Все, кто был в то время в Чернигове, убедились, какой исключительной храбростью обладал наш комиссар дивизии Белобородов. Он сделал все, чтобы противник не захватил артиллерию. Но на берегу Десны нас окружили фашисты. Полковой комиссар Белобородов крикнул нам: — Вперед! Из кольца вырвалось человек десять, в том числе и я с Фельдманом. В Пирятине нагнали редакцию дивизионной газеты. Но кругом уже был враг, и всю материальную часть пришлось уничтожить. В последний раз за Городищем я шел вместе с Фельдманом в атаку. Было нас человек двести. Мы сбили заставу, прорвались к Суле, но уже без Йоськи. Он был хорошим товарищем, геройским парнем, жалко, что его срезала пуля. «Сула — река тихая», — подумал я, подойдя к песчаному берегу. А когда разделся и поплыл — холодная вода свела ногу судорогой. Начал тонуть. На дно пошла полевая сумка, пистолет и вся одежда, но я кое-как выплыл на отмель и вылез на берег нагишом. Когда переплывал Сулу, держал в зубах партбилет и удостоверение личности. Это было большое для меня счастье: их я сумел сохранить. Но что делать дальше? Как быть? Осмотрелся. Заметил пастушка. Мальчик помог мне: сбегал в село, принес старый ватник и штаны-коротышки. — Уже засыпая на сдвинутых стульях, Женя добавил: — Ничего мне не жаль: ни часов, ни хромовых сапог, ни записной книжки с моими фронтовыми стихами. Утопил в Суле десять писем Константина Георгиевича Паустовского. Этого себе не могу простить. Через несколько дней Женя Разиков получил в политуправлении назначение и уехал на фронт. А к нам в редакцию пришел черный от усталости и пережитых тревог Николай Упеник. Он вынес из окружения знамя 45-й дивизии. Голодал. Прятался в копнах. По ночам шел по тылам врага. Обходил гитлеровские заставы и полицейские посты. Мы все понимали, чем бы кончилась встреча Упеника с фашистами, если бы они, задержав поэта, нашли у него под красноармейской гимнастеркой расшитое золотом красное знамя. Знамя! Оно и в тылу врага имело силу. Когда Упеник с несколькими бойцами подошел к Суле, где тайно переправлялись на лодках попавшие в беду люди, кто-то из его однополчан сказал: — Пропустите вперед нашего товарища. — А по какому праву? — раздались недовольные голоса. — Есть право. У него под гимнастеркой знамя дивизии. И все, кто был в камышах, расступились, дали пройти знаменосцу к лодке. Леонид Первомайский, Савва Голованивский и я сделали все, что было в наших силах. Помогли Упенику получить обмундирование. Временно, до нового назначения, он прикомандировывался к редакции фронтовой газеты. Я позвонил в политуправление и попросил начальника отдела агитации и пропаганды принять Упеника. Он согласился. В назначенное время мы пришли с Упеником в политуправление, где он вручил старшему батальонному комиссару Алипову знамя 45-й дивизии. А между тем противник медленно приближался к Харькову. Эвакуация огромного индустриального города шла полным ходом. Она не прекращалась даже в часы воздушной тревоги. Противник захватил Валки и Ковяги, угрожал Мерефе. Выезжая часто на фронт, я видел, как Холодная гора превращалась в сильно укрепленный район и в то же время на востоке увеличивалось количество потухших заводских труб. Наши дивизии упорно обороняли подступы к Харькову. В самом городе войск было мало. И когда корреспонденты, возвращаясь с фронта, как всегда, начинали обсуждать обстановку, никто из них не мог сказать твердо: будем ли оборонять Харьков или оставим его. По ночам участились воздушные налеты. «Хейнкели» теперь бомбили не только заводские районы, но и центр города. Крупная бомба попала во Дворец пионеров и разрушила одно из красивейших старинных зданий. Харьковское небо чаще озаряло пламя пожаров. Днем улицы были не такими шумными, как раньше. Многие жители покинули город, с демонтированными предприятиями выехали на восток. Обычно, как только начинались ночные налеты, я узнавал у Крикуна пароль и отзыв, надевал каску, брал автомат и спешил на Киевскую улицу убедиться в том, что там ничего не случилось. Наступил двадцатый день нашего пребывания в Харькове. Он выдался свободным от всяких срочных дел. В редакцию зашел Леонид Первомайский и пригласил меня пройтись с ним по городу. Мы поднялись по некогда кипучей, а теперь почти безлюдной Сумской улице. Постояли у бронзового Тараса Шевченко. Молча вышли на Пушкинскую улицу, свернули на Каплуновскую. Постояли у бывшего писательского клуба имени Блакитного. В сером доме с узкими стрельчатыми окнами тишина. Все так же на массивной дубовой двери лев держал в медной пасти начищенное до блеска кольцо. Словно в колокол, желая разбудить этот молчаливый дом, Леонид грохнул большим медным кольцом в дубовую дверь и, попыхивая трубкой, отступил от крыльца. Мы спустились по Пушкинской, задержались у домика, где когда-то находилась редакция журнала «Червоний шлях», потом вышли на площадь Тевелева. Здесь встретили Савву Голованивского с Наташей Бодэ, и она сфотографировала нас. Поздно вечером Мышанский уехал на совещание в штаб фронта. На это, конечно, в редакции никто не обратил внимания. Слишком часто и по разным поводам редактора вызывали старшие начальники. Однако результат этого совещания оказался ошеломляющим. Собрав командный состав, Мышанский сказал: — Согласно решению Ставки Верховного Главнокомандования наш Юго-Западный фронт начинает отвод войск. Утром редакция покинет Харьков. Всякие отлучки запрещаются. По первой команде быть готовым к отъезду. А пока свободны. Все писатели собрались в комнате Твардовского. Началось обсуждение создавшейся обстановки. Возникло множество вопросов. — Почему мы отводим войска и оставляем такой важный промышленный район, как Харьков? — спрашивает Безыменский. — Где теперь пройдет линия фронта, ограничимся ли сдачей Харькова? — тревожился Вашенцев. Но все эти догадки не проясняют фронтовой обстановки. Думы и думы. Только перед рассветом задремал на какой-нибудь часок и, вскочив с дивана, собрался в дорогу. После завтрака небольшой двор загудел голосами, наполнился рокотом моторов. И тут я в последнюю минуту заметил бабушку. Она держала узелок с яблоками. — Ты не пришел ночью, я и встревожилась... Едва успел обнять ее на прощание. Машины покидали двор, и уже на ходу вскочил в кузов. Бабушка, сделав шаг, другой, остановилась, концом платка вытерла слезы. Такой она и осталась навсегда в моей памяти. Наш грузовик быстро миновал площадь Тевелева, свернул на Старомосковскую улицу. За харьковским мостом показалось знакомое здание школы. Песчаный берег был таким же, как в дни юности, когда я с Игорем Муратовым и Сергеем Борзенко гонял футбольный мяч. На Балашевском вокзале погрузились в вагоны, и редакционный поезд дал прощальпый гудок. Где остановимся? Неизвестно. За Харьковом солнечная погода сменилась пасмурной. Сгустились тучи. О стекло разбились первые робкие капли дождя, а когда показался Чугуев, они уже назойливо барабанили, превращались в бойкие струйки. Промелькнули камышовые заросли, серые затоны Донца. Пришла очередь моего дежурства. Вооружился ручным пулеметом и пошел в тамбур, как сказал батальонный комиссар Крикун, «охранять поезд от налета вражеской авиации». Но погода была явно нелетная и «юнкерсы» не появлялись. Поезд шел медленно, делал в пути частые остановки и только на вторые сутки прибыл в Валуйки, где находился командный пункт штаба Юго-Западного фронта. Поезд поставили на запасном пути вблизи круглого озера. По утрам над ним плавал туман, и в вагоны проникала осенняя сырость. Валуйки потонули в дожде. На улицах глубокие лужи, грязь по колено. В эту осеннюю распутицу, в невероятно трудных условиях наши войска отходили очень умело, организованно. Теперь стала ясна причина, заставившая Ставку Верховного Главнокомандования сознательно пойти на территориальные жертвы. Ставка не скрывала своего решения от войск, она требовала разъяснить каждому красноармейцу и командиру, что в условиях, когда враг развил наступление на Москву и пошел на Ростов, армии Юго-Западного фронта снова, как под Киевом, могли оказаться в тяжелом положении. Не имея необходимых резервов, они обороняли слишком растянутую линию фронта. Уже вырисовывались четыре опасных направления, где противник готовил удары, и надо было упредить его, выровнять линию фронта, высвободить войска и создать резервы. Юго-Западный фронт отошел на новые рубежи обороны. День и ночь на станции Валуйки не стихает перестук колес. Сколько же вывезено станков, а эшелоны все идут, идут. Промышленность тоже отступает, как войска, чтобы в далеком тылу развернуть свой трудовой фронт. Прошу Мышанского послать меня в армию, но ответ один: — Покаотписывайтесь, дежурьте. Думаю, долго не засидитесь...
10
Дул северный порывистый ветер. Светало. Я только что вернулся с дежурства и прилег на вагонную полку отдохнуть. Сквозь дрему услышал чьи-то голоса, шаги. В тамбуре захлопали двери. — Хлопцы, Десняк! Я вскочил. — Вырвался... Вышел! — Эти слова произнес какой-то бородатый, очень утомленный человек в черном ватнике. Только глаза и чуб этого человека показались знакомыми. Под Киевом Олекса попал в окружение. И вот через тридцать шесть дней снова среди своих товарищей. Как постарел, как изменился! С первого взгляда его даже трудно узнать. Словно угадав мои мысли, он потупился. — Было всякое, хлопцы. После радостных приветствий и поздравлений наступила тишина. Присев на край вагонной полки, Десняк неторопливо, с каким-то суровым спокойствием сказал: — Вы, наверное, хотите знать, как это случилось? Очень тяжело вспоминать. Закрою глаза — и снова все оживает до мельчайших подробностей. Редакция армейской газеты, где я работал, до последнего дня находилась в Киеве. Когда получили приказ оставить город, сразу погрузились на машины и выехали в дарницкий лес. Пережили тревожную, гремящую взрывами и выстрелами ночь. На рассвете двадцать первого сентября я стал военнопленным, а точнее — невольником новых ордынцев в зеленых шинелях. Не человеком, а какой-то букашкой, с которой каждый фашист мог тут же расправиться, поступить, как ему захочется. Поднималось солнце, а я в колонне военнопленных шагал и шагал по серым булыжникам. Охранники покачивались в седлах: сытые, мордатые, попыхивали трубками. Привставали на стременах, зорко поглядывали. Несколько наших отчаянных хлопцев попытались бежать в лес, но ничего не вышло. Догнали их конные конвоиры, скосили автоматпыми очередями. Среди пленных находились раненые. Тяжело им было идти. Отставали. И когда садились на землю, чтобы отдохнуть, тут же получали пулю. Привели нас, а вернее, пригнали на Бориспольский аэродром. За колючей проволокой оказались не только военные, но и много гражданских. Всех было, пожалуй, тысяч пять. Нестерпимо тяжело прошел в плену первый день. Никто не получил ни капли воды, ни куска хлеба. Была на аэродроме какая-то лужа. За ночь ее не стало. Выпили. Утром многие стали корчиться в страшных мучениях, а немецкие часовые, посматривая на несчастных, только усмехались. Вдруг прозвучала команда: — Становись, стройся по четыре! Фашисты привезли хлеб. Распределяли его так: с буханками хлеба стояли пять немцев, а всю колонну заставили бежать. Крайний справа должен был на бегу успеть схватить буханку и разделить на четыре части, дать куски хлеба своим товарищам. — Олекса качнул головой. — Но получить буханку не так просто. Если колонна начинала поднимать пыль, немцы пускали в ход палки. Били голодных людей жестоко. Некоторые пленные, схватив кусок хлеба, не могли его съесть. Я не ходил за этим хлебом. Знал: если меня ударит фашист, не стерплю, кинусь на него. И тогда получу вместо ломтя хлеба пулю. Спасли меня два армейских сухаря, которые случайно оказались в кармане шинели. Вот на этих двух сухарях я и продержался четыре дня. А на пятый пришли немецкие офицеры с переводчиком. Снова команда: — Становись, стройся! Приказ: — Командиры — направо, красноармейцы — налево. Повезло. На мне была красноармейская гимнастерка — сошел за рядового. Как я в душе благодарил каптенармуса, который выдал мне простую гимнастерку. Выстроили нас. Переводчик сказал: — Кому пятьдесят лет, шаг вперед. Снова повезло. Выручила борода. Она отросла и состарила меня. Сделал шаг вперед, сошел за старика. — Олекса погладил струистую от ранней седины бороду. — Разлучаться с ней неохота. Спасла, голубушка. Так вот, переводчик от усердия надрывается, брызжет слюной: — Немецкое командование великодушно. Отпускает семьдесят человек на свободу. Можете идти домой и работать на благо нового порядка. Иду в родное село, а самому не верится. Свобода! Неужели свобода? Да где там. Это первый шаг к ней. Далеко мне еще шагать на восток, по ночам пробираться к своим, обрести полную свободу. Только обнялся с отцом и матерью, бежит соседка: — Уходи, Олекса. Полицай к немецкому коменданту пошел — выдаст тебя. Быстро собрался в дорогу. Мать положила в торбу сало и хлеб. Отец провожал. Все всматривался вдаль не едет ли полицай с немцами. Как видите, хлопцы, не поймали меня ни полицаи, ни гитлеровцы. Вышел. Вырвался. Снова с вами. Сегодня поеду в Воронеж, поговорю с Корнейчуком, а там решится моя дальнейшая судьба. В полдень полковой комиссар Мышанский, собрав в плоскопечатном цехе корреспондентов, объявил: — Завтра на «кукурузниках» полетите в Бутурлиновку. Редакция перебазируется. Вечером, несмотря на дождь и непролазную грязь, я пошел с Твардовским в штабную столовую поужинать, купить в буфете кое-какие продукты в дорогу. В столовой встретили Розенфельда с Вироном, сели за один столик. В почти пустой зал вошли какие-то возбужденные старшие командиры, сдвинули столики. Среди них худощавый блондин и чернявый крепыш почему-то без знаков различия. Но именно к ним все относились с подчеркнутым уважением. Вирон, опустив вилку, так и застыл. — А вы знаете, кто пришел?! Нет, я не ошибаюсь... Это же майор Гненный, порученец командующего Кирпоноса, и с ним старший политрук Жадовский, порученец члена Военного совета Рыкова. — Вирон вскочил. — Я знаком с ними. Надо поздороваться. Возвратившись, он сказал: — Гненный и Жадовский просят писателей к своему столу. Мы воспользовались приглашением и подсели к нашим соседям. Ведь о судьбе Военного совета и штаба Юго-Западного фронта до сих пор никто ничего не знал. — Товарищи писатели, — обратился к нам Гненный, — мы пригласили вас к нашему столу не случайно. Конечно, не сейчас, а после войны, пусть даже через пять, а то и десять лет, если останетесь в живых, не забудьте написать книгу о людях, которые в тяжелую пору командовали войсками Юго-Западного фронта. Вот неотосланные письма Михаила Петровича Кирпоноса к жене. Пока они хранятся у нас. — Гненный вынул из планшетки розовые запечатанные конверты. — Вот его петлицы, которые мы срезали с кителя и шинели. Золотую звезду и медаль «XX лет РККА» мы сегодня сдали новому командованию фронта. — Так на чем же я остановился? Ага, вспомнил. Пусть и писатели послушают, — сказал Жадовский. — В ночь на двадцатое сентября мы отходили на восток. Шли все уже пешком, так как автомашины бросили перед селом Вороньки. Шли с намерением дойти до Сенчи и там переправиться по мосту на восточный берег Сулы. Ночью с боями прошли Вороньки и взяли направление на Лохвицу. Около восьми часов утра, когда до Лохвицы осталось километров двадцать, колонну Военного совета и штаба фронта заметил вражеский самолет-разведчик. Генерал-полковник Кирпонос принял решение укрыться в глубокой лощине юго-восточнее хутора Дрюковщина, заросшей густым кустарником, дубняком, орешником, кленом. Длина ее примерно семьсот-восемьсот метров. Ширина триста-четыреста метров, а глубина — двадцать пять метров. Мы хотели дождаться темноты, сделать бросок, прорвать кольцо окружения. Тут же была организована круговая оборона, выставлено наблюдение, выслана разведка. Все дороги вокруг Шумейковой рощи оказались занятыми гитлеровцами. В десять часов утра со стороны Лохвицы фашисты открыли по роще сильный минометный огонь. Одновременно под прикрытием двенадцати танков к оврагу подошло до двенадцати автомашин с автоматчиками. Противник плотным кольцом окружил овраг, ведя по нему ураганный огонь. В роще сразу появилось много убитых и раненых. В этой обстановке Военный совет принял решение контратакой и рукопашной схваткой пробить брешь, вырваться из кольца окружения. Человек восемьсот приготовились в кустах к атаке. — Товарищи, правда на нашей стороне. Мы победим фашистских разбойников. Вперед, сыны Родины! — с винтовкой наперевес Кирпонос вышел из рощи. Рядом с Кирпоносом шагали члены Военного совета Бурмистенко и Рыков, командующий Пятой армией Потапов с начальником штаба Писаревским и дивизионным комиссаром Гольцевым. Генералы с винтовками, гранатами и бутылками с горючей смесью вместе со всеми шли в атаку. Но силы были неравны. Под уничтожающим огнем немцев несколько раз приходилось отходить назад в овраг. Таких атак было три или четыре. Во время одной из них Михаил Петрович Кирпонос был ранен в левую ногу: перебило берцовую кость ниже колена. Командующего пришлось снести в овраг. Там мы с Гненным разрезали сапог, сняли с ноги и перевязали рану. Теперь Михаил Петрович вынужден был сидеть в густом кустарнике у щели. — Эх, и не везет же мне на левую ногу, — сказал Кирпопос. Незадолго до этого ранения, во время автомобильной аварии под Борисполем, Михаил Петрович повредил левую ногу. Раненый командующий фронтом продолжал получать донесения, следил за обстановкой, давал указания. Гитлеровцы не прекращали вести огонь до сумерек. В семь часов вечера у родника, вблизи щели, на краю которой сидел Кирпонос, примерно в трех-четырех метрах от него, разорвалась мина. Михаил Петрович схватился за голову и упал. Один осколок пробил каску, второй — ударил в грудь возле левого кармана кителя. Раны оказались смертельными. Через минуту он умер. Подошел член Военного совета Бурмистенко и, увидев мертвого Кирпоноса, поник головой: — Прощай, Михаил Петрович. Ты погиб в неравном бою как доблестный воин. Мы будем драться до конца и не сдадимся врагу. Чтобы гитлеровцы не узнали о гибели командующего фронтом, мы с майором Гненным изрезали драповую шинель Михаила Петровича и сожгли ее, срезали петлицы со знаками различия, сняли Звезду Героя Советского Союза и медаль «XX лет РККА», достали из карманов партбилет и удостоверение личности. Потом саперными лопатами углубили ямку, находившуюся слева от тропы, идущей по дну оврага, положили Кирпоноса головой на восток, прикрыли его плащ-палаткой и засыпали сухими листьями, хворостом и землей. Бурмистенко приказал мне и майору Гненному подняться наверх и по возможности выяснить обстановку в роще. — Как только стемнеет, спускайтесь к ручью, будем выходить из окружения. Гненный пошел вперед, я за ним. Мы поднялись по тропинке и в сумерках незаметно выбрались из оврага. Близко в кустах переговаривались немцы. Они продолжали блокировать лесное урочище. В роще стемнело. Мы спустились к ручью. Пришли на старое место, но члена Военного совета и трех его порученцев не было. Мы заметили, что по кустам прошел огненный смерч. Никого не найдя, уже глубокой ночью тихо-тихо стали выходить из оврага. Наткнулись на какую-то канаву, и она вывела нас в степь. Был уже поздний час. Столовая закрывалась, а все мы, потрясенные рассказом Жадовского, продолжали молча сидеть за столом. Поднялся Гненный: — Так оно было... Товарищи писатели, вы знаете фронт, немало дорог прошли вместе с нами, помните о нашей просьбе. Всю ночь лил дождь. Мне снился в сверкающих выстрелах лесистый овраг. Кто-то шел в атаку, кто-то падал... Проснулся, глянул в окно — солнце, погода летная. Мысли мои вернулись к героям Шумейковой рощи. Драматическая ситуация! Пожалуй, впервые в истории войн Военный совет фронта в полном составе водил несколько раз небольшой отряд в штыковую атаку... Аэродром, с которого должны взлететь наши «кукурузники», расположен на опушке леса. Клены светятся прозрачной желтизной. На молодых дубках листва ярко-красная, а на старых великанах — коричневая. Из глубины леса выступили белые стволы берез, поредел кустарник, и только хвоя осталась густой и зеленой, да верхушки тополей не тронули первые заморозки. Дождевые лужи отстоялись, посветлели, и в них отражаются все осенние краски. Летчики опробуют моторы, надо занимать место в самолете. Под крылом «кукурузника» прошел широкий луг с копнами сена, блеснул озаренный солнцем Оскол, а батюшка Дон встретил нас дождем и первыми хлопьями снега. За все тяжелые месяцы войны я еще не испытывал такого удручающего ненастья, как в Бутурлиновке. Утром проливной дождь, к вечеру мокрый снег, и кругом жирная осенняя грязь. Ютимся в тесном домике районной газеты и с нетерпением ждем прибытия нашего поезда. В Бутурлиновку приехал заместитель начальника политуправления бригадный комиссар Гришаев, и сотрудники редакции получили новый приказ: вылететь на ЛИ-2 в Воронеж. Но никакому приказу не подвластен раскисший аэродром. Только через три дня подморозило, и самолет, наконец, вырвался из цепких лап осенней распутицы, взял курс на Воронеж. За рекой Икорец забелели снега. Воронеж встретил крепким морозом и высокими сугробами. Здесь уже властвует настоящая зима. В центре города редакции фронтовой газеты предоставлено здание музыкального училища. В моей комнате на третьем этаже отливает черным лаком прекрасный рояль и поблескивают красным бархатом четыре массивных кресла. В соседних комнатах точно такая же обстановка. Многие ученики ушли на фронт, занятия проходят теперь только на первом этаже, и посещают их одни девушки. В соседнем доме находится типография местной газеты, и там печатается «Красная Армия». Вопрос с питанием тоже решен. Стоит перейти через дорогу и — ДКА, где к вашим услугам столовая военторга. Однажды в морозное утро в столовую вошел человек, на которого все сразу обратили внимание. — Кто этот седой с орденом Ленина? — послышалось за столиками. — Довженко. — А-а-а...кинорежиссер, автор «Щорса». Некоторые удивились: — Но почему он на фронте? — Очевидно, приехал снимать новую картину. Разговоры смолкли. Я присмотрелся к седому, с гордо поднятой головой незнакомцу. Да, действительно Довженко. Военная форма изменила Александра Петровича, сделала строгим, суровым. Когда он вошел, я даже не узнал его. Вечером того же дня пришлось удивиться и мне. В комнату, где я жил, вошел Крикун, а за ним Александр Петрович Довженко, тяжело дыша, внес большой кожаный портфель. — Здесь можете пока располагаться. Кресла на ночь придется сдвинуть. Они заменят кровать. А уже завтра, Александр Петрович, постараемся найти вам жилье недалеко от редакции и, конечно, в центре города, — ворковал Крикун. Довженко, поставив под рояль портфель, взглянул на меня серыми внимательными глазами. — Мы с вами встречались, неправда ли? — И в Харькове, и в Киеве. — Да, были времена... — Довженко прошелся по комнате. — Ну что ж, здесь неплохо, жить можно. — Прошу любить и жаловать, собственно говоря, Александр Петрович теперь штатный сотрудник нашей редакции, — обратился ко мне Крикун. — Возможно, вы в скором времени даже вместе поедете на фронт. Видно, на моем лице уж слишком отразилось удивление, и Довженко заметил: — Война сильней Дантового ада. И прежде чем снимать этот ад, надо видеть его помноженным на муки народа. Тогда что-нибудь получится. — Я чаек организую, сахарку достану, — заторопился Крикун. — Прошу минутку подождать. Урий Павлович появился с пачкой печенья и с кусками колотого сахара. Старшина Богарчук принес чайник, чашки и ложечки. На чашку чая зашли Твардовский с Безыменским, а потом Палийчук с художником Капланом. Как-то незаметно зашел разговор о казаке Гвоздеве, о партизане деде Даниле, стали обсуждать уголок сатиры и юмора «Прямой наводкой». — У художника-карикатуриста Льва Борисовича Каплана появилась отличная идея: выпускать еженедельное сатирическое приложение к фронтовой газете. Редактор одобрил ее, генерал Галаджев тоже. Будет выходить в свет «Громилка». Вы, конечно, пожелаете знать, почему мы так назвали наше детище? В некоторых частях так называют реактивные минометы, — сказал Палийчук. — Художники-карикатуристы говорили с поэтами о «Громилке», просили их сделать текстовки к нашим рисункам, и кое-что уже есть. — С этими словами Каплан достал из папки рисунки. — На первую полосу пойдет вот этот. — На фоне Кремля от штыков русских гвардейцев убегал Наполеон. Внизу развевалось гвардейское знамя с пятиконечной звездой и наши воины со штыками наперевес надвигались на выглядывающих из-за бугра Гитлера и Геринга. Каплан прочел текстовку: — «Под священные знамена шел сто тридцать лет назад и громил Наполеона русской армии солдат. Смерть полкам орды злодейской! Вражью нечисть истребить! Лозунг наш и клич гвардейский: били, бьем и будем бить!» — Рисунок хорош, — заметил Довженко. — Но если из-за бугра выглядывает Гитлер с Герингом, то в стихах надо ударить по ним. — Это только наметка, стихи требуют еще правки, — согласился Каплан. — «Громилку» представляет нашему читателю Александр Трифонович. Как стихи, готовы? — спросил Палийчук. Твардовский раскрыл блокнот: «На войне, в быту суровом, в трудной жизни боевой, на снегу, под зябким кровом — лучше нет простой, здоровой, прочной пищи фронтовой. И любой вояка старый скажет попросту о ней: лишь была б она с наваром, да была бы с пылу, с жару — подобрей, погорячей. — Перевернул страничку, приблизил к свету блокнот: — Жить без пищи можно сутки, можно больше, но порой на войне одной минутки не прожить без прибаутки, шутки самой немудрой. Поразмыслишь — и выходит: шутка тем и дорога, что она живет в народе, веселит бойца в походе, помогает бить врага. Друг-читатель, не ухмылкой, а улыбкой подари, не спеши чесать в затылке, а сперва родной «Громилки» первый номер просмотри». — И захлопнул блокнот. Все сошлись на том, что «Громилка» должна получиться. Создавать ее надо именно «с пылу, с жару». Силы в редакции есть, но к работе в новом сатирическом издании необходимо привлечь всех литераторов дивизионных и армейских газет. Расходились шумно, собирались с завтрашнего дня обрушить на врага «кавалерию острот». Утром появился сияющий Крикун. — Все улажено, Александр Петрович, вам подыскали квартиру, можете переезжать. Я снова остался один в комнате с бархатными креслами и сияющим черным лаком роялем. Перелистал блокнот и увидел, что неиспользованного материала всего на две-три зарисовки. В комнату заглянул наш новый начальник отдела фронтовой жизни — старший политрук Борис Фрумгарц: — Давай скорей сюда, скорей! Я выбежал в коридор и столкнулся с бородатым человеком, одетым в поношенный ватник и подпоясанным веревкой. На голове облезлая ушанка, на ногах опорки. Измученное, бледное, покрытое простудными нарывами лицо. Савва Голованивский воскликнул: — Женя! Из соседних комнат выглянули Твардовский, Безыменский, Вашенцев. Узнав Долматовского, бросились обнимать. — Бежал из фашистского лагеря... Переправился через Днепр в Каневе, прошел по тылам врага семьсот километров... — отрывисто, хриплым голосом сказал Долматовский. Как в жизни все быстро меняется. Прошла какая-нибудь неделя, и Евгений Долматовский пришел в себя. Он в форме батальонного комиссара — сотрудник нашей газеты. Почти все корреспонденты и писатели собрались в моей комнате, где стоял концертный рояль. Долматовский написал стихи, а красноармеец, композитор Марк Фрадкин, который служит во фронтовом ансамбле, сочинил музыку. Получилась у них песня или нет? Пока никто ничего не знает. Марк волнуется, пробегает рукой по клавишам. Рояль настроен. Звучит отлично. — Итак... «Песня о Днепре». Я предупреждаю, товарищи, — круто поворачивается на стульчике Фрадкин, — вы должны сделать скидку на мой голос... «У прибрежных лоз, у вы-со-ких круч, и лю-би-ли мы и рос-ли. Ой Днепро, Днеп-ро, ты ши-рок, мо-гуч, над то-бой ле-тят журавли». Напряжение нарастало. «Смертный бой гремел...» Наши войска уходили с Днепра. Его волна была как слеза. Но песня не вселяла уныния в душу. Она звала в бой, и верилось: «Как весенний Днепр, всех врагов сметет наша армия, наш народ». Фрадкин взял последний аккорд и застыл в ожидании, что же скажут братья писатели? Общее мнение высказал Вашенцев: — Стихи и ноты надо заслать в набор. Песня получилась. Это была скромная оценка. Триумфальное шествие песни о Днепре началось через несколько дней в здании Воронежского цирка. Давно не топленный зал забит до отказа. Из госпиталя пришло много раненых в белых повязках. На сцене фронтовой ансамбль. Конферансье объявил: — «Песня о Днепре». Зал притих, покорился песне. А когда она кончилась — взорвался дружными, долгими аплодисментами: — Бис! Браво! У многих слушателей, молодых, вихрастых и убеленных сединой, по лицу текли слезы. — Повторить! Такого успеха песни, как в тот морозный воронежский вечер, я не видел никогда. Фронтовому ансамблю пришлось исполнять песню несколько раз.
11
Только вернулся с концерта, как тут вызов к редактору. — Завтра утром надо лететь в Старый Оскол, в Сороковую армию. Там сейчас Михаил Нидзе, но ему требуется подмога. Я хочу укрепить корпункт. — Задание? — Оно таково: наши войска, разведывательные группы, диверсионные отряды не должны давать гитлеровцам ни малейшей передышки. Как наш казак Иван Гвоздев говорит: «И в метелицу-пургу не давать заснуть врагу». А сейчас иди к Лерману. Он выдаст зимнее обмундирование. Марк Михайлович, как всегда, встретил меня шуткой: — Ну вот еще, тебе — завтра лететь, а ты уже с вечера задумал экипироваться. — И тут же выдал полушубок, ушанку, меховой жилет, теплые рукавицы и валенки. Почти весь следующий день я проторчал на аэродроме и очень жалел, что не поехал в Старый Оскол поездом. Летчики несколько раз объявляли о посадке, заводили моторы, но тут же глушили их. Погода летная, но в небе «мессеры», они блокируют Старый Оскол. Взлетели под вечер. Транспортный самолет низко пошел над заснеженными перелесками. Ветречи с «мессерами» не произошло. Быстро преодолели стокилометровое расстояние; совершили посадку за рекой Оскол. На попутке я добрался до города, где отыскал редакцию армейской газеты «За победу». В редакции застал Николая Упеника и Якова Шведова. Они готовили в очередной номер стихи. Автор известной песни «Орленок» слегка прихрамывал — ночью оступился и упал в глубокую канаву, откуда ему помог выбраться Упеник, который тут же сочинил дружескую эпиграмму: «Местности не разведав, пострадал немного Шведов». Мой товарищ по работе Михаил Нидзе занимал в старом доме крохотную комнатку, где находились три вещи: столик, раскладушка и чернильница. Мне ничего не осталось делать, как расстелить на полу газеты и уснуть на полушубке. Утром Нидзе ознакомил меня с оперативной обстановкой. Он располагал скупыми данными и далеко не полной информацией, но все же это в какой-то мере проливало свет на то, что делалось на участке 40-й армии. Осенние проливные дожди и непролазная грязь принесли фронту затишье. С наступлением морозной погоды по почам вели активный поиск разведчики. Потом я зашел в политотдел армии. Представился бригадному комиссару Уранову и попросил разрешение просмотреть очередные сводки. Никаких интересных фактов. Видно, под лежачий камень вода не течет. Надо ехать на фронт. Уже собирался уходить, но тут из кабинета вышел Уранов: — Я только что разговаривал с командующим армией — генерал-лейтенантом Кузьмой Петровичем Подласом. В шесть вечера он ждет вас в штабе. Штаб армии занимал двухэтажный кирпичный дом. Поднявшись по скрипучей лестнице на второй этаж, оказался в приемной командующего. Порученец попросил подождать. Командарм вел переговоры с Воронежем. Но вскоре освободился, и я вошел в небольшую комнату с круглым столом, за которым сидел широкобровый, аккуратно постриженный генерал. На широкой груди два ордена Ленина, два ордена Красного Знамени и медаль «XX лет РККА». Вскинул карие глаза, пожал руку и пригласил сесть. — Из частей, входивших в третий воздушно-десантный корпус, создана стрелковая дивизия. Ее командиром назначен Герой Советского Союза полковник Родимцев. Десантники люди смелые, отважные. Многих помню еще по обороне Киева, по боям в Голосеевском лесу. Обращаюсь к вам с просьбой: поддержите действия этой дивизии во фронтовой газете. Если люди увидят, что о них пишут, к ним проявлено внимание, будут драться еще лучше. Понадобится какая-нибудь помощь, обращайтесь лично ко мне. Начальнику связи дам указание, чтобы ваши корреспонденции направлялись в редакцию без малейшего промедления. Завтра армейские журналисты едут в дивизию Родимцева, присоединяйтесь к ним. — Погладил большим пальцем черные усики и доверительно добавил: — В Тим ворвались немецкие танки. Но этот город с важными дорогами на Курск, на Щигры, на Ливны и Старый Оскол мы в руках противника не оставим! На этом беседа закончилась. Штаб армии менял КП. Я с Нидзе тут же условился: он переедет со штабом на новое место, обоснуется там, а я побываю в передовых частях. Легкий снежок припорашивал на дороге горбатые, с гребешками застывшей грязи колеи. Поля — черные от воронья. В небе кружатся несметные стаи галок, и вспоминается «Слово о полку Игореве»: «И часто каркали вороны, деля между собою трупы, часто говорили свою речь галки, собираясь на добычу». В кабине сидел какой-то угрюмый политрук, рядом со мной в кузове раскуривал трубку разбитной, веселый крепыш с русой бородой, чуть-чуть рыжеватой по краям. Фотокорреспондент армейской газеты Петр Петрович Вершигора. — Скоро брошу «лейку», пойду на командирские курсы, попрошусь куда-нибудь за линию фронта, к партизанам. — И он, выбив пепел из трубки, ловко вдавливал в нее новую порцию золотистого, ароматного табака. Где он умудрялся доставать на фронте «Золотое руно», оставалось для меня загадкой. А кругом ни кустика, ни деревца. Только попадаются соломенные вехи, общипанные ветром. В степи зимнему ветру есть где разгуляться. На гребнях холмов навстречу нам такой летит ветрище, что крытый брезентом грузовик вздрагивает, словно теряет под колесами опору и, того гляди, опрокинется. Политрук на раздорожье останавливает машину и простуженным голосом хрипит из кабины: — Петр Петрович, с дороги не сбились? — Так держать. Трогай! — успокаивает его Вершигора. Переехали через деревянный мост, показались серые бревенчатые избы с заснеженными крышами, похожими на мятные пряники. В деревне Кузькино располагался штаб восемьдесят седьмой стрелковой дивизии, которая только формировалась. По беспрерывным телефонным звонкам сразу ясно: все службы работают с напряжением, идет передвижение частей, их укрупнение, продолжается сколачивание новых подразделений. В такое горячее время начальнику штаба дивизии майору Борисову не до корреспондентов. Петр Вершигора и угрюмый простуженный политрук поняли раньше меня, что делать в штабе нечего, и незаметно покинули избу. Спросив у дежурного, где находится политотдел, последовал их примеру. И на крыльце встретился с комдивом. Он остановился, посмотрел на меня и воскликнул: — Киев! Крещатик! Корреспондент! — Он самый... — Видите, от судьбы не уйдешь... Когда приехали, где устроились? Чем вам могу помочь? Я сказал, что приехал не один, а с армейскими корреспондентами. Думаю сегодня же побывать в каком-нибудь полку, но сначала хочу познакомиться с политотдельцами. — Держитесь поближе к ним. Ребята замечательные. — И толкнул дверь. — Ну, мы еще встретимся. Хотя в политотделе никто открыто не говорил о предстоящем сражении за Тим, но к нему явно готовились. Из полков были вызваны лучшие агитаторы, и я побеседовал с Яковчуком. Заместитель начальника политотдела старший политрук Григорий Марченко посоветовал повидаться с разведчиками. — А чтобы их быстро найти, с вами пойдет помощник по комсомолу старший политрук Манешин. Он займется своими делами и вам поможет. Манешин, собирайся, — поторопил Марченко. Манешин — крепкий, как кремень, парень и не такой уж суровый, как показался мне вначале. — Знаете что, давайте мы заглянем в конный эскадрон. Командует им политрук Николай Дубровин. Храбрец из храбрецов. Но завоевать авторитет в эскадроне ему удалось с трудом. Вы понимаете, Коля очень молод, а командует он старыми кавалеристами. Лет им по пятьдесят. Они участники гражданской войны, служили у Котовского и Криворучко. Все закаленные рубаки и вдруг — командует юнец. Нет, вам обязательно надо повидать Шепеля — это Тарас Бульба, да и с Поповым не мешает поговорить. Самый старый в дивизии коммунист. Эскадрон располагался на окраине Нового Поселка, полуразрушенного небольшого селения. Политрук Николай Дубровин действительно выглядел юнцом. Но когда на вечерней поверке выстроился эскадрон и он вскочил на красновато-рыжего коня с черной гривой и таким же хвостом — сразу преобразился. Как будто и ростом стал выше и голосом звонче. Я смотрел на бородатых бойцов: какая посадка, выправка — отличные конники! Красноармеец Иван Шепель носит седую окладистую бороду. В гражданскую войну служил в Конной армии. Долгие годы был бессменным председателем колхоза на Сумщине. И когда «юнкерсы» сожгли родное село, вместе с бывшими партизанами и колхозниками пошел добровольно служить в армию. Его давний товарищ Федор Попов в гражданскую войну командовал партизанским отрядом. На фронте еще больше окрепла их дружба. И теперь, налетая в ночных рейдах на вражеские обозы, они всегда находились рядом, рубили гитлеровцев и правой и левой рукой с одинаковой силой и умением. — Ну, как вам воюется? — спросил Манешин Шепеля. — А так, сынку, в одной руке саблю держу, а другой — словно литые, тугие колосья трогаю. Настанет же время, войду в хлеба, послушаю их шелест. — Он разгладил бороду, мечтательно произнес: — Люблю хлеба. — А что после войны Федор Попов собирается делать? — допытывался Манешин. — Я еще в гражданскую войну, когда командовал партизанским отрядом, полюбил лес. Деревья по-прежнему сажать буду. Шепель рассказал мне, как он с небольшой группой кавалеристов обошел по оврагу занятую врагом деревушку и в конном строю атаковал боевое охранение. Захватил пулемет и, пленив пятерых гитлеровцев, посадил их на сани и доставил в штаб бригады. Политрук Николай Дубровин хотел, чтобы мы заночевали в его «хозяйстве». Но Манешин попросил запрячь вороного в сани, и добрый конь примчал нас в Первое Выгорное. Здесь уже слышалось железное карканье немецких пулеметов. Лощина, в которой проходил короткий митинг, посвященный наступлению, находилась в каких-нибудь ста метрах от высотки, занятой гитлеровцами. Надоевшие зеленые ракеты взлетали с холма и рассыпались в нескольких шагах от нашего укрытия. — Кто добровольно пойдет в разведку? — обратился к товарищам Яковчук. — Козлов, — послышалось из темноты. — Савин. — Канев — тоже. — А четвертым я пойду, — заключил Яковчук. Комбат капитан Быков сказал: — Выявляйте на высотке вражеские огневые точки. Как только взлетят две красные ракеты — начнется атака. Вы сразу уничтожайте пулеметы. Кто-то предупредил: — Комдив идет. Капитан Быков доложил полковнику Родимцеву о готовности батальона к атаке. — Так что, десантники, шайтан побери, — ввернул свою любимую поговорку Родимцев, — возьмем Тим, а? — Ворвемся в город. — Освободим Тим, — раздались голоса. — Я уверен в этом. Вперед и только вперед! — Родимцев поговорил с бойцами и, заметив меня, сказал, чтобы я шел с ним. Перед атакой комдив проверял боевую готовность подразделений. Зашел к пулеметчикам лейтенанта Кодолы, потом побеседовал с артиллерийскими разведчиками, которые должны были находиться в боевых порядках пехоты. Младший лейтенант Андрей Лагода заверил: — Товарищ комдив, от царицы полей суровый бог войны не отстанет. Будем ее сопровождать огнем и колесами. — Поздравляю тебя, Лагода, с присвоением звания младшего лейтенанта. До встречи в Тиме. — И Родимцев пошел на свой командный пункт. Морозная темень настолько сгустилась, что даже с опытным проводником пришлось поколесить по полю, прежде чем попасть на КП. Впрочем, громкое название командного пункта носила незаметная землянка, вырытая в заснеженной лощинке, в километре от переднего края. В землянке, помимо дежурных связистов, находился комиссар дивизии Федор Филиппович Чернышев. Рядом с ним, поглядывая на ручные часы, сидел в белом тулупе член Военного совета 40-й армии бригадный комиссар Иван Самойлович Грушецкий. Чуть поодаль, поставив на скамейку большой кожаный портфель, расположился капитан из наградного отдела. — Пора, товарищ комдив, пора! — сказал начштаба Борисов. — Давайте сигнал! Все вышли из землянки. Взвились две красные ракеты. Ночь вздрогнула. Вдоль переднего края взметнулось пламя. Над полями и оврагами прокатился грохот. Минут десять били дивизионные пушки, и когда вдали пламя осветило Становое, огонь открыла артиллерийская бригада. Я еще никогда не видел, как бьют реактивные минометы, ждал залпа «катюш». Вдруг — как будто на железнодорожном узле десятки паровозов одновременно выпустили из своих котлов пар. Словно из-под земли в ночном мраке с неистовым шипением и свистом, с каким-то стонущим придыханием вырвались оранжевые, полыхающие по краям ярко-красным огнем стремительные стрелы. Послышались тяжелые разрывы. На холмах выросла багровая стена, и над ней взвихрилось синеватое пламя. Первым ворвался в город Тим батальон Александра Наумова. Занималась морозная заря. Тим стоял на высоких холмах с черными выжженными садами, с разрушенной колокольней, с каменными домами, приспособленными гитлеровцами к круговой обороне. Уже были известны имена многих храбрецов. На снегу возле штабной землянки лежало пунцовое знамя с широкими белыми полосками. В центре белый круг и черная паучья свастика. Это перед атакой разведчики капитана Харитонова разгромили немецкий штаб и захватили знамя 16-й мотодивизии. Раненые бойцы принесли весть о взятии Тима, но она не подтвердилась. Противник продолжал удерживать центр города. Семь дней ожесточенных боев за Тим слились в какой-то один огненный бесконечный день. И семь беззвездных ночей показались одной бессонной ночью, наполненной оглушительным треском мин, яростными возгласами и отрывистыми командами, хлесткими автоматными очередями, взрывами гранат, громкими проклятьями и тихими стонами. Я взошел на высотку, где в первую ночь атаки красноармеец Яковчук забросал гранатами пулеметное гнездо. Он вскочил в большой окоп и в рукопашной схватке заколол кинжалом восьмерых фашистов. Здесь нашел его комиссар батальона старший политрук Корень. Яковчук лежал мертвый, сдавив руками горло гитлеровца. Постоял у подбитого Андреем Лагодой танка, где он упал, сраженный осколком мины, и стал пробираться в задымленные развалины города. Противник после бомбежки и беспрерывных контратак оставил Тим, но не смирился с поражением. На правом фланге в пятнадцати километрах от освобожденного города, прорвал фронт на участке нашей соседней дивизии, взял деревню Погожее и в Кузькино, где недавно находился штаб Родимцева, перерезал дорогу, ведущую на Старый Оскол. Обстановка с каждым часом усложнялась. Второй вражеский клин, нацеливаясь на Прилепы, явно угрожал Ястребковке, где расположился штаб 40-й армии. Командарм приказал Родимцеву ликвидировать вражеский прорыв, восстановить прежнее положение. В своих телеграммах редакция требовала обратить особое внимание на маневр. Мне даже подсказывалась тема: маневр — душа боя. Теперь оперативная обстановка позволяла взяться за это задание. Выполнение в сложных условиях маневра показало бы, насколько возросло оперативное искусство нашего командного состава, его четкое руководство войсками, умение воевать по-новому. Родимцев решил не только приостановить продвижение противника, но и разгромить его. Я уже был не только корреспондентом, желающим описать маневр на поле боя, но и человеком, который близко принимал к сердцу всю подготовку к боевой операции. В задачу командования всегда входило: на основе строгого расчета и анализа вскрыть замыслы противника, увидеть его сильные и слабые стороны и потом разумно распорядиться своими силами. Битва за Тим показала, что гитлеровцы дерутся смело, когда их пехоту поддерживают танки. Ночь оказалась неизменной союзницей наших бойцов. Немцы действовали в ночном бою неуверенно и часто его не выдерживали. Комдив! Побыв с ним неделю рядом, я убедился в том, что он враг опрометчивых решений, телефонных окриков и поспешных подсказок. В трудную минуту всегда говорит: «На месте виднее. Я сейчас буду у вас. А пока сами разберитесь в том, что происходит. Было и не такое. Спокойней». И он шел в самое пекло, чтобы помочь и ободрить своих подчиненных. На штабном совещании Родимцев определил Погожее как ключевые позиции гитлеровцев. Взятие этой деревни, по убеждению комдива, позволяло выйти на фланг и даже угрожать тылу наступающей группировки противника. Командир полка майор Чернов должен был демонстративной атакой приковать внимание гитлеровского гарнизона к восточной окраине деревни, а решающие удары нанести с юга и севера. Оставив в Тиме прикрытие, дивизия успешно совершила маневр и в течение двухдневных боев освободила захваченные противником селения. Поздно вечером в деревне Погожее вошел в штабную избу с поникшей головой Родимцев. Все вскочили, подумав, что он ранен. Тяжело ступая, комдив опустился на лавку, положил на стол поясной ремень с кобурой и обхватил голову руками: — О-ох! Чернов убит. Но война есть война, а бывает и так, что даже о смерти близкого человека некогда горевать. Послышался зуммер полевого телефона: — Командарм! — И связной передал трубку комдиву. Родимцев слушал командующего, и его лицо становилось все более озабоченным и напряженным. Склонившись над столом, где лежала развернутая карта, он молча делал пометки. При каждой красной стрелке лицо майора Борисова вытягивалось, а начальник оперативного отдела капитан Иван Самчук поднимал брови. Девять боевых дней! Ни одного часа передышки. Штурм города. Бомбежка. Отражение танковых атак, обходной маневр. И вот через два часа поход. После боя, без отдыха, в метель сорокакилометровый форсированный марш. На Касторненском направлении обострилась обстановка и во что бы то ни стало надо приостановить продвижение противника на восток. А потом вместе с гвардейской дивизией генерал-майора Русиянова с ходу взять станцию Черемисино и очистить от гитлеровцев город Щигры. Родимцев с надеждой посмотрел на своих помощников: — Маршруты и график! Прикажите полкам оставить заслоны и немедленно выступать. Штаб дивизии заработал с предельным напряжением. Через два часа полки выступили в поход. Ночью в открытой степи подморозило. Крупные, мокрые хлопья снега как бы съежились и теперь били в лицо злыми колючими градинками. Снег слепил глаза и забивал дыхание. В белой мгле потонул передовой отряд с боковыми дозорами. Дорога шла по буграм, где ветер неистово парусил шипели и плащ-палатки, затрудняя шаг. В оврагах росли снежные заносы, и там с трудом продвигалась артиллерия. Это был не марш, а схватка облепленных снегом людей с разыгравшимся в степи бураном. Прошла ночь. Наступил день, но метель не прекращалась. К вечеру дивизия вышла на исходный рубеж, но наступать без отдыха было немыслимо. Все валились с ног, и комдив перенес атаку на следующее утро. В селе Акатово я присоединился к политотдельцам. В холодной хате на земляной пол положили мерзлую солому, прикрыли ее брезентом и повалились спать. Через три часа прозвучала команда: «Подъем!» Все вскочили, стараясь поскорее отделаться от липкого сна. Марченко пошел в штаб взять там очередную сводку Совинформбюро. Вскоре он влетел в политотдел с вихрями снега, забыв даже закрыть за собой дверь. Став посреди комнаты, поднял над головой исписанный листок. Марченко весь сиял. И вдруг от радости у него потекли по щекам слезы. — Победа под Москвой! Победа! Слушайте... От Советского Информбюро... Шестого декабря тысяча девятьсот сорок первого года войска нашего Западного фронта, измотав противника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление против его ударных группировок. В результате начатого наступления обе эти группировки разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся огромные потери. — Он смахнул платком слезы. — Слушайте дальше. На одиннадцатое декабря мы имеем такую картину: частями наших войск занято и освобождено от немцев свыше четырехсот населенных пунктов. Захвачено огромное количество вооружения, боеприпасов, обмундирования и разного имущества. Немцы потеряли на поле боя за эти дни свыше тридцати тысяч убитыми. — Он передохнул. — Значит так... Сейчас из штаба принесут полную сводку, мы ее размножим на машинке и — в роты. Весть о победе под Москвой воодушевит бойцов перед атакой. Надо и от политотдела обратиться к воинам. — Москва спасена! — ликовали мы. И тут же дружно писали обращение к воинам. Размножили на машинке сводку Советского Информбюро, и политотдельцы помчались с ней в подразделения. После митинга полки, воодушевленные успехом под Москвой, пошли в атаку и, ломая сопротивление противника, значительно продвинулись вперед.
12
Прошло полмесяца с тех пор, как я приехал в дивизию Родимцева. Михаил Нидзе отлично справлялся на КП армии один и не торопил меня с возвращением. Почти в каждом номере газета печатала очерк, корреспонденции и заметки о бойцах Сороковой. Большую помощь мне оказывали работники политотдела. Благодаря им, я знал, в какой роте необходимо побывать, кто там отличился в рукопашной схватке или в борьбе с танками, кто с орудием стоял на прямой наводке или же ходил ночью в разведку добывать «языка». Пленных наши разведчики теперь называли «зимними фрицами». Эти вояки поражали своей неопрятностью. Грязные, потрепанные шинели, стоптанные сапоги. Затасканные мундиры кишели насекомыми. Гитлеровцы кутались в отобранные у местных жителей одеяла, шали и платки. На допросе некоторые из них заявляли: «Зима ваша — лето наше». Враг не думал сдаваться. Когда оставлял деревни, то жестоко мстил. Жителей расстреливал, а на месте изб оставлял одни печные трубы. Перед тем, как отослать в редакцию очерк «Конец бандита», я долго рассматривал три снимка. На капоте бронемашины фашисты большими белыми буквами сделали надпись «Бандит». С автоматами и с засученными по локоть рукавами три карателя сфотографировались возле броневика. На втором снимке невдалеке от зловещей машины лежали расстрелянные женщины и дети. А на третьем экипаж «Бандита» вел к виселице старика и двух подростков. За спиной у меня скрипнула дверь, и я услышал голос Михаила Розенфельда: — Сюда, Александр Трифонович, вот он,нашелся. Твардовский уже на пороге — стряхивает снег с полушубка. — Не ждал? А мы, вьюгою облепленные, тут как тут. — Как вы добрались? Как там в редакции? — Подожди, дай малость обогреться, — Твардовский запрыгал по избе. — Чудак, в сапогах поехал. А мороз защемляет... Добрались почтовой машиной. Воронеж в сугробах. В редакции у нас перемены. — Мышанский уходит. Редактором будет Троскунов, — вставил Розенфельд. — Не знаю, как пойдет с новым, а со старым можно было работать, — Твардовский вытер платком взмокший лоб и взглянул на меня. — Веди нас, знакомь с комдивом. Александр Ильич Родимцев принял нашу бригаду радушно. Как раз в это время у него находился Петр Петрович Вершигора с проявленными снимками. Они напоминали о боях за Тим и деревню Становое. Александр Ильич предложил Твардовскому и Розенфельду познакомиться с жизнью бойцов на переднем крае. Пошли в полк майора Василия Павловича Соколова. Метель улеглась. Небо посветлело. В полях лежали волнистые сугробы. Мы спустились в узкую неглубокую лощину, занятую пулеметчиками. Увидев комдива, бойцы вскочили. Командир пулеметной роты лейтенант Кодола, зашуршав брезентовым пологом, выскочил из землянки рапортовать, но Родимцев остановил его: — Ладно, ладно. Я пришел познакомить твоих орденоносцев с писателями, — повернулся к Твардовскому. — Здесь все пулеметчики награждены орденами и медалями. Ну, как ты, Кодола, тут воюешь? — Даем фрицам «дрозда», товарищ комдив. — А что такое дать «дрозда»? — спросил Твардовский. — Да это по-нашему означает — послать короткую пулеметную очередь. Вдали грохнул выстрел. Кодола крикнул: — Тяжелый летит, ложись! Снаряд упал перед лощиной и не разорвался. Второй тоже. А когда послышался звук третьего, случилось невероятное, Вершигора, выскочив из лощины, сфотографировал снежный вихрь. Хотя разрыва не последовало, но впервые спокойствие изменило Родимцеву. Он крепко отчитал Петра Петровича. Но тот ничуть не раскаивался. Видимо, желание заснять редкий кадр было превыше всего. А вечером Твардовский, растопив в избе печь, сказал: — Братцы, к пулеметчикам вместе ходили. Никто не претендует на «дрозда»? — Отдаем тебе птичку. Пиши. Твардовский, раскрыв блокнот, положил его на стол и снова заходил по избе. Записал первые строчки, поморщился. Что-то зачеркнул, что-то вновь записал. И потом уже без помарок продолжал работу. Перечитал написанное: — Братцы, послушайте... «Насчет «дрозда». Я думаю пояснить читателю «Громилки»: дать «дрозда» на языке наших пулеметчиков означает дать короткую, меткую очередь. А потом пойдут стихи: «Как побитая собака, немец ноги волочит, но порою в контратаку перейти он норовит. Наши ждут. Смелеет банда — ближе, ближе, и тогда хорошо звучит команда: «Сидоренко, дай «дрозда». Управляясь быстро, четко — ведь секунда дорога, — тот короткой очерёдкой бьет без промаха врага. Кто лежит, а кто, похоже, вновь привстал, ползет сюда, приближается. «Ну, что же?» — «Дай еще ему дрозда!» Тут Твардовский запнулся. Перечитав про себя исправленные строчки, положил блокнот на стол. — А дальше пойдет: «Это — птичка-невеличка, в диске их с десяток есть. Отучает эта птичка в контратаку немцев лезть. Без оглядки, в беспорядке удирают господа. «Ну-ка, парень, режь им пятки, дай хорошего дрозда!» — Я тоже дал «дрозда» по фашистам, набросав что-то вроде фельетона «Приключения Гитлера на Восточном фронте». — И Розенфельд передал мне три исписанных листика. — Кончай свой очерк, запечатывай пакет и отправляй в редакцию. Ты у нас здесь хозяин. Измотав противника ночными действиями, наши войска продолжали развивать наступление. Стояли двадцатиградусные морозы. Дни ясные, солнечные, а по вечерам обычно разгуливалась метель — шипел сухой, колючий снег. Ветер доносил отдаленный волчий вой. Наша корреспондентская бригада побывала в разрушенных Мармыжах, в сожженном совхозе «Россоховец», в разбитой Пожидаевке. И когда перед новым 1942 годом дивизия Родимцева нацелилась на станцию Черемисина и город Щигры, нам пришлось проститься с комдивом и его бойцами. Михаил Нидзе из штаба армии передал телефонограмму: старшй батальонный комиссар Троскунов приказал нашей бригаде первого января прибыть в редакцию. Деревня Ястребовка, в которой расположился штаб 40-й армии, стоит в том месте, где небольшая речушка Стужень впадает в Оскол. Ветры нанесли столько снега, что сугробы вровень с соломенными крышами. Зима суровая. Между сугробами саперные батальоны проложили тоннель до самого Старого Оскола. В дороге грузовик часто застревал. Приходилось браться за лопаты и расчищать снег. Добрались до Ястребовки под вечер. Сошли с машины и принялись отыскивать корпункт. Михаил Нидзе поселился на краю деревни в старой избушке, где жил старик со старухой. Половину тесной комнатушки занимала печь. У подслеповатого окна стоял хромой столик с деревянной лавкой, дальше — старая дубовая кровать. На стене висели молчаливые ходики с бахромой черной паутины. Земляной пол хранил густые следы птичьего помета. Старик работящий, вечный непоседа. То снег чистит, то дрова колет, печь растапливает, греет воду, готовит теленку пойло. Хозяйка избы с ленцой. Несмотря на преклонный возраст, она еще женщина крепкая и любит с печки командовать мужем. — Хочу полюбопытствовать, — обратился старик к Твардовскому, — нет ли среди вас часового мастера. Ходики давно стоят. Твардовский с Нидзе засели за починку часов, и на радость старику ходики, тикая, размашисто зашагали по стене. Под вечер старик привел в избу рыжего теленка с белой звездочкой на лбу, а потом хворостиной пригнал гусей. Медленно, вразвалку через порог перевалил белый гордый гусак с четырьмя дымчатыми гусынями. Ночью мои товарищи впритирку легли спать на деревянной кровати, а я примостился на лавке. Теленок бродил по избе и лизал руки. Меня часто будил его мягкий, мокрый язык. Но больше всего надоедали гуси. Я не думал, что они такие беспокойные птицы. Ночью часто слышалось: го-го-го, — и вся гусиная стая принималась долбить клювами твердый земляной пол. Утром старуха с печки отдала старику на день очередные распоряжения по хозяйству. Розенфельд, указывая рукой на ходики, шутливо воскликнул: — Хозяюшка, за такую работу постояльцам требуется вознаграждение. Не найдется ли кусочек сала? Старуха была не только ленива, но и скупа. Она с испугом замахала рукой: — Сала, сала... Какое там сало? Где оно? Твардовский грустный сидел у окна. Ему нездоровилось, но он усмехнулся: — Тут старуха застонала: сало, сало! Где там сало... А старуха расщедрилась: — Так и быть, дам вам два гусиных яйца. — На пасху приберегите, — посоветовал Розенфельд. — А на пасху можно будет, голубчик, крашеными одарить, — кивала с печки обрадованная такой отсрочкой старуха. Твардовский царапал концом мизинца лед на оконном стекле и тихо ронял: — В поле вьюга-завируха, на печи в избе старуха. — Замкнулся, сосредоточился и стал думать о чем-то своем, сокровенном. Если Твардовского слегка лихорадило, то Нидзе совсем раскис. Он жаловался на боль в горле, кашель не давал ему покоя. Розенфельд встревожился: — А как быть с Воронежем? Мы обязаны явиться в редакцию. Да, ты не забыл, Саша? Нас пригласил Тараданкин на встречу Нового года. — Кто он? — спросил я. — Корреспондент «Известий», — ответил Розенфельд. — Тебя тоже прихватим с собой. Увидишь, какой Тараданкин мировой мужик. Пришел вызванный нами врач. Поставил Твардовскому горчичники, положил на столик стопочку порошков, а Михаила Нидзе на несколько дней забрал в санчасть. Александр Трифонович принялся за лечение и на следующее утро объявил, что вполне здоров. До Старого Оскола мы добрались на попутке. Приехали на вокзал и в последнюю минуту вскочили в пустой холодный вагон. Никогда не унывающий Розенфельд, посмотрев в окно, воскликнул: — Поезд едва тащится, но колеса все же выстукивают! к Та-ра-дан-ки-ну, к Та-ра-дан-ки-ну. Приехали в Воронеж в сумерках и прямо с вокзала помчались в баню. Выйдя из-под душа, я стал поджидать своих неторопливых товарищей. Как вдруг ко мне подкатился, словно белый медведь, весь в мыльной пене бородатый старик и, взяв меня за руку, стал укорять за погнутые шайки. — А в чем дело? — Как в чем?! — возмутился намыленный бородач. — Ты же помощник банщика, а дела своего не разумеешь. Твардовский с Розенфельдом надрывались в душевых кабинах от смеха, и я сразу понял, чья это проделка. Ночь под Новый год началась с шутки и, казалось нам, будет полна веселья. В редакцию шли в приподнятом настроении. Там застали в секретариате одного Урия Павловича Крикуна, склонившегося над еще влажными газетными полосами. Он поздравил нас с приездом, поинтересовался, какой материал сдадим ему в ближайшие дни, предложил горячего чаю. Но когда услышал, что спешим на встречу Нового года и просим сообщить в виду наступающего комендантского часа пропуск и отзыв, замялся. — Видите ли, новый редактор категорически запретил без его разрешения отлучаться из редакции. — Но редактор отсутствует. Сейчас вы главный начальник. И вам, конечно, ничего не стоит отпустить нас. Ведь, мы могли прямо с вокзала отправиться к Тараданкину. Срок-то нашей явки — первое января, — убеждал Крикуна Розенфельд. — Что с вами поделаешь. Возьму все на себя. — И добрейший Крикун назвал нам пропуск и отзыв. — Теперь мы этими словами будем креститься. Щит — Щигры, Щит — Щигры, — повеселел Розенфельд. — В десять утра будьте на месте, — напомнил Крикун. На Авиационную улицу, где жил Тараданкин, пришли без задержки. По пути не повстречался ни один ночной патруль. Узкая тропка проложена в глубоких сугробах. Кусты, деревья в пушистом снегу, и в глубине зимнего сада почти не виден дом. Мы идем на патефонную пластинку: «И дремлет улица ночная... И огонек в твоем окне горит, горит не угасая...» Нас встретил грузный и по-новогоднему возвышенно-радушный Тараданкин. — О Саша, милый! Здравствуй, дорогой Миша. Пришли. Это же замечательно! — И ко мне: — Заходи, голубчик, заходи. Я был поражен великолепием новогодней елки. Давно не видел такой чистоты и порядка в доме. Тараданкин представил нас хозяйке, у которой по распоряжению военного коменданта занимал комнату. В гостиной уже находился Евгений Долматовский с двумя политруками из фронтового ансамбля. Они тихо пробовали голоса. Из соседней комнаты порой выглядывали миловидные девушки, следя за стрелками стенных часов. Девушки появились в гостиной дружно, подобно птичьей стайке, когда часовые стрелки приблизились к полночи. — Что за ярмарка невест? — успел шепнуть Розенфельд Тараданкину. — Дочь хозяйки пригласила подруг. Девушки закончили институт, стали врачами, получили назначение и послезавтра уезжают на фронт. Я смотрел на девушек, и какая-то боль подступала к сердцу. Быть может, белоснежные кружева готовились к шумному выпускному балу или свадьбе, а пришлось в одиночестве встречать под Новый год прощальную ночь. Розенфельд наступил под столом мне на ногу. Это означало: выше голову. Но, видно, фронтовое напряжение, недавний холодный вагон и жаркая баня дали о себе знать. Как ни боролся — осилить дрему не мог. Подняли тост за победу в новом 1942 году. Водка оказалась для меня снотворным. Розенфельд шипел, как ястребовский гусак: — Ты что клюешь носом? Держись! Ухаживай за соседкой. Смотри, какая милая Кармэн. — Откуда-то издалека доносилось: — Подай салат. Что — не видишь тарелки? Но я уже смутно различал даже елочные огни. Бумажные белки, балеринки, стеклянные шары прыгали с ветки на ветку. Глаза мои слипались. Под граммофонную музыку и шарканье ног отыскал в конце коридора каморку с диваном и там мгновенно заснул. Утром меня разбудил Розенфельд: — Дон Хозе, нам поздно домой возвращаться. А впрочем, быстрей умывайся, есть возможность не опоздать. Мы с тобой заспались. Твардовский еще ночью ушел. — Куда вы? Что вы? Сейчас завтракать будем, — всполошился Тараданкин. — Тс-с, — Розенфельд приложил палец к губам. Осторожно ступая, покинули тихий сонный дом. Шагая по заснеженной улице, я не знал: была ли встреча Нового года или она мне приснилась? В музыкальном училище на лестнице нас встретил Троскунов: — Так, хорошенькие мои, так... — Он постукивал тростью. — Все-таки опоздали на две минуты... Таким макаром, после совещания придется вам отбывать двухдневный домашний арест. Делать хорошую газету без железной дисциплины невозможно. По характеру Троскунов был не ангел. Но он знал и любил газету. Маг верстки и правки, вечно ищущий что-то новое, работал самозабвенно, спал не больше четырех часов в сутки. Вся жизнь этого железного хромца заключалась в крепком чае и в газетных полосах. Итак, я снова в комнате с пыльными бархатными креслами и концертным роялем. Пришел Твардовский и, раздосадованный, опустился в кресло: — У меня только что состоялся разговор с редактором. Очевидно, мы не сойдемся характерами... А тут еще подключился один лукавый царедворец. Не хочу называть его имени. Придется мне собираться в Москву. А там уж куда пошлют. — Думаю, все пройдет, все прокатится. А быть может... — Розенфельд ударил по клавишам и пропел: — Редактор узнает, кого не хватает. Полосу подпишет и не вспомнит про меня... Но Розенфельд ошибся. Вспомнили, и довольно скоро. В полдень в нашу комнату вошел заместитель редактора Виктор Николаевич Синагов. В его поведении чувствовалась какая-то неловкость, и начал он издалека: — Мы послали вас на самый ответственный участок фронта. Крикун сказал, что вы постарались и привезли интересный материал. Жаль, что не весь мы сможем теперь использовать. Как ни тяжело, но с вами, дорогой Миша, нам придется расстаться. — А что случилось? Меня из редакции увольняют? — Наоборот, идете на повышение. Получена телеграмма. Вы теперь на Юго-Западном фронте спецкор «Красной Звезды». Только что звонил генерал Галаджев. За работу в нашей редакции вам будет вручена правительственная награда. — Вот как!.. — изумился Розенфельд. — А у вас самая срочная работа, — обратился ко мне Синагов. — Вы встречались с полковником Родимцевым, были с ним в боях. Готовьте очерк для «Правды». И полосу о дивизии в запас для нашей газеты. Розенфельд возвратился из политуправления радостный и воодушевленный. На его груди рядом с орденом Трудового Красного Знамени алела Красная Звезда. Поздравить Михаила Розенфельда пришли все находившиеся в этот день в редакции корреспонденты и писатели. Капитан Леонид Вирон, распахнув дверь, воскликнул: — Друзья! Разрешите мне, человеку не любящему поэзию, прочесть в эту минуту собственные стихи: «Когда, сияя орденами, мэтр очерка предстал пред нами, мы дружно крикнули «ура»! И поздравляли до утра». Через день Миша уехал на инструктаж в Москву, а жизнь в редакции пошла своим чередом. Я ходил по заснеженному бульвару и обдумывал очерк о Родимцеве. Очерк мне не давался, потому что я чувствовал скованность, робел при мысли о том, что пишу для «Правды». Как там в Москве отнесутся к моей работе, понравится ли она? И невольно вспомнился Гоголь: «Красны у войска жупаны, а красна ли у войска сила?» С чего же начать? А начну я с Киева, расскажу, как гитлеровцы готовились захватить город, устроить парад на Крещатике и как этому в Голосеевском лесу помешали десантники Родимцева. «На рассвете немцы овладели укрепленным районом. Наши поредевшие полки отступали. С высокой горы гитлеровцы видели синеватую полоску Днепра. Вблизи лежал старинный славянский город». С этой мыслью я поспешил засесть за работу. Она увлекла меня. Хотелось как можно лучше написать о человеке, который так умело и храбро сражался с врагом. Прошло некоторое время с тех пор, как я вернулся из дивизии. Теперь, на расстоянии, отчетливей вырисовывался характер моего героя, и можно было по-иному, пристальней взглянуть на многие события. Осталась неиспользованной одна только запись о подвиге казаха Есентая Данкина. Я перечитал ее. «Данкин сдал на КП полка донесение и хотел уже уходить, но присутствующий здесь член Военного совета бригадный комиссар Иван Самойлович Грушецкий заметил, что в руках бойца вместо винтовки один ствол. — И это ваше оружие? — спросил он. Тогда, два бойца выступили вперед и рассказали, что они видели, как восемь гитлеровцев окружили блиндаж командира стрелкового батальона. И тут появился связной Есентай Данкин. Немцы, сосредоточив все внимание на блиндаже, который они обстреливали, не замечали Данкина. Есентай не отступил, а смело пошел на врага. Трех гитлеровцев он заколол штыком, а потом в рукопашной схватке, размахивая винтовкой, как дубиной, обрушил на головы врагов неотразимые удары. Когда подоспела помощь, Данкин уже стволом винтовки добивал восьмого фашиста. Бригадный комиссар Грушецкий взглянул на отважного бойца. — Так доложите, кто вы? — Красноармеец Данкин, связной минометной батареи. — Нет, вы не только связной. Вы, Данкин, — богатырь». Я решил написать очерк о Данкине и пошел выяснять в секретариате, на какой ближайший номер можно его готовить. Там переверстывали номер. Крикун, оторвавшись от макета, просиял: — Идет ваша запасная полоса. Вы еще ничего не знаете? Так вот, в струнку и слушайте: «Приказ Народного Комиссара Обороны СССР. За проявленную отвагу в боях за Отечество с немецко-фашистскими захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава, — читал вдохновенно ответственный секретарь, — преобразовать восемьдесят седьмую стрелковую дивизию в Тринадцатую гвардейскую стрелковую дивизию — командир дивизии полковник Родимцев А. И. Дивизии вручить гвардейское знамя». Каково? А у нас тут как тут полоса! Снова трость звонко постукивает о паркетный пол, и редактор не может обойтись без своих любимых словечек: — Так, хорошенький мой, так... «Правда» напечатала ваш очерк о полковнике Родимцеве. Мы его издадим отдельной книжечкой в библиотеке газеты «Красная Армия». Пойдет он гулять по фронту. А завтра, хорошенький мой, будьте в семь утра на аэродроме. Полетите на У-2 вместе с генералом Галаджевым в Двадцать первую армию. Она будет проводить наступательные операции. Прошу обратить внимание на действие пэтээровцев — противотанковое ружье штучка новая. Если будет танк подбит бронебойщиками, сделайте все, чтобы этот материал попал немедленно в номер. Недавно Твардовский с Палийчуком написали стихи: «Бухнет в танк и — стоп, машина, результаты налицо. Танк горит. Ясна картина. Мировое ружьецо!» Так вот, вам надо найти смельчаков. К поездке подготовьтесь. Командировка у вас длительная. Но о немедленных сборах в дорогу нечего думать. Моя комната с большим лакированным роялем гудит голосами. В Воронеж с фронта приехал Дмитрий Кабалевский, зашел в редакцию, и Твардовский с Безыменским уговорили композитора дать авторский концерт. На Кабалевском плотный серый свитер. Связан колечками, и кажется, будто за роялем сидит не музыкант, а древний русский воин в кольчуге. Все мы слушали игру Кабалевского не шелохнувшись, покоренные музыкой. После концерта устроили ужин. Дмитрий Кабалевский по нашей просьбе не раз садился за рояль. Его просили играть еще и еще.
13
Рано утром я уже был на аэродроме. Мела поземка. Налетал порывистый ветер. Летчик хмуро посматривал на небо, словно раздумывая, лететь или не лететь. Но приехал генерал Галаджев. — Летим, — сказал. С самого начала почувствовалась бортовая качка. Ветер бросал легкий самолетик с одного крыла на другое. Под нами, как на качелях, качался заснеженный в утренних дымках Воронеж. Я узнал центр города и успел увидеть музыкальное училище, где на сдвинутых креслах возле рояля еще спал волшебник музыки Кабалевский. В Новом Осколе Сергей Федорович Галаджев поручил мне заняться армейской газетой «Боевой натиск» и подготовить краткий обзор. На всю работу я получил четыре часа. Делать ее пришлось в темпе. Даже при таком беглом ознакомлении газета мне понравилась. Наши войска наступали. Газета стремилась всячески поддержать наступательный порыв. Она умело пропагандировала боевой опыт. Статьи, корреспонденции и очерки, помещенные в газете, отвечали ее названию. Да, это был боевой натиск. О чем я доложил начальнику Политуправления фронта. — А что вы посоветовали редактору? — Чаще пользоваться броскими шапками. Уделить внимание новому виду оружия — бронебойке. Дать поучительные статьи о боях в населенных пунктах. — С этим можно согласиться. В основном они молодцы. Газету делают хорошую, — Галаджев накинул на плечи летную куртку. — Будем собираться в дорогу. Во втором эшелоне делать нам нечего. Все армейское начальство в Ржавце, поедем туда. Пока я занимался газетой, генерал успел осмотреть госпитали, побеседовать с врачами и ранеными воинами, а потом переговорить с начальником армейского тыла. С первых шагов нашего знакомства Сергей Федорович Галаджев показался мне обаятельным и неутомимым в работе. Он стригся под машинку и носил простую гимнастерку. Вскоре к политотдельскому дому подкатили розвальни. Ездовой легонько свистнул, и вороные кони рванулись в снежный простор. Когда-то здесь, на восточной окраине Киевской Руси, конные отряды ногайских мурз и крымских ханов предавали огню осажденные городища славян, а теперь в долине Северского Донца фашистские молодчики бомбили селения. Взрывная волна сорвала с крыш солому, и ветер далеко разнес ее по полям. Вечерело. Храпели горячие кони. Скрипели полозья. Я думал об армии, в которую ехал. В редакции «Боевого натиска» узнал, что армия эта молодая, сформирована накануне войны Приволжским округом и сразу направлена была в район Гомеля. Боевые действия в Белоруссии начала в самых невыгодных условиях: часть эшелонов еще находилась в пути, растянувшись от Волги до Днепра, а некоторые дивизии уже заняли позиции от Могилева до Речицы и вели тяжелые оборонительные бои. Армия не только оборонялась. Наступая на бобруйском направлении, успешно обходила Могилевскую группировку противника, отвлекла на себя восемь пехотных дивизий и нанесла им серьезный урон. А во время удара танковой армады Гудериана на Чернигов и Конотоп 21-я, опасаясь окружения, вынуждена была отойти к Десне, и Ставка Верховного Главнокомандования включила ее в состав Юго-Западного фронта. И вот теперь это испытанное в боях соединение оказалось в долине Северского Донца. Ржавец встретил нас густыми мокрыми хлопьями снега. Село было небольшое. Бревенчатые избы чередовались с облупленными мазанками. Деревья хранили следы артиллерийского обстрела. Сразу же по приезде на КП армии Галаджев провел в политотделе совещание, потребовал, чтобы до конца наступательных действий политотдельцы находились в дивизиях и там, где позволит обстановка, на партийных собраниях, митингах объяснили воинам, что разгром фашистских полчищ под Москвой, Тихвином и Ростовом создал благоприятные условия для атак наших воинов и на берегах Северского Донца. После совещания помощник начальника политотдела по комсомолу батальонный комиссар Дмитрий Рассохин предложил мне с рассветом поехать на передовые позиции. Я тут же согласился и попросил ознакомить с обстановкой. — Давай карту, — сказал он. — Смотри, на протяжении пятидесяти верст в лощинах тянутся села. Самые большие — Сажное, Волобуевка, Малиновка, Озеровка. Гитлеровцы превратили их в опорные пункты. Образовался вражеский плацдарм на правом берегу Северского Донца. Его необходимо ликвидировать. Но подступы к нему с нашей стороны неудобны — открытая местность. Противник встречает наступающие части сильным огнем. Завтра будем там. На месте виднее. На смену двадцатиградусному морозу пришла оттепель. В поле дул теплый южный ветер. Снег за ночь заметно осел и покрылся тонкой, хрустящей под копытами коркой. В мутный рассвет кони шли рысью. — Едем к Горбатову. Это опытный и храбрый генерал. Дивизия воюет хорошо. Сам он старый кавалерист. Дрался еще с кайзеровцами. Человек суровой и трудной судьбы. На фронт приехал с супругой. Пожилая женщина оставила московскую квартиру, живет в землянке под обстрелом и бомбежкой. Они были вместе в гражданскую войну и сейчас неразлучны. — Рассохин еще долго рассказывал о походе Горбатова по тылам врага, о том, как сам комдив учит бойцов воевать и не бояться противника. Ехали на звук боя. Вначале слух едва улавливал удары батарей, но вскоре они стали отчетливыми. Кони навострили уши и похрапывали. На опушке небольшой заснеженной рощи батальонный комиссар Дмитрий Рассохин отпустил ездового, и мы по тропке пошли на КП дивизии. — Где генерал? — входя в землянку, спросил у бойцов Рассохин. — Ушел вперед. Наши продвинулись. Волобуевку взяли. Малиновку, говорят, тоже. — А как лучше пройти в Волобуевку? — Вот тропка. Она приведет в овраг. А потом через поле и в село. Овраг, словно дымоходная труба, весь черный от копоти. Обнаженная земля выглядит так, будто побывала в когтях хищного зверя. В центре села церквушка, приспособленная гитлеровцами для круговой обороны, разбита снарядами. Связисты проворно тянули провод, и мы с Рассохиным, шагая вслед за ними, безошибочно попали на КП стрелкового батальона. Изба без дверей и окон, но зато есть стол и на нем шмелем жужжит полевой телефон. — Я шел и думал: кто же взял Волобуевку? Оказывается, ее взял старший лейтенант Тимер Шагеев, — заулыбался Рассохин. С лавки встал молодой командир с пышной черной шевелюрой, в распахнутом полушубке. — Взял, товарищ батальонный комиссар, взял. Но теперь удержать надо. Я повадку фашистов знаю. Они непременно пойдут в контратаку. Вы смотрите, как жили фрицы. Сколько под лавками бутылок. Вино французское, шпроты норвежские, сыр голландский, табак... — Со мной корреспондент. Он напишет об этом. Ты расскажи, как взял Волобуевку, кто у тебя в батальоне отличился. — Пять минут, честно говорю. Располагаю только этим временем. Чутье меня не обманывает, бой начнется... — Он снял трубку полевого телефона и спросил: — Что там у тебя? Слышен шум танковых моторов? Ничего, держись! — Комбат передал трубку связисту. — Бери телефон. Пошли все в укрытие. Мы покинули избу и возле плетня стали нырять по одному в «лисью нору». Яма оказалась обшитой досками, с лесенкой и запасными нишами для патронных ящиков. — Стоять! Артиллеристы умирают на лафете, но не отступают, — послышался чей-то голос. — Танки! Танки! — пронеслось вдоль улицы. Из заснеженного леска выкатились густые клубы синего дыма. Не обращая внимания на огонь нашей артиллерии, гитлеровцы уверенно, не спеша, нагло выстраивали четырнадцать машин широким клином, изматывая нервы обороняющихся медленным боевым построением. С каждой минутой ожидание атаки усиливало тревогу. Она еще больше возросла, когда стоявший неподвижно стальной клин вдруг засверкал огнем и стремительно пошел вперед. И тут же вихрем вылетели из леска и замелькали в дыму халаты лыжников. Противник понимал: на снежной равнине скорость — успех атаки. Рывок танков, бросок лыжников. Снег из-под гусениц, снег из-под лыж. Вперед! Только бы зацепиться за разбитые избы. Но не так легко зацепиться... Пушки бьют и бронебойки ухают. Как ни прижимаются к танкам лыжники, как ни отчаянно машут желтыми бамбуковыми палками, а пулеметный огонь отсекает их от стального клина. И немало уже автоматчиков лежит на снегу без лыж и без палок. На поле боя наступает резкий перелом. Лыжный отряд, который так стремительно шел в атаку, разворачивается и уходит в лес. Горят два танка. Остальные машины останавливаются, бьют с места из пушек и начинают отползать задним ходом. — Поджали хвост. Теперь часа на три передышка. — Комбат спрятал бинокль в кожаный футляр и вернулся с нами на свой старый КП в избу. Когда шли на КП дивизии, Рассохин предупредил меня о том, что Горбатов не переносит запаха водки и табачного дыма. За всю свою жизнь он не выпил капли спиртного и не выкурил ни одной папиросы. Это меня не огорчало. Я был небольшой любитель табака. Курил редко и к стопке тянулся не часто. За ужином Горбатов высказал мысль, что своими наступательными действиями войска 21-й армии сковали немалые силы гитлеровцев, помешали фашистскому командованию перебросить их под Елец и на другие направления. Горбатов был уверен: наши войска выполнят боевой приказ и закрепятся по восточному берегу Северского Донца от Думного до Волчанска. Потом, пожалуй, наступит временное затишье. Весенняя распутица ожидается ранней и дружной. Снега много. Реки разольются бурно. Земля в полях раскиснет, и никто не сдвинется с места. Но о передышке думать нельзя, надо укреплять свои позиции в инженерном отношении, учить войска воевать. Когда же речь зашла о бронебойщиках, то выяснилось, что в пэтээровских ротах находятся не новички, а стойкие бывалые воины-коммунисты и комсомольцы. Но пока им не везет: подбивают танки артиллеристы. Вторая половина ночи прошла в беспокоящем минометном огне. Противник, видимо, не мог примириться с потерей сел, выгодно расположенных в лощине, изматывал наши войска обстрелом и готовил контратаку. Однако сон сильнее обстрела. С каким бы треском ни ложились мины, а разрывы все глуше, глуше... Землянка вздрагивает, песок осыпается, и такое впечатление, будто шуршат камыши. Рассохин трясет за плечо: — Вставай, бронебойщики танк подбили. Сон, что ли? Нет, это не сон... Горбатов, продувая телефонную трубку, настойчиво спрашивал: — Ты видишь горящий танк? Кто подбил? Чей расчет? Но гремит бой, слышимость отвратительная. Со связью не ладится, порыв следует за порывом. Наконец неполадки устранили, полевой телефон заработал исправно. Горбатов позвонил командиру роты пэтээровцев и выяснил историю с танком. Его подбили на окраине сада с дистанции восьмидесяти метров бронебойщики Семен Сударов и Иван Скатов. Они — односельчане, тамбовские колхозники. Пуля, посланная Семеном Сударовым, угодила в бензобак, и машина вспыхнула. Танкисты открыли люки, но выбраться из огня не смогли. Получив такие данные, можно было тут же послать в редакцию информацию о подбитом танке. «В каждом номере газеты должен быть гвоздь!» — вспоминал я наставление Троскунова. Да, материал «гвоздевой». Стоит лишь передать в редакцию — и он немедленно появится на первой полосе. Но я еще не видел противотанкового ружья, как же писать о бронебойщиках? Подбитый танк интересовал не только меня. Комдив ждал затишья, но оно не наступало. После шквального минометного огня противник повел методический обстрел сада и особенно того места, где горел танк. Часа через два мины стали посвистывать редко, и Горбатов предложил мне пойти к бронебойщикам. Вдоль сада — глубокая канава. Она служила нам отличным укрытием. Канавой, как хорошей траншеей, воспользовались расчеты противотанковых ружей и заняли в заснеженных кустах огневые позиции. Одетый в белый маскировочный халат с капюшоном, Семен Федорович Сударов оказался немолодым бойцом. Ему перевалило за сорок. Руки большие, натруженные, узловатые, сильные. Обращался он с длинным увесистым противотанковым ружьем легко, как с обыкновенной винтовкой. Все обратили внимание на то, что ствол бронебойки плотно обмотан бинтом. — Это я сегодня придумал. Бинт хорошо маскирует чёрный ствол и не горит, когда сталь накаляется во время стрельбы. Сударов показал мне, как заряжается ружье. Поделился своим опытом о том, как надо выбирать огневую позицию, с какого расстояния лучше всего вести огонь по танкам и куда бить. Теперь я знал, что пуля пробивает пятидесятимиллиметровую броню, рвет гусеницы и, попадая в подбашенную щель, заклинивает башню. Повалил, завихрился снег. Теперь можно было, не опасаясь снайперской пули, осматривать танк. Пламя внутри машины погасло, но из открытых люков еще вылетал удушливый дым. Пахло едким газом. На меня в упор глянул черный зрачок орудия и заставил на какое-то мгновение застыть. Горбатов неторопливо обошел вокруг танка. — Горелая коробка, — заключил он и ткнул палкой в борт машины. Возвратясь на КП, я сразу засел за статью о бронебойщиках. Через день, взглянув на свежий номер, понял: попал в точку. «Гвоздевой материал» подан броско, на первой полосе. И даже помещен снимок: два бронебойщика занимают огневую позицию. В первую минуту показалось, что в редакции проявили оперативность, каким-то чудом раздобыв фото моих героев. Но то были другие бронебойщики. Выполнив срочное редакционное задание, я решил на несколько дней возвратиться в Ржавец, быстро, как говорили у нас в редакции, «отписаться» и, воспользовавшись армейским узлом связи, передать в редакцию новые материалы. Политотдел находился в той же старой хате, где, как бы жарко ни топилась печь, с каким бы старанием ни подбрасывали поленья, тепло выветривалось моментально. По-прежнему, когда ложились спать, под плащ-палаткой чувствовалась сырая солома. Сон долго не приходил. Едва стал дремать, как над ухом зашептал старший батальонный комиссар Бронников: — Вставайте, вызывает командующий фронтом. — Не разыгрывайте, — и я повернулся на другой бок. — Это не розыгрыш. Надо немедленно явиться к генералу Костенко. — Что-что? — я вскочил. — Не спешите, — Бронников зажег два светильника, сделанных из медных гильз. — Как выглядим? Так, форма в порядке, а вот умыться холодной водой не мешает. «Скоро полночь — и вдруг срочный вызов. Что же случилось?» С этой тревожной мыслью затянул потуже ремень и пошел за Бронниковым. Стоял легкий мороз. Ночь была безветренной, на удивление синей-синей, с множеством ярких золотистых звезд. В маленьком домике нас встретил заносчивый капитан, порученец генерала, одетый в новую летную форму. — Пришли, голубчики. Ну, будет вам на орехи, — и скрылся за дверью. Мы удивленно переглянулись, но тут снова появился порученец и сделав жест, означающий: входите. Генерал-лейтенант Федор Яковлевич Костенко сидел в углу за письменным столом в небольшой комнате, заставленной фикусами. За его спиной весь угол золотился от старых икон. Мы стояли по команде смирно, рассматривая иконы, этажерку с набором раскрашенных гипсовых собак-копилок и над кушеткой — плывущих по озерной глади традиционных белых лебедей, творение базарных живописцев; комод с аляповатыми вазами, где среди стеклянного хлама — флаконов и пузырьков, — сияли неизвестно как сюда попавшие два прекрасных подсвечника. Видимо, генерал остановился в домике ненадолго и приказал оставить каждую хозяйскую вещь на своем месте. Сидя за столом, он что-то записывал в толстую тетрадь. Внимательно перечитав написанное, закрыл тетрадь и поднял на нас глаза. — С какого расстояния бронебойщик может открыть огонь по танкам? — С дистанции ста двадцати метров, — ответил я. — У вас чудеса получаются похлеще, чем у белгородского чудотворца. Читаю газету и думаю: вот молодцы ребята — танк из бронебойки подбили. Надо его в тыл отправить, чтобы другие видели, какое это грозное оружие, и верили бы в его силу. Посылаю за танком, а его и след простыл. Кто из вас писал статью? Я выступил молча вперед. — Танк видели? — спросил Костенко. — Видел. — Товарищ командующий, когда статья появилась в газете, танк находился на нашей территории. Разве виноват корреспондент в том, что, пока он на попутках добирался в Ржавец, гитлеровцы продвинулись и отбили танк, — поспешил на защиту заворг политотдела Бронников. — Не танк, а горелую коробку, — добавил я. — О танке поговорю еще с комдивом, но у меня есть серьезная претензия к спецкору. Вы только поймите: первый танк, подбитый на фронте из бронебойки. Этому событию следовало уделить особое внимание и хорошенько продумать, как же такой материал подать в газете. Я думаю, бронебойщики сами должны были рассказать о том, как они подбили танк. А газете не поскупиться местом. Дать не куцую статейку, а целую полосу. Пусть бы выступил еще ротный и поделился своим опытом. Нам не мешает знать, как командир готовит бронебойщиков к схватке с врагом. И, конечно же, хотелось видеть портреты истинных героев, а не тех, которые только занимают огневые позиции. Этим людям, я считаю, рано красоваться на страницах «Красной Армии». Костенко поднялся, вышел из-за стола. Его статная фигура дышала богатырской силой. Лицо открытое, волевое. В верных, густых волосах пробивалась седина. Он был героем гражданской войны, одним из славных красных командиров. — Ну хорошо, — продолжал Костенко, — надеюсь, все сказанное мной вы учтете в дальнейшем. А вот за то, что вы лично беседовали на передовой с бронебойщиками, приглашаю к столу. Давайте вместе поужинаем. Удивительный человек Федор Яковлевич Костенко. Мы сидели за столом и не чувствовали никакой скованности, ни малейшей напряженности. За ужином выяснилось: Федор Яковлевич помнил мой очерк о команде бронепоезда и тут же сообщил, что весь экипаж «крепости на колесах» награжден орденами и медалями. Возвратясь с Бронниковым в политотдельский домик, я долго не мог уснуть, стараясь восстановить в памяти все, что услышал от генерала Костенко. Ведь это непосредственно касалось моей корреспондентской работы. По его мнению, оборона гитлеровцев была далека от совершенства и не отвечала требованиям их же уставов. Однако прорыв этой обороны, состоявшей всего из одной полосы с незначительной плотностью проволочных заграждений и минных полей, давался нашим войскам нелегко. У большинства командиров не хватало боевого опыта, и в наступательных боях мы допускали ошибки. Когда-то еще Суворов говорил: «Каждый воин должен знать свой маневр». А маневр на поле боя применялся редко. Линейная форма наступления не могла принести нам успеха. Войска не выходили на фланги и в тылы противника, а это не позволяло добиться его окружения. Федор Яковлевич высказал мысль о том, что наш боевой устав уже не отвечает современным условиям боя и требует серьезных изменений, поправок. Он верил, что победу в наступательных операциях нам скоро принесет четкое взаимодействие между пехотой, танками, артиллерией и авиацией. Но впереди много работы: войска надо учить этой взаимной поддержке. Утро принесло сюрприз: КП 21-й армии из Ржавца перебазировался в тыл, в Новый Оскол. Это говорило о том, что всякие наступательные действия прекращаются. С юга дул теплый ветер. Приближалась весенняя распутица, и на фронте установилось затишье. Пока шло перемещение командного пункта армии, я сел на У-2, который доставлял на фронт газеты, и полетел в Воронеж сдать зимнее обмундирование. В редакции произошли перемены. Политуправление фронта решило укрепить армейские газеты, и туда ушли работать Александр Безыменский и Сергей Вашенцев. Я доложил редактору о разговоре с генералом Костенко. — Конечно, он прав. Надо было делать полосу и предоставить слово бронебойщикам. Но эту вину я беру на себя. Вы, хорошенький мой, оперативно выполнили то задание, которое вам давалось. А вот с фотографией бронебойщиков получился ляп. И в этом виноват секретариат. Тут уж ничего не поделаешь. — Редактор по привычке стал постукивать тростью о пол. — Ну ничего, в самое ближайшее время дадим полосу о бронебойщиках. Вот таким макаром исправим промашку. Взглянув на часы, тут же напомнил, что у меня есть возможность попасть еще на вечерний поезд, идущий в Новый Оскол. А в редакции тишина. Все корреспонденты в отъезде. Заглянул в комнату, где жил Твардовский, и остановился на пороге удивленный. Александр Трифонович неторопливо укладывал в небольшой чемодан вещи. — Что за сборы? Куда? — А это то, чем кончаются всякие нелицеприятные разговоры. Заходи, не стой на пороге. Я же тебе говорил, что не сойдусь характером с новым редактором. — Твардовский закрыл крышку чемодана, щелкнул замком. — Еду в Москву. А там уж куда пошлют. — Это правда? Как же так?! Он махнул рукой: — Не будем об этом... Я тебе книжку стихов хочу подарить. Вот она, возьми. Мы были на фронте товарищами, о чем я и написал. — Положив тетрадь в вещмешок, он оглядел комнату. — Кажется, все. Ни приметы, ни следа... Теперь я вольная птица. Впереди у меня еще ночь. Но решил собраться заранее. Я сейчас вот о чем подумал: нет, все-таки настоящая примета и настоящий след останется навсегда. Если будем живы, после войны мы еще не раз вспомним с тобой Киев и Канев. Тяжело было расставаться с Твардовским. — Надо немедленно пойти к Галаджеву, поговорить с ним, — заволновался я. — Отрезанный кусок хлеба незачем прикладывать к буханке, все равно отпадет. Я уже решил. Буду прощаться с Воронежем. — Он пристально посмотрел на меня, чуть усмехнулся. — Затяни ремень потуже, продолжай врага крушить, будь с веселой шуткой дружен, с грустью незачем дружить.
14
Пропахший крепкой махоркой и набитый сверх всякой меры пассажирами, вагон уносил меня в Новый Оскол. Ехал я с невеселыми мыслями. Трудно примириться с тем, что в редакции нет уже тех, с кем встречал тревожные киевские рассветы, когда грохот бомбежки горным обвалом врывался в городские кварталы. На вокзале Нового Оскола в толпе мелькнул будто Первомайский. Вишневая трубка в зубах, шинель, туго стянутая ремнями, и за спиной желтеет коровьим мехом трофейный ранец. Неужели Леонид Соломонович? Верится и не верится. Быстро пробираюсь сквозь толпу. Он! Оба рады неожиданной встрече. Первомайский — корреспондент фронтового радиовещания. Он, так же, как и я, надолго прикомандирован к 21-й армии. Тут же решили жить на одной квартире и вместе ездить в действующие части. Политотдел армии располагался на западной окраине Нового Оскола и занимал самые крайние домики. За ними начиналось гудящее ветрами широкое снежное поле. Мы думали, что с жильем будет туго, но ошиблись. Заместитель начальника политотдела полковой комиссар Леонид Иванович Соколов вручил нам ключи, а дежурный — пожилой боец — привел к домику, отведенному под корреспондентский пункт. Домик крохотный, но опрятный. По словам бойца, его владелец, старый доктор, подался на восток. Теперь здесь никто не жил. В домике — чулан, кухня и комната. Вся мебель состоит из большой двухспальной кровати, стола и трех стульев. Во дворе глубокий колодец с хорошей питьевой водой и сарай, полный дров. Теперь на плите часто кипит котелок. Есть всегда свежезаваренный чай. Спим на одной кровати, работаем за одним столом. Леонид Соломонович немногословен, сдержан и вежлив. У нас установлено: сел за стол — работай молча. Первомайский обладает исключительным упорством в работе. Никогда не встает из-застола, не набросав вчерне очерка или стихотворения. Стихи он пишет легко, быстро. Но это кажется на первый взгляд. Потом возвращается к ним, тщательно шлифует. Выходит словно на поединок с чистым листом бумаги. Его смуглое лицо становится строгим и сосредоточенным. Почти не выпускает изо рта трубку и, когда она гаснет, продолжает шевелить губами, как бы потягивая дымок. В его пышной черной шевелюре начинает пробиваться седина. Иногда, набивая потухшую трубку очередной порцией табака, он подходит к тусклому настенному зеркалу и выдергивает из волос серебристую нить. Вот уже несколько дней в поле бушует снежный буран, и под его неумолкающиий гул Первомайский заканчивает книгу стихов «Земля». Обычно перед тем, как идти в столовую на обед, он отрывает от исписанных листов усталые, с набухшими веками карие глаза: — Послушай. Его стихи захватывают и сразу переносят меня то на размытый осенними дождями ржавый шлях, то на берег прозрачной речки Берестовой, где поэт провел детство. Она наполнила его сердце степным раздольем, нежным шелестом камышей, плеском речной волны. И вот ее вспенили разрывы бомб, и дым черной водой хлынул на светлые песчаные берега. Дышал боем Ивангород. Народ на войне был главным героем его стихов. Народная война рождала слово и придавала ему свою красу и силу. Рядом с печальными картинами нашего отступления с Украины звучали мужественные строфы, призывающие к борьбе и победе. Его голос дрожал от гнева и волнения: «Машины грузно двинулись, пошли. Нагнувшись, я поднял комок земли, нахлестанный осенними дождями. Он тяжко холодел в моей руке, как сердце без кровинки... Вдалеке пожар высокий задрожал за нами. И вздрогнул я, услышавши гудок, и побежал — меня ждала машина, — но я не бросил наземь тот комок твоей земли озябшей, Украина!» Поэт верил: «Пройдет в походах трудная година. Настанет день, и я верну тебе комок земли нетленной, Украина!» [2] Если я делал после чтения какие-нибудь замечания, Леонид Соломонович поправлял ту или иную строчку. Иногда, подумав, отрицательно покачивал головой: — Нет, тут ты не прав. Надо оставить так, как есть. Александр Блок говорил: «Но ты, художник, твердо веруй», — Леонид Соломонович перечитывал стихи и потом принимался набело переписывать их в добротную записную книжку с бархатным переплетом. А зима словно взбесилась. Апрель, но дуют северные ветры и надоедливо гудит снежный буран. Я и Леонид Соломонович начинаем уже раскаиваться в легкомыслии: слишком рано сдали зимнее обмундирование. Выручают березовые полешки: весело потрескивают в плите и наполняют домик теплом. Получили дополнительный паек, но сидим без чаю. Первомайский пошел за водой и умудрился утопить в колодце котелок. Теперь шарит по полкам в чулане в надежде найти там хоть какую-нибудь подходящую посудину. Вдруг слышу: — Здесь чудеса, скорей ко мне на помощь! Действительно, чудеса. Из чулана Леонид Соломонович осторожно выносит покрытый потускневшим красным лаком старинный граммофон с большой коричневой деревянной трубой. — А пластинки? — Надо искать... На самой верхней полке обнаруживаем в круглой коробке для шляп целую коллекцию редких пластинок: Шаляпин, Вяльцева, Собинов и какие-то незнакомые нам итальянские певцы и певицы. Осматриваем граммофон — досада, ни одной иголки. — Нужен Шерлок Холмс, — роняет Первомайский. — В чем могут храниться иголки? В какой-нибудь коробочке. Давай искать. Переворачиваем вверх дном весь захламленный чулан, но не находим ни одной иголки. Зато отыскался старый чайник, и теперь он позванивает на плите крышкой. Больше всего Первомайского удивляет граммофонная труба. Как же ее все-таки выточили из дерева? После осмотра приходим к заключению: она не выточена, а искусно склеена из кусков бамбука и тщательно отполирована. — Где же запропастились эти граммофонные иголки? — сокрушается Леонид Соломонович. Он с тоской смотрит в темнеющее окно. — А буря, как назло, все воет... Ты знаешь наизусть мою любимую «Тамань». Прочти хоть что-нибудь. «Она прыгнула в лодку, я за ней, и не успел еще опомниться, как заметил, что мы плывем. «Что это значит?» — сказал я сердито. — «Это значит, — отвечала она, сажая меня на скамью и обвив мой стан руками, — это значит, что я тебя люблю...» Вдруг что-то шумно упало в воду: я хвать за пояс — пистолета нет... Хочу оттолкнуть ее от себя — она как кошка вцепилась в мою одежду, и вдруг сильный толчок едва не сбросил меня в море. «Чего ты хочешь?» — закричал я, крепко сжав ее маленькие руки; пальцы ее хрустели, но она не вскрикнула: ее змеиная натура выдержала эту пытку». Я прочел еще небольшой отрывок, и мы под вой вьюги стали укладываться спать. — Ничего не скажешь, умели писать, умели. — Первомайский нечаянно задел рукой висевшую над кроватью литографию с потускневшими шишкинскими мишками, и на его голову упала плоская металлическая коробочка, рассыпав по подушке граммофонные иголки. Выдалась удивительная ночь. До самого рассвета в домике лилась музыка, звучали голоса знаменитых певцов. Народные песни, романсы, арии из опер — чего мы только досыта не наслушались в ту вьюжную ночь. Из всей кипы пластинок Леонид Соломонович выбрал одну — «Ноченьку» в исполнении Шаляпина. Уже днем он часто ее проигрывал и, вслушиваясь в песню, сидел возле граммофона неподвижно, с полузакрытыми глазами. Потом остановился еще на одной пластинке, тоже шаляпинской, и, отправляясь за водой, продолжал напевать: «Сам я знаю почему ты, девчоночка моя, уй, одна меня тревожишь, одна решила мой покой». Как ни бушевал над Новым Осколом снежный буран, а все же наступило тихое, теплое, полное яркого весеннего солнца утро. Первомайский пошел в политотдел за почтой и возвратился оттуда в настроении самом решительном. — Собирайся, едем! Сейчас коновод приведет коней. Я только что обо всем договорился с полковым комиссаром Соколовым. У меня три задачи: повидать в Короче снайпера Наталью Приблудную, в селе Пристенном встретиться с людьми, взрывавшими киевские мосты, а потом потолковать с генералом Павлом Филипповичем Лагутиным. Когда Гудериан наступал на Шостку и Кролевец, стойкая дивизия Лагутина своими действиями сковала значительные танковые силы, и Гудериан не смог ее сбить с позиций. Если тебе эти люди приглянутся, сможешь тоже о них написать. И вот подо мной храпит серый в яблоках жеребец. Леонид Соломонович лихо сидит в седле на резвой пегой Звездочке, а наш коновод скачет впереди на вороном Соколе. Степное раздолье, солнце, теплый ветер, тающие снега и журчащие ручьи. Кони идут резво, но мы сдерживаем их прыть. Впереди длинная дорога. В Короче находим пограничный полк, а в шестой роте — парторга Наталью Алексеевну Приблудную. На вид это хрупкая, невысокая женщина. Откуда же взялась у нее такая сила воли, бойцовская выдержка, неутомимость в походе и снайперская выучка? Эта женщина-воин интересует Первомайского. Он хочет понять истоки ее мужества. В начале беседы он ничего не записывает и не задает никаких вопросов. Только слушает. Наталья Приблудная находится еще всецело под впечатлением недавнего похода по тылам врага. Она уверена, что и Леонида Соломоновича интересует этот рейд, и с него начинает свой рассказ. — Наш отряд, направленный в тыл врага, состоял из ста пятнадцати бойцов. Все, как на подбор, пограничники, люди обстрелянные. Таких ребят внезапная встреча с любой опасностью не испугает и не застанет врасплох. Командовал нами капитан Татьянин. Человек смелый и в тоже время осмотрительный, умеющий хитрить с противником. Наша задача: разгромить немецкий штаб на станции Гостищево, заминировать железнодорожное полотно и нарушить связь. Боевое задание мы выполнили. Но тут гитлеровцы бросились за нами в погоню. Капитан Татьянин приказал отряду сойти с дороги, повернуться к лесу спиной и только так идти дальше. Ночь на исходе. Переходить линию фронта в светлое время — значит погубить отряд. Все понимают: надо выиграть один день, занять круговую оборону и притаиться. В лесу мы подготовили к бою старые, засыпанные снегом окопы. В полдень гитлеровцы обнаружили наш след. Видим — идут. Офицеры останавливаются, начинают жестикулировать, спорить между собой, что-то один другому доказывать. Видимо, наш след сбил их с толку. Вот они потоптались и пошли назад. Проходит часа два, у нас как-то на душе легче. Уже появилась надежда перейти линию фронта без схватки с гитлеровцами. Но в поле показались толпы людей. Вначале дозорные решили: местные жители уходят от немцев, хотят присоединиться к нашему отряду. Но присмотрелись и поняли: гитлеровцы впереди себя гонят женщин, стариков и детей, прикрываются ими. Капитан Чашкин поверх толпы послал пулеметную очередь. Люди попадали, и тогда все наши пулеметы резанули по синим шинелям. Капитан Татьянин крикнул: — Наташа, снимай офицеров! Мне удалось убить одного обер-лейтенанта. Гитлеровцы отступили. Потом снова стали приближаться к нам ползком. Когда отбили седьмую атаку, наши бойцы, одетые в белые халаты, подобрались к убитым и взяли трофейное оружие. Немецкими ручными пулеметами и автоматами мы отразили еще три атаки и ночью покинули лес. Отход тяжелый, как бой. Несем на плащ-палатках раненых, спускаемся в овраги, идем по рыхлым сугробам через лес, спешим к Донцу, а тут тебе новая напасть — лед трещит, по пояс и по грудь проваливаемся в ледяную воду. Я подумала: наверное, многие схватят воспаление легких, а пришли к своим, обогрелись в землянках, выпили горячего чаю — и никто даже не кашлянул, не чихнул. — Наталья Алексеевна, я впервые услышал о вас в селе Подвысоком. Потом безуспешно пытался найти вас в Рогозове. Мне рассказали, что вы окончили в Ленинграде университет и там принимали участие в соревнованиях снайперских команд. Потом работали в Бердянском райкоме партии, собрали интересный материал о гражданской войне в Приазовье, готовились защищать кандидатскую диссертацию. Мне бы хотелось знать, кто вас воспитывал, откуда вы родом? — Я училась в школе вместе с Полиной Осипенко, дружила с ней. Когда она прославилась, стала знаменитой летчицей, я подумала так: второй Полиной мне не быть, но чем-то могу же я принести пользу Родине. Я знала Полину решительной, смелой. Мне нравилась еще ее жажда знаний. Вот и позаимствовала это качество у школьной подруги. В первый день войны в Перемышле на меня произвели сильное впечатление два человека: секретарь городского комитета партии Орленко и назначенный за храбрость комендантом города пограничник старший лейтенант Поливода. Вспоминая их отвагу, я тоже стараюсь не теряться в бою. Первомайский попросил Наталью Приблудную подробно рассказать о пережитом в Перемышле. Беседа их затянулась до позднего вечера. Короча утопала в грязище, когда мы на следующий день покинули этот маленький городок — родину антоновских яблок. Потянулись большие фруктовые сады, обсаженные кругом тополями и кустами сирени. Все это оживало и вот-вот должно было покрыться золотисто-зеленым пушком листвы. Кони устали месить копытами грязь и к вечеру понуро подходили к Пристенному. Въехать в село оказалось не просто. Широко и привольно разлился Северский Донец. Паводок подступил к селу, скрыв под водой дорогу. Нам удалось только с помощью местных жителей через огороды, а потом по каким-то буграм добраться до центра села, где нас встретил комиссар 8-й мотодивизии Павел Георгиевич Коновалов. Как ни измотала дальняя дорога, как ни намучился, качаясь в седле, Леонид Первомайский, а все же присел ночью к светильнику и записал новые строчки: «Нет, я здесь не засну в глухомани. В этой тьме, все укрывшей вокруг. Жалко мне, что страниц из «Тамани» не читает на память мой друг. Ночь проходит. Весенние воды под снегами бушуют ключом, и не спят у коней коневоды, и зарницы горят над селом». В ту ночь в селе, где мы остановились, почти никто не спал. Паводок поднимался, и Пристенное превращалось в остров. Рано утром в хату вошел полковой комиссар Коновалов. Его смуглое лицо было напряженным. Широкие черные брови сошлись на переносице. Он сказал, что вода прибывает и если мы не хотим на неделю задержаться в селе, то надо немедленно уезжать. Тут повар принес котелки, и Коновалов пригласил нас к столу. Первомайский взмолился: — Павел Георгиевич, вы видите, по какой дороге мы добирались в Пристенное, и все это ради того, чтобы поговорить с очевидцами о том, как же взрывались киевские мосты. Ведь пройдет время — многое забудется. — Вы интересуетесь взрывом мостов? Я могу рассказать вам, как это было. В ночь на девятнадцатое сентября командира четвертой дивизии НКВД полковника Федора Максимовича Мажирина вызвал нарком внутренних дел республики. Он сказал: «Товарищ Мажирин, по решению Ставки наши войска оставляют город. Тяжело, больно, но мы покидаем Киев... Вы, товарищ полковник, назначаетесь комендантом города. В ваше распоряжение поступают отряды народного ополчения, уровцы и милиция. В течение ночи все защитники Киева должны отойти на левый берег Днепра. Вам, товарищ Мажирин, поручается взорвать на Днепре мосты. С этой минуты вы можете действовать согласно обстановке. Помните, за каждый мост вы отвечаете». — Нарком, вскинув на плечо автомат, простился с комдивом. Машина наркома вышла со двора на большой скорости. Мажирин связался по телефону со штабом народного ополчения и позвонил мне, чтобы я приказал снять городские караулы и на КП дивизии все привел в боевую готовность. Если говорить о подвиге на Днепре и о том, что киевские мосты не достались противнику, то в этом заслуга и Тридцать первого отдельного железнодорожного батальона, командовал им майор Павел Михайлович Малявкин. Фашисты бомбили мосты, но движение поездов не прекращалось. Воины-железнодорожники устраняли повреждения, минировали мосты и помогали нам, чекистам, отражать атаки противника. Девятнадцатого сентября в десять часов утра регулировщики и часовые покинули все мосты. — А какая была погода? — спросил Первомайский. — День тогда выдался солнечный, жаркий. Комдив навел бинокль на холмы и принялся их осматривать. Все наши дозорные находились на своих местах. Они флажками подавали тревожные сигналы. Но мы уже и без этих сигналов по вспыхнувшему бою понимали, что враг рвется к мостам. Вскоре бой совсем приблизился к Днепру, и я сказал комдиву, что настала пора подать саперам условный сигнал. Подрывники согласно с приказом уже вскрыли секретный пакет и были наготове. И вот пад нашим командным пунктом взлетела сигнальная ракета. В ответ над железнодорожным мостом имени Петровского показалась красная звездочка. А за ней вспыхнули еще две такого же цвета. От тяжелого удара вздрогнул днепровский берег. Над цепным мостом повисла красная ракета, и от взрыва забурлил, вспенился Днепр. Снова послышался грохот. На Дарницком мосту рухнуло в реку восемь ферм, а на четырех оказалась поврежденной электросеть. Это очень встревожило Мажирина. Он сказал: «А что будет с автодорожным Наводницким мостом? Он не минирован. Только облит смолой и бензином». Но саперы были опытными. Мост запылал и превратился в огненную ленту. Казалось, разрушение мостов идет успешно. Все подготовлено, осечки нет. Горит облитый смолой деревянный мост в Русановском заливе. Там саперы зажгли бочки с бензином, и над мостом поднялось высокое пламя. Прошло не более десяти минут, и неожиданно с Днепра налетел шквальный ветер. Да такой силы, что в один миг сорвал с моста гудящее пламя и, разметав, потушил в заливе. Мост, словно черная головешка, но остался цел. А в это время у Днепра появились гитлеровцы. С холмов свистят мины, бьют пушки. Фашисты в ярости — им не удалось захватить мосты. И тут они замечают в заливе наш полуглиссер. Это адъютант штаба переправ Данилов вместе с комиссаром Зиненко, вооружив саперов бутылками с горючей смесью, помчались к западному въезду моста. Полуглиссер окольцован разрывами. Волны, как в большую бурю, качают его. Никак он не может выйти из-под обстрела. Поврежден мотор. Судно описывает круг, и тут его подхватывает быстрое течение и начинает нести из залива в Днепр. А весел нет. Но храбрецы не сдаются, гребут саперными лопатами и касками. С невероятным трудом наконец-то им удается побороть течение. Враг лютует. Он не может потопить судно и ставит заградительный огонь. Даже не верится, что наши саперы живы, невредимы и высаживаются на берег. Песчаные бугры укрывают их от пуль и осколков. Однако время терять нельзя. Фашисты начинают обстреливать густые заросли лоз бризантными гранатами. А саперы живут только одной мыслью: не отдать врагу мост. И она оказывается сильней навесного огня. На мосту смельчаки разбивают о железные костыли бутыльки с горючей жидкостью, но теперь у них появился новый враг — огонь. Вначале пламя как бы дремало, облизывая своими жаркими языками деревянный настил. Только саперы добежали до середины моста, как вдруг оно заскользило парусом и бросилось за ними в погоню. Летят огненные вихри, нагоняют саперов, и, кажется, нет никакого спасения. Все, кто находился на командном пункте, так и застыли, следя за поединком человека с огнем. И у многих уже закаленных воинов дрогнуло сердце. Вот пламя уже настигает бегущих. Прыгает в воду один сапер, за ним другой, но остальные восемь храбрецов все-таки вырываются из клубов дыма и огня, сбегают с моста на берег и бросаются на помощь товарищам, которые борются с быстрым течением... Такова история взрыва киевских мостов. Первомайский поблагодарил Коновалова за рассказ, и мы стали прощаться. Когда вышли из хаты, вода уже подступала к самому крыльцу. Наш ординарец отвел коней в безопасное место, они оказались на другом конце села. Первомайский прыгнул в лодку, я за ним, и какой-то дед перевез нас через быстрый поток. По раскисшей дороге кони шли тяжело. Взбухшие ручьи часто преграждали путь, но мы все-таки отыскали КП 293-й дивизии. Генерал-майор Павел Филиппович Лагутин был не только опытным военачальником, но и простым, душевным человеком. Военную науку начал познавать еще будучи солдатом — на германском фронте. Первомайский беседовал с ним весь вечер, исписал половину блокнота и уехал из дивизии довольный встречей.
15
Снова в маленьком домике на окраине Нового Оскола звучит «Ноченька», и после многочасовой работы над стихами и очерками Первомайский сидит у граммофона с полузакрытыми глазами. Пошла вторая неделя, как весенняя распутица приковала нас к городку, окруженному раскисшими полями. Медленно просыхает земля. Но по утрам мимо нашего домика начинают проходить первые обозы. Ездовые покрикивают на лошадей, скрипят колеса. С весной у нас связаны надежды на скорое освобождение Белгорода, Харькова и Донбасса. Мы сейчас не знаем более созвучного нашим мыслям емкого, близкого сердцу слова, как освобождение. Теперь на столике часто появляется карта с обозначением: «Генеральный штаб Красной Армии — Харьков». Мы строили планы, разрабатывали операции и верили: весеннее наступление принесет нашим войскам победу на Левобережной Украине, и даже допускали мысль, что на каком-то участке фронта выйдем к Днепру. Перебазирование штаба 21-й армии из Нового Оскола в Великую Михайловку восприняли как сигнал к будущему наступлению. Прощай, наш маленький домик с буйно зазеленевшим садом. В последний раз слушаем Шаляпина, ставим на прежнее место граммофон, прячем в круглую коробку редкие пластинки и закрываем входную дверь большим висячим замком. В Великой Михайловке поселяемся вблизи политотдела в домике, стоящем у бойкой дороги. Его хозяин, старый столяр, работает на мебельной фабрике, а дома мастерит на продажу кухонные полочки и шкафчики. В нашу комнату постоянно проникает запах свежей краски и древесного лака. Приходится держать днем и ночью окна открытыми. С наступлением сумерек дом дрожит от тяжелой поступи танков. Проходят артиллерийские и стрелковые части. Накануне Первомайского праздника КП 21-й армии переезжает в Нежиголь, придвигается ближе к фронту. Нежиголь — узел пяти шоссейных дорог. Село большое и древнее, связанное с историей Киевской Руси. Некогда здесь, при слиянии двух рек, Нежиголя и Корня, окруженное дремучими лесами, стояло городище, выдержавшее в 1072 году осаду ногайских татар. Наша белая мазанка с камышовой крышей, временно отведенная под корпункт, утопала в кустах буйно цветущей сирени. Первомайский, распахнув окно, подолгу смотрит, как за меловым холмом в кронах вековых сосен, как бы пыля синевой, прячется солнце. Кажется, все готово к наступлению. Фронт притих, притаился. Когда же наступит час атаки? И как развернутся события? Неужели через неделю-другую увидим Харьков? Условились с Леонидом Соломоновичем написать целый разворот для фронтовой газеты: Харьков наш! Я мысленно переношусь в город, где родился и вырос, шагаю по немощенной Киевской улице. Застану ли там в живых мою старую добрую бабушку Мавру Васильевну? Сердце наполняется тревогой. Ожидание больших событий достигает наивысшего напряжения. Велико желание пойти вперед, увидеть освобождение родного края. Даже Леонид Соломонович, привыкший каждый день работать над стихами, спрятал в походный ранец рукописи, и мы вместе чаще теперь заходим то в политотдел, то в Штаб армии. Встретили кинооператора Бориса Зенина, условились вместе ехать на фронт. Ему не сиделось в Нежиголе. В ту пору в войсках вместо «наступление» говорили «свадьба». Начинало вечереть, когда к нашей мазанке подлетела полуторка и капитан Зенин заглянул в распахнутое окно: — Братцы, «свадьба»! Десять минут на сборы. Садимся с Леонидом Соломоновичем в кузов грузовика. К нам присоединяется помощник по комсомолу Дмитрий Рассохин, корреспондент армейской газеты Борис Мясников, и машина выходит из Нежиголя на волчанскую дорогу. За Корнем меловые обрывы. Бор. Вдали показываются трубы Шебекинского сахарного завода, потом Таволжанского. Дорога вьется меж свекловичных полей. Над Северским Донцом начала светлеть короткая майская ночь. Ровно в три часа лес под Волчанском озарили вспышки батарей. Артиллерийская подготовка прошла успешно. Наши стрелковые части форсировали реку. Взяли Старицу, Бугроватку, Огурцово. Комдив Лагутин доволен результатами атаки. Воины его дивизии сумели быстро взломать гитлеровскую оборону на правом берегу Северского Донца и повели наступление на Муром. Началась Харьковская операция. Наши войска наносят удар из района Волчанска в обход Харькова с севера и северо-запада, спешат навстречу дивизиям, наступающим с юга. Идет битва в лесистой местности. О больших материалах нечего думать. Всё в движении, приходится делать короткие информации и, помня совет генерала Костенко, помогать героям боев выступать в газете. Все материалы теперь отправляю в редакцию только через дивизионный пункт сбора донесений, но связь работает безукоризненно, они быстро появляются в газете. Порой дивлюсь мужеству Первомайского: ночью он греется в лесу на дне окопа у костра, а днем с наступающим батальоном входит в освобожденное село. Под Муромом на коротком привале у меня как-то совсем неожиданно возникли о нем стихи: «С походным ранцем за спиною, с вишневой трубкою в зубах еще к безвестному герою выходит он на пыльный шлях. Над ним скользят косые тени — они несут огонь и гром. Его приход боец оценит в окопе тесном и сыром. А в знойном небе бомбы воют, земля в огне — привстать нельзя. В дыму атак поэт и воин в одно мгновение — друзья. Поэт уйдет. В своем блокноте он унесет простой рассказ. И в занятом недавно дзоте он не сомкнет бессонных глаз. С упрямой мыслью в поединке, усталый ляжет на песок. И утром новая сединка посеребрит его висок». Муром взят! Ну и село! Всюду холмы, да еще какие. Сама природа подготовила его к обороне, недаром здесь шел такой упорный бой. В уцелевшем доме — КП дивизии. Над картой Лагутин, комиссар дивизии Богданов и начальник политотдела Бельферман. Приехал озабоченный командующий артиллерией генерал Турбин, ознакомился с обстановкой. — Упустили возможность... На второй день наступления, еще четырнадцатого мая, надо было ввести в бой подвижные силы. Промедлили. Теперь поздно. Гитлеровцы оправились от удара и подтянули резервы. Продвижение наших войск затормозилось. Рваться вперед нам опасно. Пока не поздно — надо перейти к обороне. Поеду к Данилову, переговорю с командармом, — и Турбин, простившись, пошел к выходу. Неужели срывается наступление? В это не хочется верить. Ведь до Харькова всего шестьдесят восемь километров. Передовой отряд дивизии приблизился к автостраде Харьков — Белгород. Но разведка доносит, что к немцам подходят крупные резервы. Последние дни мы с Леонидом Первомайским подружились с начальником штаба дивизии полковником Дерманом. И, конечно же, поспешили к нему в блиндаж узнать последние новости. — Что же вы в Муроме сидите? — спросил нас начштаба. — Могу порадовать: только что взята Вергеневка. У нашего соседа, генерала Тер-Гаспаряна, успех. Поезжайте к нему. Это недалеко. Всего пятнадцать километров. Мой водитель подбросит вас. В это время кто-то стал спускаться в блиндаж. Вошел в каске, вооруженный автоматом, пистолетом и гранатами старший лейтенант, а за ним еще четверо лейтенантов. — В чем дело? Кто вы такие? Как вы сюда попали? — спросил начштаба. Старший лейтенант, помешкав, доложил: — Товарищ полковник, группа диверсантов по заданию немецкой разведки проникла в тыл Красной Армии. — Что-о! Прекратите так глупо шутить! — Это не глупая шутка. Мы — бывшие командиры Красной Армии. При разных обстоятельствах попали в плен к немцам. Мы не хотим вредить своей Родине. Выслушайте нас. Чтобы вырваться из вражьего плена, прошли в Харькове шпионскую школу. Нас оставили немцы в Муроме с тем, чтобы мы громили штабы и убивали командиров Красной Армии. После выполнения диверсионных актов мы должны перейти линию фронта. Но мы явились к своим, не причинив никакого зла. Говорим правду. — Сложите оружие! Так... Как же вы проникли к нам? — Отсиживались в подвале. Когда Муром взяла Красная Армия, незаметно вышли из тайника. Нас два раза задерживали, но документы у нас как настоящие. А когда шли к вам в блиндаж, сказали, что мы из армейской разведки и несем в штаб важные сведения. Вы спросите, почему так поступили? Хотели все сообщить только старшему начальнику. В блиндаж вихрем влетел командир комендантской роты с автоматчиками: — Товарищ полковник... — Готовьте грузовик с охраной, — оборвал его начштаба. — Доставьте задержанных в штаб армии. Я позвоню туда. — Когда мы снова остались втроем, начштаба вытер платком вспотевшее лицо: — Война. Видите, какие она преподносит сюрпризы. А вообще, считайте, братцы, что нам сегодня здорово повезло. Вездеход полковника Дермана быстро примчал нас в село Вергеневку. В каменном погребе находим штаб стрелкового полка. Телефонные разговоры ведутся здесь нервно, что называется, на высоком тоне. Вергеневка взята, но держать её нечем. Патроны и снаряды на исходе, а подвоза нет. Колонна машин с боеприпасами попала под бомбежку. Мы решили с Леонидом Соломоновичем побывать на переднем крае. Он проходил сразу же за селом по берегу мелководной речушки Липец. Длинная придорожная канава превращена в траншею. В ней залегли наши бойцы. Только спустились в траншею, как по ней словно пролетел ветер. Все вскочили. Послышалось тревожное: — Вот они, вот! Без единого выстрела из лесу вышли гитлеровцы и двумя большими колоннами стали спускаться с пригорка. Это была психическая атака. И если бы не пришли на помощь стрелкам наши танкисты, то подошедшие почти вплотную вражеские пехотные колонны захватили бы село и расправились с его защитниками. На войне настоящая опасность всегда впереди. Если пуля просвистела мимо и не тронула, лучше не вспоминать о том, что тебе недавно грозило. Так легче жить. Добираясь в Нежиголь на попутных машинах, мы с Леонидом Соломоновичем стараемся в разговорах не возвращаться больше к психической атаке под Вергеневкой. Нежиголь встречает нас нежными лучами солнца и благоуханием разлившейся над плетнями белой сирени. Работаем до глубокой ночи и, несмотря на поздний час, отправляемся на узел связи. Утром в политотделе армии узнаем приятную весть: наступление продолжается. Только что за Северским Донцом освобождено село Архангельское. И вдруг к дому подкатывает «эмка». Из машины выходит Микола Бажан, Александр Довженко, Андрей Малышко. — Вы из Воронежа? — спросил Первомайский. — Нет, из Валуек. Штаб фронта переехал, — ответил Бажан. — Как вы тут наступаете? Что у вас нового? Чем порадуете? — Довженко, словно завороженный, смотрит на разлив сирени. — Какое чудо! Узнав о том, что 76-я дивизия полковника Валентина Антоновича Пеньковского очистила от гитлеровцев Архангельское, Микола Платонович Бажан загорелся желанием посетить село. Его поддержали Довженко и Малышко. Бажан сказал заворгу политотдела Бронникову: — Я редактирую газету «За Радянську Україну». Она рассчитана на читателей временно оккупированных областей. За Донцом освобождается родная земля, надо побывать там. Микола Платонович Бажан предложил мне поехать в Архангельское. Путь шел через Шебекино. Окраины этого городка поразили Довженко величественным бором, а взятое с боем за Северским Донцом село произвело на всех нас гнетущее впечатление. Половина Архангельского еще горела. Дымились рухнувшие хаты. Пыль. Пепел. Копоть. Брошенные пушки, минометы, разбитые грузовики и фуры, трупы немцев. Микола Платонович решил вначале встретиться с командиром дивизии, побывать на передовой, а потом на обратном пути задержаться в селе, и если к тому времени появятся местные жители — поговорить с ними. Все согласились, тем более, что командный пункт 76-й дивизии находился от нас всего в трёх километрах. На лесной полянке, сидя на пне, комдив брился, а тут вдруг появилась писательская бригада, и Валентину Антоновичу Пеньковскому пришлось извиниться и знакомиться с нами с намыленной щекой. Услышав о том, что писательская бригада намерена побывать на передовых позициях, принялся отговаривать Бажана. Что же тревожило комдива? Противник через определенные промежутки времени обстреливал местность навесным огнем. Над землей низко лопались бризантные гранаты. От их осколков трудно укрыться — не всегда спасает даже окоп. Однако Бажан не согласился с Пеньковским, и тогда комдив дал нам в провожатые майора, строго-настрого приказав не задерживаться на переднем крае. За лесом сразу начинался огромный фруктовый сад. По словам майора, сад еще утром стоял в полном цвету. В нем не было ни одного окопа. И почему противник так яростно обстреливает его — не понятно. В серых глазах Александра Петровича ужас. Как будто над садом пролетел необычайной силы ураган и не только обломал ветви, но даже содрал кору с яблонь и расщепил стволы. — Какое варварство! — оглядывая сад, гневно восклицает Довженко. Я иду рядом с Малышко. Прислушиваемся, не свистит ли бризантная граната? Скорее бы миновать этот изрубленный артиллерийским огнем сад. То, о чем так тровожился комдив, случилось. Противник выпустил по саду несколько гранат и заставил нас прижаться к стволам яблонь. Это была единственная, хотя и ненадежная защита. Нам повезло: четыре гранаты разорвались метрах в пятидесяти от нас, оставив в воздухе черно-серые тучки. Мы не стали ждать нового огневого налета, быстро побежали вперед и вовремя укрылись в конце сада в хорошо замаскированном большом окопе, где находился командир стрелкового взвода с пулеметчиками и бронебойщиками. Я смотрел на бойцов и думал: если бы сейчас появился противник, то они меньше бы удивились этому, чем встрече в таком месте с писателями. Бойцы предлагают нам свои каски. Напоминают о снайперах, просят остерегаться. Дарят нам на память самодельные мундштуки. Суровая красивая девушка-связистка Елена Стемпковская все еще не может поверить в то, что она разговаривает в окопе именно с Александром Довженко, который создал ее любимую кинокартину «Щорс». Андрей Малышко подарил Елене сборник своих стихов. Он не мог тогда знать, что дарит книгу будущему Герою Советского Союза. Через несколько дней на Северском Донце командный пункт батальона окружат фашисты, и младший сержант Елена Стемпковская до последней возможности будет корректировать огонь батарей, за что гитлеровцы отрубят ей руки и поднимут на тесаки. Сопровождающий нас майор напоминал: — Пора. Надо возвращаться. — Когда уничтоженный бризантными гранатами сад остался позади и мы вышли в лес, он добавил: — Сейчас начнется... И действительно. Чутье не обмануло майора. Над садом снова начали рваться бризантные гранаты. А в лесу, как ни в чем не бывало, щелкали соловьи. На КП дивизии чувствовалась какая-то тревога. Навстречу Бажану поспешил комдив Пеньковский: — Микола Платонович, мне только что звонили из штаба армии. Ваша писательская бригада должна немедленно выехать в Нежигаль. Немедленно, — повторил он. — Почему такая срочность? — Не знаю. — Если вызывают, то надо, хлопцы, ехать, — сказал Бажан. Хотя писательскую бригаду вызывали в штаб армии, Микола Платонович все же решил задержаться в Архангельском. Об этом особенно просил Александр Петрович — хотел осмотреть недавно освобожденное село. С Андреем Малышко он медленно зашагал по сельской улице, а Микола Платонович попросил меня разыскать хоть одного местного жителя. Я подозвал патрульных, и те сказали, что во всем селе найдена в погребе одна сумасшедшая старуха с маленькой девочкой. Военврач собирается сегодня отправить их за Донец в больницу. — Покажите нам погреб. Где он? — попросил Бажан. — Идите за нами. Он недалеко. Мы перешли через улицу и, миновав сгоревшую мазанку, в конце сада увидели полуразрушенную клуню. Посреди клуни чернела круглая дыра. Мы заглянули в нее. На дне довольно глубокой ямы мерцал каганец. — Давайте спустимся, — предложил Бажан. В прохладной темени услышали тихий плач и какое-то бессвязное причитание. После яркого солнца, очутившись на дне ямы, сначала увидели язычок огня. Но постепенно глаза привыкли к темноте. Почти восковая старуха с космами седых волос тенью прошла за лестницей. Она нагнулась над живым комочком, и до нас долетел глухой голос: — Не бойся, Варенька, наши пришли. Они не тронут. И тут я увидел глаза маленькой девочки. Они были как у затравленного зверька: полны растерянности и страха. Ребенок не верил утешениям старухи и ждал неотвратимой беды. Я начал сомневаться в безумии старой женщины. Ведь поняла же, кто спустился в эту холодную яму. Но тут она приблизилась к свету и надрывно завопила: — Люди добрые, спасите! Разве вы не видите, вот они стоят. Веревку намыливают, — заломив над головой руки, несчастная попятилась от каганца в темень, продолжая выкрикивать: — Спасите... тащат на виселицу. Бажан, заметив на соломе веревку с петлей, невольно отшатнулся: — Какой ужас. Безумная старуха, перепуганный насмерть ребенок и черная, как гадюка, веревка. Надо оказать немедленно помощь. Когда мы вылезли из ямы, то в клуне встретили двух дочерей несчастной старухи. Они только что пришли из лесу, где скрывались от немцев. Их старшая сестра Мария работала медсестрой в Донбассе и перед приходом гитлеровцев приехала с пятилетней дочерью в родное село. Она оказывала помощь раненым партизанам. Какой-то предатель донес немецкому коменданту, и Марию повесили. По дороге к Северскому Донцу Микола Платонович никак не мог успокоиться, рассказывая своим спутникам о зловещей яме. Довженко жалел, что нет под рукой камеры и все это неприбранное горе нельзя заснять на пленку. Он впервые видел освобожденное село. Это натолкнуло его на мысль создать документальный фильм о войне. Сила ленты будет в правде. Я и Андрей Малышко наблюдали за воздухом. В «эмке» круговой обзор затруднен. Того и гляди проморгаешь «мессера» — заметит легковушку, обязательно зайдет на штурмовку и пощады не даст. Показался Нежиголь. Напряжение спало, тревога улеглась. В политотделе армии старший батальонный комиссар Бронников вручил Бажану телеграмму. Когда Микола Платонович прочел ее, все заулыбались. «Рифма» требовала немедленного возвращения писательской бригады в Валуйки. «Рифма» — кодовое наименование Политуправления фронта. Стали прощаться, и вот только клубы пыли взлетают вдали за «эмкой».
16
Первомайского я застал в нашей мазанке хмурым. Он только что возвратился с аэродрома, где собирал материал о летчиках. Усталый, весь покрытый дорожной пылью, стоял с мылом в руках и покусывал мундштук потухшей трубки. — Только что. — Уехали хлопцы? — Я спешил, но опоздал. Да и не думал, что сегодня уедут. А ты что-нибудь новое знаешь о положении на фронте? — Освободили село Архангельское. Он горько усмехнулся: — Это не то... На Барвенковском выступе немцам удалось окружить нашу 6-ю армию. Мы перешли к обороне. Теперь они начнут наступать, — постучал о подоконник трубкой и высыпал за окно пепел. — А я так мечтал о Харькове. Мы стояли посреди хаты, растерянно посматривая друг на друга. Вошел посыльный, передал приказ Бронникова: собраться и через полчаса явиться в политотдел с вещами. Ночью временное полевое управление 21-й армии переехало в Великую Михайловку. Корпункт оказался в той же ветхой хате. Старый столяр встретил нас, как сыновей, возвратившихся из похода. Легли спать поздно. Только задремали, постучался Владимир Буртаков. Он приехал из Валуек, где теперь стоял редакционный поезд, и принес горестные вести: осколками снаряда в машине убиты Олекса Десняк и Михаил Розенфельд. Погиб капитан Вирон. Прозаик Яков Качура и поэт Сергей Воскрекасенко пропали без вести. Теперь мы знали, что случилось с нашей 6-й армией на Барвенковском плацдарме. Оказывается, наступавшая из-под Краматорска армейская группа «Клейст», перерезав нашим войскам пути отхода на восток за реку Северский Донец, соединилась в районе Балаклеи с частями 6-й немецкой армии. Окруженными войсками командовал генерал-лейтенант Федор Яковлевич Костенко. Он пал смертью храбрых. Потрясенные известиями, мы забыли о сне и вышли в сад. По нашему мнению, важно было удержать те рубежи, где войска заняли оборону. Если же противник прорвется, то остановить его на Северском Донце или Осколе. В случае неудачи на этих реках в резерве оставался только батюшка Дон. Но до каких же пор нам все отступать? За разговорами незаметно наступило утро. Буртаков торопился на фронт и не захотел задерживаться в Великой Михайловке. С первой попутной машиной уехал в дивизию Тер-Гаспаряна. Перед вечером к нам зашел корреспондент «Известий» Рузов и предложил поехать с ним к Лагутину. Только въехали в Нежиголь, появились «ночники», повесили над дорогой «фонари». Осветительные ракеты медленно, желтыми слезами, текли по ночному небу. «Ночники», освещая дороги, бомбили даже одиночные машины, и на КП дивизии мы попали только на рассвете, когда лес заполыхал огнем и залился пулеметными очередями. Жаркий июньский день наполнился гулом батарей и громыханием бомбежки. Косяки «юнкерсов» потянулись на восток. Они наносили удары по переднему краю, по тылам наших войск, шли бомбить железнодорожные станции, узлы шоссейных дорог, мосты. Над прифронтовыми селами и городами поднялись высокие столбы дыма. Советские войска встретили немецкое наступление в невыгодных для себя условиях. Они еще не отдохнули от недавних боев, как следует не закрепились на новых рубежах, не пополнились. 21-я армия оборонялась на широком стодвадцатикилометровом фронте. От станции Ржава до села Николаевки завязались ожесточенные кровопролитные бои. На наши позиции опять наступают корпуса 6-й немецкой армии. С ней мы дрались в первые дни войны под Луцком и Ровно. Потом она штурмовала Киевский укрепрайон, захватила Харьков и вот появилась под Волчанском, на стыке 21-й и 28-й армий. Ох, эти стыки! Они всегда самое уязвимое место в обороне. Волчанск оставлен. Все как-то поблекло и омертвело. Пыль, дым, пожары. Запах отвратительной гари и грохот ближнего боя. На переправе через реку Нежиголь генерал Лагутин с помощью регулировщиков и комендантской роты наводит строгий порядок. Первыми вброд переправляются подводы и машины медсанбата. Их только что в Нежиголи атаковали «Мессеры». Увидев на берегу комдива, молодая девушка-военврач, соскочив с подводы, бросилась к нему: — Павел Филиппович, отец родной! Что эти мерзавцы делают?! Они же видят красные кресты на машинах и не обращают на них никакого внимания. Пикируют, расстреливают раненых. — Она всхлипнула, слезы потекли по ее опаленному солнцем, обветренному лицу. — Мерзавцы они, мерзавцы! — Мужайся, доченька, будь воином, — сказал Лагутин. За санбатом переправилась артиллерия и, заняв огневые позиции, приготовилась к встрече с противником. Потом вброд Нежиголь перешли стрелковые батальоны и заняли оборону на лесистом правом берегу. КП дивизии расположился в поселке Красная Поляна на опушке векового леса. От берегов Северского Донца до Оскола, пожалуй, не сыскать более красивого уголка, чем этот, с массивом могучих дубов и величественных сосен. Было необычайно больно смотреть не только на лесную красоту, с которой вот-вот придется расстаться, но и на то, как маршировал по лесной полянке партизанский отряд, сформированный из жителей Красной Поляны и соседней Алхимовки. Многие юноши и девушки, вооруженные винтовками и гранатами, только вчера окончили десятый класс. Вместо школьного бала — строевая подготовка. Партизанским отрядом командует председатель сельсовета, рыжебородый пожилой мужчина. В его сером бревенчатом доме расположился штаб дивизии, а мы с Леонидом Соломоновичем заняли продолговатый сарайчик, где когда-то лежали яблоки. Он хранил еще запах антоновки. — Ты видел, какая дочь у командира партизанского отряда? — спросил Первомайский. — Нет, а что? — Зайди за чем-нибудь в дом и посмотри — редкой красоты девушка. Я был удивлен. Никогда до этого Леонид Соломонович даже не заикался о девичьей красе. И вдруг... Сгорая от любопытства, зашел в дом, чтобы напиться воды, и увидел стройную, с большой светлой косой, удивительно красивую девушку. Укладывая в корзину вещи, мать сказала: — Ты бы, доченька, переоделась, сними бальное платье. — А что теперь это платье? У меня сегодня прощальная ночь. В дом вбежали две подружки, и в сравнении с ними еще более выразительной стала красота девушки в белом платье. Ночь лунная,соловьиная. Ни осветительных ракет, ни бомбежки. Противник притаился. Что принесет нам рассвет — неизвестно. А пока прислушиваемся к тихому звону гитары. У девушки в белом приятный голос: «Минувших дней очарованье, зачем опять воскресло ты? Кто разбудил воспоминанье и замолчавшие мечты?» Песня старая, а как-то звучит по-новому. Появляется ординарец начподива Климец. Он ходит всегда с обнаженной саблей, опираясь на нее, как на палку. Лунный свет вспыхивает искрами на отточенной стали, и ординарец словно играет маленькой молнией. На крыльцо выходят свободные от дежурства штабные офицеры. Из окна выглядывает генерал Лагутин и на какое-то мгновение застывает, прислушиваясь к голосу девушки в белом: «О милый гость, святое Прежде, зачем в мою теснишься грудь? Могу ль сказать: живи надеждой? Скажу ль тому, что было: будь?» И тут послышался странный звук. Как будто бы по верхушкам деревьев, тарахтя, летела с бешеной скоростью полуторка. Никто даже не успел шелохнуться, как разорвался тяжелый снаряд. Словно тростинки, он вырвал с корнем два старых дуба, перебросил их через дорогу, да так далеко, что ветви чуть-чуть не хлестнули по соломенной крыше дома. В Красной Поляне поднялась тревога. Ждали обстрела, но он не последовал. Как выяснилось, пострадал один Климец. Пока раненого несли в медпункт, он кричал: — Где моя шаблюка? Ищите шаблюку! Товарищи Климца бросились выполнять его просьбу, обыскали кусты, но «шаблюку» так и не нашли. Ночь. Не спится. Не покидает предчувствие близкой беды. Лесная тишина гнетет. Первомайский ворочается на сене, курит трубку. Чуть свет в наш сарай заглядывает посыльный. — К генералу! — Будем прощаться, друзья. Вас вызывают в политотдел армии. Думаю, еще не раз встретимся на фронтовой дороге. — Комдив дает нам свой вездеход, и мы с Леонидом Соломоновичем покидаем предрассветную, но уже ожившую Красную Поляну. Навстречу нам движется партизанский отряд. Во втором ряду шагает знакомая нам красавица. Ее дивная коса срезана, одета девушка не в бальное белое платье, а в поношенное, серое. На груди автомат, за спиной гитара. Но она по-прежнему прекрасна. — Дзвін гітари у місячні ночі, — задумчиво роняет Леонид Соломонович. Водитель пропускает партизан, а потом сразу набирает скорость. Я оглядываюсь. Отряд втягивается в лес. А на соломенной крыше рядом с трубой блестит «шаблюка» Климца. Великая Михайловка охвачена пожарами. Все горит, трещит, рушится. Только что здесь побывали две девятки «юнкерсов». То, что мы узнали с Леонидом Соломоновичем, опять, как в прошлую осень, наполняет душу горечью и тревогой: подвижные войска врага перерезали линию железной дороги Касторное — Старый Оскол и с фланга охватывают дивизии соседней 40-й армии. Оперативная обстановка на стодвадцатикилометровом фронте 21-й армии удручающая: четыре наши дивизии ведут бои в окружении. Они пытаются прорваться на восток, за реку Оскол. Противник, как яблоко, разрезал армию на две половины. Она вынуждена отходить. Штаб армии на колесах. Забегаем с Первомайским в нашу халупу, сиротливо стоящую у дороги, взять там забытые вещи. А за нами во двор влетают конники. Какой-то капитан, подскакав к распахнутому окну, спросил с седла: — Кто здесь из газеты «Красная Армия», есть такие? — Мы из газеты, а что? — ответил Первомайский. Капитан, соскочив с коня, снял фуражку: — Владимир Буртаков приказал долго жить... — Как?.. — Да, он погиб, — голос у капитана дрогнул. — Храбрый у вас был товарищ и кавалерист настоящий. Мы в конном строю вырывались из окружения. Рубка шла отчаянная. И уже в самую последнюю минуту пуля сразила Владимира. Он повис на стременах, а перепуганный конь потащил его к немцам. Случилось это вблизи Северского Донца на участке двести двадцать седьмой дивизии. Я вам все рассказал, товарищи, все, как было. — Капитан, вскочив на коня, крикнул: — Вперед! — И отряд взвихрил пыль. А вблизи уже трещат пулеметы. Штаб армии покидает Великую Михайловку. Словно в тумане потонули дома в завесах пыли, потеряли очертания придорожные кусты, поблёкла трава, и даже в садах потускнела яркая зелень, и скороспелая черешня едва алеет в серой листве. Изматывают беспрерывные бои, мучает удушливая пыль, невыносимая жара. И так изо дня в день. Один день — копия другого. Стихи до некоторой степени запечатлели картину нашего отхода к Дону: «...Мы с боем отступали на восток. Грузовики от напряженья выли. Шипел под шинами сухой песок, и шлях гудел в столбах горячей пыли. Бой днем и ночью. Тусклое вдали в дыму вставало солнце. Пыль и ветер. А танки шли, чужие танки шли. Их сталь казалась черной на рассвете. Мы выдвигали пушки. На рожон упорно лезли вражеские танки. Был первый натиск танков отражен. Дымились танков черные останки. А на высотках слышалось: «Огонь! Эй, батарейцы, помогай друг дружке!» Наводчики плевали на ладонь: «По Гитлеру!» И вздрагивали пушки. В горелом поле бушевал раскат тяжелых гаубиц. Стемнели дали, и незаметно почернел закат, и в сумерках огни затрепетали... Приказ получен ночью — отойти. Необходимо это. Это надо. И нас ведут солдатские пути в донскую степь. Быть может, к Сталинграду». Об этом мы только догадывались с Леонидом Соломоновичем, приближаясь к Коротояку. Город сильно пострадал от бомбардировки. Он в пожарах, в дыму и в пыли. На улицах много убитых и раненых. Бомбы воют и воют. Надолго запомнится переправа у Коротояка. Сотни машин! Кругом толпы беженцев. Отары овец. Гурты скота. И все это мечется, сигналит, ревет, движется к переправе. С этой лавиной не могут справиться никакие регулировщики. Дон здесь разделен на два рукава. Сначала надо пробиться, попасть на высокую дамбу, а потом под бомбами проскочить два деревянных моста. Затишья нет. Налет следует эа налетом. Переправа совершенно беззащитна. Где зенитное прикрытие? Подавлено ли оно или его вовсе не было? Сейчас это выяснять некогда. Наш грузовик на дамбе. И прямо на крутой, бетонный вал берет курс звено «юнкерсов». Видно, как в кабинах бомбардировщиков следят за дамбой летчики в кожаных шлемах. Они стараются посеять на переправе панику. Вместе с бомбами сбрасывают рельсы, пустые бочки. Вой, свист такой, что ушам больно. И кажется: летит тысячекилограммовый «гостинец» — грохнет, и от всей дамбы не останется камня на камне. Рвутся бомбы. Но в дамбу ни одного попадания. Теперь у нас в запасе несколько минут. С низовья заходит новое звено «юнкерсов», но наш грузовик успевает пролететь по двум мостам и выскочить в степь. За Доном никто не придерживается дороги. Машины веером расходятся в разные стороны. Водители, опасаясь пробки, стремятся быстрей и подальше уйти от огненной переправы. Все всматриваются в небо, ждут появления «юнкерсов». Конечно, они будут и дальше преследовать в степи наши отходящие войска. Но странно... Дон — последняя черта беспрерывных бомбардировок. За рекой, в степи тишина. В небе не видно ни одного вражеского воздушного разведчика. Настало время проститься с боевой дивизией и ее славным комдивом Павлом Филипповичем Лагутиным. Согласно приказу Ставки, 21-я армия сосредотачивалась в районе Фролова, северо-восточнее города Серафимовича. Ехать туда мы с Леонидом Соломоновичем не могли. Это увело бы нас далеко в сторону от штаба фронта. По последним данным он переехал в Хреновое. А тут как раз попалась попутная полуторка, и мы немедля помчались в этот город. В дороге узнаем: надо ехать уже в Поворино. Штаб фронта переместился. Едва поймаем «попутку», проедем километров двадцать, как приходится вставать. Водитель догоняет машины своей части, пристраивается к ним, сворачивает с дороги. Первомайский недовольно повторяет: — С чужого коня среди грязи долой! На вторые сутки, измученные, наконец, добираемся до окраины Поворино. Большой железнодорожный узел только что зенитным огнем отразил налет «юнкерсов». Легковушки и грузовики идут без остановки и на большой скорости. Стоим у дороги, присматриваясь к запыленным машинам. Вроде наши — штабные. Вдруг тормозит ЗИС-101. Троскунов, опуская боковое окно, кричит: — Садитесь скорей! Ныряем в машину. — Так что, вы прямо с Донца? А Буртакова там не встречали? — Он убит. — И я слово в слово передаю Троскунову рассказ капитана о гибели Буртакова. — С Донца он не прислал ни одной строки, и это тревожило. Мы потеряли человека высокого долга, — печально сказал Троскунов. Редактор верно подметил главную черту в характере Буртакова. Он хотел выполнить необычайное задание: написать статью о политической работе в окружении. И это стоило ему жизни. Мне вспомнилась первая поездка на фронт, огненная дорога на Корец и то невозмутимое спокойствие, с каким Владимир встречал тогда любую опасность. И вот больше нет верного солдата газетной строчки — отважного, прямого, талантливого. Пыльные машины вкатились в тихий, зеленый Балашов. Зафыркали моторы в городском парке, где играл духовой оркестр и по тенистым аллеям прогуливались влюбленные пары. «Дунайские волны» словно разбились о горячие радиаторы полуторок. Оркестр смолк, так и не доиграв до конца вальс. Троскунов поехал к коменданту города. Но в Балашове оказалось немало госпиталей, и сотрудникам «Красной Армии» и фронтового радиовещания пришлось ночевать в городском парке. На рассвете приехал посланец коменданта. Наш временный лагерь пришел в движение, и уже через час редакция расположилась в семи километрах от Балашова — в плодоягодном совхозе. Окрестности Балашова удивительны по своей красоте. Кипят листвой высокие пирамидальные тополя. Небо синее и глубокое. Окаймленный вербами Хопер течет спокойно, как бы нехотя моет крутые берега. Гектаров на десять раскинулся великолепный малинник, а собирать ягоды некому. Они поспели, налились алым соком и скоро начнут осыпаться. Ходим с Борисом Палийчуком по малиннику, собираем ягоды в каски, а разговор идет невеселый. Возникают те же самые вопросы, что мучили нас осенью прошлого года. Где остановим гитлеровцев и когда? На каком рубеже? Отступать дальше нельзя. Слишком далеко зашел враг. — Все к редактору! — кричит из окна совхозной конторы батальонный комиссар Синагов. Троскунов чем-то встревожен. Отдает короткие, резкие приказания. Ответственный секретарь Крикун тут же записывает их в блокнот. — Все в сборе? — Троскунов по привычке постукивает тростью о пол. — Так вот, товарищи, Юго-Западный фронт расформирован. Его полевое управление, все войска вместе с нашей редакцией переходят в распоряжение нового, только что созданного по приказу Ставки Верховного Главнокомандующего, Сталинградского фронта. — Неужели немцы выходят к Волге? — с тревогой спросил Довженко. — Нет, не выходят. Но это не значит, что они туда не пойдут. Будущее покажет. А пока оперативная группа редакции немедленно выедет в Сталинград. Вас, Александр Петрович, — обратился Троскунов к Довженко, — ГлавПУР отзывает в Москву. Ваша дальнейшая работа в армии теперь будет связана с кино. Я едва успеваю проститься с Александром Довженко. Подан сигнал к отъезду. Забегаю в отведенную мне комнатушку. Автомат на плечо, полевую сумку в руки — и в путь! В ЗИС-101 усаживаются редактор с ответственным секретарем. С ними начальник отдела фронтовой жизни Борис Фрумгарц и наш парторг Алексей Ризенко — трудолюбивый и скромный человек. Следом идет «эмка». Вместе со мной едут в Сталинград Поляков и Нидзе. Прощай, Балашов. Узкой полоской поблескивает за вербами Хопер. Что принесет нам матушка Волга? В знойном июльском небе почти неподвижно висят над буграми рыжевато-коричневые коршуны, зорко высматривая добычу.
17
После города Красный Яр вдоль грунтовой дороги пески. Степь еще более пожелтела, стала уныло-однообразной, совершенно безжизненной. Сухая, изнывающая по дождю земля в трещинах. Только за Ольховкой, вблизи извилистой Иловли, исчезли сыпучие пески. Степь ожила, чуть зазеленела, но все еще жарка и пыльна. Направляясь в город, овеянный славой гражданской войны, я и мои товарищи, испытывали чувство гордости. Кто же из нас не знал героической обороны Царицына?! О крепости на Волге мне рассказывал маршал Семен Константинович Тимошенко. Перед войной я напечатал о ней очерк в газете «Красная звезда». Степь, по которой когда-то шли красноармейцы на помощь осажденному белыми бандами Царицыну, лежала сейчас перед моими глазами. Но город на Волге был славен не только своими ратными подвигами: вся наша Родина ощущала работу этого могучего индустриального центра. Больше половины тракторного парка страны создали труженики Сталинграда. Чем ближе подъезжали к нему, тем чаще возникали картины, памятные еще по первым дням войны. По степи в бесконечной полосе пыли брели гурты колхозного скота. Обмахиваясь синеватыми дымками, двигались к речной переправе трактора. Кипели радиаторы слишком перегруженных полуторок. Выли, задыхались моторы. Подводы! На них располагались целые семьи. Этот вид транспорта, как у древних скифов, превратился в кочующие дома. Медленно бредут густые гурты скота, но еще медленней, поскрипывая колесами, вытягиваются в ленту обозы. Люди в напряжении, они безумно устали следить за обманчиво тихим небом. В нем безнаказанно хозяйничают пепельно-желтые «юнкерсы». Укрыться от них негде. На десятки верст раскинулась открытая всем ветрам, выжженная раскаленным солнцем приволжская степь. Серыми волнами катились по буграм отары овец. Недовольно ревели быки, били о землю копытами. В стороне от проезжей дороги проплывали быстрыми тучками табуны коней. На ближних подступах к Сталинграду в бурьянах сверкали отполированные до серебристого блеска тысячи лопат. Степь жила, наполнялась человеческими голосами. Жители Сталинграда, вооружившись кирками и лопатами, носилками и тачками, углубляли траншеи, окопы, соединяли их ходами сообщения. Вместе с женщинами, стариками и подростками бойцы тыловых частей устанавливали стальные ежи, или, как их еще называли в Киеве, «испанские колючки». Рубеж обороны укрепляли основательно, насыщая его броневыми башнями, железобетонными колпаками и даже новинкой — сборными дотами. Здесь, очевидно, создавалась последняя оборонительная линия, за которой на правом берегу Волги лежал легендарный город, распростерший свои индустриальные крылья на добрые шестьдесят километров. Вдали несколько раз показывалась, разрезанная на куски островерхими крышами домов, Волга. Но увидеть всю ее ширь так и не удалось. Окраины Сталинграда, точно такие же, как и Киева, еще дышали стариной: потянулись немощенные улицы с низкими, неказистыми деревянными домиками. Но вскоре на смену хибаркам пришли многоэтажные каменные дома. Возник строгий, по-своему красивый рабочий город с просторными улицами и площадями. В самом центре — железнодорожный вокзал, а за ним шумная, многолюдная площадь Павших борцов с Домом Красной Армии, с большим универмагом и драматическим театром, у входа в который дремали два гранитных льва. Наши машины свернули на довольно опрятную Московскую улицу и остановились возле трехэтажного здания. В этом старом капитальном доме находилась редакция и типография областной газеты «Сталинградская правда». После недолгих переговоров Троскунова с местным начальством редакции фронтовой газеты отвели весь третий этаж, и мы могли расположиться в больших, высоких комнатах, сплошь заставленных письменными столами. Обошли все комнаты с надеждой найти диваны, но их не оказалось, и мы с огорчением подумали, что спать придется на сдвинутых столах, подложив под голову старые подшивки газет. Каждая комната имела балкон, откуда хорошо просматривалась вся изогнутая, словно казацкая сабля, Московская улица. Справа виднелась площадь Павших борцов, слева — набережная Волги, застроенная в этом месте какими-то старыми сараями, за которыми чернели плоты, белели бока буксиров и покачивались на волнах баркасы. Троскунов уехал в штаб Сталинградского фронта, разрешив нам до трех часов дня ознакомиться с городом. Я побывал на всех этажах центрального универмага, купил на всякий случай запасные карандаши и блокноты. А потом пошел побродить по незнакомому городу. Он оказался удивительным. Порой идешь по улице — и вдруг какой-то уголок покажется знакомым-знакомым и напомнит то Киев, то Москву. Но есть у города и свои особенности: громады заводов и волжская ширь. Все это величественно и неповторимо. С гранитного пьедестала смотрит на родную Волгу бронзовый летчик Хальзунов. Хорошо видна волжская набережная с многими пристанями и причалами. Все там кипит, движется, издали похоже на потревоженный муравейник. Идет беспрерывная посадка на пароходы, баржи и катера. Хотя враг еще непосредственно не угрожает Сталинграду, но эвакуация идет. Речные суда грузятся быстро и, как видно, основательно. Палубы до отказа набиты пассажирами. На рейде не задерживается ни одно судно: пока не гудят в небе косяки пикировщиков, нельзя терять ни минуты. Водный путь уже не такой безопасный. «Юнкерсы» не только бомбят порт, но и минируют фарватер Волги. Троскунов любит точность: «Ни минуты опоздания». И поэтому частенько посматриваю на часы. Все отпущенные в город явились в указанное время, и сейчас же началось совещание. Редактор был встревожен больше, чем в Балашове, и даже не пытался этого скрывать. Постепенно его тревога передалась всем присутствующим. Неизвестность томила и мучила. Однако то, что мы услышали, не могло нам принести спокойствие. Шестая немецкая армия под командованием генерал-полковника Паулюса развивала наступление на станицу Нижне-Чирскую и город Калач. Противник рвался к Дону с тем, чтобы овладеть переправами и выйти на левый берег. Цель гитлеровцев ясна: с ходу взять Сталинград, перерезать Волгу. Поэтому через все наши газетные материалы должна проходить основная мысль: ни шагу назад! Стоять насмерть! Отступать дальше некуда! Сталинград имеет первостепенное значение для всего советского фронта. Его защита требует от нас не останавливаться ни перед какими жертвами. Положение советских войск усложнялось еще и тем, что гитлеровцы одновременно наносили удар на Кавказ. Танковая клешня Клейста тянулась к источникам нефти. — В этой обстановке, — обратился к нам Троскунов, — командование Сталинградского фронта приняло решение нанести контрудар двумя танковыми армиями — Первой и Четвертой, чтобы преградить путь врагу к Волге, не позволить ему прорваться в Сталинград. Вся наша оперативная группа получила срочное задание — показать стойкость воинов, которые до последнего патрона обороняли свои рубежи и не отступили перед врагом. Отдав распоряжения, редактор пошел знакомиться с типографией, а мы развернули карты Генерального штаба, стараясь уяснить, что же все-таки происходит на пятисоткилометровом фронте — от города Павловска до Верхне-Курмоярской станицы. Однако, не зная расположения войск и направления будущих контрударов, разобраться в оперативной обстановке на дальних подступах к Сталинграду сложно. Поразмыслив, все же пришли к единому мнению: не только Нижне-Чирская и Калач, куда мне предстояло завтра вылететь на «кукурузнике», таили опасность для Сталинграда. Противник, видимо, быстро продвигается вдоль правого берега Дона и угрожает Сталинграду не только с юга, но и с северо-востока. Удар немцев на Калач с последующим выходом на Карповку казался самым опасным. Здесь открывалась удобная и прямая дорога на Сталинград. Но пока все это оставалось лишь догадками. Когда-то Маяковский написал крылатые строчки: «Мы диалектику учили не по Гегелю, бряцанием боев она врывалась в стих». Так обстояло дело и в редакции. Никто из корреспондентов фронтовой газеты не кончал Академии Генерального штаба, но мы провели год на войне, да на какой еще войне! «Бряцание боев» не прошло для нас бесследно. Постоянное изучение боевого опыта, различных тактических приемов позволило нам шире, масштабнее взглянуть на происходящие события. Пусть мы были узкими, всего-навсего редакционными стратегами, но все-таки людьми, не лишенными здравого оперативного мышления. Обстановка на дальних подступах к Сталинграду напоминала в какой-то мере ту, которую пришлось нам пережить в треугольнике Луцк — Ровно — Дубно, когда наши механизированные корпуса нанесли контрудар по танковой группе Клейста. Немаловажное значение имела готовность армий к нанесению контрудара. Имеют ли танковые экипажи боевой опыт? Будут ли действовать армии согласованно, одновременно, с хорошо поставленной разведкой или же накаленная оперативная обстановка, когда под ногами горит земля, а над головой небо, заставит наше командование вводить в бой танковые силы разобщенно, поспешно, как это имело место под Луцком и Ровно? Смогут ли ИЛы и ЯКи прикрыть на Дону поле боя или же над ними снова повиснут косяки немецких пикировщиков и будут безнаказанно господствовать в воздухе? Первая ночь прошла относительно спокойно. Где-то в районе заводов грохнули несколько раз зенитные батареи, и все стихло. На рассвете в кузов полуторки погрузили кипы отпечатанного первого сталинградского номера фронтовой газеты, и я отправился с экспедиторами на аэродром. Пилотом связного самолета оказался лейтенант Валерий Миронов, награжденный двумя орденами Красного Знамени. В начале войны он летал на «Чайке», вскоре пересел на И-16, или, как называли его, «ишак», потом на Ла-5. Участвовал во многих воздушных боях, получил ранение. После госпиталя пришлось расстаться с истребителем и перейти в полк легкой бомбардировочной авиации. — «Кукурузник», а все-таки несет четыре стокилограммовых «гостинца», да еще ампулы с зажигательной смесью, изматывая фрицам нервы, не дает по ночам покоя, — докуривая папиросу, сказал Миронов. Два месяца наносил Валерий бомбовые удары по скоплению вражеских войск, действовал дерзко, точно, но подстерёг его кинжальный огонь зенитного пулемета, и после третьего ранения пришлось пересесть на связной самолет. Взлетели, когда из-за лесистого острова выплыл раскаленный шар солнца и как бы покатился по речному простору вдогонку за самолетом. Поднялись невысоко, но все же открылась внушительная каменная громада не очень зеленого города, с множеством заводских труб, от которых на ветру стремились оторваться и никак не могли белесые и желтокрасные полосы дыма. Потом город как бы осел, ушел далеко в степь и превратился в маленькую каменную баранку. Полет на У-2 был далеко не безопасен. Если «мессеры» подстерегали на дорогах легковые машины, то на связные самолеты охотились с особым старанием. Наш «кукурузник» шел низко. Порой делал ловкий вираж и уходил в овраг, скользя над верхушками дубняка. Вблизи реки Россошки встретили колонну ИЛов. Над рекой Карповкой чернел клубок самолетов: там шел воздушный бой, и «мессерам» было не до связного самолета. Пролетев над мелководной Донской Царицей, на бреющем углубились в степь. Вдали показался сильно изогнутый в этих краях батюшка Дон. Левый берег пологий, лесистый, правый — обрывистый, более открытый, — весь в черных столбах дыма, в огненных вспышках и клубах пыли. Промелькнул разрушенный железнодорожный мост. С правого берега застрочил пулемет. Валерий увернулся от красно-зеленой трассы пуль, отошел от Дона. Стало ясно: обстановка изменилась, садиться в Нижне-Чирской нельзя. Миронов пошел вдоль левого берега и вскоре, заметив на большой поляне посадочный знак — букву «Т», мягко приземлился. Пока бойцы разгружали самолет, я условился с Мироновым, что завтра утром, если не изменится обстановка, он заберет меня на полянке и перебросит в Калач. На тропке показался запыхавшийся от быстрого бега высокий смуглый майор. Это был Шафик Фасахов — начальник разведки 214-й дивизии. Обычно на У-2 доставлялись приказы штаба армии, и Фасахов часто встречал офицеров связи, а сейчас, к его удивлению, прилетел корреспондент. Шагая к Дону, мы попали с ним под артиллерийский обстрел, потом переждали в окопе бомбежку и подошли к переправе уже как старые фронтовые товарищи. Земля продолжала вздрагивать от разрывов тяжелых снарядов. Над Доном стоял дым и чад. В то время, как один полк вместе с бойцами соседней морской бригады сдерживали рвущегося к реке противника, два других полка переправлялись на подручных средствах. Горели жилые дома какого-то санатория, и над железными крышами от жаркого огня густая зеленая листва на высоких кленах превращалась в желто-коричневую. Переправа войск шла трудно, тяжело. Кипел от взрывов быстрый Дон. Берег реки выглядел так, как будто бы здесь произошло кораблекрушение и волны выбросили на песок разбитые лодки, деревянные бочки, ящики, поломанные багры, черпаки, обрывки канатов, веревок, цепей и тросов. На волнах покачивались пробитые пулями и осколками полузатонувшие надувные лодки, автомобильные камеры, бидоны из-под краски и молока, ведра и чаны. Словно рыбачьи сети, сохли разбросанные на песчаных косах плетни. Густой, темной тиной казалось прибитое течением к берегу намокшее сено. Над дивизией нависла угроза потерять на правом берегу Дона все свои тяжелые гаубицы. Спасением артиллерии занимался невысокий, бритоголовый генерал Николай Иванович Бирюков. Он появлялся всюду в самую тяжелую минуту. И если говорить о человеке, презиравшем смерть, то им в первую очередь был комдив. Он не только показывал саперам пример личной храбрости, но своими удивительно спокойными и в то же время четкими, точными распоряжениями помогал быстро налаживать после бомбежки или артиллерийского обстрела переправу войск. Как мне удалось выяснить, генерал Бирюков воевал в Испании. В дни смоленского сражения командовал дивизией. Трижды попадал со своими бойцами в окружение и каждый раз, нанося врагу чувствительные удары, пробивался к своим. Уже в сумерках подошел с низовья самоходный понтон, и тут комдив сумел сдержать противника у самого Дона и под покровом ночи на левый берег перебросить все 422-миллиметровые гаубицы. Это был подвиг, но, к сожалению, я не мог дать в газету ни строчки о героях переправы. Оборона Сталинграда требовала стойкости, и даже героический отход дивизии под натиском значительно превосходящего в силах противника не мог сейчас лечь в основу очерка или же небольшой корреспонденции. В землянке разведотдела, в которой приютил меня майор Фасахов, оказались пленные: фельдфебель и солдат 71-й пехотной дивизии. Как и в начале войны, эти вояки мнили себя победителями. Им казалось, что теперь Красная Армия разбита окончательно, резервов у нее нет никаких и на Дону она делает последние усилия, чтобы не пустить немцев к Волге. Но как бы стойко ни сопротивлялись русские, чуда в донской степи не произойдет. Все равно, согласно приказу фюрера, двадцать пятого июля Сталинград будет взят. К Волге идет шестая армия, лучшая армия Германии с отборными войсками и самыми опытными генералами. К ним они причисляли и своего командира дивизии генерал-лейтенанта фон Гартмана. Они сказали, что с тех пор, как их дивизия взяла дьявольские форты Вердена — Дуомон и Во, на каких бы только фронтах она ни появлялась, над ней всегда горит звезда победы. Слушая их, молча переглядывались с майором Фасаховым. Перед нами сильный, довольный своими успехами враг. Переправившись за Дон, дивизия Бирюкова закрепилась на его восточном берегу. Майор Шафик Фасахов, несмотря на свою занятость, проводил меня на лесную поляну. Уже у самого самолета он стукнул себя по лбу: — Вот еще башка... Забыл. Ты же киевлянин, а у нас в батальоне майора Плотникова служит Гуля Королева. Знаешь ее? — Королева... Гуля Королева... Не знаю. — Да как же так? Она актриса. В кино снималась... Ездит на коне получше меня. Я невольно рассмеялся и, обняв на прощание Фасахова, сказал: — Да откуда же я могу знать всех девушек, Шафик, которые лучше тебя ездят на коне? — Ты не знаешь, какой я лихой конник, — несколько обиженно продолжал Фасахов, — но ты сейчас будешь знать Гулю. Она приемная дочь композитора Козицкого. — Козицкого знаю. — Так вот, музыка, кино, актриса... И тут тебе война... Гуля могла сидеть в Уфе, не пойти на фронт, а она пошла. Гуля — санинструктор батальона. Красивая, умная, отважная. Ты посмотрел бы ее в новой роли! Боец! Я правильно говорю. Это очерк? — Очерк. — Оставайся. — Я приеду, когда устоится фронт. И в газете пойдут разные материалы. Обязательно приеду. Даю тебе слово, Шафик. — Валерий Миронов завел в это время мотор, и я вскочил в кабину. В степи шло необычное движение. На дорогах пыль клокотала желтым потоком. На полустанках пылали пожары. В воздухе пахло гарью. Калач лежал в низине, на левом берегу Дона, перечеркнутый крест-накрест полосками чёрного дыма. А за рекой, близко от города, дружно били танковые пушки. Миронов виртуозно посадил самолет на небольшой лужайке вблизи поля, усеянного серыми тыквами. Прощаясь с Валерием, подарил ему трофейный «вальтер» — пистолет с желтой красивой рукояткой и отливающим синью стволом. Страстный любитель редкого оружия, Валерий тут же дал клятвенное обещание прилететь за мной даже ночью. Но я сказал ему, что мой подарок ни к чему не обязывает. Добраться из Калача в Сталинград легко могу на попутной машине. — Как же так?.. Как же? — твердил Валерий, легонько подбрасывая на ладони изящный пистолет. — А вот так... Понравился ты мне, парень. Каково же было мое удивление, когда за Доном я полез в карман достать носовой платок и нащупал какой-то металлический предмет. «Часы!» — мелькнула мысль. Да, это была червонного золота «Омега» с такой же дорогой цепочкой. «Ну, погоди, Валерий, — негодовал я, — задам тебе перцу!» А пока хоть и неловко, но ничего не поделаешь, придется до встречи носить на одной руке две пары золотых часов. Миновав мост, подготовленный уровцами к взрыву, поднялся на правый берег Дона и попал на КП 20-й мотострелковой бригады. В блиндаже какой-то запыленный полковник, оторвавшись от полевого телефона, бросился ко мне и стал крепко обнимать. «Ильин? Неужели Ильин?!» — В памяти возникло далекое украинское село Подвысокое. — Петр Сысоевич, это вы? На берегу Дона? — Судьба, братец, судьба! Фронтовая дорога снова свела нас. Встретились. Иван Ле и Леонид Первомайский живы и здоровы. Это я знаю по газетам. Да и тебя частенько почитываю в нашей фронтовой. Я еще в Подвысоком знал, что вам в последнюю минуту удалось выскользнуть из кольца. Командование дивизии тогда правильное приняло решение: отправить вас в штаб фронта. А то бы хлебнули горя, да и неизвестно, чем бы все кончилось. Человек, который спас в селе Подвысоком трех фронтовых писателей, возможно, от смерти, сам постарел и осунулся. Голову покрыла седина. Видимо, ранение, о котором свидетельствовала золотая нашивка, подорвало его богатырское здоровье. Вечером, когда в донской степи стихла канонада, Ильин снова вернулся к Подвысокому. — Я проводил взглядом вашу писательскую машину и, когда она скрылась в дожде и тумане, пошел уничтожать на костре разные политотдельские бумаги. Бой шел всю ночь, а наутро у нас кончились боеприпасы. Гитлеровцы вошли в лес злые. Они не могли нам простить долгого и упорного сопротивления. Сейчас же забрали у нас часы, хромовые сапоги, ремни, портсигары, коробки папирос, фляги и заставили вывернуть карманы. Надо сказать, что ночью все руководство дивизии переоделось в красноармейскую форму, и это спасло многих от немедленной расправы. Я всегда с особым уважением вспоминаю воинов нашей дивизии. Среди них не оказалось ни одного гадкого человека. В тяжких условиях фашистского плена бойцы скрывали своих командиров, помогали им, чем могли. Петр Сысоевич долго еще вспоминал о побеге из лагеря смерти, о своих скитаниях по лесам и о том, как ему удалось уже глубокой осенью, совершенно обессилевшему от голода, перейти линию фронта. До своей комиссарской работы он много лет командовал ротой, батальоном, полком, и в Москве ему снова предложили перейти на командирскую должность. Ильин был дорогим для меня человеком, и хотелось, чтобы он в трудной обстановке проявил свою командирскую волю, решительность и вместе с танкистами и уровцами не позволил бы гитлеровцам занять Калач. На третий день я покидал Калач и в ожидании попутной машины как-то пытался осмыслить то, что пришлось пережить и увидеть за Доном. Так же, как под Луцком и Ровно, на Дону нам снова пришлось пойти на немедленный и неодновременный контрудар двумя танковыми армиями. Не все танковые экипажи, в основном призванные из запаса, были по-настоящему готовы к боевым действиям. Некоторые башенные стрелки, с которыми мне удалось переговорить, только при встрече с противником стали осваивать танковые пушки. Всего шесть дней ушло на формирование Первой танковой армии, и сразу — в бой! Но это нисколько не умаляло значение контрударов для наших войск. Малейшее промедление несло не только потерю переправ через Дон, но могло привести к окружению и разгрому двух наших армий. Показания пленных отражали психологическое состояние противника. Гитлеровский солдат вышел на берег Дона и уже слышал плеск его волны. Наступая, он отмахивал по тридцать километров в сутки. На своем пути захватывал большие и малые города, видел успех своей армии. Гитлеровские офицеры твердили ему о силе немецкого духа и оружия, о той пальме победы, которую он должен добыть на берегах Волги для великой Германии. Они уверяли его в том, что никогда не померкнет и не закатится звезда вермахта. Появление наших танков удивило гитлеровцев, но в начале битвы они не придали этому значения. Вскоре стало ясно — дальнейшее продвижение лучших, немецких дивизий затормозилось, окружить русские армии не удалось и теперь для похода на Сталинград надо перегруппировать войска. Все пленные говорили и верили, что произошла небольшая временная заминка, но она только увеличит силу нового удара. Немецкие дивизии согласно приказу фюрера возьмут Сталинград. Они надеялись на Гота, который спешил на подмогу Паулюсу со своей танковой армией. Гот! По рассказам пленных, семидесятилетний генерал-полковник умел водить танки всех марок. Он любил бывать среди танкистов и не гнушался вместе с ними под звуки губных гармошек пускаться на привале в пляс. Гот завоевал популярность у танкистов не только своим показным панибратством. Он был, безусловно, опытным фашистским военачальником, умевшим так же, как и Гудериан, управлять крупными массами механизированных войск. И вот теперь этот старый танковый тигр шел на Сталинград. Вспомнилась высказанная комбригом Ильиным мысль: «Сталинград у немцев, помимо их воли и желания, превратился из вспомогательного направления в главное. Если бы нам удалось разбить Паулюса в междуречье Волги и Дона, то Клейст на Кавказских перевалах заметался бы, как пойманный барс в клетке. А пока у нас впереди новые бои и более тяжкие испытания». Я сидел на толстом бревне, неизвестно кем и когда брошенном у дороги. За спиной у меня били зенитки, защищая мост от «юнкерсов». Думал о том, как снова трудно складывается судьба у комбрига Ильина. Если наши войска отступят за Дон, оборона Калача, безусловно, будет возложена на его бригаду. И вместе с гарнизоном укрепленного района он должен будет защищать этот покрытый пылью и затянутый дымом город до последней возможности. Отбомбившись, «юнкерсы» потянулись за Дон. Движение на дороге ожило, и я без особых трудностей прикатил на попутном грузовике в Сталинград.
18
В редакции шла летучка. Хвалили начальника отдела фронтовой жизни Бориса Фрумгарца за то, что он догадался заказать и сумел быстро получить у Александра Серафимовича — автора знаменитого «Железного потока» — так необходимую статью, проникнутую глубокой верой в нашу победу: «Отстоим Дон и Волгу! Отстоим Русь-матушку!». Газета напечатала также корреспонденцию Владимира Шамши «На безымянной высоте». Это был рассказ о необыкновенном подвиге. На высотке под Клетской четверо бронебойщиков — Петр Болото, Александр Беликов, Иван Алейников и Григорий Самойлов — отразили атаку тридцати танков. Гитлеровцы прорвали оборону полка, а взять гребень высотки не смогли. Две бронебойки подбили и сожгли пятнадцать танков. Широкобровый, смуглый Шамша сидел у окна и, как ни в чем не бывало, покуривал папироску. В редакции все делалось без шума, без ложной показухи: «Смотрите, мол, какой я герой. В самом пекле побывал». Всем было трудно. Жили дружно и хорошо знали, какой ценой добывается на фронте небольшая информация. После летучки редактор спросил у меня, что я привез с фронта. — Моя корреспонденция будет называться «Орлиное гнездо». Пулеметчик сержант Алексей Бобыль четверо суток удерживал вершину кургана. Отбил четырнадцать атак. — Двести строк! — И Троскунов поиграл карандашом. — Так, хорошенький мой. Так... К вечеру постарайтесь сдать материал в секретариат и завтра же на самолете отправляйтесь в Двадцать первую армию. Пока сроком вас ограничивать не стану, а потом, как говорит пословица, — толкач муку покажет. Валерий Миронов наотрез отказывался взять часы. Я пригрозил, что не дам ему патронов для «вальтера». Это подействовало. — Так и быть, — буркнул он. Самолет взлетел, и минут через сорок я увидел внизу зеленый остров. У-2 пошел на посадку. Штаб 21-й армии стоял в лесном питомнике, над мелководной Арчедой. Немного пройдя по лесу, услышал стук пишущей машинки. Ускорил шаг. Политотдел армии расположился под открытым небом. Ни шалашей, ни землянок. Только в кустах крушины отрыто два больших глубоких окопа. И под высокими вековыми осинами — походные столики. Первым увидел поэта Марка Зисмана, моего товарища по Харьковскому университету. Штудировали с ним немецкий язык у профессора Пельцера. Марк знал немецкий отменно, я — посредственно. Зисман, свесив ноги в окоп, перечитывал целый ворох трофейных писем. По ним составлял сводку о настроении противника. Из кустов вышел Бронников, появился Млиевский с Рассохиным — политотдельцы встретили меня как своего старого товарища. Дмитрий Рассохин сразу повел на Арчеду купаться. Переплыли речушку с мягкой, чистой водой и нежным песчаным дном. Поднялись на крутой бережок погреться на солнышке. По обеим берегам Арчеды стоял старый лес, а за ним далеко в степь уходили четко разграниченные посадки молодых дубков, берез и голубой ели. Босоногий мальчишка, притаившись у куста, мастерски ловил осторожных язей. Я залюбовался его точной, виртуозной подсечкой. Прелестный уголок на берегу Арчеды дышал тишиной и покоем. — Летят! Не сюда ли? Нет, не сюда, — сказал Рассохин. И сразу растворилась арчединская тишина. Три девятки «юнкерсов» гудели высоко над лесом. Они шли бомбить Сталинград. — Сегодня член Военного совета дивизионный комиссар Крайнюков зачитает очень важный документ. Пойдем. Пора. — И Рассохин ласточкой бросился с крутого обрыва в воду. Шагая по лесу, он вкратце объяснил, что же сейчас происходит на участке 21-й армии. Войска получили задание: ударами по левому флангу наступающей на Сталинград неприятельской группировки сковать ее действия, заставить гитлеровское командование направить к Дону свои резервы и этим облегчить положение нашей 62-й армии. Но обстановка на Дону сложилась тяжелая. В последний день июля противник овладел городом Серафимовичем и стремительной танковой атакой захватил станицу Клетскую. 21-я армия лишилась двух важных плацдармов, и командарм Данилов должен вернуть их. Дивизии ведут бои на Дону, с трудом удерживая на правом берегу небольшие клочки земли. Линия фронта проходит по невыгодной для нас местности. Немцы занимают господствующие высоты и насквозь простреливают пятачки наших плацдармов. И все же 21-я армия продолжает вести борьбу, заставляя гитлеровское командование выдвигать против ее активных войск все новые и новые дивизии, забирая их из основной своей группировки, атакующей Сталинград. В полдень на лесистом берегу Арчеды собрались все работники армейского политотдела во главе с его начальником полковым комиссаром Соколовым. Пришел Крайнюков и, поднявшись на бруствер окопа, раскрыл планшетку: — Слушайте приказ Народного Комиссара Обороны Союза ССР товарища Сталина от двадцать восьмого июля тысяча девятьсот сорок второго года. «Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, лезет вперед, рвется в глубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и сёла, насилует, грабит и убивает советское население». Лица у всех напряженные, внимательные. — «Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге, у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, половину Воронежа... После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территории, стало быть, меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик». И как удар ножом в сердце: — «Мы потеряли более семидесяти миллионов населения, более восьмисот миллионов пудов хлеба в год и более десяти миллионов тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Пора кончать отступление, ни шагу назад. Таким теперь должен быть наш главный призыв. Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности». Из-за верхушек высоких осин в лес ворвался гул вражеских самолетов. Пять девяток «юнкерсов» пролетали над Арчедой — шли на Сталинград. Когда гул стих, Крайнюков продолжал: — «Немцы не так сильны, как это кажется паникерам. Они напрягают последние силы. Выдержать их удар сейчас и в ближайшие несколько месяцев, это значит обеспечить за нами победу. Можем ли мы выдержать удар, а затем отбросить врага на запад? Да, можем, ибо наши фабрики и заводы в тылу работают теперь прекрасно, наш фронт получает все больше и больше самолетов, танков, артиллерии, минометов. Чего же у нас не хватает?» — Член Военного совета, высоко подняв руку, помахал листками приказа. — Это, товарищи, вопрос из вопросов, основа всей нашей дальнейшей политической работы. «Не хватает порядка и дисциплины в ротах, в батальонах, в полках, дивизиях, в танковых частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и дисциплину, еслимы хотим спасти положение и отстоять нашу Родину. Паникеры и трусы должны истребляться на месте. Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработника должпо являться требование — ни шагу назад без приказа высшего командования». Крайнюков свернул листки. Нужно выстоять, отразить натиск врага, а потом перейти в наступление, чтобы разгромить его. Долго стояли молча, потрясенные прямотой и суровой правдой приказа. Каждый думал о страшной опасности, нависшей над Родиной. Все сводилось к одному: победа или смерть.
19
Хутор Вилтов на песчаных взгорьях. Серые, словно пыльная полынь, давно сложенные из бревен казачьи избы, по местному — курени, смотрят окнами на запад, на пойму Дона. Под крутым спуском шумливый ручей перекатывает по дну мелкие камешки, моет узловатые корни мшистых дубов. Под ними посреди дороги стоят с распахнутыми люками два наших горелых танка. Вдоль дороги до самого низкого деревянного моста цепь бомбовых воронок, наполовину наполненных мутной водой. На хуторе расположились тылы 23-й Харьковской орденоносной дивизии. Думал встретить в ней земляков, но увы... Дивизия прошла тернистый боевой путь... Дмитрий Рассохин познакомился с новыми комсоргами, а мне — корреспонденту — делать в полках нечего: они недавно пришли на Дон. Поездка в 23-ю дивизию казалась мне неудачной. Ухлопал три дня и — ни строчки. А тут еще донимает проклятая «рама». Появляется над хутором, как по расписанию, через каждые два-три часа. Сбросит бомбу и пойдет громыхать вдоль шляха до станции Иловля. Последняя бомбежка принесла нашей хозяйке, старой казачке, беду. Стена в коровнике дала трещину и осела. Две внучки, подоткнув юбки, взялись месить глину с навозом, чтобы привести коровник в порядок. А тут снова гудит неугомонная «рама», но молодые казачки, пока не свистит бомба, продолжают свою работу. Связисты тянут красноватую жилку трофейного провода, искоса поглядывают на вражеский самолет, но больше на забрызганные глиной, в золотых пятнышках соломы стройные ноги молодых казачек. Вдруг связисты бросают под плетень катушки с проводами и выбегают на шлях: — Максим! — С возвращением! Привет, Максим! В окружении связистов из-за высоких подсолнухов появляется улыбчивый широкоскулый паренек с глазами цвета спелой вишни. Он одет в новенькую красноармейскую форму, и вместо винтовки в его руках балалайка. Вначале мы с Рассохиным подумали, что бойцы так тепло встретили какого-то знакомого им артиста из фронтового ансамбля или дивизионной самодеятельности. Но вскоре узнали, что они радовались возвращению из госпиталя снайпера, старшего сержанта Максима Пассара. В лесах под Старой Руссой он истребил восемьдесят пять гитлеровцев. Батальонный комиссар Рассохин, зазвав Пассара в хату, спросил? — Ты комсомолец? Пассар, достав из кармана гимнастерки комсомольский билет, подал его Рассохину. — Смотри, какой молодец, даже в госпитале за август взносы уплатил, дисциплинированный, — похвалил Рассохин. — Почти два месяца в Саратове лечился. — Максим, засучив рукав, показал зажившую рану. — У меня в лесу под Старой Руссой поединок был с немецким снайпером. Опытный попался. Долго мы друг за другом охотились. Я все никак не мог его обнаружить. Он хорошо маскировался. И вот однажды сижу на дереве, всматриваюсь в листву. Нет нигде моего противника, а чувствую — следит за мной. И вдруг заметил белое пятнышко, свежую зарубку на коре. Кто-то срубил деревцо и приставил к дубу, чтобы листва погуще была. Глянул вверх — снайпер сидит. И случилось так, что он меня тоже увидел. Мы одновременно выстрелили. И в тот же момент свалились с деревьев. Я был ранен в руку. Он убит. Командир полка полковник Сиваков вместе с комиссаром подполковником Кривичем письмо начальнику госпиталя написали. И тот снова направил меня в родной полк. — А как ты снайпером стал? — Нанаец в тайге с детства охотник. У него меткая пуля. — Ты кого-нибудь научил меткой стрельбе? — Научил младшего лейтенанта Фролова и сержанта Карелина. А еще в нашем полку есть хорошие снайперы: Боян, Салбиев и Лякер. — Ты музыкант... С балалайкой не расстаешься. — Люблю песни. Самая любимая — «Славное море, священный Байкал». И пословицы люблю, особенно нанайские. — А какая самая любимая? — Могу сказать. По-русски это будет так: как ни прячутся в камышах лягушки, а когда Амур ударит в берег волной, все равно они повыпрыгивают. — Пассар, положив на стол балалайку, глянул в окно. — Пусть Дон ударит в берег волной так, чтобы все гитлеровцы из окопов повылетали. — Я думаю, тебе стоит задержаться, побывать с Максимом в полку. А я загляну к снайперам через недельку, потолкую. Сейчас новые дивизии должны подойти, и дел в политотделе немало, — заметил Рассохин. Я шел по луговой дороге к Дону, слушал Максима и думал: «Милый юноша, душа нараспашку». Он говорил по-русски без малейшего акцента. Мне нравилась его откровенность, задор и та какая-то особая улыбка, которая делала скуластое лицо по-мальчишечьи добрым, беспечным. Родился Максим в глухом таежном селе Катар, в школе учился до четвертого класса в поселке Найхен, потом в районном центре Троицком окончил семилетку и, по совету отца, добровольно пошел на фронт — отомстить гитлеровцам за без вести пропавшего старшего брата Павла. Шестилетним мальчиком вместе с отцом стал охотиться на белку и с тех пор не расставался с ружьем. Когда Максим подрос, отец взял его с собой на Вандонскую сопку. Она находится на левом берегу Амура между Комсомольском и Хабаровском. Вершина ее таинственно сверкает вечными снегами. Сопка славится среди охотников обилием всякого зверя. — Ты с отцом на медведя ходил? — Много раз. Почему-то говорят: неуклюжий медведь. Это неправда. Тот, кто охотился, знает, какой ловкий медведь, сильный и сообразительный. За Доном дорога пошла в гору. Слева темнел поросший дубняком глубокий овраг. За ним сиротливо стояла на пригорке, словно подбитая птица, серая с поломанными крыльями ветряная мельница. Дорога, обогнув поросшее кугой болотце, потянулась к подковообразной, с полынной сединой высотке, сплошь изрытой землянками. Повидаться с Максимом Пассаром пришел даже Иван Прокофьевич Сиваков, суровый, властный командир полка. В его густых черных волосах пробивалась чуть заметная седина. Говорил мало, держался строго, замкнуто. А комиссар полка Виктор Кривич (перед войной работал в Киеве секретарем партийной организации трамвайно-троллейбусного треста), этот высокий рыжий человек, говорил быстро и очень много. Обычно такие люди любят пустить пыль в глаза, слова произносят громкие, растягивая, как гармонь, а на поверку дела у них оказываются крохотными. Но уже к вечеру убедился: Кривич — весьма дельный и целеустремленный политработник. Число метких стрелков растет в каждой роте. Кривич вместе с Сиваковым всячески поддерживают мастеров огня. Побывав в подразделениях, узнал Кривича и как энтузиаста снайперского движения, а «каменного человека», грозного служаку Сивакова увидел совершенно другим за ужином. Разговор зашел о фронтовых писателях. Обращаясь ко мне, он неожиданно сказал: — Я очень сожалею, что вы не приехали вместе с Леонидом Первомайским. В этой землянке он недавно читал замечательные стихи. Одно попросил вписать мне на память в тетрадь. Уж чего-чего, а такого не ожидал. Между тем Сиваков достал из планшетки толстую тетрадь, не спеша раскрыл ее, и я увидел четко переписанное рукой Первомайского стихотворение «Земля». После ужина отправился ночевать в снайперскую землянку и тут только, поговорив с Максимом Пассаром, понял: изготовка для стрельбы лежа — целая наука и проходят ее долго, старательно. В меткой стрельбе даже ружейный ремень играет важную роль. Он должен связывать левую руку и винтовку в одно целое. Снайперу необходимо ощущать приближение выстрела. Для этой цели он отлаживает спуск курка, делает его с небольшой протяжкой. Отбирая патроны, мастер огня обязан следить, чтобы пули не имели царапин и забоин, а гильзы — вмятин. С возвращением Максима Пассара в полк Сиваков с Кривичем решили держать противника в постоянном напряжении. С этой целью снайперы полка весь день находились на наблюдательных пунктах, и оттуда каждый заранее выбирал себе место для будущей огневой позиции. На Дону немцы обычно находились на более выгодных рубежах, нежели наши войска. Почти все высотки были в их руках. Но вблизи хутора Вилтова полк Сивакова занимал господствующую высотку, а противник — низину. За высоткой стояли высокие, неубранные хлеба. Среди бескрайней пыльной нивы виднелись колья проволочных заграждений, темнели рубцы вражеских траншей. Ночью степь тускло осветил горячий осколок месяца. Саперы шли готовить в хлебах снайперские позиции. За час до рассвета снайперская команда успела позавтракать, осмотреть оружие, надеть ватники. В окопе придется лежать неподвижно, надо одеваться потеплее. Я посматривал на Пассара — полное спокойствие. Салбиев и Боян — невозмутимы. На лице Лякера какая-то презрительная усмешка. — Лякер, вы не думайте, что у немцев не найдется стрелка, который сможет потягаться с вами. В последнее время в подготовке к выходу на огневую позицию проявляете небрежность. Вы храбрый, бесстрашный боец, но на поле боя потеряли осторожность. Сегодня отдыхайте, займитесь молодыми стрелками, а вечером поговорим. По дороге на КП Кривич признался: — Не хотелось мне при корреспонденте так поступать, но дальнейшее попустительство приведет к непоправимой беде. Лякер прекрасный снайпер, но зазнался. На противника смотрит сквозь пальцы. Как видите, мало вырастить хорошего стрелка, надо его еще и воспитать. Мне все больше нравился Кривич с его зоркостью и прямотой. С НП видно, как оживает вражеский передний край. Сырость все-таки гонит фрица из окопа. Нет-нет да и выскочит он из него, встряхнет мгновенно плащ-палатку или одеяло и, как суслик, поспешно скользнет в свою нору. — Почему молчат наши снайперы, не видят, что ли? — Видят. Солнце еще не прогрело воздух. Выстрел оставит дымок, выдаст позицию, — ответил Кривич. Солнце вставало за спиной наших снайперов и помогало им лучше видеть местность. Кроме того, оно ослепляло противника. Вдали за бугром промелькнула какая-то подвода. Между тем солнечные лучи продолжали выманивать из окопов немецких солдат, и тут грянули выстрелы. В бинокль видно, как, взмахнув руками, словно оступившись, валятся на бок гитлеровцы. Пригибаясь, расплескивая из ведер воду, бегут два фашиста к окопам и тут же падают, сраженные пулями. Гитлеровцы начинают показывать чучела, приподнимать над брустверами окопов каски. Видимо, их наблюдатели прозевали выстрелы снайперов и сейчас хотят разными уловками вызвать огонь, чтоб засечь их позиции. Но Пассар с товарищами молчит. Тогда два шестиствольных миномета начинают обстрел местности. К ним подключаются пушки. Наши артиллеристы отвечают. Завязывается огневой бой. До самого вечера он то затихнет, то вспыхивает с новым ожесточением. Поздно вечером, как после тяжелой работы, возвращается Максим Пассар со своей снайперской командой в землянку. — Хотели нас провести фрицы. Каски поднимали на тесаках, чучела показывали разные — чудаки! Мы, охотники, обладаем таким чутьем, которое никогда не подводит, точно подсказывает, где живое, а где мертвое, — наливая в кружку кипяток, сказал Максим. Я засел в землянке за очерк. Название родилось сразу: «Возвращение Максима». Когда приехал из полка в штаб армии, очерк появился в газете. Но заглавие дали другое: «Спеши, месть!» Вся фронтовая печать стала уделять пристальное внимание снайперскому движению. Каждый меткий выстрел Максима Пассара и его товарищей эхом откликался на страницах газет. Его слава сверхметкого стрелка быстро росла. Я никогда не претендовал на открытие этой звезды. Она и без моего очерка сияла ярко и не могла бесследно исчезнуть. Читать о его боевых успехах мне было радостно. Скромный юноша, доброволец, нанайский охотник из глухой тайги стал героем Донского фронта. Я думал об этом в кабине попутной машины, вызванный редактором на совещание в Сталинград. Мой корреспондентский блокнот набит материалами. Радостно возвращаться в редакцию не с пустыми руками. Двадцать первая армия форсировала Дон, наступала успешно, расширяя плацдарм. Машина шла по дороге из Фролова на Иловлинскую. Вдруг на шляху появился патруль. Бойцы в зеленых фуражках объявили, что дорога перекрыта. В Сталинград надо добираться окольным путем — через Дубовку. Путь этот проходил по степи. Он был длинным, путаным. Прошу старшего патрульного объяснить причину такого объезда. Ответ удручающий. — После трехдневных боев гитлеровцы форсировали Дон, захватили Вертячий и Песковатку. — Они двинулись на Сталинград? — Этого я не знаю. Дальнейшая обстановка мне неизвестна. Как же так? Немцы отходят под натиском Двадцать первой армии, а в районе Вертячий — Песковатка форсируют Дон?! И верится и не верится, но дорога закрыта. Хочешь не хочешь, а пускайся в объезд. Больше половины ночи провел в скитании по степным дорогам и приехал в Сталинград измученным. В редакции встретил вечно бессонного Крикуна: — Приехали? Хорошо. Отсыпайтесь. Редактора вызвали в Политуправление. Обстановка на фронте успехом не балует. Совещание перенесено на завтра. — И он поспешил в типографию. Я вошел в знакомую комнату, сдвинул письменные столы и лег спать. Во второй половине дня меня разбудил Иван Поляков. — Слушай, ты здесь? Приходил поэт Иван Гончаренко, спрашивал о тебе. Я сказал, что ты в армии. Извини, не знал. — Где Гончаренко? — По-моему, он на пристань спешил. Борис Палийчук пошел его провожать. Быстро оделся, проглотил предложенный Поляковым бутерброд, и помчался на пристань в надежде разыскать там Гончаренко. Спустившись по Московской улице к памятнику Хальзунову, увидел волжскую набережную, запруженную народом. Искать в такой многотысячной толпе моего давнего друга бесполезно. Глядя на причалы, можно было сказать: эвакуация идет полным ходом. Набережная черным-черна от народа. Суда, баржи, баркасы, катера забиты пассажирами. Мелькают моторки, весельные лодки. Они перевозят людей в Красную Слободу. Возле причала множество носилок, на которых раненые. Отчаливают от берега большие суда и маленькие суденышки, на смену подходят новые. Вдруг раздается вой сирен. Вздрагивает вся волжская набережная. Тысячи и тысячи людей обращают свои взоры к небу. Людские толпы как волны. Они то подкатятся к судам, то отхлынут от них. А к завыванию сирен подключаются басовитые заводские гудки, подают протяжные сигналы суда, к ним присоединяются баржи и катера, трезвонят остановившиеся трамваи и сигналят автомашины. Все это напоминает мне далекий киевский военный рассвет. Но теперь тревогу трубит Сталинград. Смотрю на часы: восемнадцать минут пятого. В городе гул самолетов более грозен, чем в степи. Или это только кажется? Несколько сотен зениток в заводских районах, в центре города и на Дар-Горе открывают огонь. Предвечернее небо, высекая тысячи огней, покрывается белыми, мгновенно темнеющими дымками. На город нападают не отдельные девятки пикировщиков, а крупная бомбардировочная эскадра, от которой чернеет сталинградское небо. Пикировщики, приближаясь к волжской набережной, открывают пулеметно-пушечный огонь. На пристанях давка. А Волга буквально начинает кипеть от взрывов бомб. Тонут баркасы, катера... Бомбежка и пушечно-пулеметный огонь усиливаются. «Юнкерсы» сбрасывают фугасные и зажигательные бомбы на пристани, причалы, пакгаузы. У Волги на носилках лежат тяжелораненые, а возле них мелькают бесстрашные белые халаты. Но что они могут сделать в этом людском водовороте, где вихрится пламя бомбовых разрывов. Последний раз окидываю взглядом вздыбленную Волгу. Приходится укрыться от пулеметного огня. Кручусь волчком вокруг бронзовой фигуры летчика. Перебежать через мостовую невозможно: пули все время высекают огненные дорожки. Паузы в налете нет. В небе плотные стаи «юнкерсов». Эскадра за эскадрой, эшелон за эшелоном. Нет сомнения: в воздух поднят весь вражеский четвертый воздушный флот. Ждать окончания бомбежки нечего. Пока над Московской улицей не видно пикировщиков, надо возвращаться к своим. Редакция «Сталинградской правды» несколько дней тому назад переехала в другое место. В типографии идет работа, но людей там мало. Утром, еще до начала бомбежки, Троскунов отправил за Волгу три грузовых машины с сотрудниками фронтовой газеты. Они выехали в Эльтон, где сейчас стоит наш редакционный поезд. Троскунов собирает командный состав редакции в своем кабинете. Но бомбежка усиливается, приходится покинуть здание и выйти во двор. Он совсем крохотный, стиснутый со всех сторон стенами домов. Над каменным колодцем-двориком багровеет вечернее небо. В воздухе запах дыма. Троскунов немногословен. — Товарищи, немцы прорвались к Сталинграду. Их танки вышли на северную окраину города. Десятая дивизия НКВД полковника Сараева, отряды народного ополчения и дивизионы зенитных орудий вступили в бой с танками и мотопехотой врага вблизи Тракторного завода. — Редактор тут же приказал Крикуну, чтобы первый номер газеты вышел в Эльтоне обязательно с такой шапкой: «Самое главное — не поддаваться панике, не бояться нахального врага и сохранять уверенность в нашем успехе». Это целиком и полностью относится также и к нашей небольшой группе командного состава редакции, которая с рассветом должна покинуть Сталинград. Поднимаюсь к себе в комнату. Старое добротное здание вздрагивает от ударов бомб, но трещин пока на потолке и на стенах не видно. Налетевший ветер распахивает окна. Со стороны площади Павших борцов по Московской улице к Волге текут густые толпы. Все небо охвачено пламенем. Бомбежка усиливается. Фугаски и зажигательные бомбы превращают город над Волгой в костер. О сне нечего и думать. Бомбовые удары приближаются к Московской улице. Покидаем здание, выходим во двор. Бомбежка чуть удаляется, и мы снова поднимаемся в свои комнаты. Перед рассветом дом качается, как от сильного землетрясения. Мы только с Иваном Поляковым задремали на миг и спросонья выскакиваем на балкон. Впечатление, такое, будто трехэтажная каменная громадина двинулась к Волге, а мы с балкона указываем ей путь. — Скорее вниз, вниз! — кричит Поляков, а сам не двигается с места. Сейчас перебежать через комнату все равно, что подняться в штыковую атаку. На голову сыплется штукатурка, по белому лепному потолку, как молнии, пробегают трещины. Широкая лестница дрожит, каменные ступени качаются под ногами. Во дворе Троскунов отрывисто говорит: — Всем на переправу... Если что по дороге случится — помните: сборный пункт — Красная Слобода. В последнюю минуту редактор поручает начальнику отдела фронтовой жизни Борису Фрумгарцу трудную миссию. Он оставляет его в Сталинграде для связи со штабом фронта. А разрывы бомб и каменный град, огонь и удушливый дым усиливаются. Своим размахом пожар Сталинграда особенно поражает за Волгой, в поселке Красная Слобода. Над городом из пламени вырастают восемь гигантских столбов черного дыма — покачиваясь над горящими крышами, подпирают нависающие темные плотные тучи. Тучи, оседая, клубятся, и кажется, если бы их не подпирали черные столбы, то они опустились бы на землю и окутали ее непроницаемым мраком. Дымится небо, горит земля, и пылает покрытая у правого берега нефтью Волга. В Красную Слободу успели переправиться редакция фронтового радиовещания и редакция газеты «За Радянську Україну». Поднимаюсь на чердак двухэтажного кирпичного дома. Здесь Микола Бажан, Иван Ле и Андрей Малышко смотрят на пожар Сталинграда. Смотрят молча, скорбно. Микола Бажан роняет: — Який жах, який жах!.. Все потрясены бомбежкой и пожаром. На чердак поднимается Леонид Первомайский, что-то шепчет Ивану Ле на ухо, потом тихо говорит мне: — Пошли. Мы спускаемся с чердака, идем за Первомайским. Выходим из садика. Невероятно! На берегу Волги полковник Сергей Федорович Горохов. Он — командир 124-й Отдельной стрелковой бригады — приехал взглянуть на переправу. Его бригада должна занять позиции на северной окраине города в районе Тракторного завода. Вспоминаем Подвысокое и желаем ему воинской удачи на правом берегу Волги. Разговор длится всего несколько минут. Время буквально горит. Горохов садится в машину. Он должен встретить бригаду на марше. Я загораюсь желанием переправиться вместе с бригадой Горохова в Сталинград. Иду за разрешением к Троскунову, но получаю отрицательный ответ. — Надо выпускать газету. Материалы на исходе. Отписывайтесь в Эльтоне. Чтобы попасть поскорей в Эльтон, оперативная группа редакции отправляется в Бурковские хутора, где стоит политуправление фронта и находятся связные самолеты. Весь следующий день проводим на взлетной площадке, но подняться в воздух нельзя. «Мессеры» кишат в сталинградском небе. Даже смелый мой друг Миронов не решается взлететь. На следующий день узнаем: танковый корпус фашистского генерала Хубе совместно с моторизованными и пехотными дивизиями проложил от Дона до Волги коридор. Длина его шестьдесят километров, ширина — восемь. Гитлеровцы называют его «сухопутным мостом». Взлетели, когда солнце начинало приближаться к верхушкам тополей, окаймляющих луговые озера. Под плоскостями серо-желтая ровная заволжская степь. У-2 шел низко, почти над самой землей. Солнечный гребень плавился за дальними буграми, но его лучи еще освещали степь. На горизонте возникло лиловое пятно. Оно ширилось, растекалось. Это было озеро Эльтон. У-2 совершил посадку невдалеке от стоянки редакционного поезда. Я окинул взглядом разбросанные по песчаным буграм деревянные избы. Когда перестал вращаться пропеллер, услышал унылый звон колокольчика. Мимо неторопливо проходил караван верблюдов. Повеяло пустыней. Печальной песчаной тишиной, захолустьем. Кроме нашего редакционного поезда, никаких других эшелонов на станции не было. Жить в жарких вагонах никому не хотелось, и все поселились в деревянном здании школы, в котором еще не начались занятия. Старое неприветливое здание стояло на бугре и по ночам от ветра скрипело непригнанными дверьми; на все лады дребезжало пыльными оконными стеклами. Через несколько дней в Эльтоне разразилась песчаная буря. Она захватила нас врасплох. Все спали, когда в открытые окна тучей влетел шипящий песок и почти забил дыхание. Пришлось не только наглухо закрыть окна, но и занавесить их плащ-палатками. Утром буря улеглась, но песка она нанесла немало, в воздухе еще долго ощущалась пыль, и, шагая к озеру, я вспомнил стихи Николая Тихонова: «Она, как шило из мешка, ударила по нам. Как будто рылись там кроты, с ума сойдя от черноты. О буря, буря, сволочь ты!» Берег Эльтона в камышовых зарослях. От множества родников песок в красно-бурых полосах и пятнах. Прильнул губами к одному, другому — вода горько-соленая, пить нельзя. Берег озера неприветливый, словно покрыт ржавчиной. Я уже собирался повернуть назад, как вдруг — чудо! В каких-нибудь пяти шагах в камышах, не боясь человека, спокойно, так важно, поражая синевой своего оперения, проплывали красавцы-селезни. Уток — тьма-тьмущая. И хотя бы одна встрепенулась, взлетела. Полное доверие. Красотища какая! Стою, очарованный этими непугаными птицами. Плывут они легко, как пушинки. Протоки меж камышами и дальше весь широкий плес покрыли дикие утки. Взлетела одна стайка, за ней другая, и как бы задымились прибрежные камыши. Небо наполнилось шорохом упругих крыльев. Я пошел по песчаному берегу. Он почти на каждом шагу дышал родниками. Били слабые ключики, чуть шевеля песчинки. А в редакции ждали приезда московских писателей и журналистов. Самолеты прилетали и улетали, но москвичи не появлялись. Однажды вечером засуетился Троскунов, сказал, чтобы скорее заводили машину. «Дуглас», описав над Эльтоном круг, заходил на посадку. Из Москвы прилетели редактор «Красной звезды», очень подвижный энергичный дивизионный комиссар Ортенберг, и Константин Симонов. Я был давно знаком с Константином Симоновым, и сейчас мне было радостно встретиться с этим неутомимым и бесстрашным человеком, чьи стихи и очерки служили для нас примером газетной оперативности. Симонов поздоровался, окинул взглядом станцию: — Какая у вас тут пылища. Даже солнце — и то в пыли... Военная форма шла Симонову. Шли ему и отращенные черные усы, но лицо его в тот вечер было печальным. За накрытым столом Троскунов попросил Константина Михайловича прочесть «Жди меня». После этих стихов прозвучали еще «Рассказ о спрятанном оружии» и «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины». В степи вечерело. Показывались первые яркие звезды. Из душного, прокуренного вагона Симонов вышел подышать свежим воздухом. Пламенело угасающее солнце. Примостившись на ступеньках, Константин Михайлович склонился над записной книжкой. Вот в каком свете он видел в тот вечер Эльтон: «Рано утром мы вылетели из Москвы и на исходе дня прилетели в Заволжье, в Эльтон, известный мне, как и всем, по школьным географическим воспоминаниям; Эльтон и Баскунчак — места добычи соли. Пыльный длинный летний вечер; пыльная станция, пыльные, широко разбросанные домишки, пыльные степи с пыльным солнцем на горизонте, и где-то вдали поблескивающие на солнце соляные озера. На путях одинокий эшелон редакции фронтовой газеты. Никогда не забуду Эльтона и того ощущения пустыни, которого я, пожалуй, не испытывал со времени Монголии. Это был самый последний пункт, от которого можно было, добираясь до Сталинграда, лететь самолетом. Дальше предстояло ехать через степи машиной. Тот тихий и не примечательный никакими событиями вечер в Эльтоне, проведенный там перед тем, как двинуться в Сталинград, показался мне самым печальным за всю войну. Было отчаянное ощущение загнанности на край света и громадности пройденных немцами расстояний. Нависшая над страной тяжесть войны сконцентрировалась здесь до небывалой и гнетущей силы». Утром к жилому вагону подкатил ЗИС-101. Ортенберг и Симонов простились с журналистами фронтовой газеты, сели в машину, и она пошла через степи к Волге, к Сталинграду.
20
В середине сентября Троскунов приказал мне возвратиться в 21-ю армию. Прощайте, черные бури, раскаленное солнце, сыпучий песок, караваны верблюдов и чудесный берег Эльтона с мерно дышащими родниками, с непуганными стаями диких уток и дремучими зарослями камыша. Я направился с летчиком Мироновым к самолету, как вдруг из вагона выглянул Троскунов: — Хорошенький мой, одну минутку... Есть срочное задание. Я только что узнал: в семьдесят шестой стрелковой дивизии отличились одиннадцать узбекских комсомольцев. Помните, наша газета должна выступить с этим материалом первой. Надеюсь на вашу оперативность. — Он постучал тростью о ступеньку вагона, как бы требуя немедленной присылки этого материала. Взлетев, Миронов низко повел У-2 над землей. Опасаясь встречи с бесчисленными птичьими стаями, обошел озеро стороной. Полет в штаб 21-й армии, в лесной питомник на речку Арчеду, длился долго. Добрались мы туда под вечер. Миронову приходилось несколько раз делать вынужденные посадки, маскировать самолет и ждать, пока небо очистится от «мессеров». В политотделе армии майор Дмитрий Рассохин как раз собирался ехать в 76-ю стрелковую дивизию, и я тут же присоединился к нему. Бывший комдив Валентин Антонович Пеньковский пошел на повышение, его сменил темпераментный и, безусловно, умеющий воевать по-новому генерал-майор Тварткеладзе, который успешно применил обходной маневр при штурме сильно укрепленных высот. После того, как была отправлена в редакцию корреспонденция о подвиге комсомольцев, Троскунов потребовал обратить внимание на боевое мастерство войск: «Всячески поддерживайте маневр и внезапность атаки». Боевое мастерство наших войск возрастало. Ковалось оно на Дону в тяжелой и ожесточенной битве. Командование 21-й армии, продолжая наносить удары во фланг фашистской группировке делало все, чтобы своими ночными действиями помочь Сталинградскому фронту и одновременно улучшить свои позиции за Доном, расширить там плацдарм, сбить противника с господствующих высот. По данным нашей разведки, перед сорокакилометровым фронтом армии противник сосредоточил более тринадцати пехотных полков и части двух танковых дивизий, в которых насчитывалось не менее двухсот пятидесяти машин. Мы перебрались с Дмитрием Рассохиным на самый ответственный участок фронта, где командиру Шестьдесят третьей стрелковой дивизии предстояло провести смелую и далеко не шаблонную операцию, разработанную штабом армии с целью сбросить противника с господствующих высот вблизи станиц Распопинская, Клетская. Полковник Козин знал: наши войска уже не раз штурмовали эти высоты, но взять их так и не смогли. План новой операции заключался в следующем: с наступлением ночи комдив Козин незаметно для противника должен был переправить полки и поддерживающие его танки на правый берег Дона, сменить там измотанную боями стрелковую дивизию и к рассвету занять исходное положение для атаки. В течение дня, наблюдая за противником, уточнить его оборону. С наступлением сумерек, проделав проходы в минных полях и проволочных заграждениях, штурмовым отрядам, без артиллерийской подготовки, даже без единого выстрела, подползти к вражеским траншеям и броситься в атаку. Это новшество таило опасность — малейшая неосторожность на переправе через Дон или при занятии позиций могла встревожить гитлеровцев, сорвать операцию. Ночью полковник Козин со своими штабистами начал переправлять полки. Все было удачно спланировано, предусмотрено, и под носом у противника, вместе с танками бесшумно переправилось все войсковое соединение. Наступил рассвет. Фашисты не проявляли нервозности. Их наблюдатели ничего не заметили, день прошел спокойно. В шесть часов вечера, соблюдая предельную осторожность, полки стали бесшумно приближаться к вражеским позициям по проходам, проделанным заранее саперами в минных полях и проволочных заграждениях. Когда до траншей, где в это время ужинали немцы, остались считанные метры, неожиданно грянуло ура и под разрывы гранат наши воины бросились в атаку. Захваченные врасплох в передовой траншее, гитлеровцы стали бежать. Но вторая траншея зашевелилась, и оттуда в ответ последовала сильная контратака. На высотах несколько раз завязывались рукопашные схватки, всю ночь гремел бой. С рассветом немцы провели артподготовку и пошли в контратаку. Высоты несколько раз переходили из рук в руки, и только на третий день нашим бойцам удалось надежно закрепиться на их гребнях. Противник не мог с этим смириться. Почти весь октябрь прошел в ожесточенных боях. В конце месяца войскам 21-й армии все же удалось значительно расширить важный в оперативном отношении плацдарм на правом берегу Дона в районе города Серафимовича, а также станиц Распопинской и Клетской. Обилие боевого материала не только мне, но всем армейским корреспондентам не давало ни малейшей передышки. Едва выполнялось одно задание, как следовало другое. Все это время я не расставался с вожаком армейского комсомола Дмитрием Рассохиным. Вместе с ним побывал во многих батальонах и ротах, на только что отбитых у противника высотах. Штаб 21-й армии покидал глухой уголок «Арчединский питомник». В тот же день Троскунов вызвал меня телеграммой в редакцию. Снова пыльная станция Эльтон с чахлыми кустами акации. Подан паровоз. Редакционный поезд уходит в Саратов. Что случилось? Почему такая поспешность? Штаб 21-й армии срочно перебазировался, переезжает на другое место и редакция фронтовой газеты. Здесь есть какая-то взаимосвязь. На Дону обстановка складывалась в нашу пользу. А Сталинград? Неужели будет сдан Сталинград? Нет, этого не может быть. За Волгой для нас земли нет. Но все же что-то происходит на фронте, а вот что, неизвестно. Опять на сердце тревога. В такую даль уходим неспроста... Пыхтит паровоз. Пески и пески. Осенняя унылая степь навевает тоску. Утром за окном порхают снежинки. Неужели в Саратове зима? А мы еще в летней форме. На окраине города Энгельса, где остановился наш поезд, огороды с неубранными кочанами капусты чуть припорошены снегом. Куда ни глянешь — снег и зелень, зелень и снег. А за Волгой Саратов завален снегом. Он кое-где пострадал от бомбежки. Немецкие «ночники» совершают налеты на речной порт и железнодорожный узел. Но сейчас в саратовском небе тихо. Фронтовую газету печатаем в типографии областной газеты «Саратовский коммунист». Несколько дней живем и работаем в неуютной холодной комнате. Всех охватывает волнение, когда Троскунов собирает на совещание. Что скажет? Взглянув на редактора, все повеселели. Он как никогда в приподнятом настроении. Значит, произойдут какие-то перемены в нашей судьбе, возможно, редакционный поезд повернет на Камышин, приблизится к Сталинграду и мы, корреспонденты, не будем ездить зимой так далеко на фронт. В одно мгновение вся наша хмурая комната преобразилась, как будто в нее ворвался солнечный луч. Редактор сказал: — Хочу поделиться с вами самой долгожданной радостью. Будем наступать, чтобы беспощадно, бесповоротно, наголову разбить врага у стен Сталинграда. Каждый отъезжающий на фронт журналист должен внутренне подготовить себя к неизбежным трудностям. Они, безусловно, возникнут в связи с проведением большой операции. Работать придется, что называется, не покладая рук, с огоньком, с большой оперативностью и проявлением собственной инициативы. Через десять минут на машину — и на аэродром. Там вас уже ждут три связных самолета. По прибытии в армию представьтесь начальникам политотделов и дальше действуйте по обстановке. Вместо дорогой моему сердцу 21-й армии, с которой прошел столько военных дорог, ответственный секретарь Крикун выписал мне командировку в соседнюю с ней, 65-ю, недавно созданную на базе 4-й танковой армии. Бросился к Троскунову. — Ничем не могу помочь, хорошенький мой. Известная вам армия вошла в состав Юго-Западного фронта, а мы в Донском. — И редактор, подкрутив усики, разгладил рукой свежие газетные полосы. На аэродроме термометр показывает двадцать пять градусов мороза. Тихо. Хорошо, что не дуют знаменитые саратовские ветры. Но как в пилотке и шинели добраться до Гусевки? Миронов приносит плащ-палатку. Это все, что он смог раздобыть в землянке летчиков. Когда выпрыгнул из самолета в Гусевке, благо, поблизости пылал костер, кое-как обогрелся. По дороге в Ольховку, где в АХО надлежало получить зимнее обмундирование, меня поразила степь. Трава после оттепели обледенела. Внезапный мороз превратил ее в студеный хрусталь. Получил полушубок, меховой жилет, ватные брюки, валенки, шерстяные перчатки, ушанку. Можно было ехать хоть на Северный полюс. Люди в далеком тылу сделали все, чтобы одеть свою армию в теплую зимнюю одежду. В Ольховке, при штабе Донского фронта находился наш корреспондентский пункт, который возглавлял капитан Иван Поляков. — Едешь в боевую армию. Я кое-что для тебя разведал: командующий Павел Иванович Батов не только опытный генерал, он душевный человек. Знай — он всегда поддерживает и помогает чернорабочим газетной строчки. Советую держать связь с редактором армейской газеты «Сталинский удар» майором Николаем Ивановичем Кирюшовым. Он настоящий газетчик и золотой товарищ. Там встретишь москвича, литературного критика Бориса Рюрикова и ростовского прозаика Шолохова-Синявского. Это серьезные, солидные работники. Да, чуть не забыл. Ответственным секретарем работает наш киевлянин Наум Халемский. Редакция стоит в Пуховском. — Поляков показал на карте хутор, и мы разговорились о предстоящем наступлении. В светлое время на дорогах очень редко появлялись машины, а ночью молчаливая степь оживала: наполнялась голосами, рокотала танковыми двигателями, шуршала шинами грузовиков, поскрипывала колесами подвод и полозьями саней. Во тьме слышались беспрерывный топот ног, цоканье подков. С рассветом степь замирала; войска маскировались в балках и перелесках. Днем моя «попутка» надолго задержалась в Логе, и только под вечер вблизи Дона я увидел хутор Пуховской — десятка два бревенчатых изб, крытых соломой, с горбатыми старыми плетнями сиротливо подступали к серому шляху. Старый казацкий шлях оказался границей между зимой и осенью. Слева белели снега, а справа еще желтело займище. Я вошел в крайнюю избу и увидел рядом с автоматом висевшую на желтой бревенчатой стене «лейку», а на подоконнике сохли свежие гранки. Длинный стол завален газетами и рукописями. За ним, спиной ко мне, сидел плотный капитан и читал вслух «Хождение по мукам». Я давно не слышал такого великолепного чтения, такого тонкого понимания фразы, каждой интонации. « — Так что же, господа, — сказал он басом, наполнившим комнату. — Никто не хочет? — Никто, никто не хочет с тобой играть. — Не на деньги... Плевал я на ваши деньги... — Все равно не хотим, не подыгрывайся, Мамонт. — Я хочу играть на выстрел...» Под ногой у меня скрипнула половица, капитан оглянулся, закрыл книгу. — Вы к нам, товарищ майор? — вежливо спросил он. — Промерзли в дороге? Казачий курень не кабинет «Метрополя», где пировал с анархистами Мамонт-Дальский. Стакан горячего чаю могу вам предложить. Шолохов-Синявский, подумал я. И не ошибся. Через полчаса Григорий Филиппович указал мне избу, где жил начальник политотдела 65-й армии бригадный комиссар Николай Антонович Радецкий. В это время у него находился батальонный комиссар Борис Сергеевич Рюриков. Они как большие знатоки вели глубокий, обстоятельный разговор об английской поэзии и остановились на творчестве Джефри Чосера — «отца английской поэзии», на его бессмертных «Кентерберийских рассказах». Потом перешли к чтению веселых стихов Чосера, и все мы вдоволь нахохотались от проделки клерка Николаса — любовника молодой жены старого плотника Джона. Николасу удается убедить набожного плотника в приближении нового всемирного потопа. И тот по ночам, освобождая супружеское ложе, забирается на чердаке в бадью, привязанную канатами к стропилам. Невежество плотника приводит его к позору: «Пришел потоп», — подумал он в испуге, схватил топор и, крякнув от натуги, перерубил канат и рухнул вниз, вспугнув всех кур, и петухов, и крыс. На страшный вопль сбежалися соседи, торговцы, няньки, слуги, лорды, леди». — Посмеялись мы от души, — сказал лобастый, широкоплечий, неторопливый в движеньях бригадный комиссар. — Полезно вспоминать настоящих поэтов, — заметил Рюриков. — Я думаю, вам надо представиться командующему. Пойдемте, — обратился ко мне Радецкий. У Павла Ивановича Батова сидел редактор армейской газеты Кирюшов с несколькими журналистами, среди которых находился мой знакомый, Наум Халемский. На столе кипел начищенный до блеска самовар, на тарелке лежали ломтики черного хлеба, а на блюдце считанные кусочки колотого сахара. Штаб армии в те дни ощущал трудности с продуктами, жил туго, и сам командующий, как видно, строго придерживался наркомовской нормы. Батов жестом указал нам на скамейку и продолжал рассказ: — Возвратившись в штаб, генерал Лукач узнал, что командир танкистов прибыл под Уэску. Было решено выехать на повторную рекогносцировку после обеда. Услышав такое, я старался уже не пропустить ни одного слова. — Чтобы не привлекать внимания противника, три машины с восемью командирами, ответственными за предстоящую операцию, вышли из населенного пункта с интервалом в три минуты. Я ехал с Лукачем на первой машине. Автомобиль выскочил на простреливаемый участок дороги. С окраины Уэски мятежники открыли артиллерийский огонь. Огромной силы взрыв бросил нашу машину к скале. От удара открылись все дверцы. Я вылетел на дорогу и на короткой время потерял сознание. Когда очнулся, увидел Лукача. Он лежал в странной позе: ноги были в машине, а туловище свисало на шоссе. В голове зияла рана. К нам подползли из-под моста два испанца. Я показал им рукой на Матэ Залку, сказал, что это генерал Лукач, и снова потерял сознание. Очнулся в легковой машине. Сквозь застилавший глаза туман увидел трех испанских бойцов. Они доставили меня в полевой медицинский пункт Интернациональной бригады. Здесь уже лежал генерал. Голова его забинтована. Я стал требовать консилиума. Ко мне подошел начальник медицинской службы бригады доктор Хельбрун и тихо проговорил: — Консилиум не поможет... На рассвете следующего дня Матэ Залка — генерал Лукач умер. Ночью я долго не мог уснуть. Мысли, мои возвращались к рассказу Батова. Сколько неожиданностей таит жизнь. В маленьком хуторке, на берегу далекого Дона я узнал самые достоверные подробности о смерти Залки. В памяти возникает плотина Днепрогэса. У шлюза Матэ просит шофера остановить машину: — Не надо спешить, не каждый день видишь такие величественные сооружения. И так ясно видится, как в верхнем бьефе голубеет широкое, первое в степи рукотворное море, в нижнем — бушующие грозные водопады. Пенистые потоки с рокотом устремляются вниз, летят к скалистым островам. И кажется, не вода, а белые клубы дыма тянутся к Хортице. Далеко-далеко по Днепру вскипают буруны. Над рекой, над красноватыми скалами висит яркое коромысло радуги. «Ой Днепро, Днепро...» Скорей бы увидеть его... Слышу, как по старому казацкому шляху идут и идут войска. Подготовка к наступлению проводилась в глубокой тайне. Войска подходили к Дону только по ночам. На их пути возникало немало трудностей. Они двигались по бездорожью, преодолевая заболоченные низины и зыбучие пески. Особенно доставалось большим труженикам войны — отважным саперам. Река шириной в сто двадцать метров затягивалась тонким льдом. Вот и попробуй навести паромную переправу, да еще под артиллерийским огнем. По ночам собирали мосты и понтоны не одни только саперы, им помогали все рода войск, которые укрывались в прибрежных рощах. А в тылу дивизий, на учебных полях воины тренировались вести по танкам огонь прямой наводкой, подбивать их гранатами, забрасывать бутылками с горючей смесью. Устанавливались сигналы и тщательно отрабатывалось взаимодействие пехоты с танками и артиллерией. В редакции армейской газеты о наступлении говорили мало, больше молча готовились к нему. Но вскоре наступило время, когда весь коллектив стал жить как на иголках. Где будем бить? Как наступать? Почему-то многие верили, первым начнет громить врага Сталинградский фронт, аЮго-Западный и Донской помогут ему. Живем в Пуховском напряженно. Немецкая авиация бомбит не только передний край, она часто появляется над хуторами и станицами, висит над дорогами. А что, если враг заметил сосредоточение наших войск вблизи Дона и приготовился к отражению атаки? Тогда будет бит главный козырь наступления — внезапность. Батов выехал на передовые позиции. Радецкий тоже. В последнее время Николай Антонович покорил меня своей удивительной памятью и начитанностью. Он хорошо разбирался в иностранной литературе, знал превосходно отечественную и особенно современную. Несмотря на занятость, успел прочесть многие новинки. С его разбором появившихся в печати произведений часто соглашался Борис Рюриков. Кроме общей большой культуры, Радецкий имел военный опыт и обладал оперативным мышлением. Этот глубоко партийный человек был смел, находчив, никогда не горячился, презирая пышные фразы, всякую шумиху в работе, видел главную цель в том, чтобы каждый политработник крепил связь с бойцами переднего края, умел управлять их настроением и вести к победе. А нашим настроением управляет Шолохов-Синявский. Он с необыкновенным подъемом и большим мастерством читает нам отрывки из трилогии «Хождение по мукам». Большая компания военных журналистов засиделась у него до поздней ночи. Уже собрались расходиться, как вдруг в избу стремительно вошел облепленный мокрым снегом Кирюшов. Его радостное возбуждение сразу передалось нам. Мы поняли: то, чего так долго ждали, то, о чем в последние дни так настойчиво думали, — началось. Кирюшов, даже не стряхнув с одежды снег, подошел к столу, освещенному двумя самодельными светильниками. — Мы наступаем, товарищи! Только что получено обращение Военного совета Донского фронта к войскам. Наши Вооруженные Силы призваны провести грандиозную операцию по окружению всех фашистских дивизий, прорвавшихся к Волге. В этой небывалой по своему размаху операции участвуют три фронта: Донской, Сталинградский и Юго-Западный. Сейчас в частях начались митинги. Проходят они с огромным подъемом и воодушевлением. — Кирюшов обвел взглядом корреспондентов. — Подымайтесь в поход, летописцы боев и ратных подвигов. Час атаки, называемой в штабных документах буквой «Ч», — наступил! Через десять минут я выехал с Наумом Халемским на редакционной полуторке в станицу Клетскую, где, как стало известно, сосредоточились главные силы 65-армии и на Дружилинских высотах находился НП Батова. Кирюшов сказал, что наблюдательный пункт командарма придвинут к переднему краю. Но что мог видеть командующий, находясь даже вблизи противника с приборами наблюдения, если туман сгустился и окутал степь непроницаемой пеленой? В кузов машины залетали крупные мокрые хлопья снега и медленно таяли. Это тревожило. Штурмовать за Доном укрепленные врагом высоты придется без помощи авиации. Да и артиллерийский огонь может потерять свою точность. И невольно подумалось о том, что наше контрнаступление, возможно, будет перенесено на другой день. Но всякая отсрочка таила опасность. Ведь войска заняли исходные позиции, приготовились к атаке, и с наступлением дня противник может заметить их сосредоточение на небольшом плацдарме. Полуторка пронеслась по деревянному мосту через Дон, потом по дамбе, миновала еще один деревянный мост и въехала в Клетскую. В центре станицы, в каменных подвалах капитальных приземистых домов расположились штабы наступающих частей и передовые медицинские пункты. С давних пор в этих подвалах находились винные погреба, и хотя сейчас они опустели, в воздухе стоял густой запах шампанского. Наум Халемский знал, где находится блиндаж командира 27-й гвардейской дивизии, и мы быстро нашли генерал-майора Глебова. — Корреспондентов всегда интересуют новости, — сказал он. — Саперы уже разминируют проходы, и довольно успешно. Я уверен, что свою боевую задачу морские пехотинцы выполнят. Они стойко обороняли Севастополь и на Дону стремительны будут в наступлении. Удар наносим с небольшого плацдарма — пятикилометрового пятачка. Но, как говорится, мал золотник, да дорог. За Доном передний край у нас проходит по низине, а за ней — укрепленные противником высоты с крутыми меловыми обрывами. На левом фланге над нашими позициями господствует хутор Луговский, превращенный противником в сильный опорный пункт. Правее его находится крепкий орешек: высота с отметкой сто тридцать пять. И еще правее — серьезный узел сопротивления, Мело-Клетская. А на пути к Ореховскому снова придется взламывать укрепленную гряду высот, где немцы почти два месяца совершенствовали свою оборону. Ну, что еще сказать? Как ведет себя противник? Он всю ночь постреливал, а под утро угомонился. От генерала Глебова направились к танкистам. Их боевые машины укрывались в станице Клетской за домами, готовые по первому сигналу ринуться в атаку. Командир танковой бригады подполковник Михаил Васильевич Невжинский сказал: — Я прошу, товарищи корреспонденты, написать: танкисты свой долг перед Ридиной выполнят. На берегу Дона дубы в инее. За ними заняли позиции артиллеристы. Утро туманное. Срывается легкий снежок. У берега — лед, а дальше на стремнине темнеют проталины. Тишина. Вот звонкое кукареку летит низом по реке, где лисьими хвостами смутно желтеют обожженные морозным ветром камышовые заросли. Туман окутал плацдарм, скрыл меловые обрывы и соседние хутора. Только теперь становится понятным, ради чего вели здесь воины 21-й армии такие ожесточенные бои, с невероятным усилием расширяя за Доном плацдарм. Все было предусмотрено заранее, и в дни тяжелой обороны Дона, очевидно, уже родилась в Генштабе мысль о будущем контрнаступлении. На войне нет малозначащих высот и селений. Сегодня за них идут бои местного значения, а завтра они решают судьбу фронта, превращаются в главное стратегическое направление. Под дубом притаился дежурный телефонист, вспорхнувший снегирь сбрасывает с ветки снежную палочку, и не простую, а волшебную — она ломается на каске бойца, и в это мгновение как будто сотни паровозов одновременно выпускают из своих котлов пар. Со свистом и шипением, переходящим в грозное завывание, дивизионы «катюш» посылают на скрытые туманом высоты раскаленные стрелы. Я взглянул на часы: ровно семь тридцать. — Бум-бум-бум, — слышится вдали. Этот звук вызывает удар батарей. Бьют сотни орудий. Мы с Наумом Халемским молча переглядываемся: море огня. Туман на высотах багровеет. Восемьдесят минут стоит сплошной гул. Потом снова свистят и воют «катюши». И тишина. Вдруг слева по низине прокатывается тысячеголосое: — Ура-а-а! — Ура-а-а! — вырывается из траншей за буграми справа. — Полундра-а-а! — звучит прямо перед нами на окраине Клетской. Наши пулеметы: та-та-та... Немецкие: кр-р... кр-р... Взрывы гранат. Лязг гусениц. И чей-то возглас: — Поднялись, пошли! Хорошо идут гвардейцы! Артиллеристы переносят огонь в глубь вражеской обороны. Значит, атакующие войска продвинулись. Снова молча переглянулись с Халемским: пора и нам вперед. Конечно же, мы знали, что противник пойдет в контратаку и, возможно, из-за укрытий выйдут его танки и поведут огонь. Но желание взглянуть на то, что сейчас делается за станицей Клетской на возвышенности, где только что находился враг, неудержимо влекло вперед. На западной окраине Клетской встречаем первых пленных. Их не так много. Это говорит о том, что противник упорно сопротивляется. Немцы в зеленых шинелях, пилотки натянуты на уши. Желтые, кованные железом ботинки и обмотки не спасают от холода. Румыны в островерхих бараньих шапках, в шинелях цвета осенней травы. Нашего наступления они не ждали. Все, что произошло на правом берегу Дона, явилось для них полной неожиданностью. Они потрясены: на их головы выплеснуты ковши раскаленного металла. Закутанный в грязное одеяло немецкий ефрейтор сказал: — Земля перевернулась. У моих ног колеса от пушек крутились, как волчки. Я живой. Это невероятно. Дальше задерживаться с пленными нет смысла. Выяснили главное: наши войска обрушились на врага внезапно. Какой же физический труд и какое военное искусство понадобилось здесь, чтобы на крохотном пятачке плацдарма накрыть шапкой-невидимкой такое количество войск, расположить их, замаскировать в траншеях. И это там, где над Доном нависают меловые холмы, с которых не только можно просматривать плацдарм, но и простреливать его насквозь. На самой окраине Клетской в каменных домах, приспособленных к круговой обороне, только что сидели гитлеровцы. Эти маленькие крепости взяты штурмом. В окнах мешки с песком, в стенах бойницы, деревянные полы в домах сняты, и там отрыты окопы. Ход сообщения ведет под каждое крыльцо, где замаскированы пулеметные гнезда. За этими своеобразными дотами пустырь и пока единственная разминированная дорога, по которой танковая бригада под командованием подполковника Невжинского вырвалась на возвышенность. На дороге еще стоят те, кто обезвредил здесь минное поле, проделал в проволочных заграждениях проходы — скромные и великие труженики войны, — саперы. Их командир, лейтенант Сартасьян, разгорячен боем, окрылен удачей. Он возбужденно поясняет: — Слева овраг, справа овраг, хоть на крыльях летай. О чем писать, смотри сам, корреспондент. Дорога — ключ к высоте, а тут, понимаешь, колючая проволока, шаг ступил — мина. Колючую проволоку ножницами резали, спираль Бруно кошками, баграми тащили. Сержант Мухамед Зарипов преподнес фрицам сюрприз: ночью выкрутил взрыватели, а мины не тронул, на месте оставил. Фрицы ничего не заметили, не догадались. Танки пошли по дороге, ни одна мина не взорвалась. Поднимаемся с Халемским на возвышенность и видим вблизи обрывов оставленную врагом змеистую, во многих местах засыпанную свежей землей траншею. На возвышенности гуляет ветер, и туман не такой плотный, как в пойме Дона. Возле второй траншеи две наши «тридцатьчетверки» наскочили на фугасы, и от них остались одни стальные обломки. Кто погиб? Сейчас узнать трудно, одно ясно: это были герои прорыва. Догоняем передовую стрелковую роту. Ее ведет лейтенант Иван Филиппович Байковский. В руках автомат, по бокам две сумки с гранатами. Из-под ушанки выбился мокрый чуб. Полушубок распахнут, на гимнастерке орден Красного Знамени. — Часто говорят, товарищи корреспонденты, о том, что пехота не использует всей силы своего огня, — бросает на ходу, — а в эту атаку огонь был исключительный. Стрелок израсходовал не меньше пятидесяти патронов. Ручной пулемет — два диска, станковый пулемет — две ленты. Вот так. Светлоглазый лейтенант был настоящий ротный командир. Он хорошо знал цену дружному залповому огню на поле боя и старательно готовил к этому свою роту. За невысокими буграми танкисты пополняли боеприпасы, и мы смогли побеседовать накоротке с командиром батальона — капитаном Алексеем Семеновичем Семеновым. — Общая задача танковой бригады вам известна, товарищи корреспонденты, — сказал. — Прорвать оборону противника, пробить в ней для пехоты брешь. Танки, как вы видели, маскировались в Клетской за домами. У нас был один проход на высоту, местность позволяла двигаться только по дороге. Когда пехота поднялась на возвышенность, мы сейчас же пошли вслед за ней колонной, а потом развернулись в линию. Передний край противника прорвали успешно, потому что все рода войск действовали согласованно и вовремя поддерживали друг друга. Когда пехота наступает, танкисты видят, как оживают вражеские огневые точки, их тогда легко уничтожать. А тут еще в боевых порядках пехоты оказалась артиллерия, и она, конечно, помогла нам. Хочу сказать, что во время прорыва в своем радийном танке находился командир бригады Невжинский. Он хорошо руководил атакой. — Смотрите, ребята, смотрите, — послышались радостные голоса. Все оглянулись да так и застыли, всматриваясь в посветлевшую степь. Вдали с возвышенности лавиной скатывалась танковая колонна. Это шел не танковый полк и не бригада, а целый корпус тяжелых КВ и стремительных, вертких «тридцатьчетверок». Над головным танком реяло на ветру красное знамя и, по грудь высунувшись из верхнего люка, генерал разноцветными флажками подавал сигналы. Эти флажки как бы говорили: смотрите, танкисты, вас ведет в бой сам командир корпуса. В походную колонну стройся! Вперед, за мной! За танками шли грузовики с пехотой, с пушками на прицепах. А за ними поэскадронно пролетали конники в бурках, как черные орлы. Незабываемые минуты: наши войска развивают наступление. Откуда взялась такая сила? Мы долго отступали. С каким нетерпением ждали то время, когда снова пойдем вперед. И вот оно настало. 19 ноября 1942 года, ровно в полдень, наши подвижные войска введены в прорыв! Да, бывает такое мгновение, когда слезы помимо воли наплывают в глазах, и вызваны они не тоской и горем, а чувством радости, гордости за свою Родину. Вот они идут, долгожданные стальные уральские богатыри, и на страх врагу от тяжелой их поступи дрожит степь. Войска прошли. Снова срываются хлопья мокрого снега. Степь туманится, темнеет. В тылу у нас далеко на правом фланге бьют «катюши». Разрывов не слыхать, но зато видно, как, словно из-под земли, веером летят раскаленные стрелы. Значит, противник еще удерживает в своих руках на берегу Дона станицу Мело-Клетскую. То на севере, то на западе вспыхивают зарницы — бьют далекие батареи. Обстановка за Доном начинает напоминать «слоеный пирог». Проходит слух, что где-то в степи, близко, бродит румынская танковая дивизия. Возвращаться за Дон поздно. Повалил снег. В степи в такую погоду легко заблудиться или же наскочить на минное поле. Ночуем с Халемским на КП стрелкового полка. В степи найден какой-то полуразрушенный кирпичный не то сарай, не то дом. Кем он и для чего построен, трудно понять. На земляном полу две крышки от роялей, на которых спали гитлеровцы и грелись, разводя огонь на большом медном блюде. Все оно в тонких, замечательных узорах. Добыл его, очевидно, давным-давно какой-то донской казак в кавалерийском набеге или в походе, а фрицы затащили эту редкую вещь в убогую кирпичную развалину. С рассветом мы уже в дороге, спешим в редакцию. В Пуховском Иван Ле и Леонид Первомайский. Радостно встречаться с друзьями. Вспоминаем прошлое, надеемся на скорую победу. Мои крещенные огнем товарищи только что приехали из штаба фронта. Настроение у всех приподнятое, боевое.
21
Леонид Первомайский предлагает мне поехать в 23-ю дивизию к Сивакову. Я быстро заканчиваю информацию о прорыве под Клетском, и вездеход Кирюшова мчит нас за Дон. Мокрый снег, грязь. На крутых подъемах надрывается «виллис». На КП полка добираемся пешком. Ивана Прокофьевича Сивакова застаем в только-что занятом немецком блиндаже. Как всегда, гитлеровцы не жалеют чужого добра. Блиндаж весь из березы, с тройным накатом бревен. Жужжат зуммеры полевых телефонов, работает рация. Сиваков руководит боем. Подталкивает вперед комбатов, мол, хватит топтаться на месте. Приказывает артиллеристам подавить ожившие на высоте вражеские огневые точки. Отрываясь от телефона, Сиваков крепко пожимает нам руки. — Бой ведем перед Осинками за гряду высот. Продвижения у нас пока нет. Но мы здесь сковали значительные силы немцев. Нашим соседям легче наступать, — бросая взгляд на карту, он обводит красным кружком Паньшино. — Вот если двести четырнадцатая дивизия прорвется, Бирюков возьмет Вертячий, может получиться красивая операция. Вся сиротинская группировка противника окажется отрезанной от переправ. Она не успеет отойти за Дон. Перед Осинками задержка. Не лучше ли поехать к Бирюкову? Дивизия находится в соседней армии. Но стоит она близко. Мне вспомнилась телеграмма, полученная в Пуховском: «Проявляйте инициативу, уделите особое внимание темпу наступления. Повторяем — темпу. Редакция ждет материалы: смелый маневр, параллельное преследование противника». У меня вся надежда на Вертячий. Может быть, там удастся найти и смелый маневр и параллельное преследование отступающего противника? Я поделился своими мыслями с Первомайским. — Не хочется с тобой расставаться, но ты должен ехать к Бирюкову. У меня же другое задание. Я хочу побывать у Сивакова, потом в Железной дивизии разыскать командира полка Романца, поговорить с ним. Как ни торопился в Паньшино, все же попросил связного помочь мне разыскать Пассара. Максима встретил у входа в землянку. Он был награжден орденом Красного Знамени, и фотокорреспондент армейской газеты усердно щелкал «лейкой», снимая с винтовкой в руках лучшего снайпера Донского фронта. К Максиму пришла громкая военная слава, но она не вскружила ему голову. Юноша остался таким же, каким и был — открытым, отзывчивым и простым. Максим получил приглашение посетить редакцию фронтовой газеты и собирался ехать в Камышин. — Но после того, как будут взяты Осинки. У меня снайперское отделение, и я хочу показать, что может сделать оно в наступлении. Ведь цели появляются все время. Часами их не надо выслеживать, — он легко вскинул винтовку, прищурил глаза цвета спелой вишни. — Могу доложить вам, вчера взял на мушку двухсотого фашиста. Максим пошел провожать меня и по пути к переправе принялся рассказывать о своих воспитанниках Винокурове, Кукужеве, Склюеве. Он крепко дружил с лейтенантом Фроловым и почти не расставался с новым своим другом снайпером Осиповым. Дон стоял скованный льдом. За несколько часов, проведенных мной в полку Сивакова, сильно подморозило. В воздухе порхали сухие, легкие снежинки. В дивизию Бирюкрва добрался только вечером и по счастливой случайности попал в блиндаж начальника разведки. — Приехал. Сдержал слово. Молодец. Слушай, ты обязательно напиши в газету о нашей Гуле — Марионелле Королевой. Она заслуживает этого. Вынесла с поля боя шестьдесят раненых. Причем с некоторыми ей пришлось осенью через Дон вплавь переправляться. А недавно ходила в разведку. Трудно в степи укрыться. Фашисты заметили разведчиков, окружили. И все же Гуле удалось с товарищами вырваться из западни, — Фасахов принялся хлопотать у раскаленной железной печки. Вскоре поставил на стол кипящий чайник, открыл банку мясных консервов и, нарезав хлеб, продолжал: — Сегодня мы наступаем. Перед нами сильно укрепленные вражеские позиции. Особенно тревожит высота пятьдесят шесть и восемь. Там проволочные заграждения, три минных поля, траншеи, ходы сообщения и дзот на дзоте. — Закурив папиросу, он предложил мне пойти в батальон, где служит Гуля. Шли по заснеженной степи, пока из мрака не выплыл силуэт «юнкерса», совершившего здесь две недели тому назад вынужденную посадку после удачного залпа наших зенитчиков. Под правым крылом саперы отрыли землянку. В ней расположился передовой медицинский пункт. Гули мы не застали. Дежурная медсестра сказала, что Королева пошла получать медикаменты и задержится у полкового врача на инструктаже. Перед наступлением начальник разведки дивизии не мог терять даже лишней минуты, и мы возвратились в его блиндаж. Когда ночью перед атакой в степной балке начался полковой митинг, не смог протиснуться сквозь плотные ряды бойцов. Я не видел Гули, только слышал ее звонкий голос: — Боевые товарищи, мои дорогие друзья! Жить — это еще не все. Надо быть человеком, гражданином, великим гражданином! И чувствовать крылья за спиной. На этой покрытой снегом донской земле мы, советские люди, бьемся не за маленькое место под солнцем, а за все солнце, чтобы завоевать победу и отстоять счастье Родины. Ранним утром четыре полка «катюш» и семь артиллерийских полков больше часа как в ступе толкли укрепленную гитлеровцами высоту. Казалось, гора вот-вот отступит и покатится к Дону. Сметены проволочные заграждения, перепаханы и подорваны минные поля. Разбиты многие дзоты и обрушены траншеи. Стрелковый полк поднялся в атаку, прорвал передний край вражеской обороны, подошел к высоте, но взять ее не смог. Я сидел в блиндаже начальника разведки дивизии, прислушиваясь к звукам боя. Гитлеровцы оказывали упорное огневое сопротивление, отвечали частыми контратаками. Было ясно, что на этом участке фронта редакционных заданий мне не выполнить. Я подумал о том, что пора возвращаться в Клетскую и найти танкистов. Не будут же стоять на месте подвижные войска?! С переднего края возвратился Фасахов и тяжело опустился на складной стульчик, вонзив его железные ножки в землю. — Передовой батальон майора Плотникова отрезан. Туда с небольшой горсткой смельчаков пробилась Гуля, доставила боеприпасы. Немцы бросились в контратаку, пришлось отбиваться гранатами. Комбат убит, и нет больше нашей Гули, нет... Горечь утраты передалась мне. Постарался припомнить лицо Гули по фильмам «Солнечный маскарад», «Бабы рязанские» и «Я люблю». Актриса. Медсестра. Боец штурмового батальона. Таков её недолгий, героический век. «Наша Гуля». Через часа два попросил Фасахова прочесть только что написанный очерк. — А почему ты поставил мою фамилию? — спросил он. — Я не могу присвоить себе чужой рассказ. Здесь все твое, каждое слово. — Спасибо, друг. Пусть читают, пусть знает фронт о нашей Гуле. Я собрался в дорогу. Быстро добрался до Клетской. При въезде в станицу встретил Кирюшова. Редактор армейской газеты возвращался с передовой. Он только что разговаривал с Батовым. Командарма тревожил темп наступления. Сильный опорный пункт немцев Мело-Клетская, а потом Ореховский с его укрепленной грядой высот навязал ударной группировке 65-й армии тяжелые трехдневные бои. За это время соседняя 21-я армия значительно продвинулась вперед, и ее левый фланг пока оставался неприкрытым. Батов создал механизированную группу. Она должна пойти по тылам врага, помочь нашим стрелковым дивизиям развить темп наступления. — Где сосредоточилась механизированная группа? — В Ореховском, под прикрытием двадцать седьмой гвардейской дивизии. — Я поеду туда. — Передай привет моим ребятам Борису Рюрикову и Василию Терновому. Они там. — И «виллис» Кирюшова тронулся. Со взятием Ореховского, где особо отличилась 304-я стрелковая дивизия под командованием полковника Серафима Петровича Меркулова, оборона гитлеровцев была прорвала на всю тактическую глубину. Это позволило Батову бросить в прорыв подвижные войска. Я приехал в танковую бригаду перед самым броском, когда ее командир полковник Иван Игнатьевич Якубовский стоял возле танка с флажками в руках, готовый подать сигнал, чтобы начать обходной маневр на Венцы, Перекопский. Комбриг был в кожаном реглане, с биноклем на груди и поразил меня своей богатырской фигурой. Я понял, что приехал в горячее время, но представиться надо. Проверив мои документы, комбриг сказал: — В танке тесно, на броне холодно. Поезжайте с политотдельцами. У них крытая полуторка, там едут два корреспондента. Вместе оно веселей. Борис Рюриков молча пожал мне руку. Потеснился Василий Терновой, и наша крытая фанерой полуторка с круглой железной печкой посреди тронулась в путь. Мне чертовски не нравилась эта теплая, без единого оконца полуторка. Мы шли по тылам врага словно с завязанными глазами. В случае опасности — теперь вся надежда на зоркость и осмотрительность начподива, который ехал рядом с водителем. Обходной маневр! Тут уж о дороге не приходилось думать — лишь бы не наскочить на мины. Полуторка спускалась в балки и выползала из них с таким креном, что я удивлялся, как мы не перевернулись. Какие-то ветки хлестали по бортам грузовик, словно ударами кнута. Выстрелов не слышно. Значит, пока удачно обходим вражеские опорные пункты. Сколько прошли километров? Точно определить трудно, но, судя по времени, больше двадцати. Наши стрелковые дивизии в течение суток с боями проходили шесть-восемь километров, а мы за час без единого выстрела покрыли такое расстояние! Это успех или же противник расчетливо втягивает нашу механизированную группу в подготовленный огневой мешок? Смотрю на товарищей и по их лицам вижу крайнюю настороженность. На войне предчувствие редко когда обманывает. Бой назревает, он должен грянуть. Бьют танковые пушки, заливаются пулеметы... «Началось!» — мелькает мысль. — К бою!— командует Фриз. Выпрыгиваем из машины. Топот ног. Крики: — Руманешты, свои, свои! Хутор Перекопский охвачен паникой. Немцы бегут в степь, бросая машины, пушки, подводы. Румыны сдаются в плен. — Мы не стреляем. Руманешты, свои, свои! — кричат солдаты. Танковая бригада появилась в Перекопском совершенно неожиданно и так всполошила врага, что он даже бросил дивизионный узел связи со всеми работающими телефонами и радиостанцией. О паническом бегстве свидетельствовал оставленный на спинке стула генеральский мундир с орденами и медалями. Комбриг Якубовский пригласил корреспондентов поехать с ним на окраину хутора, где в балке танкисты обнаружили лагерь военнопленных. За колючей проволокой, на дне глубоких ям лежали полураздетые и совершенно голые живые и мертвые люди, у которых руки скручены колючей проволокой. Лагерь произвел на всех нас жуткое впечатление. Заглядывать в ямы было не так легко даже испытанным в боях танкистам. И вместе с тем эти ямы поднимали в душе каждого гнев, звали к освобождению многострадальной родной земли, к беспощадной битве с гитлеровскими палачами. Якубовский распорядился поместить освобожденных узников в теплое помещение и оказать им медицинскую помощь. Пока комбриг опрашивал пленных с целью выяснить обстановку и наметить дальнейший план действий, я успел написать информацию о гитлеровском лагере смерти и статью о танковом обходном маневре. Еще никогда не приходилось работать с такой быстротой, прямо на морозе, положив блокнот на крыло трофейного «оппеля»: в штаб армии направлялся офицер связи и надо было успеть передать ему пакет для отправки в редакцию. В хуторе Перекопском выстраивалась длинная колонна пленных. Румыны, которые довольно стойко держались на берегу Дона, теперь словно очнулись, проклиная Гитлера, не хотели больше воевать на стороне немцев и сдавались в плен целыми подразделениями. Для подвижных войск колонны пленных явились большой обузой. И совершенно вовремя подошла танковая бригада полковника Невжинского с мотопехотой. Задачу дня механизированная группа выполнила с честью. В хуторе Перекопском танкистам можно было передохнуть, свободно ждать приказа штаба армии. Но командирское чутье подсказывало Якубовскому, что после внезапного захвата хутора паника распространилась и пошла гулять по вражескому тылу, создала выгодные условия для взятия Оськинского и Голубой. Тогда будут отрезаны в малой излучине Дона, там, где река, выгибаясь на север, делает петлю, все пути отхода гитлеровцев к Сталинграду. На предложение Якубовского — ударить на Оськинский и Голубую — командиры подошедших частей высказались за более осторожные действия. Они настаивали на том, чтобы подождать, когда подтянется артиллерия и получить новый приказ командующего армией. — Когда мы получим приказ, смятение в стане врага уляжется. Он придет в себя и организует прочную оборону. Вот тогда понадобятся пушки, а наш неотразимо разящий меч — внезапность — потеряет силу. Как командир танковой бригады, находящейся на острие наступающих войск, я решил сбить заслон противника и преследовать его части, которые хотят уйти из-под удара. На этом закончился короткий обмен мнениями. Якубовский остался один, без поддержки, но это его не смутило. Он не стал спорить и, уже как военачальник, заранее видящий исход задуманной им операции, сказал: — Ну что ж, товарищи, до встречи в Оськинском и Голубой. «Итак, бросок на Оськинский! Смело. А может быть, зарывается комбриг? Правы те, кто советует подождать подхода артиллерии? Но тогда к чему продвижение войск?! Выполнил задачу — сиди в хуторе, грейся, жди очередного приказа. Сейчас все покажет вражеский заслон. Если собьем его, тогда наш комбриг — стратег». Мои мысли прерывает Рюриков. — Пошли. Есть местечко. Поедем с мотопехотой. Как тебе Якубовский? Правда, хорош? Через десять минут я уже знал, что такое вражеский заслон. Как показали пленные, он состоял из двух взводов автоматчиков, трех танков, шести противотанковых орудий и двух кочующих шестиствольных минометов. Этот заслон был сбит с позиций и уничтожен. Как хорошо, что мы едем в открытой машине. «Тридцатьчетверки» вырвались вперед, но если вскинуть бинокль, то видно, как танковые пушки выдувают пламя и оно летит по ветру. Нагоняем обозы противника, пехотные части. Гитлеровцы бегут, бросают оружие. Потом останавливаются, поднимают руки. На лицах удивление и страх. По дороге ковыляют раненые, еле передвигают ноги. Куда они идут? Доберутся ли до ближайшего хутора, неизвестно. Но никакой жалости к ним нет. Перед глазами ямы лагеря смерти, руки, скрученные колючей проволокой. В Оськинском появление советских танков с мотопехотой ошеломляет гитлеровцев. — О, рус!.. — начинается паническое бегство. О сопротивлении никто не думает, только бы уйти, выскользнуть из Оськинского в степь. Скорей со всех ног на полевой аэродром! Почему-то все гитлеровцы бросаются к взлетной площадке. Как будто самолеты могут в эту минуту принести им спасение. Захват аэродрома происходит настолько стремительно, что летчики, повысыпав из своих землянок, останавливаются как вкопанные. На взлетной полосе танки! И уже мотопехота растекается по аэродрому, берет каждый самолет под охрану. Пепельно-желтые «юнкерсы» и «мессеры». Сорок два самолета никогда больше не поднимутся в воздух. Я смотрел на самолеты и думал: «Вот что значит подвижные войска и кто стоит во главе их. Если бы не решительность Якубовского, не было бы ни смелого маневра, ни параллельного преследования врага и эти пепельно-желтые стервятники еще немало бы принесли нашим войскам беды. Комбриг сумел приподнять завесу над действиями врага и верно использовать свои силы, появиться внезапно и нанести неожиданно удар». Рейд в малой излучине Дона требовал от танковых экипажей и следовавшей за ними мотопехоты постоянной боевой готовности, напряжения всех сил. Танки врывались в хутора и станицы, перерезывали важные для врага коммуникации, громили его подходящие резервы, нарушали связь и управление отступающими частями. Я даже не мыслил себе уехать из бригады, не побеседовав с ее командиром, который прозорливо смотрел на оперативную обстановку и, на ее основе принимая смелые решения, так умело и дерзко бил врага. Он обладал особым чутьем улавливать самый выгодный момент для стремительного броска или же внезапной атаки. Короткий привал, сон минутный и снова поход. Конечно же, я не мог отнять у комбрига драгоценные минуты отдыха. Да к тому же, как показалось мне, кареглазый, с пышной шевелюрой богатырь был малоразговорчив. Он жил сейчас по единственному и незыблемому закону: меньше слов — больше дела. В занятую танкистами станицу Голубую каким-то чудом пришли газеты. На первой полосе «Красная Армия» поместила «Обходной маневр» и «В лагере смерти». На третьей полосе за подписью майора Шафика Фасахова был напечатан очерк «Наша Гуля». В армейской газете Борис Рюриков и Василий Терновой посвятили танкистам целую полосу. Газеты пошли по рукам, и возле «тридцатьчетверок» слышалось: — Ребята, о нас пишут! — А ну, дай-ка газету! За ужином Якубовский сказал: — Мои боевые помощники-корреспонденты сегодня дали по врагу отличный залп. Танкисты в долгу не останутся. Они и в дальнейшем будут освобождать родную землю так же мужественно и самоотверженно. Избы в освобожденной станице Голубой сохранились. Но все они пустые, без единой живой души. Жителей гитлеровцы выселили, а две большие казачьи семьи от мала до велика повесили на железных кольцах, на которых крепились детские люльки. У многих танкистов на оккупированной территории остались родные и близкие, и невольно подумалось, когда хоронили казненных: а как же там в тех городах и селах, где еще хозяйничают фашисты? У командира бригады Ивана Игнатьевича Якубовского был к гитлеровцам особый счет: два его брата — Александр и Кирилл — погибли на фронте, а жену и дочь старшего брата Никиты фашисты зверски мучили, а потом расстреляли за связь с белорусскими партизанами. Наш комбриг родился в краю озер и лесов в ничем не приметной деревушке Зайцево. В детстве жил бедно, а в юности ему пришлось испытать немало невзгод, прежде чем переступить порог Оршинского педучилища. Одно время преподавал географию и математику и за десять лет до начала Великой Отечественной войны по партийной мобилизации ушел в Красную Армию. Вначале был курсантом военной школы имени ЦИК Белоруссии, потом служил в артиллерийском полку 27-й Омской дивизии, которой командовал Подлас. Я сказал, что мне приходилось встречаться с Кузьмой Петровичем Подласом в Старом Осколе, когда он командовал армией. И это как-то сразу сблизило меня с комбригом. Он считал генерала Подласа своим учителем и глубоко переживал, что вражеская пуля рано оборвала жизнь талантливого командарма. Ночью мы лежали рядом на широкой лавке в казачьей избе. На сон отведено четыре часа. Якубовский ворочался, посматривал на дежурных офицеров. Недремлющий штаб продолжал свою работу. — Иван Игнатьевич, где вы впервые приняли боевое крещение? Что особо запомнилось? Что было на пути самым тяжелым и трудным? — спросил я. Он чуть приподнялся на локте: — Все это можно отнести к первому бою. Его пришлось вести не в лесу и не в поле, а на площади Свободы, в центре Минска, куда проник отряд фашистских диверсантов. Молодчики эти, наглые, жестокие, старались поднять в городе панику. Я командовал батальоном, но имел в своем распоряжении всего семь легких танков Т-26. Хотя наши машины появились на площади внезапно и с разных сторон, бой сложился нелегкий. Диверсанты укрылись в подъездах, засели в домах. Танкисты стали выбивать их оттуда. Так пришло первое боевое крещение. Больно и тяжело воевать у родного порога, оставлять его врагу и чувствовать свою беспомощность. Эта горькая участь постигла меня. Я прошел с танковым батальоном в двадцати километрах от Зайцево, но фронтовая обстановка не позволила заглянуть даже в отчий дом. Когда Гудериан обходил Тулу с юго-востока, я уже командовал танковым полком и вместе с другими нашими частями на правом берегу Дона, где впадает в него Непрядва и Рыхотка, прикрывал Куликово поле с его историческими памятниками. Я счастлив, что защищал Москву и там увидел зарю нашей победы, а теперь участвую в грандиозном окружении гитлеровцев под Сталинградом. Оно, по-моему, скоро приведет лучшие германские армии к невообразимой катастрофе. — О чем вы сейчас думаете? — Как продолжать громить врага с малыми потерями. — Какую вы замечаете слабость в действиях наших танкистов? — Пагубное дело, когда, не дойдя до обороны противника, некоторые танкисты останавливаются и начинают вести огонь с места. Танки должны идти на большой скорости, смело таранить оборонительные участки и сокрушать их. — Какие у вас складываются взаимоотношения с командирами стрелковых частей на поле боя? — Мы стали хорошо понимать друг друга. Пехота любит, когда ее поддерживают танки. Но бывают случаи, когда она залегает под сильным огнём, — он усмехнулся, — тогда всю вину валят на танкистов. — Как вы смотрите на рейд вашей танковой бригады, какой из него можно извлечь опыт? — Рейд бригады и тех танковых корпусов, которые идут по тылам врага, стремясь замкнуть кольцо окружения, это прообраз будущих наших действий, рождение танковых армий. Так будет в скором времени. Верю: в дальнейшем в прорыв будут входить не отдельные наши танковые бригады и корпуса, а крупные механизированные силы. Я даже не мог подумать, что в эту ночь беру интервью у будущего маршала. А за окном завывал ветер, и на столе мигали трофейные плошки, на оконных стеклах серебрились морозные елочки. Едва задремали — прозвучал сигнал боевой тревоги. Все вскочили, надели полушубки, валенки. На дворе двадцатиградусный мороз с порывистым северным ветром. Стремительный марш на хутор Зимовский. Здесь танковая бригада подполковника Невжинского ведет тяжелые бои с засевшим на укрепленных высотках противником. Продвижения нет. Оба комбрига приходят к выводу: атака на подготовленные к обороне высоты не принесет успеха. Надо продолжать вести разведку и найти путь к их обходу. Пока вырабатывался план дальнейшей операции, к избе, где находились комбриги, подкатил вездеход. Посланник штаба армии, вручив приказ, потребовал немедленно ударить на Радионов, а потом на хутор Вертячий. — Наступать днем на поселок Радионов, превращенный, по показаниям пленных, в сильный опорный пункт, значит понести значительные потери и потерпеть поражение, — сказал Якубовский. — Днем брать Радионов? — вскипел Невжинский. — Нет! Давайте связываться с Батовым. Но представитель штаба стоял на своем: — Наступать и немедленно. Якубовский подвел его к лежащей на столе карте. — А зачем бить на Радионов? Если уж бить, так бить сразу на Вертячий и захватить на Дону переправы. Тогда противник сам побежит, он окажется отрезанным в районе Трехостровское, Радионов и Акимовский. Это смелый удар, но я знаю своих танкистов. Они привыкли к ночным броскам. Даешь марш-бросок на Вертячий! Представитель штаба всматривался в карту. — Не сомневайтесь в успехе удара на Вертячий, местность позволяет обойти Радионов с запада, — поддержал Якубовского Невжинский. — Местность! Вот она и тревожит. Ночью в степи трудно ориентироваться, а тут еще синоптики предсказывают понижение температуры и сильную метель. — Я дал распоряжение подыскать из местных жителей надежного проводника, — заметил Якубовский. В избу вошел Василий Терновой с каким-то довольно пожилым человеком в поношенной телогрейке и в опорках, стянутых бечевкой. — Товарищ комбриг, вот старый казак Иван Васильевич Орехов говорит: хоть ты мне завяжи глаза, а я тебе тут в любую станицу дорогу найду. — А на хутор Вертячий, если будем обходить Радионов с запада, дорогу найдешь? Дед снял старую варежку, усмехнулся: — Я ее как свою ладонь вижу. Все тебе балки по пальцам пересчитаю, знаю даже, где немец мины ставил, а где нет. Посматривая на карту, Якубовский принялся подробно расспрашивать старого казака о дорогах в станицы. Дед отлично знал местность, и комбриг остался им доволен. — Вот что, Иван Васильевич, будете нашим проводником. Проведете нас по балкам на хутор Вертячий. С этой минуты вы на военном положении. Вам доверена большая тайна. — И тут же Якубовский приказал найти деду ушанку, кожух и валенки. Терновой пригласил меня в избу старого казака, где временно обосновался корпункт армейской газеты. В избе тепло. Василий Терновой успел нарубить дров и растопить печь. На лежанке греется старуха, а за ее спиной мурлычет кот. Дед, роясь в старом тряпье, пытается отыскать портянки. — Куда собираешься? — А куда казаку собираться, как не на войну, — молодцевато отвечает дед старухе и обращается к нам: — Знайте, братушки, что душа фашиста черная, как его оружие. Ни жалости никакой нет, ни совести. Старуху мою замучали работой. Когда занемогла, чистой воды из колодца мне набрать не дали. А с вами я — снова человек. Снова Иван Васильевич Орехов. А то, было, как скотина, на шею бирку хотели повесить. Я подумал: «Есть тема. — И, присев к столу, стал набрасывать очерк «Проводник», использовав слова деда. — А концовку, — мелькнула мысль, — напишу, когда возьмем Вертячий». За окном сплошная белая мгла. Незаметно разыгралась метель. Да такая — вся степь гудит. В избу не входит, а вместе с метельными вихрями влетает Борис Рюриков, а за ним штабной офицер с одеждой для проводника. — Я вам принес потрясающую новость, — хлопает дверью Рюриков. — Наши танки вошли в Калач! — «Кольцо»?! — «Кольцо»! Эх, Сталинградское «кольцо»! — Рюриков кружит по избе то меня, то Василия Тернового и громко выкрикивает: — В последний час танковые корпуса Кравченко, Родина и Вольского соединились. Завершено окружение врага! Обычно тихий и скромный Вася Терновой пришел в такое радостное возбуждение, что летал по избе, словно на крыльях. — Карту! Скорей мне карту! — нетерпеливо восклицал всегда невозмутимый и спокойный Рюриков. — Нет, этого так нельзя оставить. У кого что есть — все на стол! — потребовал Терновой. Открыли консервы — судак в томате. Терновой разлил водку в щербатые стопки. — За Сталинградское «кольцо»! За тех, кто на Дону и на Волге! За победу! — И Рюриков стал чокаться. Пока мы успокоились и более обстоятельно начали обсуждать создавшееся на фронте положение, старый казак, голодавший при немцах, осушил стопку и так усердно занялся судаком, что не оставил в банке даже томатного соуса. Только заварили чай, как наш будущий проводник с оханьем повалился на лавку. — Ой, гузырь, гузырь... — стонал дед, продолжая корчиться от боли. Это означало по-станичному конец. Все опешили от такой неожиданности. Старуха, соскочив с лежанки, подала совет: — Дохтора! Штабной офицер побежал за врачом, Рюриков тяжело опустился на табуретку: — Кто же теперь поведет бригаду? Ведь не поверят, что дед выпил из щербатой стопки совсем немного. Все равно скажут: корреспонденты споили проводника. Это самое настоящее «чепе». Как же мы так неосмотрительно поступили? С нетерпением ждали прихода врача. В гуле снежного бурана на пороге появился штабной офицер с медицинской сестрой и врачом. Врач, осмотрев больного, погрозил ему пальцем: — Что же ты, дед, неосторожен с пищей? Разве можно после голодовки так наедаться? — Врач порылся в сумке и стал оказывать старому казаку помощь. Часа через два после всех стараний медиков старый казак окончательно пришел в себя. И первым делом взялся примерять принесенную ему теплую одежду. Обрадованные выздоровлением деда, мы принялись помогать ему. Старуха смотрела на мужа и не верила своим глазам: он собирался в поход. Пришла внучка и от удивления всплеснула руками: — Куда? — Казака на войну кличут, — отвечал дед, — слышишь, на сполох ударили. В белой воющей мгле по заснеженным степным балкам идет незамеченная противником танковая бригада на хутор Вертячий. Движемся почти без остановок. Это верный признак того, что старый казак-проводник отлично знает местность, да и штаб бригады проложил маршрут. Вьюга завывает и завывает, а посреди полуторки от железной трубы-дымохода и красных гребешков на боках печурки исходит тепло. Рюриков чутко дремлет, положив на мое плечо голову. А я мысленно возвращаюсь на берег Дона, и врокоте мотора, под скрип тормозов, под качанье грузовика как-то сами по себе возникают первые строчки стихов, воссоздавая картины нашего наступления, прошедшие ранее мимо моего сознания: «С дубов летит последний иней. «Катюши» обожгли зенит. И Дон своей бронею синей уже под танками звенит. Гора в огне. Она как в ступе. Ее толкут со всех сторон. И, кажется, вот-вот отступит и выплеснет в низины Дон. На Песковатку, на Вертячий идут полки в степную муть, и пулемет зрачком горячим в кустах прощупывает путь. Привал короткий. Сон минутный. Едва вздремнул — вставать пора. На дне оврага виден смутно дымок походного костра. Мы снова в первом эшелоне в степи преследуем врага. Без всадников блуждают кони. Горят станицы и стога. Вся степь как будто на колесах, где снег, шипя, летит с бугров, там перекличка на откосах, как вьюга хлестких голосов. Моторов рокот, скрип полозьев. Над степью проблески зари. И плащ-палатки на морозе хрустят у нас, как сухари. Пред нами насыпь. Там, где балки, дубов расщепленных рога, в морозном небе с криком галки летят на черные снега. Гул батарей на поле брани. И в час атаки огневой донская степь дрожит в тумане, чуть освещенная зарей». Последняя остановка перед самым Вертячим. Метель улеглась, но еще не светает. Якубовский подает сигнал, и танки устремляются к переправе. Они выскакивают на высокий берег и открывают по охране моста огонь. Гитлеровцы не успевают повредить весь мост и только вблизи восточного берега взрывают пролет. На помощь танкистам подходят стрелковые дивизии и, не дожидаясь рассвета, переправляются по льду, завязывают на окраине Вертячего бой. Саперы принимаются восстанавливать мост. И когда по нему прошел первый КВ, старый казак Иван Васильевич Орехов простился с Якубовским, помахал танкистам рукой. Я не слышал, что сказал проводник, но зато ветер донес последнее слово комбрига: — Добьем. «Вот и концовка очерка», — подумал я, переправляясь с танкистами на левый берег Дона. Никто из командиров танковых бригад и стрелковых дивизий, да и сам командарм Павел Иванович Батов не мог с уверенностью сказать, что такой важный для противника опорный пункт, как Вертячий, окажется в наших руках раньше запланированного срока. Ночью гитлеровцы, почувствовав, что их обходят, всполошились, стали удирать на восток. Да так поспешно, что оставили в хуторе шестьдесят семь исправных танков. Вертячий быстро заполнялся нашими войсками. Батов был уже в хуторе и занял небольшой, только что оставленный гитлеровскими связистами блиндаж. Рядом находилось грандиозное убежище — уходило на восемнадцать метров под землю с двадцатью накатами бревен. В блиндаже мягкая мебель, зеркала, пианино. Все — награбленное. Таков бывший командный пункт немецкой дивизии. За овладение Вертячим командиры дивизий и бригад были награждены орденами Красного Знамени, а командарм полководческим — Суворова первой степени. Я видел многих опечаленных неудачами на фронте военачальников, и было радостно встретиться со счастливым, сияющим командармом Батовым. Поздравив Павла Ивановича с высокой наградой, я попросил его прокомментировать взятие Вертячего. — Это можно, — сказал он. — Но уделю всего несколько минут. Должен прибыть Александр Михайлович Василевский. Пиши, дорогой. Со взятием Вертячего наши войска замкнули группировку Паулюса на прочный замок. Противник укреплял Вертячий солидно, основательно. Северную окраину превратил в крепость. Но он не знал, что мы появимся с юго-запада, будем брать хутор с тыла. Я попрошу особо отметить: войска с тяжелыми наступательными боями в течение десяти дней прошли сто километров. Гитлеровцы оказались отрезанными в районе Трехостровское, Радионов, Акимовский, где им пришлось бросить все тяжелое вооружение и налегке спасаться бегством. Как танковые, так и стрелковые соединения сумели повысить темп наступления. Это сказалось на нашем общем успехе. Верховный Главнокомандующий объявил благодарность бойцам и командирам за овладение Вертячим. Невдалеке от блиндажа командующего начал работать узел связи, и мне удалось передать материалы в редакцию. Догнал я танковую бригаду в балке Вертячей. Она хорошо маскировала боевые машины. Извилистая, с крутыми обрывами красной глины балка тянулась на восток и подходила к гряде холмов. Эта гряда поднималась в степи у Паньшино и тянулась на многие километры, преграждая нашим войскам путь к Сталинграду. Наиболее значительные высоты имели названия Черный курган, Казачий курган, Пять курганов. А всю цепь холмов местные жители называли Золотой Рог. Появление наших танков высота Пять курганов встретила не только сильным, но и хорошо организованным артиллерийским огнем. Все танковые экипажи сразу поняли: наткнулись на крепость. Оборону врага с ходу не прорвать. А мороз крепчает. Земля твердая, как сталь. Разрыв снаряда делает небольшую воронку, похожую на мелкую тарелку. Утром над цепью холмов из морозного тумана как бы выдавливается желток солнца. Ветер оживляет гребешки сугробов. От его порывов начинают дымиться снега, метет поземка. И войска в степи идут, словно по облакам. Укрыться от жгучего ветра можно только в балках, где противник оставил землянки. Здешние степные овраги безлесные, и топить железные печки пока нечем. По ночам над гребнями высот взлетают красные, зеленые, желтые яркие шары осветительных ракет. Они отрывают от земли морозный мрак и, словно занавес, тянут его к тучам.
22
Вот уже семь дней бригада Якубовского и две стрелковые дивизии (Аскалепова и Меркулова) стараются пробиться к гребню Казачьего кургана. Но как только наши войска возьмут какой-нибудь холм или овраг, тут же появляются «юнкерсы», немецкая пехота бросается в контратаку и при поддержке танков восстанавливает прежнее положение. Наша разведка стремится выяснить систему вражеской обороны. Установлено, что на Казачьем кургане три траншеи, которые соединены между собой ходами сообщения. Противник все время по ним маневрирует. Он уходит из-под огня, отсиживается в более безопасных местах. Теперь нашим артиллеристам ясно: если брать Казачий курган, то надо взламывать всю оборону, накрывать огнем одновременно все траншеи. На высотах чернеют танки. И наши и немецкие. Подбитые, вышедшие из строя, они остались на склонах и гребнях холмов еще со времени летних боев. Гитлеровцы оборудовали под ними окопы, превратили каждую стальную коробку в дот. — А что у противника за гребнем высоты? — спросил я у артиллерийского разведчика Терентия Брагонина. — Я слежу за противником несколько дней. Там он расположил основные силы противотанковой артиллерии и пехоты. Его танки укрываются в балках Взрубная, Дьяконово и Голая. Балки подходят прямо к кургану. Из этих удобных укрытий гитлеровцы наносят контрудары. Я об этом уже докладывал комбригу. Противник прикрылся грядой высот, как щитом. Очевидно, он стягивал силы в кулак и готовился к прорыву. Потому так упорно удерживал каждый курган. Комбриг Якубовский и его штабные работники были убеждены, что 6-я немецкая армия в ближайшие дни попытается вырваться из кольца. Только это приведет ее к неоправданным потерям. Капитуляция — единственный путь к спасению многих человеческих жизней. Но она отвергнута Паулюсом. На что же надеется он? Комбриг Якубовский не исключает обострения обстановки до предела, если Паулюсу будет оказана помощь извне. Комбриг лично теперь уделяет особое внимание опросу пленных. Я не пропускаю случая послушать их. Фельдфебель, уроженец Баварии, — голова замотана тряпьем. На пальцах от мороза желтые волдыри. Обручальное кольцо и перстень с вензелем врезались в распухшие пальцы. На морозе слезы под глазами превратились в ледяшки. Сейчас они оттаивают и текут по лицу. — На передовой позиции началась подготовка к прорыву из кольца. Но в эту возможность я не верю. Что может сделать солдат, если его дневной рацион состоит из ста пятидесяти граммов хлеба, семидесяти граммов рыбных консервов или конины и двадцати пяти граммов масла? Пусть даже мы вырвемся из кольца, но что нас ждет в степи без транспорта, где метровые сугробы и тридцатиградусный мороз? Только смерть. Гитлер обманул и погубил нас. — Фельдфебель понуро опускает голову. Солдат из Мейсена: — Тем, кто еще хочет в Германии воевать, советую прибыть под Сталинград. Этот дурман сразу выветрится из башки. Ефрейтор из Дрездена: — Гитлер дал клятву выручить нас. Командир роты недавно заверял солдат: фюрер пришлет на транспортном самолёте Ю-52 секретное чудо-оружие. Оно вызволит нас из «котла» и даже принесет победу. Но с тех пор, как мы оставили Дон, мои мысли вертятся вокруг одного слова — капут. А на следующий день штаб бригады обеспокоен показанием нового пленного ефрейтора: — Наш сломленный боевой дух подняла радиограмма генерал-фельдмаршала Манштейна. Ее, как молитву, повторяет каждый солдат: «Спешу на выручку. Держитесь! Будьте уверены в успехе». В штабе танковой бригады узнаю, что в нашу армию влилась дивизия Бирюкова. Читал ли Фасахов очерк о Гуле? Наверное, читал. Но я храню для него газету. И тут же решаю побывать на позициях под высотой с отметкой 121,3, повидаться с Фасаховым и посмотреть, что происходит у нас на левом фланге. В степи разыгралась пурга. Сквозь ее снежные вихри просеивается едва уловимый лунный свет. Скрипят полозья саней, похрапывают кони, перекликаются голоса. Идут моряки на Манштейна. Дружно, слаженно. Очень спешат. Мороз перевалил за тридцать градусов. Все надели ушанки, но ни один не расстался с бескозыркой, заткнул ее за борт шинели, и на ветру вьются ленты. Моряки останавливают полуторку, просят дать спички. — Ребята, зачем вам в такую стужу бескозырка? — Для атаки! Какой-то шофер тормозит рядом с нашей полуторкой. Пурга сбила его с дороги. — Как проехать к Черному кургану? — спрашивает. Начинаю объяснять ему дорогу и вдруг слышу голос Первомайского: — Видно, черт нас водит в поле и кружит по сторонам... — Он соскакивает с грузовика и, чтобы согреться, начинает прыгать: — Это ты здесь? — Я, Леня, я! — Чудеса!.. В такую метель встретиться... Я совершенно закоченел. Погода изменилась, да еще с дороги сбились... Шофер «попутки» кружит по степи, кружит... Как же добраться до Черного кургана — попасть в Самаро-Ульяновскую? — Завтра вместе доберёмся, а сейчас поедем в двести четырнадцатую, она рядом. В землянке начподива Валентина Клочко у железной печурки отогревается Первомайский. Бодрит горячий чай. Мало-помалу Леонид Соломонович приходит в себя, закуривает трубку. За ужином вспоминаем освободительный поход в Западную Украину. Далекий Львов, где мы подружились с Валентином Клочко. И ту неповторимую осень с обломками старого мира и лучами новой жизни. И вот встреча в землянке под высотой с отметкой 122,6. В дивизии у меня есть и новый друг — Шафик Фасахов. Спрашиваю о нём — и как выстрел в упор: убит. Больно. Как часто приходится слышать это слово. Так и стоит перед глазами самоотверженный, смелый сокол разведки Шафик Фасахов. Утром Первомайский принимается за работу над стихами. Положив на колени блокнот, задумчиво выводит яркими зелеными чернилами строчку: «Снег летит и летит...» А я направляюсь в блиндаж командира дивизии Николая Ивановича Бирюкова. — Товарищ генерал, мне, корреспонденту фронтовой газеты, не удалось поговорить с вами под Нижне-Чирской, когда дивизия переправлялась на левый берег Дона. Не повезло и в Паньшино перед штурмом высоты. — Да, то были горячие места, — проронил комдив. Вошли штабные командиры — решать неотложные вопросы. Я заметил, что Николай Иванович Бирюков ни разу не повысил голоса, не сказал им: «Это мое распоряжение» или «Я вам приказываю». Во взаимоотношениях с подчиненными он не допускал ни окрика, ни грубости. Не было и панибратства, а чувствовалось боевое содружество, уважение к своим помощникам. Обращаясь к ним, он говорил: «Я прошу вас поступить так», «Я надеюсь, что вы решите вопрос следующим образом», «Пожалуйста, займитесь этим делом». Если возникали возражения, он прислушивался к ним и давал свой совет. Таков был бритоголовый комдив с высоким лбом и внимательным взглядом. Когда мы остались одни, он сказал: — Прошу извинить меня за вынужденную паузу. Слушаю вас. — Что по вашому мнению должно быть в данный момент главным в действиях наступающих в донской степи стрелковых частей и штурмовых групп? — Вы хутор Паньшино знаете. К югу от него — хутора Нижний и Верхний Гниловские, Вертячий, а между ними — высота с отметкой пятьдесят шесть и восемь. Она не такая большая, но запомнится на всю жизнь: многому нас научила. В сочетании с грядой высот Золотой Рог она являлась важным опорным пунктом в системе вражеской обороны. Район, который мы обобщенно называли «паньшенским рубежом», стал переломным в ходе сражения. Если раньше бои носили оборонительный характер, то теперь — наступательный. Вот и надо учить пехоту ходить за огневым валом. Смелей, ближе прижиматься к разрывам своих снарядов, а штурмовым группам — умело вести бой в немецких траншеях и ходах сообщения. После победы под Сталинградом мы шагнем далеко на запад и встретим там на своем пути не одну еще оборонительную линию противника. И то, о чем я сейчас говорю, мне кажется, станет для успеха в бою самым необходимым и главным. Генерал дал мне связного, и тот быстро провел меня в роту лейтенанта Семена Кудинова. Противник изредка, как говорят бойцы, «швырял мины», и мне удалось переговорить в землянках и окопах с вожаками атак. Записав рассказ командира штурмовой группы Василия Петрухина, я с благодарностью подумал о Бирюкове, который натолкнул меня на новую тему. Штурмовая группа Василия Петрухина состояла из семи человек. Она смело шла за огневым валом и врывалась в немецкую траншею под разрывы своих гранат. Потом трое продвигались по траншее, а четверо ползли сверху, прикрывая огнем своих товарищей, следили за тем, чтобы враг не подбросил к месту схватки по ходам сообщения подкреплений. Как только траншея делала изгиб, за поворот сразу же летели гранаты. Выслушав героев рукопашных схваток, решил сделать полосу о штурмовой группе, чтобы каждый боец рассказал, как он ведет бой в немецких трашеях и ходах сообщения. В землянке пачподива меня с нетерпением ждал Первомайский: — Где ты запропастился? Едем в Самаро-Ульяновскую дивизию. Там успех. Она вот-вот возьмет Черный курган. Ты только пойми: эта дивизия в гражданскую войну освободила от белых банд родной город Владимира Ильича Ленина — Симбирск. Валентин Клочко дал нам свой вездеход, и в морозную в зеленых отблесках ночь мы с Первомайским помчались к Черному кургану. По пути в Самаро-Ульяновскую дивизию узнали, что взятие Черного кургана как нельзя кстати. Оно дает возможность написать Первомайскому очерк для «Известий» о молодом командире полка Николае Романовиче Романце. — Это восходящая звезда. Будущий командир дивизии. Умница. Красавец. Храбрец, — восторженно отзывался о своем герое обычно сдержанный Первомайский. Романца на КП полка мы не застали. Он находился в передовом батальоне, где на гребне кургана под давно подбитым танком саперы оборудовали наблюдательный пункт. Возвратился он на КП в полночь и был искренне рад встрече со своим старым знакомым — Леонидом Первомайским. Романец повесил на гвоздь автомат и сказал: — Черный курган наш. Только он произнес эти слова, как блиндаж вздрогнул от шквального минометного огня. Романец рванул трубку полевого телефона, вызвал ответный огонь артиллерийских батарей. Но враг бросил в ночную контратаку не менее двадцати танков с десантами автоматчиков и овладел гребнем кургана. Западные скаты оказались незащищенными. Здесь никто не успел отрыть окопы, и Романцу пришлось отвести батальоны на прежние позиции, укрыть их в балках. С тех пор, как наши войска прорвали немецкую оборону под Клетской и дошли до Черного кургана, противник еще ни разу не бросался с такой стремительностью и ожесточением в ночную контратаку и не старался восстановить прежнее положение, отбить любой ценой утраченные позиции. Утро принесло разгадку этому новому действию врага. На юге танковая армада группы армий «Дон» продолжала продвигаться вперед и подошла к станице Громославки. Всего тридцать пять километров отделяли теперь Манштейна от Паулюса. Романец принялся тщательно подготавливать новую атаку. В душе он переживал потерю Черного кургана, но виду не показывал. Спокойно и ровно отдавал распоряжения, хотя сам уже получил взбучку от представителя штаба армии. — Было и не такое... Черный курган вернем, — заканчивая телефонный разговор с комдивом, заверил Романец. Я уговорил Леонида Первомайского перебраться к танкистам Якубовского. Если командующий армией Батов придвинул свой КП поближе к Казачьему кургану, значит, то направление главное. Там будет решаться судьба укрепленной гряды высот. Первомайский ехал к танкистам хмурый. Всю дорогу молча курил трубку. Сдача Черного кургана огорчила его. Очерк о Романце он, конечно, напишет, но надо повременить. В бригаду полковника Ивана Игнатьевича Якубовского попали, когда танкисты готовились к решительному штурму Казачьего кургана, заправляли машины горючим, пополняли боеприпасы. Здесь же находились и саперы с низкими железными санками, для маскировки покрытыми белой краской. На них лежали полупудовые мины. На саперов, которыми командовал военный инженер Харченко, возлагалась ответственная задача: как только будет захвачен Казачий курган, сейчас же за его гребнем они должны были создать минные поля, прикрыть ими выходы из балок. Танкисты знали, на что идут. Попади в сани какой-нибудь осколок от снаряда или мины — и ничто их не спасет. Но все говорили: риск — благородное дело! Манштейн рвется к окруженной группировке. Нашим войскам необходимо сбросить Паулюса с гряды высот, лишить его выгодного обзора местности, «ослепить» в степи, сковать боем. За грядой высот окруженный противник еще занимал большое пространство. Наши войска сжимали стосемидесятикилометровое кольцо, где по данным разведки находились двадцать две вражеских дивизии, не считая многих частей различных родов войск. В ночь перед штурмом Казачьего кургана заснуть не удалось. В блиндаж комбрига входили и выходили штабисты, комбаты, посыльные. Да и сам Якубовский, подремав за походным столиком не больше часа, стал выскакивать на вездеходе то на левый фланг, где сосредотачивались основные силы бригады для атаки, то на правый, где маневрировали тягачи с несколькими непригодными для боя танками, заставляя противника насторожиться и поверить в то, что именно здесь находится бронированный кулак. Час атаки приближался. Первомайский посматривал на часы и не выпускал изо рта дымящуюся трубку. Его волнение передалось мне. Нам очень хотелось, чтобы хитрость удалась Якубовскому и противник побольше бы перебросил противотанковых средств на правый фланг. На лице Якубовского полное спокойствие. Только чуть-чуть строже стало оно. На походном столике котелки с гречневой кашей, тушенка. Наливая в кружку чай, он сказал: — Вот, товарищи корреспонденты, у Родиона Яковлевича Малиновского позавчера произошел интересный случай. Воздушная разведка донесла ему, что Гот выстроил танки для атаки — шесть рядов и в каждом по шестьдесят машин. У Малиновского — шестьсот, но горючего в баках кот наплакал. Ждут подвоза, а противник вот-вот двинется. Родион Яковлевич приказывает: снять с танков маскировку, выдвинуть их на бугры, пусть враг видит, с какой силой он на этом участке фронта встретился. И Гот не пошел в атаку. Может быть, и наша хитрость введет врага в заблуждение. Бой за Казачий курган начался с артиллерийского налета на позиции гитлеровцев. Танкисты были наготове, и сам Якубовский находился уже в командирском танке. Мы с Леонидом Первомайским из блиндажа перебрались в траншею. Сыграли дивизионы «катюш». Над нами на небольшой высоте мелькнули ярко-красные стрелы, повитые по краям синеватым пламенем. Они оставили в воздухе струистый белесый дым. «Тридцатьчетверки» вышли из укрытий и на быстром ходу устремились в атаку. Всего восемьсот метров отделяло их от гребня кургана. Там затрепетал красный флаг, а потом, словно огнем, вспыхнул еще второй и третий. Туда двинулись артиллерийские расчеты, чтобы стать в боевых порядках пехоты на прямую наводку. В солнечный полдень Казачий курган перешел в наши руки. И в этот час на фронте распространилась еще одна радостная весть: Манштейн побежал на Ростов. Армия Малиновского освободила Котельниково. Я достал из планшетки карту. Первомайский, взглянув на нее, воскликнул: — Ой був, та й нема, та й поїхав до млина. «Лучший стратег Германии», как называли пленные Манштейна, уже находился со своей группой армий «Дон» на Котельниковском направлении за сотню километров от окруженной группировки Паулюса. Он лишился важного железнодорожного узла, но еще удерживал в своих руках узел шоссейных дорог — Тормосино и нависал над правым флангом армии Малиновского. За гребнем Казачьего кургана загудели танковые моторы. Из балок вырвались и повалили густые клубы черно-бурого дыма и поползли к гребню кургана. Гитлеровцы поставили дымовую завесу, и под ее прикрытием из балок вышли танки с мотопехотой. Автоматчики, соскочив с грузовиков, бросились в контратаку. Дымовая завеса скрывала танки с черно-белыми крестами, помогала им вести огонь по вспышкам наших орудий. Бой разгорался. Гитлеровские гренадеры подобрались к гребню кургана, но их контратакой, отбросили наши бойцы. Два дня и две ночи прошли в ожесточенных схватках. Порой Казачий курган казался действующим в степи вулканом, но гитлеровцам так и не удалось вернуть прежние позиции. В ясный морозный день с гребня Казачьего кургана мы с Первомайским в бинокль осматривали местность. На многие километры открывалась заснеженная степь. В далеких балках чернели хутора, дымились трубы. То были не хутора, а скопище легковых машин, грузовиков, автобусов, фур и даже железнодорожных вагонов, превращенных гитлеровцами во временное жилье. Видели мы и настоящие хутора, станицы — Новоселовку, Карповку, совхоз «Питомник». Все это вселяло в наши сердца новую надежду на скорую победу. Побеседовав с героями штурма Казачьего кургана, мы с Леонидом Первомайским возвратились в штаб танковой бригады, где узнали, что нас разыскивает начальник политотдела армии и нам надлежит немедленно прибыть в хутор Вертячий. Прощай, Казачий курган с глинистыми балками, с отрогами и обрывами, с порыжевшей травой, с белыми, а там, где осела копоть от мин, — черными снегами, за который сражались три наших стрелковых дивизии, танковая и саперная бригады и восемь артиллерийских полков. Приведет ли меня сюда снова фронтовая дорога? Может быть, да, а может быть, и нет, но в памяти навсегда останется изломанный гребень кургана с черными кустами дыма и над ними, на фоне голубого неба, яркое, реющее на ветру красное полотнище. По дороге встречаем вездеход полковника Сивакова. Теперь он комдив. Его 23-я Харьковская орденоносная дивизия тоже отличилась при взятии Казачьго кургана. Иван Прокофьевич и слышать не хочет о Вертячем. До его КП тут всего пятьсот метров, и он нас приглашает к себе. На «виллисе» и Максим Пассар. Он возвращается в дивизию. Пять дней гостил в Камышине в редакции фронтовой газеты. Максим показывает мне свежий номер «Красной Армии». Представлен Максим в газете солидно. На первой странице помещен снимок с текстовкой «Снайпер Максим Пассар на лыжах», а на третьей — поэма Евгения Долматовского, посвященная нанайскому юноше, знаменитому снайперу Донского фронта, истребившему из своей винтовки двести тридцать фашистских захватчиков. Максим крепко жмет мне руку. — Товарищ майор, я никогда не забуду, как мы шли с вами к Дону, а потом через несколько дней пришла в полк газета — это был праздник. Когда окончится война и у вас будет невеста — дайте мне знать. Я настреляю в тайге лучших, отборных белок. Такой шубы ни у кого не будет во всем Киеве. Милый, добрый, наивный юноша. Прощаясь с нами в блиндаже, комдив дарит нам изящные кипарисовые ящички. В каждом по шесть больших синих пачек трофейного голландского табака. Я не курю, и все это богатство достается Первомайскому. Он набивает трубку золотистым табаком, закуривает, и по всей землянке распространяется запах меда. С тех пор как началось наше контрнаступление, тяжесть походной жизни, связанная с беспрерывными разъездами и постоянным недосыпанием, измотала Первомайского. Он похудел, лицо потемнело от жгучих морозов, но зато приподнятое настроение не оставляет его. Покинув КП Сивакова, мы помчались на «виллисе» в политотдел армии, думая по пути о причине столь срочного вызова. На пороге политотдельского блиндажа встретили Ивана Леонтьевича Ле, и все прояснилось: согласно приказу генерала Галаджева Иван Ле и Леонид Первомайский выезжают на пленум Союза писателей Украины в Уфу. Меня же вызывал в Камышин на совещание новый редактор «Красной Армии» полковник Потапов. Политотдел армии был на колесах. Он покидал хутор Вертячий, придвигался поближе к действующим частям. Весь просторный блиндаж, тщательно оборудованный гитлеровцами, переходил в наше распоряжение. Но через три часа Иван Ле с Леонидом Первомайским уезжали на ближайшую к фронту железнодорожную станцию Иловлю. Я же мог отправиться в путь только на следующее утро с колонной армейских машин, которые ехали в Камышин на склад. Получив продукты на дорогу, Иван Ле открыл консервную банку с бычками в томате. Достал бутылку вина, разлил в кружки. При любом воспоминании Иван Леонтьевич всегда переходил на украинский язык. — Трофейне вино«Кіршвайн». Концентрована вишнівка з високим «градусом». Колись, хлопці, у Бремені — в Північній Німеччині — років п’ятнадцять тому я куштував цей напій в українських робітників, емігрантів із Західної України. — Он поднял кружку. — Аж не віриться, що з Леонідом їдемо до Уфи. Несподіванка... А тут вирішуються такі справи. Але все діється з наказу. Їхати? Єсть їхати! — Он чокнулся с нами. — Щоб скоріше повернутися на фронт. — Мы уезжаем, а ты остаешься. Что тебе подарить на память? — спросил Первомайский. Он достал из планшетки великолепную записную книжку в темно-коричневом бархатном переплете. — Возьми, это от всей души... Возле блиндажа подает гудки «виллис». Иван Ле забрасывает за плечи вещмешок: — Пошли, Леонид. Радецкий прислал машину. Метет поземка, и мороз усиливается. Ле с Первомайским, усаживаясь в машину, поднимают воротники полушубков. «Виллис» берет разгон, скрывается за серыми бревенчатыми избами, и я возвращаюсь в блиндаж. Написав корреспонденцию о взятии Казачьего кургана, принимаюсь за полосу «Бой в немецких траншеях и ходах сообщения». Она состоит из пяти рассказов бойцов штурмовой группы сержанта Василия Петрухина. Заканчивая работу над газетной полосой, поглядывал на подарок Первомайского. Все мои блокноты кончились, и тут на тебе — такая замечательная записная книжка. Я принялся перелистывать ее и вдруг на последней странице увидел посвященные мне Леонидом Первомайским стихи. Перечитал их, и в памяти ожило заметенное снегом ночное село на Донце. «Не забуду той ночи глубокой и сердец притаившийся жар... В полумраке — по памяти — Блока батальонный читал комиссар. Не забуду волшебного слова, лебединого пенья и крыл, зачарованных былей Лескова, тех, что в памяти друг мой таил». В блиндаж кто-то спускается. За моей спиной раздается знакомый голос: — Скажите, здесь находится политотдел армии? — Здесь он находился утром, Павло Матвеевич, а сейчас могу вас принять как полноправный хозяин этого блиндажа. — Я привык ничему не удивляться на войне. — Усенко, сняв шапку, принялся стряхивать с полушубка снег. — Последний раз тебя видел в Киеве, на митинге в Союзе писателей, и вот в хуторе Вертячем встретились в блиндаже. — Он осмотрелся. — Это кто ж отгрохал? Немцы, конечно. Капитальное сооружение. Отрывисто забухали зенитки на берегу Дона, охранявшие штаб армии. Мы выскочили из блиндажа и увидели в мутном, снежном небе черный силуэт самолета. Под правой плоскостью блеснул огонь, похожий на оранжевую звезду. Пилот, резко накреня самолет, старался сорвать пламя. Это ему удалось. Он набрал высоту и словно растворился. Зенитки прекратили огонь. Но звук удаляющегося самолета стал чересчур прерывистым. — Смотри, снижается! — крикнул Усенко. Транспортный самолет Ю-52, подбитый зенитками, планировал над Вертячим. Моторы отказали, пилот выбирал площадку для посадки. Мела уже сильная поземка, но ему удалось за Вертячим посадить в степи самолет. Усенко загорелся во что бы то ни стало побывать там. Как я ни отговаривал его, доказывая, что сделать это без машины трудно, он все-таки зашагал в степь. Вернулся Павел Матвеевич поздно вечером, изрядно продрогнув на тридцатиградусном морозе. Растегивая ремни и снимая с плеча автомат, устало опустился на скамейку: — Я думал, что гитлеровцы будут гуманны хоть к своим раненым и больным солдатам. Нет, черта с два. Самолет оказался набитым до отказа совершенно здоровыми офицерами. Фашисты вывозят из «котла» командный состав. Думаю написать статью для «Радянської України». Я теперь спецкор этой газеты. Я глубоко уважал Павла Матвеевича Усенко — честного, открытого, бесхитростного. До организации Союза писателей он возглавлял литературную группу «Молодняк». Был также одним из организаторов комсомола на Украине. Я знал наизусть стихи Усенко еще со школьной скамьи и рад был такой необычной встрече. У Павла Матвеевича не было с собой никаких продуктов. Я вскипятил котелок чаю, принялся угощать его трофейными норвежскими шпротами и французским вишневым сиропом, большую глиняную бутылку которого подарил мне комдив Сиваков. А что это у тебя так потрескивает в печке? — спросил Усенко. — Фаберовская фирма. Дров никаких нет, и я топлю печь карандашами. В углу их целые горы. Они присланы на Дон по приказу Гитлера, чтобы каждый солдат после взятия Сталинграда мог написать об этом домой. — Это под вой пурги потрескивает не фаберовская фирма, а весь фашистский рейх. — И Усенко придвинулся к железной печке. Я сказал, что утром здесь был Иван Ле с Первомайским, они уехали в Уфу на писательский пленум. — Це треба, а нам своє робить, — заметил Усенко. Почти полночи под завывание вьюги проговорили о будущем. Верилось: скоро вернемся в Киев. Но каким его увидим? Это тревожило до боли. Утром метель усилилась. Северный ветер крутил столбы снежной пыли, но Павел Матвеевич стал собираться в дорогу. — Ты говоришь, что балка Вертячая подходит к подножью Казачьего кургана? Значит, сбиться с дороги нельзя? Пойду, по пути все равно попадется какая-нибудь машина, а не то сани. — Усенко стал затягивать ремни, вскинул на плечо автомат. — До свиданья, друг, до встречи в Киеве. Взглянул на часы. Пора. Скоро автомобильная колонна отправится в Камышин. Но пойдет ли она в такую метель? Мое опасение развеялось, как только я вышел из блиндажа. Водители уже проверяли на колесах цепи. Начальник автомобильной колонны, старший лейтенант Александр Фокин, предложил мне место в кабине головной машины. В пути разговорились. В колонне были водители, которые воевали с первого дня войны и сумели, несмотря на бомбежку и всю тяжесть отхода к Волге, сохранить свои машины и держать их в самом образцовом порядке. К таким умелым водителям начальник колонны относил старшину Сергея Карнадуда, ефрейтора Павла Шадрина и ефрейтора Александра Шамоту. Они в метель, в тридцатиградусные морозы бесперебойно, порой раньше установленного срока обеспечивали продовольствием и боеприпасами танкистов. За время нашего контрнаступления эта автоколонна, состоящая из двадцати грузовиков, намотала на колеса пять тысяч двести километров и почти каждая машина доставила на фронт по сорок две тонны груза. После Паньшино головной машине пришлось в глубоких снегах пробивать дорогу. И тут я увидел, какой Фокин непревзойденный мастер вождения автомобильной колонны по бездорожью. Он обладал каким-то особым даром по самым малозначительным признакам среди этой сыпучей снежной пудры находить самые удобные и проходимые места. Приходилось останавливаться, подтягивать отставшие машины и снова пускаться в путь. Водители говорили, что такой пурги, как в этот день, в степи еще не было. Мороз крепчал. Ноги мерзли в валенках. Холод пробирался под кожух и даже под меховую жилетку. За Солодчей наша колонна встретила такие заносы, что только с помощью дорожных бригад и снегоочистителей пробилась в Камышин. Был поздний вечер. Метель продолжала бушевать с неистовой силой. Я решил справиться в комендатуре о редакционном поезде. Он стоял на окраине Камышина, во дворе консервного завода. Попасть туда в безлюдный вечер и в метель было не так просто. Дежурный посоветовал мне переночевать на пересыльном пункте. Где мне только во время войны не приходилось коротать ночи, но в Камышине я, подобно Хоме Бруту, переступил порог старой церкви. В полутьме со всех сторон неистово посвистывало и храпело. Все это в вышине, под самым куполом, где жалобно дребезжали оконные стекла, сливалось с воем метели в какой-то дикий хор. Но я был рад теплу. Оно исходило от раскаленной печки, сделанной из большой железной бочки. Старшина, бросив подкладывать в печку поленья, подвел меня к деревянной лестнице и стал просить извинения за то, что только на пятом ярусе есть свободное место. Мои нары оказались вместительным ящиком. Сорок три дня я не снимал валенок и не расставался с кожухом, а тут тепло, можно, наконец, сбросить эту тяжесть. На передовой позиции, в холодных блиндажах и землянках, я спал блаженным сном, а тут, в тепле, в тыловом городе приснился горящий Сталинград и так ясно возникла Московская улица. Снова ощутил качание трехэтажного дома, увидел балкон и рухнул с ним в пылающий костер. Открыл глаза. С голубой вышины прямо на меня спускались с мечами в ярких нимбах два золотокрылых строгих ангела. Спросонья какое-то мгновение не мог понять, где я, что со мной происходит. Отвел глаза, глянул вниз, и тут эту неизвестность усилил синеватый провал. Мне показалось, что нахожусь между небом и землей. Стало жутко. Как вдруг из-под крыльев ангелов появились две руки с алюминиевыми солдатскими кружками. — Давай, Иван! — Чтоб никакая пуля нас не брала! Чокающиеся кружками ангелы продолжали витать надо мной под куполом церкви, но теперь это вызывало только улыбку. Утром метель ослабела, но порой из-за Волги дул сильный ветер и нес по улицам вихри снежной пыли. Редакционный поезд я отыскал в неприветливом дворе, заваленном деревянными ящиками, битыми стеклянными банками и высокими сугробами. За кирпичной оградой тянулся обрывистый берег Волги. Заводские цеха молчат. Кругом — неуютность и запустение. Но как только я поднялся по ступенькам и вошел в вагон, сразу услышал ритмичную работу ротационной машины, бойкое постукивание пишущих машинок, шум линотипов. Повеяло вечно кипучей и такой родной редакционной жизнью. В жилом вагоне звучал патефон. Здесь пили чай, правили гранки и читали стихи. С фронта приехал политрук Дмитрий Луценко с просьбой сделать для дивизионной газеты клише. Смущаясь и робея, прочел стихи о своей дивизии. — Ну что ж, очень хорошо, — похвалил Иван Поляков. — Перепечатай стихи на машинке, и мы их завтра зашлем в набор, — сказал Палийчук. Дмитрий Луценко был окрылен предчувствием близкой победы под Сталинградом. Его сердце летело на Украину, а голос пел: «Не может быть, чтоб раннею весною я не бродил по дарницким лугам, знакомою на Вишенки тропою не шел бы я к днепровским берегам». Одесский юморист и сатирик Степан Иванович Олейник преодолел пешком большое расстояние, перешел во время бомбежки через Волгу и принес в редакцию свои новые стихи. В жилом вагоне было не очень-то тепло, и поэт сидел в пальто, в меховой шапке. Всех буквально обворожили его короткие рассказы в лицах. Перед нами прошла шумная, многоликая Одесса с ее неповторимым юмором и необыкновенно колоритным Привозом. Потом он прочел балладу о слепом баянисте с Дар-Горы, повешенном гитлеровцами за то, что осмелился спеть под гармонь песню о непобедимом Сталинграде. Степан Иванович ознакомил нас с небольшой поэмой о танкисте Иване Семенюке. Эти два произведения были одобрены и приняты к печати. Во второй половине дня Степан Олейник собрался уходить в поселок Николаевку, куда недавно переехала редакция газеты «Сталинградская правда», в которой он работал корреспондентом. Переход через Волгу по скользкому льду требовал осторожности. «Юнкерсы» недавно бомбили санный путь, проложенный через Волгу, и во многих местах воронки еще не затянуло льдом. Я долго стоял на бугре, провожая взглядом одинокого путника, пока он не скрылся на противоположном берегу в заснеженных кустах.
23
Редакционное совещание принесло радость: Манштейн бежит на Ростов, а Клейст — с Кавказа. Наступление наших войск развивается успешно. Верховный Главнокомандующий, подчинив Военному совету Донского фронта Шестьдесят вторую, Шестьдесят четвертую и Пятьдесят седьмую армии, поручил ему в короткий срок, завершить разгром окруженной группировки Паулюса и прийти на помощь тем фронтам, которые сейчас бьют и преследуют группу немецких армий «Юг». Редактор ознакомил нас с указом от 6 января 1943 года о введении в армии новых знаков различия — погонов — и потребовал от корреспондентов уделить этому важному событию особое внимание. В редакции на следующий день все корреспонденты надели новые знаки различия. Я уехал на фронт в погонах майора. Прежде всего решил побывать в станице Байбак, где теперь находилась редакция армейской газеты «Сталинский удар». Ее редактор Николай Иванович Кирюшов часто бывал в частях, всегда хорошо знал фронтовую обстановку. Заехал в Байбак и не пожалел. Кирюшов собирался на передовую и предложил мне место в машине. Советское командование предъявило Паулюсу ультиматум о безоговорочной капитуляции. Сложившим добровольно оружие гарантировалась жизнь и полная безопасность. После войны пленный мог возвратиться на родину или же, по своему желанию, в другую страну. Всему составу сохранялись знаки различия, личные вещи, а офицерам даже холодное оружие. Больные и раненые немедленно получали медицинскую помощь. Но все это категорически отверг Паулюс. С рассветом начиналось генеральное наступление Донского фронта. Войска к нему тщательно готовились, чтобы взломать сильно укрепленную линию четырехкилометровой глубины. За ней по восточному берегу реки Россошка проходил второй вражеский оборонительный рубеж, третий (Гумрак — Алексеевка) прикрывал ближние подступы к Сталинграду. Было обидно, что враг укрылся в наших укрепленных районах, которые захватил в летних боях. Редактор армейской газеты Николай Иванович Кирюшов решил ехать в Железную дивизию. По его мнению, она стоит на острие удара. Это подтверждается тем, что на ее участке командарм Павел Иванович Батов оборудовал свой наблюдательный пункт. И вот наш «виллис» приближался к переднему краю. Танковая бригада полковника Ивана Игнатьевича Якубовского готова к штурму вражеских позиций. Комбриг в своем неизменном черном кожаном реглане, в валенках и ушанке возле своего КВ в последний раз перед атакой дает наставление командирам рот. У танкистов остается Борис Рюриков, а вездеход с «корреспондентским десантом», лавируя между орудий, продолжает на малом газу продвигаться вперед. Меня поражает количество реактивных установок «катюш» и особенно артиллерийских стволов. Пушки, пушки и пушки. — Двести орудий на один километр, — замечает Кирюшов. Предрассветное небо в донской степи серое, словно только что выбитый из опок чугун. А в небе уже слышится отдаленный рокот наших воздушных эскадр. Они идут бомбить немецкий аэродром, расположенный вблизи Гумрака, узлы связи и скопление войск. В небе появляются два голубоватых просвета. Они быстро растут, раздвигают мрак. Над заснеженными буграми заря, подобно стреле, пробивает тучи. От морозной дымки красный гребень солнца кажется мокрым. В балке, изрытой землянками, блиндажами и окопами, выстроились у развернутого боевого знамени стрелки. Командир батальона старший лейтенант Кудинов, чьи роты первыми идут за танками, клянется прорвать гитлеровскую линию обороны. Духовой оркестр играет марш. И перед штурмом золотую бахрому полкового знамени целуют бойцы. В суровых глазах блестят слезы. Горяча и велика любовь к родной земле, и она волнует закаленных в боях воинов. У знамени на колени опускаются бойцы. Тишина в степной балке. — Богатыри! На штурм! На новые подвиги нас зовет Родина. — Эти слова командира полка Николая Романца сливаются с голосами артиллеристов: — Натянуть шнуры! С высотки, где находится НП командарма Батова, взвивается в небо серия зеленых и красных ракет. Смотрю на часы — 8.05. — Огонь! — подают команду артиллеристы. В первое мгновение кажется, что по морозной степи прокатилась зимняя гроза. От сильных ударов задрожала земля. Воздух заколебался, стал раскачиваться, набегать волной. Из балок вырвались раскаленные стрелы «катюш». В небе стремительные струи белого дыма. Степь похожа на сорванный лист железа, летящий в бурю. Высотки, ослепительно сияющие снегом, эаволокло дымом. Вихри разрывов взметают снег, превращенный в сажу. Противник огрызается минометным огнем, но недолго. Над степью, оставляя в воздухе черные дымки, изредка рвутся его бризантные гранаты. Выбираюсь из балки и попадаю на артиллерийские позиции. Орудийные расчеты вошли в азарт. Почти все командиры орудий, наводчики, заряжающие, подносчики снарядов сбросили полушубки и шинели, работают у орудий с таким проворством, что их гимнастерки, как в летнюю жару, потемнели от пота. Стою позади орудия, и видно, как, подобно черному мячику, вылетает из ствола снаряд и скрывается вдали, в дымной туче. А земля качается под ногами. Спускаюсь в блиндаж и слышу, как сильно она звенит. Не прозевать бы начало атаки! Выбираюсь из блиндажа как раз в ту минуту, когда танкисты берут на буксир пушки и на броню «тридцатьчетверок» вместе с автоматчиками вскакивают орудийные расчеты. Огневой вал передвинут. Он бушует в глубине вражеской обороны. Из-под танков летит снег, они набирают скорость. «Ура-а-а!» — весенним паводком разливается по широкой степи. С этим боевымвозгласом воины выпрыгивают из окопов, бросаются в атаку. Вспыхивают и реют на ветру красные флаги. Гитлеровцы открывают пулеметный огонь. Да какой! Пули так и вихрят снег, начинают пятнить его горячей, дымной кровью и все же не могут сдержать стремительность атаки. Останавливаться нельзя. Только вперед и вперед! Бегу навстречу прыгающему над бугром солнцу. Вот она, линия вражеской обороны. Засыпанные окопы, разрушенные блиндажи. Под бревнами, песком и снегом зеленеют шинели. Здесь не земля, а решето. Снаряды и мины ложились так густо, что ни шаг — то воронка. Пепельная земля, обгоревшие кусты, черный снег. В уцелевших блиндажах груды патронов, брошенное оружие, кучи одеял, грязные овчины. На потухших железных печках — котелки с вонючим мясом. В берлинский иллюстрированный журнал, на цветной странице которого так броско поданы стройные ножки какой-то примы-балерины, завернуты конские ноги с ржавыми подковами. Ударный клин наступающих войск протаранил вражескую оборону на глубину до четырех с половиной километров. Но сражение не затихает. Гитлеровцы беспрерывно переходят в контратаки. Наши войска вынуждены остановиться, чтобы отразить выходящие из балок танки и пехоту. Но все же клин, вбитый во вражескую оборону войсками Батова, помогает соседней правофланговой 21-й армии генерала Чистякова обойти опорные пункты гитлеровцев — станицы Дмитриевку, Орловку и хутор Полтавский. И, как часто бывает на войне, направление главного удара вдруг перемещается на соседний участок фронта, туда, где создалось выгодное положение. Вечереет. Мороз берет за двадцать градусов. Степь мутнеет. Снега дымятся. Начинает мести пурга. В гуле снежного бурана по приказу командующего фронтом Константина Константиновича Рокоссовского в полосу боевых действий 21-й армии перебрасываются девять танковых, восемнадцать артиллерийских полков с двумя стрелковыми дивизиями. В пургу совершает марш-маневр и танковая бригада Якубовского. Ну и ночь! Сквозь кипящую сухую снежную пыль с трудом пробиваются зеленоватые отблески. Даже яркие осветительные шары ракет бессильны в такую пургу. Гитлеровцы отступают. На этом участке фронта они выбиты из балок и вынуждены покинуть свои блиндажи, землянки. Теперь они в открытой степи, где земля — как сталь, и невозможно окопаться. Танковые бригады Якубовского и Невжинского с тремя стрелковыми дивизиями развивают наступление на «Питомник» и Гумрак. Чуть свет, перед атакой Якубовский кратко объясняет боевую задачу танкистам. В «Питомнике» надо захватить аэродром. По данным нашей разведки на нем находятся свыше трехсот самолетов. Эта последняя «ниточка» еще связывает окруженную группировку Паулюса с Германией. И танкисты должны ее порвать. Пурга улеглась. Рассвет серый. Но для нас он светлый и радостный. Фашистские гренадеры без приказа оставляют свои позиции. Они бросают на дорогах вооружение, бегут в Гумрак или же сдаются в плен. Танкисты с удивлением всматриваются в степную даль. На горизонте возникают какие-то причудливо разбросанные по буграм хутора. Нет, это сотни, тысячи брошенных машин — легковушки и автобусы, крытые брезентом грузовики и фуры, серые приземистые танки Т-III и Т-IV — светло-коричневые, специально предназначенные для песков Сахары, в спешке даже не перекрашенные — срочно направленные Гитлером в заснеженную донскую степь. Дорога! Чем она только не усеяна: патронами, снарядами, обрывками газет, пустыми консервными банками, солдатскими ранцами, касками, котелками, ложками, мыльницами, пестрыми всевозможными этикетками, множеством разорванных на куски писем и пачками фотографий, сделанных в Германии, Бельгии, Голландии и Франции. На дороге не только брошенное тяжелое германское вооружение. Здесь и 210-мм чехословацкие, и 177-мм французские дальнобойные пушки. Шоколадного цвета танкетки «Рено», средние танки «Делона-Бельвиль» с 37-мм пушками и тяжелые двухбашенные 2-С, итальянские М-14 с 47-мм пушками и М-43 со штурмовыми 105-мм гаубицами. С возвышенности открывается необычная картина: внизу на огромном снежном поле раскинулся аэродром. Сколько там набилось машин — трудно сразу сосчитать, их не десятки, а сотни — бомбардировщики, истребители, транспортные самолеты. В небе показываются Ю-52, они заходят на посадку. Садится один транспортный самолет, за ним второй и третий. По аэродрому снуют легковушки, автобусы, бензозаправщики. Над землянками — дымки. На восточной окраине аэродрома разбросаны большие, с красными крестами палатки. Хотя Паулюс, опасаясь потери аэродрома, прикрыл его зенитными орудиями и значительно усилил охранные части, это не спасло гитлеровцев от невообразимой паники, которая моментально вспыхнула на летном поле, как только устремились к нему наши танки и передовые отряды подоспевших трех стрелковых дивизий. Из землянок и палаток повысыпали гитлеровцы и, отталкивая друг друга, бросились к грузовикам, автобусам и легковушкам, стараясь вырулить на дорогу, ведущую в Сталинград. Одни гитлеровцы бежали, а другие, выскакивая из самолетов и землянок, завязывали с нашими воинами рукопашные схватки. Таким никто не давал пощады. Аэродром уже полностью перешел в наши руки, когда Паулюс двинул к нему танки и бронетранспортеры с пехотой. Как ни упорствовали, ни старались немецкие танкисты, но вернуть так необходимый аэродром им не удалось. Отразив все контратаки противника, наши танкисты вместе со стрелковыми дивизиями пошли вперед. События развиваются стремительно. Танковая бригада Якубовского снова возвратилась в 65-ю армию к Батову. Только я передал в редакцию материал о захвате аэродрома, как уже взята балка Безымянная, а за ней хутор Новая Надежда. Утро 26 января 1943 года приносит одно из самых важных событий в битве за Сталинград. Воины 21-й армии, сбросив гитлеровцев с насыпи железной дороги южнее поселка Красный Октябрь, соединились с гвардейцами Родимцева. — Привет с Дона! — Привет с Волги! Эти слова разрезали окруженную группировку Паулюса на две части — северную и южную. В только что освобожденном Городище после осмотра захваченных у немцев великолепных мастерских, предназначенных для ремонта танков, выхожу на площадь. Звучит траурная музыка. И вдруг узнаю знакомый голос сержанта Корелина: — Я вместе с Максимом Пассаром из одного окопа истреблял немецких фашистов. Он научил меня метко бить их. Мы договорились с ним вместе вступить в Сталинград, но смерть в ночном бою в Большой Россошке оборвала жизнь замечательного воина. Он был славой дивизии, гордостью всего Донского фронта. Мы любили нашего скромного, сердечного и отважного товарища. Максим Пассар будет жить в наших боевых делах. Грянул салют. У меня дрогнуло сердце. Прощай, храбрый юноша. Лейтенант Фролов, воткнув в свежий могильный холмик фанерную дощечку, сделал на ней химическим карандашом надпись:
Здесь похоронен знатный снайпер страны, истребивший 236 немецко-фашистских оккупантов, награжденный орденом Красного Знамени, Максим Александрович Пассар.После траурного митинга возвращаюсь в Малую Россошку, где в оставленных немцами блиндажах расположился штаб 65-й армии. С болью в душе посылаю в редакцию телеграмму о гибели Максима Пассара и принимаюсь за статью о том, как надо атаковать огневую точку врага. Утром меня будит в блиндаже работник политотдела майор Николай Мельников: — Вставайте! Есть новость: в Сталинграде, на площади Павших борцов, в подвале универмага пленен штаб Шестой немецкой армии во главе с трехдневным генерал-фельдмаршалом Паулюсом. Ехать! Во что бы то ни стало! Но как? На «попутках» туда можно добраться только к вечеру. Мысль о том, что надо достать машину, не дает мне покоя. Все политотдельские машины в разгоне. Павел Иванович Батов где-то на передовой. Как же быть? Неподалеку от политотдельских землянок находится полевой аэродром, на который связные самолеты доставляют почту и газеты. Выручить может только Миронов, если прилетит. На мое счастье, действительно, прилетает Миронов. Мы совершаем посадку в штабе 21-армии и берем курс на Бекетовку. С полевого аэродрома идет почтовая машина в передовые части 64-й армии, в те, что ворвались на площадь Павших борцов и пленили Паулюса. Дорога тянется вдоль Волги. Глаз уже привык к разбитым коробкам домов, к серым, выползающим из подвалов дымкам, к грудам битого кирпича и нагромождению ржавой, вздыбленной взрывом, арматуре. Но руины Сталинграда поражают разрушительной силой войны. Белой, холодной изморозью покрыты развалины города. Улицы изрыты глубокими воронками, ходами сообщения. Трамваи опрокинуты, и на них лежат поваленные телеграфные столбы с оборванными проводами. На площади Павших борцов все дышит огнем, недавним штурмом Дома Советов и драматического театра, где лежат у входа гранитные львы с черными от копоти боками. Площадь окружена каменной лентой обгорелых, полуразрушенных остовов зданий. Всюду брошенные немцами фуры, пушки, крытые брезентом грузовики. Вот он, четырехэтажный, превращенный фашистами в последнюю крепость, универмаг. Вхожу во двор и слышу: — Привет, старина! — Оглянулся — Михаил Нидзе. — Ты опоздал так же, как и я. Долматовский повез в редакцию материал о том, как был пленен Паулюс со своим штабом. Паулюса уже нет здесь. Его отправили в Бекетовку. С ним еще пять генералов. — Нидзе, достав из кармана блокнот, заглянул в него. — Вот они: Шмидт, Росске, Вассоль, Ляйзер и Братеску. Ты знаешь, у нас особо отличились старший лейтенант Ильченко и лейтенант Межирко. Они первыми побывали в подвале и провели предварительные переговоры в немецком штабе о его капитуляции. Универмаг фашистами заминирован, но я думаю, не взлетим на воздух, если будем осторожными. Не каждый день берем в плен фашистского генерал-фельдмаршала вместе с его штабом. Давай заглянем в это логово. Мы вошли в длинный подвал, куда в мирное время обычно въезжали грузовики, доставляя в универмаг товары. Подвал чуть-чуть освещен догорающими факелами. Нидзе зажег электрический фонарик. Двери в комнаты распахнуты — столы, кресла, стулья, кровати, пианино, ковры. Все это, видимо, натаскали сюда гитлеровские штабисты из разных квартир. Входим в небольшое помещение с двумя дверьми. Нидзе уже был здесь и хорошо ориентируется. — Налево. Здесь комната Паулюса, — Нидзе освещает лучами фонарика железную кровать с матрацем. Стол, заваленный обрывками бумаг, газет и журналов. «Фелькишер беобахтер», «Нейе берлинер цейтунг», «Берлинер фольксцейтунг». Всюду окурки сигар и пепел, пепел. Даже не верится, что в такой замусоренной комнате мог пребывать генерал-фельдмаршал. Я поднимаю с бетонного пола обложку журнала «Дойчланд», Берлин, июль, 1940. Над домом с узкими, продолговатыми окнами развеваются флаги со свастикой. На небольшом балконе Гитлер. Под снимком текстовка: «Миллионы берлинцев приветствуют победоносного фюрера, одержавшего победу над Францией». Кто-то сохранил старый журнал на память о прорыве на Западном фронте «линии Мажино». 6-я немецкая армия вихрем промчалась по Бельгии, посеяла ужас в Голландии, она же вступила в Париж... И вот ее штаб, рвавшийся к Волге, скончался в затемненных комнатах бетонного подвала всего в километре от великой русской реки. Быстро проходим по длинному коридору. Догорающие факелы бросают на стены слабый дрожащий свет. Факелы эти не праздничного шествия, а погребальной процессии. На площади Павших борцов, где еще несколько часов тому назад гремел бой, тишина. Можно спокойно осмотреться. Какой же все-таки был здесь огонь! На стенах искалеченных зданий нет ни одного целого, не исклеванного пулями и осколками кирпича. Южная группировка немцев в центре Сталинграда перестала существовать. Теперь отпадает необходимость возвращаться в Бекетовку. Попутная машина мчит меня прямо в Александровку. В станице снова удалось поймать «попутку» и к вечеру оказаться на окраине Городища, в расположении политотдела 214-й дивизии. Майор Валентин Клочко ознакомил меня с обстановкой. Наутро совместными усилиями наши армии должны окончательно разгромить северную группировку гитлеровцев в заводских районах Сталинграда. В этой операции дивизии Бирюкова ставилась боевая задача — овладеть балкой Вишневой, которая преграждала путь к Сталинграду. По данным разведки балка превращена в своеобразную баррикаду — забита фурами, машинами, танками и обильно насыщена огневыми точками. Активных штыков в дивизии немного, и в штурме Вишневой балки и заводского поселка Баррикады должен принять участие весь офицерский состав. Странное чувство охватывает меня: радостно ощущать близость великой победы и в то же время тяжело думать о том, что можно и не увидеть ее. На ум приходят стихи Луговского: «Люди Спасска, люди Перекопа перед Родиной не знали лжи. Яростно вставали из окопов...» А мы люди Волги. И завтра, какой бы ни был огонь, надо встать из окопа и пойти в атаку. Слышу, как ворочается на соломе Валентин Клочко. Ему тоже не спится. Возможно, и он думает о том, что принесет ему грядущий день. И вот утренний воздух вздрагивает от шипения и свиста: «катюши» дают залп и тысячи ярко-красных стрел летят в балку Вишневую. Только в 214-й дивизии восемь артиллерийских полков усиления прямой наводкой бьют по балке, превращенной врагом в баррикаду. Вся балка словно в огненной лаве. Слежу за часовыми стрелками. Всего пятнадцать минут наносят артполки удар, но он подобен сокрушительному урагану. Под рокот бомбардировщиков и гул канонады все наши воины, позабыв о близости врага, выскакивают из окопов, потрясают оружием, подбрасывают вверх шапки, кричат «Ура!». Такого ликования перед атакой никогда еще не было за всю войну. В сверкании ракет начинается атака. Пули вихрят снег. Из дыма показываются гитлеровцы. Они бросают оружие и сдаются в плен. Вечером дивизия под командованием генерал-майора Бирюкова вышла на подступы к заводам. Изредка раздаются пулеметные очереди. Это мелкие группки фанатиков, гитлеровских офицеров, еще оказывают бессмысленное сопротивление. Последними сдаются в плен солдаты и офицеры 94-й пехотной дивизии, той самой, которая в августе 41-го года штурмовала северную окраину Канева, наступала на железнодорожный мост и вела бой с командой бронепоезда и кораблями Днепровского отряда, а потом появилась перед походом на Сталинград у Северского Донца. Вот она, незабываемая минута. Самая счастливая в моей жизни. На пятнистые плащ-палатки гитлеровцы складывают автоматы, карабины и пистолеты. Горы оружия. И до самого вечера по заснеженным холмам тянутся колонны пленных. Кажется, что по степи в закат уползает гигантская серо-зеленая змея. Сложила оружие 330-тысячная группировка Паулюса. Под пение фанфар и барабанный бой она шла на Восток с нечеловеческой жестокостью завоевать для «великой Германии» жизненное пространство — «лебенсраум». Но оно стало для захватчиков и грабителей дорогой смерти. Две лучшие армии вермахта превратились в толпы оборванцев. Я слежу за одним обмороженным фельдфебелем. Он умоляет шагающих рядом с ним товарищей помочь ему. Падает. Собирает последние силы и с трудом становится на колени. — Э-рих! Па-у-ль!.. — Его крик напоминает вой смертельно раненного волка. Было ли у них боевое братство, товарищеская верность, желание помочь ближнему? Остановятся ли те, кого он окликает? Нет. И Эрих и Пауль даже не оглянулись. Только ниже опустили головы и быстрей зашагали вперед. — Камрад, помоги... — просит он наших конвоиров. И я вижу другую армию. Прыгающий по ухабам грузовик останавливается. Он забит до отказа ослабевшими гренадерами. Но два конвоира находят все-таки в кузове место и для этого брошенного своими товарищами фельдфебеля. И снова какая-то сила переносит меня на окраину хутора Перекопского, и перед глазами встает гитлеровский лагерь смерти с его глубокими глиняными ямами, прикрытыми, как решеткой, жердями, на дне которых лежат со скрученными колючей проволокой руками, раздетые палачами узники. В снежную мглу уходит последний фашистский захватчик. Заводские развалины и вечерняя степь озаряются светом ракет. По ветру летят рассыпчатые огни: зеленые, белые, желтые, красные. Так и кажется, сейчас воздух вздрогнет от удара батарей. И как-то даже не верится, что это не вызов огня, а фронтовой салют в честь Сталинградской победы. — Вот он, нашелся! — Слышу голос Валентина Клочко. — Я же говорил, что он где-то здесь. За майором Клочко размашисто шагает Иван Поляков. Он заключает меня в могучие объятия: — С победой! — Когда мы снова зашагали по дороге, Поляков, улыбаясь, взял под козырек. — Докладываю: редакционный поезд покинул Камышин. Завтра он весь день будет стоять в степи под Александровкой. Я приехал из штаба фронта забрать тебя. Вечером поезд покинет стоянку, поедем на новый фронт. — На какой? — Этого пока никто не знает. Я только догадываюсь: под Курск или под Харьков, а возможно, двинем и на Донбасс. — Я думаю, под Курск. — И Клочко ускорил шаг. Все мы были в таком приподнятом настроении, что когда вошли в Городище и переступили порог политотдельского домика, то даже не почувствовали ни малейшей усталости, пережив в Сталинграде такой напряженный и неповторимый день. В дом вошел проворный Хозе, укрыв в сарайчике «эмку». Радуясь победе, он как всегда начал с воспоминаний: — А помните, товарищ майор, как нас обманула дорожная стрелка в лесу, а потом мы наткнулись на диверсантов? — Все помню, Хозе. Приближалось время, когда Москва должна была передать последние известия. Валентин Клочко, вооружившись красно-синим карандашом, подошел к висевшей на стене карте. После каждого сообщения Совинформбюро он старательно отмечал на ней продвижение наших войск, обводя красными кружочками освобожденные города. Мы смотрим на карту счастливые и, конечно же, безмерно гордые могуществом Родины. Мы были ее верными воинами, коммунистами и здесь на берегу Волги доказали свою преданность. Сталинградская победа всколыхнула весь огромный фронт от Ленинграда до Кавказских гор и неудержимо покатила его огненные волны на Запад. Общую обстановку Валентин Клочко наносил на обычную карту, знакомую нам со школьной скамьи, где стрелки и флажки создавали грандиозную картину всеобщего генерального наступления наших Вооруженных Сил. Только подумать — прорвана блокада Ленинграда! Войска Ленинградского фронта устремились к Нарве, Гатчине, Луге. На карте Валентин Клочко принялся делать более яркими красные победоносные стрелки. На Курском, Харьковском и Донбасском направлениях успешно продвигались вперед войска Брянского, Воронежского и Юго-Западного фронтов. Генерал-фельдмаршал Клейст так и не перешагнул через горные перевалы, не добрался до источников нефти. Под ударами Северо-Кавказского фронта он сбежал на Таманский полуостров. Вспыхнул зеленый глазок приемника. Легкое потрескивание. Сейчас диктор произнесет: — Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза... Мы уже знаем, что Донской фронт разгромил двадцать две дивизии и свыше сотни различных частей усиления 6-й немецкой армии. Взяты в плен двадцать четыре генерала. Но об этом нам хотелось услышать по радио, узнать, как эта весть облетит всю планету и как воспрянут духом многие народы и прогремит гром возмездия над одетым в трехдневный траур фашистским рейхом. Есть упоение в бою! Да, мы с упоением ждем последних известий и смотрим на карту. Освобождается родная земля. Скоро она будет свободной до последнего деревца, до последнего пограничного кустика. Но мы не остановимся там, а пойдем дальше и принесем многим странам надежду человечества — свободу и мир.




Последние комментарии
7 часов 39 минут назад
16 часов 31 минут назад
16 часов 34 минут назад
2 дней 22 часов назад
3 дней 3 часов назад
3 дней 5 часов назад