


Художник Константин Борисов
Розовый слон
(повесть)



Горчичного цвета автобус, весь остекленный, чистый, как аптека, остановился в тени лип и протяжно вздохнул тормозами. Шофер вылез, ударил каблуком в покрышку колеса и с завистью посмотрел на киоск, возле которого какая-то компания распивала пиво. Мужчины были в рубашках с короткими рукавами, а женщины, по требованию безжалостной моды, в платьях выше колен, оголивших у некоторых слегка кривые ноги. — В Гауяскалнсе вроде бы санаторий, может, тут туберкулезники лечатся, — сказал кто-то из пассажиров. Хотя медицина и стерла вокруг туберкулезников траурного цвета ореол, который сохранился теперь разве что в некоторых известных операх, все же несколько голов повернулось в сторону павильона. Заметив автобус, пьющие пиво оставили свое занятие. Поддерживаемый под руки женщинами, к автобусу шел среднего роста сухощавый мужчина в пиджаке цвета лютиков, расчерченном черными полосками на клетки. По крайней мере, такой пиджак всякий замечал еще издали. Лицо у мужчины напоминало начавший засыхать лист табака — очень загорелое и испещренное мелкими морщинками. Гладко зачёсанные волосы — вопреки моде — не были длинными, и усы были подстрижены, вытянуты в черную полоску, а не висели, точно у китайца богдыханских времен, как теперешняя мода извлекает их из старинных книг. Яркое одеяние, загорелое лицо и пылкий взгляд очей блошиного цвета делали его похожим на туриста не то с Кубы, не то из Молдавии. Высвободившись из оголённых женских рук, человек с усиками влез в автобус. — Посмотрим, не живут ли в этом аквариуме золотые рыбки, — сказал он бархатным баритоном. Провожающие внесли чемодан и желтый, охваченный ремнями портфель. — Берчу, если там не будут любить тебя, приезжай обратно, — махали ему провожающие женщины. — Держись, Бертул, и не пьянствуй! — крикнул кто-то еще. — Уедем в совершенно новую и последнюю жизнь! — сказал отъезжающий, когда кассирша захлопнула дверь. — До самого конца, до. Бирзгале, — важным голосом заказывал он билет, будто Бирзгале находилась где-то за Лондоном.
В прошлую ночь праздновалось его расставание с Гауяскалнсским санаторием, в котором Бертул Сунеп проработал девять лет на поприще культуры — библиотекарем, заведующим клубом, порой не отказываясь по совместительству и от должности аккордеониста, хотя с нотной грамотой был знаком лишь в общих чертах. Июльское солнце угнетало, совсем как дешевый венгерский ром с головой мавра на бутылочной этикетке. Положив портфель на колени, Бертул уткнулся в него лбом. Глядя со стороны, казалось, что он глубоко задумался, даже что-то придумывал, потому что временами вдруг откидывал голову и выпрямлялся. Потом Сунеп решил не прикидываться трезвым и полностью отдался мягкой дреме и мечтам о будущем. Просыпался он только на остановках, когда автобус тормозил. Приоткрывал глаза и слепнул от зелени лугов. Зеленые сны… как у теленка… Будет ли и впредь все таким же зеленым? Не было ли глупостью оставить насиженное местечко и бесплатные обеды в комнатке санаторской поварихи Алмочки? Сегодня на обед был бы… жареный цыпленок с белым соусом. Но за это Алмочка требовала высокую плату — ему даже в клубе во время исполнения его непосредственной работы и обязанностей запрещалось разговаривать с молодыми женщинами, а женщин среди больных санатория было не меньше половины, и, когда он однажды во время экскурсии с одной… немножко погулял по Терветскому парку, Алмочка добилась, что его оставили при одной зарплате заведующего клубом, на шестидесяти рублях в месяц; она, очевидно, полагала, что бедняка легче приручить и обженить. Из этих шестидесяти рублен двадцать уходило еще на алименты сыну. С июня месяца сын стал совершеннолетним, эра алиментов кончилась. Когда он вечерами читал журналы о кино, в которых иной раз помещались нагие женщины из фильмов капиталистических стран, Алмочка отнимала у него журнал. «Читай меня…» Бертул читал, но теперь этот роман уже прочтен. Хуже не будет; по крайней мере, он свободен. «Я… начну совсем новую жизнь, может быть даже влюблюсь. Если влюблюсь, то разумно, потому что сорок пять не двадцать; тогда эта дамочка из ВЭФа поймала меня в Знедоиском парке у бассейна и затащила в жасмины. Любовь? Когда я лежал в санатории больным и бледным, она ушла вместе с сынишкой-де, мол, потому, что она боится схватить чахотку». С тех пор Бертул верил женщинам не дольше одной ночи. Рубашки теперь изобретены такие, что даже мужчина сможет выстирать их, если сначала помоет руки. Зато с брюк отлетают пуговицы. Эти светло-синие брюки шили в артели два месяца — сидят хорошо, отсутствие одной пуговицы незаметно, но если оторвется еще одна? А если зимой он схватит насморк? Не такой уж он крепыш со своими обрезанными легкими. Кто станет заваривать чай из черной смородины и жарить ему яичницу? Вернуться? Нет. Алма вбила, себе в голову мечту о трехстворчатом платяном шкафе, а ему нужны новые брюки, более широкие. К тому же Алма загорает на берегу Гауи в комбинации и купается в кружевных трусиках, хотя все чулки, в каком бы магазине ни были куплены, ей тесны… «В Бирзгале я обставлю комнату как в том немецком журнале — на полу шкура леопарда, голова буйвола на стене, высушенный крокодил будет висеть под потолком..» Сунеп открыл глаза и понял: они въезжали в город — автобус так затрясло на разбитой мостовой, что никакие рессоры не могли амортизировать эти безбожные ухабы. — Вот вам разница между деревней и городом, — сказала кассирша. — Может быть, это и хорошо: все просыпаются. Тут Сунеп заметил, что в аквариуме, как прозвали этот стеклянный автобус, и в самом деле находилась золотая рыбка, нет — белокурая щука. Прическа как у Мерилин Монро, опять вошедшей в моду, — кок и волна волос прикрывала половину левого глаза. Подбородок, возможно, слишком угловат и решителен для женщины. Она сидела по ту сторону прохода и глядела то ли на Сунепа, то ли на его пиджак цвета лютиков. Лицо женщины оберегала кирпичного цвета пудра, а брови и ресницы были такими же желтыми, как и волосы, а вовсе не черными от рождения, как у большинства блондинок в последние годы. Когда автобус остановился, незнакомка выпрямилась во весь рост перед Сунепом. Кремового цвета костюм демонстрировал фигуру помощнее, чем у самого Сунепа, ибо его фигуру создавали в основном накладки портного. К Сунепу было обращено то, что прикрывала васильковая блузка. Валькирия, настоящая валькирия, только без лошади. Потом он заметил руку женщины и кольца на нескольких пальцах. Гм, и как она целится? Груди-то у нее значительно ниже глаз, и все же она угодила ими, должно быть, в сердце не одного мужчины. Сунеп почуял, что в правой стороне груди у него недостает нескольких ребер, которые выломали туберкулезные врачи лет пятнадцать назад. Такие валькирии не для него.
Сунеп со своим имуществом укрылся от солнца под навесом на автобусной остановке и оценивал окрестности, которые он сам выбрал. Рижская улица, наверное, главная. Она покрыта асфальтом, про который можно было сказать: заплата на заплате заплатой погоняет. В этом городе на землю не скупились — торцы домов, редко где соприкасались, повсюду росли могучие деревья, особенно ели. Здесь новогодние елочки сажают, а не пускают на растопку, размышлял Сунеп. Налево, должно быть, центр города, потому что там дома стояли плотнее. Сунеп с чемоданом направился туда. На серость архитектуры нельзя было пожаловаться. Дома, низкие, как буханки хлеба, обшитые тесом, тут дружно перемежались с оштукатуренными цементным раствором. На подоконниках сняли соблазнительно румяные фуксии, и мечтали о Мексике облепленные тлей кактусы. На широком перекрестке улиц, который, наверное, был географическим центром города, гордо возвышалось своеобразное здание, помесь церкви, универмага и семейного особняка. Вместо герба его украшала надпись «1935». Будто завернутую в жесть свечку, держало это здание на перекрестке остроконечную башенку, в которой едва ли поместился бы стул. Второй этаж с угла нависал над первым. Так образовался уютный навес, под которым открылась просторная витрина киоска. Здесь на ящике с пустыми бутылками сидел небольшой, но плечистый лысый человек и потягивал из бутылки пиво. Его возраст нельзя было сразу определить. Карие глаза казались молодыми и зоркими. Волос не было, а когда их нет, то и не известно, какие они — седые или черные. — Извините за беспокойство, — обратился к нему Бертул. — Наукшенский пиво. Ха-ха-ха! — У плешивого была привычка посмеяться в конце каждой фразы. — Где тут дом культуры? — Ступай по этот улица, потом направо, за угол. — Старик встал и застегнул две верхние пуговицы клетчатой навыпуск рубашки. От голого живота видным остался только маленький уголок. У старика был чуть ли не гипнотизирующий взгляд. Эдаким взглядом можно зарабатывать на жизнью Нигде Латвия нет такой большой дом культуры. — В Руене, говорят, тоже очень большой, — заметил Сунеп. — Нет, нет, я там родился. Сегодня в буфет привозили лимон. Вдруг где-то на полях за городом раздался трескучий шум, который быстро нарастал до грохота реактивного двигателя. — Кипен, телевизорный Кипен, — прислушиваясь, сказал старик. Мимо промчался красный мотоцикл с высокими рогами. За них держался одетый в красную нейлоновую куртку молодой человек. На перекрестке он резко повернул машину, упершись ботинком в мостовую, и остановился под вывеской «Радио — теле». Сунепу показалось, что на месте поворота в асфальте осталась яма. — Вы не хочет лещ, мне привозил из Буртниек озер? — Спасибо, у меня нет плиты. — Если вы здесь будет жить, я знает комната. Со столок… Один старый дева, у него есть корова… — Спасибо, мне еще надо оформиться, — Сунеп отказался от пансиона. У красного мотоцикла он остановился. На обоих брызговиках готическим шрифтом было написано «Мунтис Кипен род. 1950 не женат ул. Лауку 3 группа крови II». Там же была приклеена оголенная в дозволенных пределах блондинка, думается, англосаксонского происхождения. Дом культуры находился в указанном месте. Серый оштукатуренный двухэтажный фасад с полуколоннами по обеим сторонам дверей, но за фасадом поднималась куда более высокая безоконная коробка. Неужто сцена с чердачным помещением для хранения и подъема декораций? Сунеп обошел вокруг здания. За ним начинался парк, в котором на зеленой лужайке росли величественные липы. Ряды — скамеек, лесенки, эстрада для певцов и для танцующих настил. За обломанной сиренью был спрятан навес для буфета. Парк огораживал забор и еще берег реки, обросший ветлами. Эти ветлы, разумеется, были достоинством танцплощадки: во время танцев свалиться в реку, даже будучи навеселе, мог только тот, кто сам этого очень пожелает. Да, здесь можно бы развернуться! Но вокруг буфета росла невытоптанная трава… Какое упущение! С торца здания имелась дверь с надписью «Дирекция». В комнатке сразу за дверью, сидя под фикусом, двое мужчин смотрели телевизор. Между ними и экраном находился стол с бумагами и пишущей машинкой. Значит, бухгалтерия. Который из них директор, а кто бухгалтер? Бухгалтер, когда его называют директором, обижается редко, хотя в душе считает, что директор без него — это топор без топорища, но директора назвать бухгалтером было бы грубостью. Оба примерно пенсионного возраста. У одного были волнистые, седые волосы, широкое лицо с маленьким подбородком, улыбка, белая рубашка с галстуком. Другой, с круглым, даже летом бледным лицом, короткими" с пробором волосами, был из тех, кого называют обычно толстяками. В синей шелковой рубашке с короткими рукавами, в сандалиях на босу ногу, он плотно втиснулся в глубокое кресло и опирался ладонями о колени. Только директор может позволить себе одеваться хуже бухгалтера. Сунеп обратился к объемистому: — Вы — директор дома культуры? Сунеп. Мы договаривались по телефону… Толстый тут же поднялся и ответил высоким голосом, часто откашливаясь. "Начало сердечной астмы", — будучи специалистом по легочным болезням, констатировал про себя Сунеп. — Ждали, очень ждали. Наш бухгалтер, — познакомил директор с аккуратно одетым. — Бока, — будучи учтивым, невнятно пробормотал бухгалтер. — Прошу! Моя фамилия Касперьюст. — Директор открыл дверь в другую комнату. Сунеп вошел в стандартный кабинет директора. Серийные книжные полки. На них вымпелы за хорошее пение и пляски. За стеклами, окостенело вытаращив глаза, в национальных костюмах разных народов лениво развалились куклы. Берестяные туеса для хранения воздуха. На стене висели болотного цвета пиджак, брюки и черная круглая шляпа. Директор, наверное, танцевал или пел в хоре ветеранов труда. Стекло на письменном столе было чистым — ни бумаг, ни пыли. В этом доме культуры все бумаги, должно быть, исписывал бухгалтер. Директор Касперьюст плотно втиснул свою спину в спинку полукруглого кресла. — Я вас очень ждал, — еще раз заверил Касперьюст, затем встрепенулся: — Трудовая книжка при вас? Сунеп подал очень чистую книжечку. Касперьюст, перелистывая, бормотал: — До 1959-го электрик, с перерывами… И вдруг до 1964-го не работает! — Он поглядел на Сунепа широко раскрытыми, слегка навыкате глазами. Эти глаза, а не характер придавали Касперьюсту солидную серьезность, сообразил Сунеп. Улыбаясь, он передернул полоску усов: — Не бойтесь, в тюрьме не сидел. Туберкулез! Санаторий, операция. Ждал, пока медицина наберется опыта, потом вторая операция — и вот совершенно здоров. Последующие девять лет был на культурном поприще санаториев. — Хорошо, очень хорошо! — Касперьюст два раза стиснул зубы, чтобы придать большую значимость своим словам. — А теперь о положении в доме культуры, Совершенно откровенно! Последняя фраза была излишней, потому что в Бирзгале все равно дольше девяти дней или девяти месяцев ничего нельзя было утаить, но такова уж на сегодня формула хорошего тона. — Почему от вас ушел прежний художественный руководитель? — спросил Сунеп. — Поженились, как угорелые, летом… Прежний директор женился на прежнем художественном руководителе, вот так-то! Хороший был директор, но весной прислали из рижского техникума художественного руководителя в коротком платье. Поженились и говорят; одному еще можно, но семье на девяносто рублей прожить нельзя. Оба теперь работают в трикотажном цехе. Она вязальщицей, он контролером, проверяет размеры джемперов. Даже от общественной свадьбы отказались. Общественная свадьба бывает, мол, только у собак… Вот тогда и уговорили меня, Я работал маляром четвертой категории. Умею также писать стильные буквы и вывески. Но весной пристала ко мне астма. Когда разволнуюсь, не могу выдохнуть воздух, грудь наполняется, как баллон… — Касперьюст задержал дыхание, приложил ладони к ребрам и, выпучив глаза, показал, как весной он надувался воздухом. — Врачи категорически запретили иметь дело с красками. Тогда меня, упросили сюда. Руководить умею, в моей бригаде было маляров больше, чем весь персонал в доме культуры. Недавно побывал на курсах руководителей. Один принцип я особенно зарубил себе на носу: "Руководитель прежде всего должен взвесить, делать ли ему вообще что-нибудь, то есть не помешают ли его дела чему-нибудь". Нужен еще только художественный руководитель. — Допустим, — глубокомысленно протянул Сунеп, не желая вслух выражать свою радость от того, что предвидится полная художественная самостоятельность. В работу втянетесь постепенна, теперь сенокос, на это время я распустил самодеятельность, коровам нужны корма, а не хоровые песни. — А тем, кто сено косит? — возразил Сунеп. — Тем зимой нужно будет молоко. Осенью начнем, то есть продолжим все как при бывших руководителях. У нас тут действуют… — Касперьюст вынул из ящика стола зеленую целлофановую папку. — Женский ансамбль "Волынка", в сопровождении мужчины, то есть скрипки, поет также и на крестинах и на похоронах, если не слишком холодная погода. Клуб девушек "Трясогузки", в нем учат всему, что должна знать женщина. Эротики, разумеется, мы не касаемся. — Понимаю, на то и существует самообразование, — согласился Сунеп. — Курсы бальных танцев, — продолжал Касперьюст. — Курсы шитья. Правда, швейные мастерские подали протест, посмотрим, как будет дальше, и еще общественный факультет народного университета на темы "О вкусах спорят" и "Твое призвание". — А план выручки? — тихо спросил Сунеп. Касперьюст с облегчением вздохнул: — Вы вникаете в положение. Насчет плана у меня болит голова. Летом трудно… — Да нет, лето не только для колхоза, но и для дома культуры пора жатвы. Танцплощадка на берегу реки может собрать по меньшей мере пятьсот танцующих — раз в неделю. С каждого хотя бы по полтиннику… — Признаться, как-то не получается… Заботы семейные — у дочери родился мальчик, славный парнишка! — Касперьюст, улыбаясь, пухлыми ладонями изобразил нечто круглое, возможно попочку ребенка. — Дома мы его прозвали Хлопотун. Жена нянчит, а я должен поливать помидоры, по субботам отвожу на рынок. И цветную капусту. Ни у кого в округе такая не вырастает, вытягивается — а головок нет… — Деньги будут, товарищ директор, для того и предусмотрен в штатах художественный руководитель! — Сунеп, сознавая силу своего сверкающего взгляда, пристально посмотрел на Касперьюста. — Только вы и впредь должны придерживаться принципа — сначала подумать, стоит ли вообще что-нибудь делать. — Это я могу! С удовольствием! Потом они обошли поле своей будущей деятельности — весь дом культуры. — Начнем с гардероба, сказал Станиславский, — процитировал Сунеп. Фойе было просторным, в наружной стене шесть окон, свет которых приглушали занавески из желтого тюля. — Недостает портретов лучших людей города. У случайного приезжего может создаться впечатление, что в городе нет хороших людей. — Есть, есть, и очень много… хорошие труженики, — покрякивал Касперьюст. Гардероб был отгорожен вертикальными реечками, закрепленными на расстоянии ладони друг от друга. — Клетка для пьяниц, — засмеялся Сунеп, но тут же осекся, потому что Касперьюст остался серьезным, как огурец. Оба вошли в зал, Сунеп от изумления опустил руки и стал по стойке "смирно". — Ну, черт, — выдохнул он, сокрушенный размерами и покоем зала. — Какая громадная духовка… Зал со скошенным по бокам потолком и в самом деле напоминал духовку, в которую можно было бы поместить двухэтажный дом. — Здесь я подолгу не задерживаюсь — пол… — покашливал Касперьюст. Действительно, от вощеного паркета заметно несло скипидаром. Их шаги гулко отдавались от стен и потолка; они пересекли зал, подошли к сцене. Перед сценой во всю ее ширину шло возвышение. — Там внизу хранится всякая рухлядь, стулья без ножек и всякое такое… — Это же яма для оркестра! — воскликнул Сунеп, и он уже представил себе, что перекрытие снято и там внизу у лампочек, как у ярких светлячков, сидят скрипачи в белых фраках и дирижер с поднятой палочкой готов начать вступление к оперетте "Летучая мышь". — У нас хороший оркестр, ему нечего прятаться в яме, — пояснил Касперьюст. Сцена была шагов двадцать в глубину. Потолок в сумерках не проглядывался. Виден был только подвешенный на тросах мостик и далеко, совсем как на краю вселенной, угадывались тросы и другие устройства для транспортировки декораций. — Какая техника, чердак… Тут можно устроить бал-маскарад — с меняющимися декорациями!.. — Ненужное помещение. Там можно было бы оборудовать два этажа под квартиры. Крыша цела, стены крепкие, пробьем окна. Зимой прикинем. — Допустим… — протянул Сунеп. Он любил сцену, поэтому с ужасом подумал, что хозяйственный Касперьюст, который в оркестровую яму уже набросал трехногие стулья, мог бы на самом деле спустить с чердака декорации и устроить там жилой отсек… Тогда по этим крутым деревянным лесенкам будут ковылять тетушки с корзинками картошки. Нельзя будет посмотреть вверх, чтобы не упасть в обморок, от изобилия плоти и скудости белья. Фу… В просторном подвале под сценой среди змеевидных кабелей и шкафчиков с выключателями за невзрачной дощатой дверцей находилась мастерская декоратора-оформителя. Подвальное полуокошечко, двухконфорная плитка, горшки с краской и клеем, небрежно сбитый стол, о тяжкой и творческой судьбе которого свидетельствовало множество заросших грязью ножевых ран и несмываемые киноварно-красные, свинцово-белые и другого цвета пятна. В углу аккуратно накрытая тахта. Наиболее ярким украшением комнатки были стены, на которых между афишами "Летний бал в духе предков", "Золотая осень в Бирзгале" были наклеены этикетки с бутылок самых разнообразных алкогольных напитков. Они сразу привлекли внимание Сунепа, как знатока. — Наукшенское пиво, пить можно. "Паланга", ну, знаете, это смертельно. О, французская анисовая настойка "Рикардо"! Разбавишь водой, становится белой, как молоко, а рот благоухает, так что целоваться можно даже на следующий день… Этот художник знает толк! — Это… дело нескольких поколений, — признался Касперьюст, потом его глаза расширились и посуровели. — Хотел было смыть эти бумаги, но декоратор говорит: "Тогда я ухожу!" Пьянством нечего хвастаться, пьяницей может стать всякий. — И все же в нашем обществе настоящих пьяниц мало, ибо объемы производства возрастают. — Согласен, забулдыг больше, чем пьяниц. Взять хоть этого, — директор указал на брюки, висевшие на стене, что представляли хозяина квартиры, — художник Нарбут, в прошлом месяце приехал из Риги. Говорит, меня знают, обо мне пишут критику в газетах. И то правда. Знает краски, правильно разводит олифой, основательно грунтует полотно, я сам эту работу понимаю. Принял его, пусть, мол, подрабатывает эти семьдесят; мы с его отцом в Валмиере вместе малярили; а этот на тебе — намалевал один лозунг, подхватил свой плоский ящик и пропал, вот уж вторая неделя пошла. Гоняется в колхозе за передовиками, портреты рисует; говорит, за это министерство платит большие деньги, даже тысячу за штуку. При виде тахты Сунеп вспомнил, что сам он в эту ночь мало спал. — Совсем забыл — как с квартирным вопросом? — Думали. Беспокоились. Ванной не будет, но крыша цела. Касперьюст надел соломенную шляпу с черной лентой, и они отправились обедать. Улица, на которой стоял дом культуры, наверное, кончалась на берегу реки, в конце ее виднелись прибрежные кусты. — Когда-то там был мужской пляж. Теперь это не имеет значения, каждый может купить себе плавки и купаться вместе с женщинами. В другую сторону мощеная улочка мимо низких одноэтажных домов, окруженных садами, уводила в гору. Камни, столетиями провалявшиеся в окрестных полях, привезенные сюда, долго потом терпели на своих твердых макушках давление окованных железными ободьями колес, а лошади, будто исполняя песню, ежедневно постукивали о них подковами. Все выдерживала эта булыжная мостовая, осенью не вымокала, весной не выпучивалась… — Эта улица не ремонтировалась лет пятьдесят, — сказал Касперьюст, когда носок коричневых замшевых туфель Сунепа задел за выпиравший камень. — И не надо. Ступая по такой мостовой, ни один пьяница не уснет. Они миновали молочный завод. У витрины стояли желтые цистерны молока; будто осиное гнездо, шипел пар. Затем улочка присоединилась к разбитому асфальту Рижской улицы. В стороне стояло желтое двухэтажное здание. Кубические формы, балконы, с торца терраса, фасад с овальным проемом и над крышей постоянный флагшток. Конструктивный стиль тридцатых годов. На лестнице кланялись двое гривастых молодых людей, протянув друг другу сигареты, они пытались прикурить бесспичечным способом. Здесь, несомненно, находился ресторан. Раз уж кабак, то должна быть и церковь. Была. На другой стороне улицы посреди старых лип и елей виднелись белые развалины бывшей церкви. — Красивое место! — сказал Сунеп, потому что отсюда открывался вид на излучины реки в низине и на дома городской окраины за рекой, которые окружали кущи деревьев, в особенности стройные ели возле каждого дома. Этот город еще находился в той счастливой норе, когда молено разрастаться вширь, предоставляя будущим поколениям карабкаться в небо. Зал ресторана был уютным, несмотря на то что уже несколько директоров старались усовершенствовать его. Массивные, закрепленные намертво трехместные сплошные Дубовые диваны разделяли его на несколько секций. Направо стоял полукруглый прилавок с витриной для закусок. Дубовая панель с витрины была наполовину содрана, заменил ее несомненно более современный пластик небесно-голубого цвета. Потолок был разделен балками на квадраты. Не доверяя скрытой проводке, один из директоров протянул над штукатуркой сеть проводов, толщиной с палец. У противоположной стены грустила традиционная пальма кабаков Латвии. — Раньше вон на той стене были нарисованы древние латыши, пьющие из кружек — наверное, пиво. Страшно крепкие краски. Когда я работал в малярах, нам пришлось сбивать штукатурку, — сказал Касперьюст. — Почему сбивать? — Директор ресторана считал, что картина навязчиво подталкивает к пьянству. — После этого пили меньше? — Надо полагать. Во всяком случае, пили по-другому. Тут за прилавком явилась она, вышла из соседней комнаты. Белокурая валькирия, которую Сунеп заметил в автобусе, теперь в волосах ее была накрахмаленная белая диадема. Затененное острие выреза платья, притягивая взгляды, замыкала сверкающая брошка. Слишком чистое явление по сравнению с пятнистой поверхностью незакрытых столиков. Лет сорока, оценивал Сунеп. Кончиками пальцев тискает по утрам лоб и массирует подбородок. Может быть, даже делает зарядку, что у латышских женщин вообще, а тем более в таком возрасте явление из ряда вон выходящее, потому что женщины тогда полагаются больше на строгость общественного мнения, чем на строгость телесных форм. Замужняя? Незамужняя? По многочисленным кольцам на пальцах обеих рук этого нельзя было определить. — Добрый вечер, Анни, я привел нового клиента, — сказал Касперьюст. — Наш новый художественный… Анни приоткрыла подкрашенные блекло-фиолетовой краской губы. На краю улыбки поблескивал только один золотой зуб. Имеет вкус, иная загромождает рот золотом, как ювелирную витрину. Анни протянула до локтя оголенную руку. Рукопожатие было подчеркнуто легким движением бюста. Атака, подкрепленная минометами, подумал польщенный Сунеп, отвечая пристальным взглядом карих глаз и подергиванием усиков. — Моя фамилия Сунеп. — Мы знакомы уже два часа. Межлуйка, — ответила Анни вибрирующим голосом драматического сопрано. Голос шел из глубин, из выреза платья. — В табачных облаках ресторана вы сохранили чистый голос. — Сунеп произнес первый комплимент. Самообслуживание. Черт возьми, зачем он полез в ресторан, если в карманах с прошлой ночи, когда он тратился как польский граф, осталось только по скомканному рублю… По крайней мере, хорошо хоть то, что директор непьющий. Все же иногда это положительное качество. Сунеп сегодня еще считается гостем, а не подчиненным, так что пока за Касперьюста платить не надо. Следовало бы ввести традицию голландцев и других народов ростовщиков и ювелиров — каждый всегда платит за себя. Сын, если гостил у предков, уплачивал матери за пирожные. Сунеп положил на свой поднос салат из свеклы за семь копеек, треску в томате за семнадцать и хлеб за две копейки. — У нас сегодня шницель по-венски — с лимоном и килькой, — соблазняла Анни, получая двадцать шесть копеек. — Благодарю, но привычка — после шести ничего серьезного. Пожалуйста, бутылку пива. — Отказаться от шницеля легче, чем от пива, шницель стоит рубль девятнадцать, а пиво — тридцать две. Директор тоже положил себе только мясной салат за двадцать две и стакан кефира. — Просто так… перекусить. У меня ведь дома жена. Касперьюсту, наверное, жена утром наказывает: "Не вздумай таскаться по столовым — кто ж тогда будет доедать вчерашний суп!" Они сели под пальмой. Помещение архитектор сориентировал правильно: с заречья вечернее солнце посылало уютный вечерний свет. Утреннее солнце только раздражало бы и без того хмурых пьяниц, а какой же пьяница с утра не хмур. — Эта буфетчица Межлуйка… замужем? У нее так много колец, что не поймешь. — Сунеп успел принести себе вторую бутылку. — Сейчас нет. Был муж, ушел, второй помер, третьего прогнала. — И от каждого памятник на пальце. Помню картину военных лет. Пушки. На стволе после каждого сбитого самолета нарисовано по белому кольцу. Женские пальцы в этом отношении подобны стволам боевых орудий. Касперьюсту этот худрук нравился — многое знает. — Хе-хе, я вам потихоньку скажу… — Касперьюст наклонился. Край стола врезался глубоко в его синюю рубашку. — Это, конечно, неприлично, но некоторые ее зовут не Межлуйкой, а Межляжкой. Да у нее есть за что… Хе-хе. — Она, должно быть, с эстонской границы — это окончание фамилии "луйка". — Может быть, фамилию подбросил кто-нибуль из мужей. Ну так я вам покажу квартиру, временную… — Если вы любите кофе — для хороших гостей у меня хороший кофе. — Сунепа проводила улыбка Анни. Вот это мужчина в городе! Мелковатый, но одет обдуманно, у него свой стиль — волосы гладко зачесывает, не лохматый, как другие. Английские усики. Солидный — не обезьянничает черными очками. Денег у него, правда, маловато. На пиво хватило, на шницель уже нет. Неплохо: бедные не задаются. Сунеп с директором свернули с Рижской улицы в немощеный переулок направо. Он вел вниз к реке и был длиною всего в три дома и три сада. Улочка походила на газон с пешеходными тропинками по бокам. Перед последним домом паслась на привязи коза, которая пыталась боднуться с другой привязанной козой, таким образом они перегораживали цепями всю улицу. — В этом доме исполком выделил одну квартиру для дома культуры. Двухэтажный однотрубный дом был когда-то выкрашен зеленовато-коричневой краской и покрыт толем. Двор отгораживали темно-зеленые кусты сирени. У стены дровяного сарайчика поднималась двухэтажная клетка, из которой сквозь проволочные сетчатые двери поглядывали на Сунепа кролики и принюхивались. — Внизу живут Скродерены. Младший сын Андрис пишет стихи, если нам нужно к юбилею или по случаю поздравлений. Очень быстро пишет. Одна тропинка вела сквозь сиреневые кусты. — На реку ходят, воду черпают с мостков. Странным казался второй этаж дома: у торцевой комнаты одна стена и часть крыши состояли из мелкоклетчатого стекла. Несколько шибок было разбито. — В прежние времена, когда фотоснимки делали при свете взрыва магния, там проживал фотограф Уступ. Нужный чулан на полуэтаже, — заметил Касперьюст и отпер филенчатую дверь с деревянной ручкой, которая заполняла ладонь, как рукоятка пистолета. В огромной комнате стояла застеленная железная кроватка, стол и массивный стул. И графин на столе. — Из дома культуры можете взять умывальный таз и кружечку, — разрешил Касперьюст. — Обживемся, — бодро ответил Сунеп, потому как воспитанный человек не выказывает усталость. Остекленная дверь вела в помещение, у которого одна стена и часть потолка были стеклянными в клеточку. Через пробоины струилось свежее вечернее дуновение. Если бы все стекла были целы, воздух пропах бы дохлыми мухами. В этой комнате единственной утварью была пустая бутылка из-под лимонада. В обоих помещениях стены украшало несколько афиш. Афишами иногда кое-что прикрывают. Худшим могло бы оказаться — следы клопов… Осторожно, словно подол дамы, он приподнял нижний край афиши "Волки и овцы". На Сунепа не глазели ни кровожадные клопы, ни разъедающие одежду тараканы — вместо этого разукрашенные королевскими лилиями обои были просто потерты. Под "Одним осенним кленом" и "Приглашением во дворец" даже штукатурка выкрошилась. Касперьюст изобрел не только своеобразный, но и дешевый и быстрый метод ремонта. Внеся чемодан и портфель, Сунеп начал устраиваться. На спинку стула повесил многослойно сорочки и другое белье. Из-за печки вытащил полено, привязал посередине его веревку и создал таким образом вешалку для пиджака и пальто. Придется воровать, на одну зарплату эти апартаменты обставить невозможно. С графином отправился за водой. Прошел сквозь сирень, спустился по укрепленным дощечками ступенькам до мостков и, нагнувшись непривычно низко, с бульканием зачерпнул в графин воду. Река — так себе, метров десять шириной, ленивая, местами даже стоячая. Там над водой плавали листья и кувшинки. Прикованные к берегу слоновыми цепями лодки свидетельствовали о том, что река судоходная и бывали случаи, когда использовались чужие лодки. Возле потухшего костра валялись целлофановый пакет от дамских чулок и чисто выеденная банка из-под трески. В хозяйстве пригодится — Сунеп поднял консервную банку. Он положил ее у кровати — станет пепельницей, ибо, живя в одиночку, опасался пожара. Никто в такую минуту его не разбудит, не успеешь и брюки надеть. К салату из свеклы его не приучали, хотелось есть. В Копенгагене в таких случаях пьют воду, пишет Гамсун в книге "Голод". Сунеп схватился за горлышко графина. Пить или не пить? Котят в реке топят, такова судьба котят и городских рек, — но разве в приличных колодцах не тонут лягушки? Тут в дверь постучали, и Сунеп отставил графин, чтобы не подумали, что он схватил его с целью самообороны. — Войдите! — Он включил голую потолочную лампочку. В Гауяскалнсском санатории он не успел вернуть десять рублей шоферу, семь электрику, но это были картежные долги — значит, кавалерские долги, которых не взыскивают; но пять рублей лаборантке… В Бирзгальскую книгу адресов он ведь еще не был занесен. Вошел длинный, тощий юноша в джинсах, кедах, рубашке, нижние углы которой были завязаны модным узлом над пупком. Светлые, мягкие волосы вились и опускались на Лоб яйцевидный, взгляд нервный. Нечто гамлетовское. — Добрый вечер, — сказал вошедший искусственно низким голосом, поставил на стол бутылку молока, сунул ладони в пришитые спереди штанов карманы и опустил большой, мягко округлый подбородок, как огурец, на грудь, чтобы можно было смотреть исподлобья. Хоть поза и стандартная, но стандарта всемирного. — Меня звать Андрис Скродерен, с нижнего этажа. Мать велела принести молоко, потому что у вас, мол, еще ничего нет. Можете получать его каждый день. Только — это козье молоко! — Мне нравится козье молоко, я в свое время, болея туберкулезом, пил его вместо лекарства. Извините, что не могу предложить присесть. Скродерен ходил по комнате, демонстрируя темперамент. — Завтра принесу вам стул, у нас на чердаке в сарае есть несколько расхлябанных. Значит, вы будете худруком нашего сарая, пардон, дома культуры. Там нет никакой жизни. Надо бы устроить литературный вечер, пригласить своих поэтов и художников. У меня несколько стихотворений напечатано в районной газете. Но теперь редакция что-то жмется. — И глаза поэта мрачно загорелись, он вспомнил последний разговор в редакции: "Знаете ли вы, как в Америке ограничивают урожай пшеницы? Доплачивают, чтобы не сеяли. Мы будем высылать вам бесплатные экземпляры газеты, а вы за это обещайте не присылать стихов". — Литературный вечер в доме культуры абсолютно необходим, — подтвердил Сунеп в благодарность за молоко. — Вы тоже — работаете в области культуры? — Нет, не дано; я грузчик в потребсоюзе. Надо будет осенью перебираться в Ригу. — Осенью здесь будет другая культурная жизнь. — Ну, доброй ночи. Мать сказала, что у нас можно брать и яйца. Напившись молока, Сунеп пододвинул стол поближе к кровати и выгрузил на него свою библиотеку, состоявшую из двух справочников: "Календарь природы", в котором можно было найти все необходимые для клубного работника юбилейные и памятные даты; и второй — книжечка в черном переплете, которую однажды, дурачась, подарили ему больные санатория, — в одном переплете уголовный и гражданский кодексы ЛССР. В эту минуту Сунеп испытывал легкую грусть по обжитой чердачной комнатке над санаторным клубом. Там каждый вечер он клал у постели свежие газеты, журналы и читал их до полуночи. Читал также взятые на время у больных журналы мод, начиная с эстонского "Силуэта", кончая боннской "Бурдой", потому что он хотел знать, как живут в мире люди, в том числе мужчины, какие колготки носят, какие галстуки подвязывают, какие корсеты уменьшают серединную часть фигуры и как в игральном зале у рулетки в Монте-Карло крупье обеими руками в обе стороны одновременно раздает жетоны и выплачивает деньги. Сунеп тоже сумел бы жить, как живут на свете, но всегда не хватало денег… Ночь в Бирзгале была идиллически тихой. Две собаки за рекой лаяли дуэтом, и петух из сарайчика Скродеренов звал утро. Утром умываться не то что хотелось, но нужно было, иначе Скродерены могли бы рассказывать, что новый жилец не моется. В зелено-белых пижамных штанах, костляво-ребристый, полотенце через плечо — Сунеп отправился к реке. В реке он отыскал глубокую яму, в которой не росли даже белые лилии, и там поплескался. Вернувшись, Сунеп нашел у дверей бутылку молока. Вот где уместно слово "культурное обслуживание"! Прямо как в Англии или Голландии, обрадовался Сунеп. За молоко обычно расплачиваются два раза в месяц. Значит, по крайней мере две недели можно пить спокойно. По пути в дом культуры он завернул к ресторану и на вывеске прочел, что заведение называется "Белая лилия". Название, наверное, выбиралось в надежде, что оно умерит пьянство. Анни не было. Сунепу из краника налили в чайный стакан обычный, натуральный, полезный для здоровья кофе, от которого не колотится сердце и которое не влияет на почки. В киоске он купил молочную колбасу, сыр, маргарин и хлеб, чтобы стать независимым от цен мясных блюд ресторана, иначе до зарплаты не дожить. В нише киоска на горлышках пустых бутылок сидел востроглазый мужик в клетчатой рубашке и тянул пиво. Лысая башка загорела до цвета луковичной шелухи и поворачивалась вслед прохожим. Сегодня утром у его ног лежал прежний портфель, из которого выглядывал стеклянный глаз уровня и испачканная глиной рукоятка молотка. Значит, печник или горшечник, а может быть, даже художник на керамике. Пока киоскерша взвешивала молочную колбасу, печник поднял бутылку и сказал Сунепу: — Твое здоровье! Ха-ха-ха! Ты теперь доме культур будешь учить играть театр. Если ты мне поставишь бутылка пиво, я этот печка комнате актер сложу до осень. — Потом он стал рядом и понизил голос. — Если тебе когда-нибудь вечером нужен водка, я тебе скажу, где можно достать. Я живу на берег река за дом культур. — Все это он произнес только для Сунепа, потом, по своей привычке, громко и внезапно рассмеялся, так что сам черт не мог понять, в шутку ли говорил он или всерьез. — Я же вижу, что тебе тоже нравится этот штука. Ха-ха-ха! — Потом опять потихоньку: — Сегодня в обувной отдел будет туфли на каучук подошва. Пошли, иначе опять попадешь и газета. — Многозначительно прищурив глаз, он взял портфель и, широко размахивая им в такт шагов, ушел по улице, которую Сунеп еще не успел узнать. — Это Шепский, — пояснила киоскерша. — Я так и думал, — ничего не думая, сказал Сунеп. Там, где переулок сворачивал к дому культуры, по другой стороне улицы, он заметил салатного цвета киоск с мороженым. Заметил, возможно, потому, что возле него стояла девушка в белом халате. Из пикапа парень выкатил цилиндры мороженого и вставил их в бочки со льдом. Походил он на поэта Скродерена, и распятие тоже виднелось на груди, только волосы на сей раз прикрывала шляпа с завернутыми кверху полями, какие якобы носят в армиях Новой Зеландии и Австралии. Девушка казалась самой красивой из всех увиденных Сунепом в Бирзгале. И девушка, заметив Сунепа или обратив внимание на его желтый расчерченный пиджак, тоже смотрела на него. Внезапное влечение Сунепа к мороженому не остановило даже то соображение, что вместо этого ненужного десерта можно было бы купить буханочку хлеба, который в отношении калорий гораздо более необходим. — Пожалуйста, одно мороженое, но потеплее! — Придется вам согревать его самому! — Красотка, улыбаясь, подала мороженое. Ее волосы даже днем поблескивали фиолетовым оттенком, как лучи луны. Будто их и не укладывали, они сами расползались так вот по плечам, свидетельствуя о долгой работе перед зеркалом и о лаке для волос. Черное обрамление глаз — тоже долгая работа в утренние часы. И открытый, даже по-детски наивный взгляд, будто сама она не знает, что ее полные, приоткрытые, но красивые губы, не то что негритянски круглые губы Бриджит Бардо, так и хочется поцеловать, чтобы потом девушка в изумлении воскликнула: "Разве вам это нравится?" По некоторым признакам можно было догадаться, что под халатом прячется всего лишь экономный купальник из цветастого ситца. Но разве тому, кого природа так одарила, что-то еще нужно? — Вы будете руководить художественной частью, мне Анни говорила, — сказала девушка. Голос ее, в отличие от наивных глаз, казался несколько резковатым, говорила она нарочито безразличным тоном, растягивая слова. — Надо будет и мне принять участие. — В кружке бальных танцев? — Не пойдет! Кто теперь так танцует на вечерах? Наверно, надо совершенствоваться в драматическом. Прошлым летом я снималась в фильме… — В фильме? — Сунеп с уважением повторил магическое слово, которым многие девушки выражают мечту своей жизни вплоть до замужества. — Да. На лугу за Леяскрогском снимали какой-то фильм, об одном колхозе, что ли. Мы кривлялись, будто бы сено сгребали, вроде сахарную свеклу или репу пололи и прорывали. Потом будто бы после работы купались. Там меня снимали совсем одну, в купальнике. — Правильно, у вас божественная фигура. Девушка оживилась, стала говорить быстрее: — Да, у меня хорошие размеры… У Софи Лорен побольше, но она же актриса с мировой славой… Режиссер Микаусис сказал, что с моей фигурой я вполне могу участвовать в художественных фильмах. — Микаусис? Знаком. Мы вместе с ним… немножко прикладывались, — как бы между прочим признался Сунеп. — У вас связи и со студией? — Да. Когда бываю в Риге, захожу к нему в студию. — Супен не лгал, потому что пять лет назадМикаусис два месяца лечился в Гауяскалнсском санатории и вместе с Сунепом выпил бутылку вермута. — Значит, до свидания в доме культуры, уважаемая… — Меня зовут Азандой, — сердечно призналась девушка, забыв, что стиль требует полного безразличия. — А меня — Бертул, а проще Берчу. Сунеп раскланялся и ушел! Никто еще так не кланялся Азанде этим летом. "Она примерно вдвое моложе меня, — вздохнул Сунеп, — но разве в романах не бывало такое… если пожилые господа имеют авто и поместье. А отсутствие денег я могу восполнить долгами…" Гулкими шагами, звучавшими точно в пустой церкви, Сунеп пересек зал и через сцену попал в крыло дирекции. Седой бухгалтер Бока перелистывал бумаги, левой рукой придерживаясь за маленький подбородок. — Вы — уже на полном газу! — приветствовал Сунеп. Бока в ответ приветливо улыбнулся: — Тороплюсь, еще пожарники меня ждут. Директор велел передать, чтобы вы сами занялись чем-нибудь. Если хорошо пойдет дело, послезавтра вернется. — А он-то где — раков ловит, что ли? — Нет, тут мероприятие понадежнее: они с зятем в Ленинград подались, картошку повезли. — Как у вас тут обстоят дела на поприще культуры, ну — вообще? Бока отпустил подбородок и открытым взглядом посмотрел на Сунепа: — Пока денег маловато. Осень на носу, придется из собственного кармана платить руководителю кружка танцев для поколения пенсионеров, преподавателю игры на аккордеоне для детей. Летом ходят без пальто, но осенью нужна будет гардеробщица, — чай, не в Африке живем. — Подумаем, напряжем все силы и мысли! Скажите — кто этот Шепский, который у киоска двадцать часов в сутки пьет пиво? — Официально — гончар, на самом деле безбожная тварь. Это единственный человек в Бирзгале, который работает, когда захочет, — грустно сказал Бока. — Безбожников у нас навалом. — Я не о том, что он неверующий, Шепский грабит своих ближних и дом культуры тоже. Он числится при ремстройконторе. По весне разваливает десяток старых печей, в этом году развалил и в нашей комнате для актеров, а новые ставит только тем, кто ему как-нибудь. — Понимаю — подносит. Но почему же позволяют ломать печи, если знают, что за фрукт этот Шепский? — Людей посредством лекций и литературы учили верить в человека. Все каждый год надеются, что Шепский за зиму исправился. Но помимо всего прочего есть подозрения, что Шепский нечист на руку; так, немножечко имеет слабость к серийным товарам, скажем, к мужским носкам, алюминиевым котелкам или к маргарину в пачках. — У вас прелестная продавщица мороженого. Надо бы привлечь ее для объявления программы… Пока в моде мини-платья… Мужчины станут покупать билеты только для того, чтобы поглядеть на ее ноги. А женщины будут покупать для того, чтобы присматривать за мужьями. — Сунеп уже вообразил себе, как Азанда стоит на сцене, на островке света, по-девичьи невинно и в то же время изысканно бесстыдно поставив одну ногу, согнутую в коленке, перед другой. — Одними ногами программу не объявишь, надо еще уметь читать, — вздохнул Бока. — Эту Азанду зовут и Козандой. Производное от существительного "коза"? Стареющие дамы от ревности порою так именуют своих молодых соперниц. — Допустим… — нейтрально ответил Сунеп. — Раскроем нашу стратегию: где журнал учета работы? Где план? — В кабинете директора на столе. Сунеп вспомнил уютный уголок декоратора с этикетками от бутылок на стенах, вздохнул и сел за стол Касперьюста. Перед ним простиралось стекло, будто замерзшее озеро, в котором, как подо льдом, плавал одинокий календарь. Как свою визитную карточку, Сунеп сунул под стекло цветное фото девушки в купальнике, которое вырезал из немецкого "НБИ". Затем открыл журнал учета работы. "В дальнейшем эту разновидность фантастического романа буду писать я сам", — он улыбнулся, глядя, с какой точностью записано количество слушателей на лекциях и собраниях. 48 и даже 313. Точное число посетителей ведь можно определить только на тех мероприятиях, где продаются входные билеты! Потом Сунеп начал размышлять и фантазировать о дальнейшей работе в Бирзгальском доме культуры, только изредка отрываясь от журнала, поглядывая на тенистые клены за окном. Листья деревьев на фоне побеленной, но смытой дождем стены молочного завода казались необычно чистыми. Женский ансамбль "Волынка" вместе со скрипачом необходим. Пусть поют не только на крестинах и похоронах, но за деньги и на свадьбах, и на юбилеях! Надо поговорить с Бокой, как это можно оформить и зафиксировать в бумагах. Три рубля за песню. Больше пяти вряд ли кто пожелает, чтобы не задерживать выпивку, которую зовут тостами. Хористки получают гонорар натурой за столом, а в кассу дома культуры вносят пятнадцать рублей. Образование у нас бесплатное, а то можно бы кое-что содрать с посетителей Народного университета. Ничего не попишешь, их охраняет конституция. Будем нажимать на курсы танцев. Что обычно учат? Фокстрот, быстрый вальс, медленный вальс, танго и еще кое-что. А что танцуют? Коктейль. Курсы давно отстали от жизни. Будем реформировать! Шейк, твист — хотя это тоже не свежо, однако элементы их чувствуются везде, как говорится, и в кабаке, и в церкви, то есть в доме культуры. Курсы кройки и шитья за 30 рублей. Выше нельзя, там занимаются и старше тридцати. Те умеют повысить голос. Слишком редко мы сдаем огромный зал. Заглянем в абонентную книгу телефонов. Общество охотников. Так. Заставим устраивать у нас смотр трофеев — клыки диких кабанов, шкуры енотов, лосиные рога, лающие гончие собаки на привязи, и все это зрелище откроют трубные звуки охотничьего рога с крыши дома культуры. Охотники должны только уплатить за наем зала. А свадьбы? Тут прежний руководитель оставил статистику, наверное тоже напал уже на денежный след. Поженились тридцать две пары. Латыши все еще любят устраивать свадьбы, как во времена шведов, когда губернатор законом запретил гулять и пить дольше трех суток и пива предписывалось только ведро на глотку. Пусть вкатывают пивные бочки в дом культуры и платят за наем! Сунеп встал и, восторженный, как агент, застраховавший десять "Жигулей" и три жизни, стал шагать по кабинету. От желания действовать он ощутил приятное напряжение в тощих бицепсах. Тут Сунеп остановился возле висевшего на стенке пиджака национального покроя из ткани болотного цвета и черной круглой шляпы, прикрывшись которой Касперьюст в соответствующем кружке тихой рысцой танцевал народный танец "Литениетис". Брюки были уже потрепанными, да и локти пиджака показывали структуру ткани. Нечего прибедняться. В бюджете предусмотрены средства для новых костюмов. Придется списывать не меньше восьми комплектов. Оторвать рукав, показать комиссии по списанию, а остальное надо попытаться сбыть на сторону помимо комиссии. На витрине, рядом с необыкновенно большой свиньей, вырезанной из дуба, у которой вместо седла была прикреплена серебряная пластинка, лежала электрогитара. Надо бы посмотреть, не залежалась ли она слишком. Эту штуковину всегда можно загнать этим горе-гитаристам, которые струны щиплют, как гусей. Сунеп снова сел. Разумеется, не будем забывать и непременные бесплатные мероприятия дома культуры. Пусть доктора читают про гипноз и алкоголь в медицине, парикмахерши — про гигиену кожи, под париками. Читать будут, конечно, бесплатно. Проведем фестиваль дружбы народов, благо, что эстонская граница всего в тридцати километрах, съездим за "Вана Таллин". Надо бы курс сексологии провести; такого нет еще ни в одном доме культуры, за это можно бы почетную грамоту заработать, но кто будет читать? Самим врачам в институте не больно об этом читают. Сунеп мог бы, но — не имеет диплома. Создадим новые традиции советского общежития. Может, организуем праздник первой зарплаты? Где бы пили в меру под наблюдением охранников общественного порядка. Основная работа, разумеется, должна быть направлена на создание полноценного культурного отдыха в конце недели за шестьдесят копеек. Журнал свидетельствовал, что зал может вместить до пятисот душ за один вечер. Выручка по меньшей мере двести пятьдесят рублей брутто. За сегодняшний день для дома культуры выработано достаточно. Засунув в портфель свежие газеты и журнал "Фильмшпигель", Сунеп отправился домой. По дороге зашел к электрику, попросил провод. В комнате актеров он заметил электрическую плитку. На ней можно сварить кофе, но, чтобы потоки электрической энергии не сказались на счетчике, их следует обвести вокруг счетчика. В молодые годы Сунеп в Риге в одном из домоуправлений работал электриком. Была послевоенная пора, когда на каждого в месяц отпускалось только пять киловатт. За пять червонцев Сунеп в то время слегка изменял направление тока. После он хранил при себе газетные вырезки, которые сообщали об амнистии в честь государственных праздников. Предложение "Амнистия относится и к нераскрытым, но упомянутым в этом пункте преступлениям" он подчеркнул и спал как человек, у которого и совесть чиста, и сон крепкий. Под кленом у киоска с мороженым стояли два мальчика дошкольного возраста, у них было одно мороженое на двоих. — Дай лизнуть, — упрашивал один, — ни разу в жизни я не лизал… Азанда показала Сунепу ямочки улыбки на щеках и сказала: — Darling. Пусть пропадают еще полторы буханочки черного хлеба! Не хлебом единым жив человек. Он купил одно "особенно теплое" мороженое. — Вы сегодня так же ослепительны, как этот июльский день. Этот июльский день столь же ослепителен, как и вы, — Сунеп проворковал старомодный комплимент. — Мне нравится такой день, мороженое раскупают быстрее, не надо торчать возле бочек дотемна. Поэтому не люблю дождь. В субботу в пашем сарае танцы будут? — Если не в эту, то в будущую непременно. Обещаете мне один танец? — А почему бы нет! Так отвечают Янису или Петернсу, с грустью подумал Сунеп, подергивая в улыбке усики. — Не согласились бы вы объявлять программу? — С микрофоном? — Можно и с микрофоном. — Тогда идет! — Азанда откинула волосы и выпрямилась. Халат на груди слегка приоткрылся… — Мне очень нравится с микрофоном, Я видела в кино и по телевизору, как Мирен Матье и другие с микрофоном поют, а те, в зале, с ума сходят. Мы ездили на Манеж, где две француженки пели с микрофоном. У одной даже и не ноги, а так. А зал как бешеный. Идет! Конферансье теперь вроде бы имеется, нужна только программа. Спустя три дня, заполнив собою кресло за письменным столом, Сунепа встретил Касперьюст. Лицо его было, как обычно, бледным и округлым, только темные круги под глазами, будто намалеванные сажей, говорили об усталости: — Был в Ленинграде, смотрел, нет ли там чего-нибудь для дома культуры. Мне сказали, что не хватает одного барабана. — Правильно сделали, без барабана немыслим современный оркестр. — Ваше имя Бертул? Я буду звать вас просто Бертулом. — Конечно, товарищи по работе, это само собой разумеется. Ваше имя, если не ошибаюсь, Лудис? Касперьюст понял правильно — Сунеп собирался в порядке взаимности звать его запросто Лудисом. — Лудис-то Лудис, но я директор, — сказал Касперьюст. Сунеп тоже понял. Как для Азанды хоть раз в жизни поговорить в микрофон было верхом блаженства, так и Касперьюсту слово "директор" доставляло особое удовольствие перед уходом на пенсию. — Вот план финансовых мероприятий. — Сунеп показывал оперативные наброски. — Тариф для ансамбля "Волынка". Песня три рубля. В рижских ресторанах берут десять. После полуночи и до десяти часов утра — двойная плата. Будем предлагать зал колхозам для юбилеев. В финскую баню целый колхоз не войдет. В будущую субботу вечер отдыха — в обычном порядке, хочу познакомиться с посетителями и местными обычаями, а потом — организую широкий экспериментальный вечер отдыха! — складно рассказывал Сунеп своим мягким баритоном. — Экспериментальный! — испугался Касперьюст. — Хочу опробовать некоторые нововведения для вечеров отдыха. Если на первый раз не все сойдет абсолютно гладко, то "экспериментальный" оправдает. Существуют же целые экспериментальные заводы, которые производят порой даже и брак. — Ну так делайте, чтобы было так… как-то так исключительно! В субботу в десять часов в музее собрание общества друзей, природы и истории. — Касперьюст поглядел в настольный календарь. — Там будут читать маленькие сообщения обо всем, о живописи, об истории, о птицах, древних лекарственных травах. Надо бы и вам прийти. Как говорится, завязать контакт с бирзгальским обществом. В субботу утром Бертул Сунеп проснулся около шести. До зарплаты еще три дня. В кармане осталось 137 копеек. Их надо разделить на три равные части. Потому-то он и проснулся рано, что вовремя лёг спать. Нужда заставляла вести здоровый образ жизни. Зато апартаменты его стали богаче. Скродерен вместе со своим поэтическим альбомом притащил шезлонг с заплесневелым полотном, тазик для мытья, у которого часть эмали отшелушилась, поэтому он казался застеленным пестрой коровьей шкурой. Козье молоко и два яйца по утрам находились под дверью. Бывшая оркестровая яма дома культуры оказалась настоящим кладезем. Любая вещь создана для того, чтобы ею пользовались, этого требует народное хозяйство. Три фаянсовых чашки, на краях которых были заметны следы крепких, по всей вероятности, неандертальских зубов. Пепельница в форме лошадиной подковы с оригинальными гвоздями. Из окрашенные в желтом растворе фурацилина полотнищ марли получились даже занавески для стеклянной стены бывшего фотоателье. Из обрезка провода, из патрона электрической лампочки и восковой бумаги возникла настенная лампа; и больше не надо было полусонному ходить босиком по полу, чтобы в полночь, после того как проштудированы газеты и журналы, выключать свет. Плитка из комнаты для актеров нагревалась быстро, и яйца, приносимые мамашей Скродерен, сваривались за пять минут. До начала "маленьких сообщений" Бертул прогулялся по городу. Сразу за Рижской улицей начинались поля. С возвышенности и Бирзгале и река, отороченная ивами по берегам, были вполне обозримы. Воздушные сады телевизионных антенн над крышами характеризовали эпоху, степень культуры и заносчивость жителей — две семьи ни в коем случае не пользовались одной антенной. В центре от киоска Бертул свернул на улицу, по которой однажды ушел Шепский. Вначале шли старые дома с дворами. В некоторых дворах виднелись еще избушки с маленькими окошками. Во всей своей прежней красе… Владелец магазина "Колониальные товары" в двадцатых годах жил в доме, выходящем на улицу, за белыми тюлевыми занавесками его дочь играла на пианино, а в избушке во дворе грызли брюкву другие дети, отец которых за городом рыл канавы или трепал лен большого хозяина. Он заметил новое здание с розовой штукатуркой в глубине сада. Фасад напоминал сооружение, сложенное из кубиков, убывающих по величине кверху. В нижнем кубе находилась дверь гаража, в следующем — два окошка, а в верхнем — двухэтажном "полезном объеме", как говорят архитекторы, — красовались один над другим два широких двухстворчатых окна и два круглых, разделенных цветными стеклами на восемь равных частей. Богатство, да и только. Здесь улица кончалась и начиналось клеверное поле с деревянными вешалами: За обширным полем поднимались темные ряды величественных лиственниц, а над ними торчала черная труба, словно целый год не мытый палец. Бертул направился к деревьям. И нашел — другой Бирзгале. Прежде всего это длинный-длинный каменный дом. В толстых стенах прорублены светлые окна. Надпись "Трикотажный цех". Значит, здесь вязала джемперы и длинные чулки та сотня бирзгальских девушек, каждая из которых в конце недели несла в дом культуры по меньшей мере пятьдесят копеек, стремясь получить за них музыку, танцы и провожатого домой по обходной дороге через прибрежные луга. Но откуда брались провожатые? А вот откуда. Здесь же тянулось громадное строение, как ангар для десятимоторного самолета. В одном конце на перекладине между двумя высокими эстакадами в воскресной тишине покоился подъемный кран. В будни он катался по рельсам, держа стрелу высоко в воздухе, и грузил те бетонные плиты, которые лежали штабелями на земле. Значит, завод железобетона, откуда в дом культуры приходили парни. Когда-то здесь был Тендикский фольварк. Трикотажный цех, наверное, был когда-то конюшней или амбаром. Значит, природа и исполком добились численного равновесия между девушками и парнями, обоими антагонистическими классами населения, которые друг друга очень любят. Но равновесие приводит к детским пеленкам. А вот они. От Тендикского фольварка кроме длинного дома, в котором сегодня вязали чулки, что превращали своим узором женскую ногу в удава, остались еще аллеи огромных лиственниц. За ними перед голыми фасадами пятиэтажных домов в лабиринтах столбов на веревках развевались детские пеленки. Здесь был другой Бирзгале, который Бертул еще не знал, и его одолели сомнения, узнает ли он его. Хотя он родился и вырос в Риге на улице Бикерниеку среди фабричных труб, он уже лет семнадцать кочевал по санаториям и больницам, а последние десять провел в санаторных библиотеках, клубах, потому что не боялся заразиться туберкулезом, так же как жена вора не боится, что муж сможет обокрасть ее. И такими чужими показались Бертулу сегодня эти новые кварталы. Он не знал, занимает ли домохозяйка у соседки соль, ходят ли мужья друг к другу играть в очко, найдутся ли в доме и такие, кто поможет внести шкаф на пятый этаж. И чем вечерами занимаются те, которые не смотрят телевизор. Нельзя руководить теми, кого не знаешь, но ведь он должен руководить культурной жизнью Бирзгале. Бертул повернул к старому городу. Недалеко от центра находилось нечто вроде парка — на травяном лугу росли величавые березы, вековые туи, узловатые стволы которых напоминали скорее заскорузлые корни. В кустах акации виднелось несколько камней известкового туфа. Зеленый плюш моха покрыл надписи на них. Каменные фундаменты чугунных крестов. Старое кладбище. Очень старое, раз уж позволено ходить по крышам гробов. Не так же ли когда-нибудь… похоронят и старый Бирзгале и вместо него встанет тогда новый — с серийными домами из силикатного кирпича. Неужто в самом деле за ватерклозеты отдадут этот городок, где каждый дом, красивый или некрасивый, построен на свой манер и все вместе такие славные! Чтобы не допустить этого, Бертул решил развить активную культурную жизнь. На краю кладбищенского парка под кленами находилось здание, первый этаж которого был построен из камня, а второй — деревянный. В царские времена внизу была каталажка, а наверху размещалась сама полиция. Из-за предрассудков или из-за привидений после войны ни одно уважающее себя учреждение не пыталось обосноваться здесь. В каталажке какое-то время хранили собранные шкуры и шерсть. Потом одному почтовому служащему-пенсионеру пришло на ум, что тут следует открыть отделение краеведческого музея, где можно показывать другим почтовые марки, собранные им самим, и прокламации 1905 года. Его поддержал фотограф Пакулис, вместе с которым почтальон потягивал пиво. Пакулис за свою долгую жизнь фотографировал не только молодоженов, но и семнадцатилетних красногвардейцев в 1919 году, вооруженных наганами в шпагами, в застегнутых по самый подбородок френчах, а также и теперешний дом культуры, когда паводки заливали буфет. Так потихоньку в Бирзгале возник свой музей. Чтобы посредством музея попасть в бессмертие, все художники, уроженцы Бирзгальского края, дарили ему свои менее ценные картины. У входного портала Бертул встретил бухгалтера Боку. В подтяжках, с закатанными рукавами и все же при галстуке. — Я был бы благодарен вам, если бы вы меня так… слегка проинформировали о присутствующих, иначе… неудобно, если. — С удовольствием. За тридцать лет все проходили через мои книги. Они вошли в нижний — каменный этаж. С полотен картин их приветствовали известная учительница, трактористы и свинарки в ослепительно белых, будто одолженных из аптеки, халатах. Поросята, взятые на руки, как грудные дети, радужно улыбались. Тут же стояла льнотрепалка, сгружены разного фасона побитые и простреленные каски, борона с деревянными зубьями. На втором этаже вдоль стен висели витрины с фотографиями, документами, на стене растянут флаг с надписью в старом стиле "Бирзгальское певческое общество". Места большей частью были уже заняты. Поскольку это было собрание на добровольных началах, то все старались сидеть на первых, а не на последних рядах. Касперьюст тоже плотно занимал один стул в первом ряду. Молодой человек с бакенами, которые почти что соединялись под подбородком, движениями балетмейстера скользил перед аудиторией, показывая большие фотографии. — Тот, что говорит и показывает, это сын старого фотографа Пакулиса, он тоже фотограф. С лысиной и в сетчатой рубашке — это один отдыхающий из Ленинграда, говорят, он музыкальный критик, приезжает каждое лето к тетке. А тот, с прямой спиной, в полосатой рубашке… — С загривком буйвола? — Я бы осмелился так выразиться лишь в том случае, если бы был абсолютным трезвенником, ибо Кергалвис — председатель общества блюстителей порядка, к тому же работает в банке. Его боятся не только пьянчужки, но даже и бухгалтеры. Рядом с ним. — С прямой спиной? — У нее и характер прямой. Шпоре, заведующая прачечной. Помощница Кергалвиса в дружине и в детской комнате милиции. — Значит, незамужняя. — Нет, разведенная. Мужу приглянулась более молодая. Мужчина обманул ее, а она с тех пор ненавидит молодых девушек. Вечерами по субботам Шпоре появляется у входа в дом культуры. Тот, с лентой вокруг головы… — …и трупиком на собачьей цепи на груди — поэт Скродерен. Скродерен, сидя во втором ряду, был наиболее активен. Он постоянно вертелся вокруг своей оси, чтобы его видели со всех сторон и все. Рядом со Скродереном высилась широкая спина в белой нейлоновой рубашке, и над ней в поперечном измерении одинаковая с шеей поднималась голова, украшенная тщательно подстриженными короткими светлыми волосами. Синие брюки приятно подчеркивали белизну сорочки. — Замаскировавшийся милиционер, штатская рубашка и форменные брюки. — Не только милиционер — это наш участковый лейтенант Липлант. Простой, отзывчивый человек, не любит писать протоколы. А тот, с мягкими волосами, с пушистыми баками, что рядом с собой положил красную блестящую куртку… — На днях как сумасшедший ехал на мотоцикле. — Он даже в соревнованиях участвует. Если не убьется, жена позже утихомирит. Это Мунтис Кипен, чинит радиоприемники и телевизоры. — А те, которые записывают? — Это люди бережливые, записывает только она, он говорит, что надо записать, чтобы не транжирить бумагу. Это Зислаки. Каждый, у кого есть водопровод или центральное отопление, первым здоровается с Зислаком, потому что тот замечательный слесарь. К тому же единственный, кто не выпил даже на собственной свадьбе. А жена Зислака… — Она так величественно держит свою головку. Совсем как гречанка в книжке по истории. Шея белая, мало бывает на солнце. — Работа такая. Кроит дамские пальто и костюмы. Зислаки только что построили дом, оба работали на сверхурочных. А вот там часовой мастер Мараускис, тот, в очках… Пакулис высоко поднял заснятые стволы берез: — Из сказанного вытекает, что прекрасный пейзаж — это непременное условие, чтобы получить хорошее фото. — Он сел в первом ряду. Встал Касперьюст, окинул зал своими большими глазами. — Он сегодня здесь председательствует. В очередном порядке, чтобы все смогли поруководить. — Следующим пунктом идет… — Касперьюст заглянул в бумагу, — стихотворение поэта, нашего земляка, Андриса Скродерена, которое побывало и в редакциях нескольких газет. Скродерен незамедлительно бросился вперед, сложил руки за спиной и, глядя поверх голов слушателей на флаг певческого общества, взволнованным голосом начал атаку на невидимого оппонента. Возможно, за оппонента он принимал каждого из присутствующих. — Мы, современные поэты, не будем писать так… как писали пятьдесят, лет назад, двадцать пять лет, пять лет назад. Теперь не те времена. Был ли тогда у нас дома телевизор? Знали ли мы, какова на самом деле обратная сторона Луны? Ничего такого мы не знали. Теперь другая скорость, космическая! Все надо сказать коротко, нечего тянуть. Только главное! Остальное додумают сами. Индивидуально, и тогда из одного стихотворения получается множество. Я пишу стихи так же, как Фельд, Биезбардис, оба Иманта, ну и другие. Мы понимаем, что еще не все можно напечатать, поэтому, где только можно, мы сами везде выступаем, читаем свои стихи вслух. Сегодня мне позволили прочесть одно стихотворение. Оно у меня возникло ночью. Я проснулся, когда паук ел какую-то муху. Почему он так создан, что ест мух? Я думал об этом, потом написал стихотворение. Вот оно:
Почему так делаешь? Судьба. Заведено.
Хлеб, крошки на столе, под столом, под полом.
Всюду в мире едят хлеб.
Кто не ест хлеб, грызет кости других,
Зубами отвратительными перемалывает.
Однажды объединимся все.
Все съеденные за последнюю тысячу лет.
Будем грызть зубами всех едоков,
Заплесневелая кость и синие кости мягкие.
Только синие как сон.
— Давай поторчим тут, пока он не наорется, — сказала Бинни. — Здесь, наверное, никто не подметает, — сказал Бинний, разбрасывая ногой окурки от сигарет. — Такие уж жильцы, — согласилась Бинни. И сиротки сели на неподметенный пол, подтянули колени к подбородку и прижались щечками друг к другу. То, что и сквозь двери можно определить, у кого сегодня насморк, знал весь дом, и все же от права громко высказывать свои подлинные мысли никто отказаться не хотел. Когда мать стала всхлипывать, что отец прогнал дочь, оба счастливо разулыбались. — Я знала, что мать будет защищать меня! — сказала Байба, и они стали спускаться вниз. — Отец в Мурьянах дырявит газовый резервуар, мать с мелюзгой уехала в Пабажи и вряд ли приедет, — сказал Бинний-Бронислав и обнял плечи Бинни, как это требовал стиль одежды. Квартира Бинния-Бронислава находилась там же, Задвинье, по улице Калнциема, в коричневом двухэтажном доме. Обе комнаты были заняты спальными приспособлениями, шкафом, стульями и столом. — Как мы тут сможем… устроиться на полу, если пола совсем нету? — спросила Бинни. Броня понимал, что пол необходим, ибо за границей хиппи живут главным образом на полу, как японцы. — Можно бы одну тахту положить на другую… — Но нет же никого, кто бы положил, — вздохнула Байба, потому что хиппи должны делать только то, без чего совершенно нельзя обойтись. Броня раскрыл журнал "POP-Impressum". Там на одном фотоснимке двое в бесполой одежде, очень похожие на них, лежа на медвежьей шкуре, курили сигареты, держали в руках высокие стаканы с соломками и слушали проигрыватель. — На мебели совсем не то, что на полу. Лежа на полу, никогда не упадешь. Дай сигарету! — У матери жуткий нюх, будет дикая проповедь, и не даст денег на обед. Мне дают деньги на обед, чтобы я готовился к экзаменам. Пойду на фармацевта учиться, всякие лекарства будут под рукой. — Броня принес два чайных стакана и соломки. — У тебя есть пойло? — В шкафу в сапоге я спрятал бормотуху. — Тогда брось туда льда, видишь, у них тоже лед! — Байба указывала на фото. — Я уже посмотрел в холодильнике, но никто не налил воды в посудину для льда… Это колоссальная лента. Джоплин! На проигрывателе стала крутиться лента. Байба подтолкнула пальцем регулятор, и из маленькой коробочки вырвался порожденный электрогитарами настоящий иностранный звук. Грохот сопровождался грозным окриком на английском языке. Броня бросился и молниеносно задушил чужестранца. — Соседи ругаются, потому что они слушают всяких Паулсов. Жуть! — Значит, и у тебя нет никакой свободы… — Байба посасывала нагревшуюся в платяном шкафу бормотуху. — Мне жарко… — Она расшнуровала и сняла рубашку цвета лимонной корки, оставаясь в цветастом бюстгальтере и в трусиках пляжного костюма. Броня поцеловал ее: — Милая… — Но тут же вскочил на ноги, потому что заскрипела лестница. — Знаешь, штаны нельзя сни мать… У мамы есть дурная привычка иной раз приезжать именно в пятницу ночью, потому что по субботам она в павильоне продает редиску… Ты не успеешь так быстро надеть опять штаны. А если ты будешь в одежде, я скажу, что ты потеряла ключ и не могла попасть домой, что ты из моей бывшей школы. — Нигде человек не может чувствовать себя свободным. — Байба вяло надела и зашнуровала рубашку я вдруг неожиданно хлопнула в ладоши. На ес лице исчезло выражение безразличной совы и появилась восемнадцатилетняя радость. — Поедем к старой Свикене в Бирзгале! Это моя тетка. У нее там такая глиняная будка. Тогда мои предки скорее устроят свадьбу! Оставь записку, что поедешь к другу заниматься. — Good. Но что мы будем есть? — Мы будем много спать… — Байба, обнимая Броню, показывала, что они будут много спать… — Будем спать, загорать, и есть не захочется. Будем жить на воле — как в Калифорнии! Бутылка бормотухи помаленьку через соломинку проникала и ударяла в головы, делая мысли их о будущем легкими и летучими, как пух одуванчика. Проигрыватель непрерывными быстрыми, глухими ударами тамтама из кожи буйвола перенес их в джунгли к костру, вокруг которого тряслись полуголые фигуры. Танцуй как хочешь, одевайся как хочешь или вовсе не одевайся… Временами Броня прятал ладонь под Байбиной рубашкой, но, как только на лестнице раздавались шаги, выдергивал ее оттуда. Когда губы от поцелуев стали болеть и бутылка была опорожнена, оба как бы задремали. Очнулись, когда под тахтой загрохотал пол. Броня, еще не открыв глаза, метнул руку в сторону проигрывателя. Тот умолк, и пол перестал дрожать. — Внизу живет жуткий тип, ночью не дает играть, в комнате у него специальная палка, которой он стучит в потолок. Когда прогрохотал первый трамвай, они стали укладывать в рюкзак все, что необходимо для вольной жизни. Обув новые тупоносые туфли на платформе и высоких каблуках, с проигрывателем в руке, Броня открыл двери, оставив записку, что уезжает в деревню к другу заниматься. На улице они нацепили очки с темными стеклами величиной с ладонь. Очки, так же как мягкое колыхание слоновоногих штанов, сделали их неразличимо похожими, превращали в братишку и сестренку, Гензеля и Гретель на утренней прогулке в заколдованном лесу. У себя дома Байба тоже уложила в рюкзак все необходимое и тоже обула туфли на платформе, потому что таковые в настоящий момент носила и певица Сюзи Кватро и другие известные в Европе персоны. В буфете под тарелкой с хлебом хранились расхожие деньги матери. Байба взяла только одну фиолетовую. — Это деньги на мое пропитание, теперь ведь я не буду есть дома. — В письме она сообщила, что домой не вернется до тех пор, пока родители не решат устроить свадьбу, о чем следует сообщить тетке Амалии в Бирз-гале. В бирзгальском автобусе сидело несколько обывателей, которые вслух разбирали надписи на спинах их рубашек. — "Fit!", — это, наверное, иностранная футбольная команда. А может, фирма на спине, как у хоккеистов "Динамо". На попках обыкновенный уссурийский тигр. Что означает тигр на штанах? Это значит тигр в брюках? — Но девушки в футбол не играют, — возразил кто-то. Значит, глядя сзади, их приняли за девушек. Это льстило — в движении хиппи за границей внешние отличия полов выравнивались и сливались как днем, так и ночью. Лестное внимание сопровождало их и в Бирзгале — особенно в те моменты, когда каблуки их платформ цеплялись в рытвинах асфальта. Обнаружилось, что под тиграми на штанах имелись и другие символы. У Брони нашиты красные губы и надпись "Kiss me", а у Байбы две большие клубники. Местные так и не поняли, что все это могло означать. — А если я была бы в шортах, старухи съедали бы меня глазами и плевали бы на мои голые ноги, — сказала Байба. На Сосновую улицу, где проживала тетка Свика, надо было проходить мимо углового дома, где в тенечке на ящике из-под пивных бутылок сидел Шепский, поглядывая на прохожих большим карим глазом. Еще издали он заметил желтые рубашки. Когда Биннии остановились возле киоска выпить бутылку лимонада, Шенский, заметив, что Броня мужчина, шепнул ему на ухо: — Сегодня привезли наукшенский пиво! Биннии решили к окружающим в Бирзгале относиться совершенно безразлично, но они не предвидели, что окружающие не будут к ним безразличными, Шенский дышал пивом ему прямо в ухо. — Пиво, ну и что? — ответил Броня, не повернув головы. Наверное, читает "Здоровье" и пьет кефир? Кефир и ранний картошка. Если вам нужен картошка, я покажу огород! — И Шенский разразился своим громким смехом. Биннии пошли своей дорогой. Шенский открыл футляр от очков, только что торчавший из Байбиного рюкзака. В таких женщины иногда храпят деньги. Пусто. Шепский положил футляр на прилавок. — Наверное, обронили. Будут искать, отдай. — Не ты ли вытащил? — засомневалась киоскерша. — Я? У меня нет очки и футляр не нужен. Напротив дома культуры Биннии остановились. Азанда выпятила грудь, и они заметили эмалированный круг над сердцем Азанды, с надписью на английском языке: "Jamaic Acres". — "От меня можно получить почти все". Байба попросила только два мороженых. Когда Азанда признала висевшие у незнакомцев на красных веревках голые трупы из желтой жести равноценными своему жетону стюардесс "Jamaic Aeres", завязалась дружественная беседа. — Здесь жуткая глушь, — вздохнула Азанда. — У нас с собой потрясные кассеты, Джеймс Джоплин, — ответила Байба. — Где вы будете ночевать? — На Сосновой улице у старой Свикене. — В том глиняном доме? Знаю. Я Азанда. — Бинний. Бинни. Подъехал грузовик. — Чао! Вот твой комбикорм. — Скродерен снял коробку с мороженым и через боковую дверь внес ее в киоск. Скродерен тоже выпятил грудь, чтобы те увидели его распятого. Волосы у него были длиннее, чем у пришельцев. Лоб, обрамленный волосами, подвязанными черной узкой лентой, намного шире, нос тоньше. Вообще он выглядел более одухотворенным, это он знал сам. — Мы из Риги, — пояснила Байба, не зная, что Скродерен поэт, и приняв его за рядового местного хиппи. — Андрис, — представился Скродерен, так как в современном мире в связи с развитием демократии вес фамилий значительно упал. Никто ведь больше не говорит Чарлз Виндзорский, а просто принц Чарлз. — Они будут жить в риге Свикене. У них есть кассеты с Джоплином! — Тогда послушаем! — Не теряя достоинства поэта, Скродерен поднес ладонь к виску. Так будто бы делают в австралийской армии. — Заходите! Чао! — И они опять закинули за плечи рюкзаки. На горбатом мосту, который поднимался выше улицы, они остановились. Отсюда было видно, как на дне реки по течению извиваются водоросли. Между ними, как черные запятые, шныряли рыбки. На самом дне лежали блестящие крышки от консервных банок последнего выпуска. Свесив ноги с берега, сидели два рыбака. — Раз уж сидеть, я бы брала с собой транзистор, а то какой смысл зря время убивать. Далее на краю улицы над домами возвышалась шестиугольная обитая досками башня. — Поднятый стоймя гроб; что в нем хранят? — Через открытую дверь виден был красный автомобиль. — Ага, у них свои пожарники. Ну да, деревянный город… Надо запомнить, где находится пожарка, авось когда-нибудь воспользуемся машиной. Улица свернула направо, чередой домов и садов приближаясь к реке. Последний дом стоял поодаль от остальных, посреди картофельного поля возле пышных кустов сирени и дикой сливы. Это была старая, обрезанная посередине рига. Тот конец, в котором когда-то молотили, был разобран, большой треугольный фронтон забит досками, в оставшихся глинобитных стенах прорезаны окна. Будто вестник двадцатого века, к торцу риги была пристроена веранда с широкими окнами в мелкую шашку. Протоптанные в мураве тропинки вели к колодцу и к столику под сиреневым кустом, далее огибали веранду, возле которой росли разные цветы, из них Байба наверняка узнавала только желтые анютины глазки. — Здесь можно развернуться… — одобрительно пропыхтел Броня. — В этой риге живет тетя Свика, — пояснила Байба. — Муж ее умер от какого-то паралича, а сама она на вязальной фабрике, что ли, работает. В это время грохнула старая железная щеколда и дверь открылась; на каменный порог вышла бойкая, круглая женщина с непокрытой головой, в старом пыльнике, полы которого свисали до земли. Заметив гостей, она всплеснула руками: — Байба, ты ли это? А это твой брат? Уже вернулся из армии! Ты, говорят, был у границ Китая. Бог вас послал: я бегу на пиебалгский автобус — сын с невесткой едут на Карпаты, а я останусь сидеть с детьми. Как хорошо, что ты поживешь здесь эти две недели! А я хотела попросить соседку, чтобы цветы поливала. Теперь обойдемся. Все, что найдете съедобного, ешьте, чтобы не испортилось. В шкафу творог, картошка в погребе под кухней, там же половина копченой свиной головы. Ключ в дверях… Ну, я бегу! Какое счастье, что приехали… Это потому, что я во сне видела двух ягнят. — Женщина подхватила клетчатую сумку и засеменила к городу. Биннии переступили высокий порог. Байба уже забыла, как тут все выглядело; и так они рука в руке, как Бензель и Гретель, обследовали остатки этой риги, былого пристанища для чертей. Кухня была просторная, с низким потолком и в одним окном. На исшарканном кирпичном полу сидела кошка и умывалась. Заметив незнакомцев, она прыгнула на стол, со стола на полку с посудой, а оттуда исчезла на чердак. Полки были застелены газетами, края которых украшали самодельные бумажные кружева. — Как на бабушкиных панталонах! Поверхность двухконфорочной плиты отдавала черным блеском. Байба тронула ее пальцем: — Фу, жирная! Где электроплитка? Не станем же мы надрывать легкие, разжигая огонь. Тогда уж лучше есть сырую картошку. Почему нет газа? — На скамеечке стояло два ведра. — Слава богу, вода принесена. Из кухни дверь вела в комнату. Деревянные потолочные балки уложены так же низко, но зато обмазаны глиной и побелены. — Смотри, лавровый лист для супа! — Броня указал на высохший венок из дубовых листьев, висевший на стене. Комната была заполнена коллекцией разностильной мебели, собранной в течение многих десятилетий. Центральное место занимала двуспальная кровать с изогнутыми спинками. — Так. Две подушки. Нам хватит. Подле обоих окон трехступенчатые, выкрашенные белой краской подставки для цветов. На них горшочки с пеларгониями, фуксиями и миртой. — Окна заполнены растительностью, поэтому комната темная, — сказал Броня. Трехстворчатый шкаф, видимо, был куплен последним, он не отличался от рижских вариантов. На круглом столе лежал, должно быть, кулек с сахаром, потому что вокруг него жужжала одинокая оса. На стенах фотографии с послушными детьми; никого не стесняясь, они мило обняли ручонками шеи своих родителей. — Раз комната так загружена, то не удивительно, что Свика часто уходила на работу — здесь же негде расположиться, — рассуждала Байба. Зато на веранде было светло и просторно. Солнечный свет можно регулировать занавесками. Один высокий, до потолка, фикус и еще в ведрах какие-то растения с крупными листьями. Вдоль стен сушились нанизанные на нитки ломтики яблок цвета корки белого хлеба. — Будем жить здесь! В спальне нас моль обгрызет за ночь. И они стали устраиваться. На веранде открыли двери и окна. На подоконник поставили транзистор. Привели в движение магнитофон. Несколько ударов гитары и крики радости Франка Запа заполнили всю веранду, затем полетели над картофельной ботвой, достигли берега реки и угасли в листьях ветлы. Из сирени высыпала стая воробьев, посчитав, что устрашающие раскаты и окрики на чужом языке относятся к ним. Привязанная на берегу реки коза начала дергать веревку и жалобно мекать. — Коза привыкнет. Мы же привыкли, — сказал Броня. — Такое в Бирзгале наверняка слышат впервые. Биннии переглянулись, на их лицах застыла трогательная серьезность, ибо они сознавали, что посредством этих звуков они приобщали Бирзгале к семье европейских народов и вводили в круг культуры 1973 года. На веранду внесли столик, что поменьше, и на него выложили два журнала "Play boy". Хотя журналы были пятилетней давности, но каждый стоил по десять рублей, потому что фотография сохраняет голую девушку вечно молодой. Из кровати вынули двуспальный матрас и втащили его на веранду, потому что за границей молодежь в кроватях не спит. По обрезанному торцу риги можно было забраться на страшно высокий чердак. На этом складе они обнаружили две высохшие овчинки и постелили их возле спального ложа. — Хорошо, что мясо вынуто из шкур, — заметил Броня. В крапиве нашли зеленую глиняную миску с отколотым краем и положили ее рядом с ложем в качестве пепельницы. Гирлянды яблок вдоль стен не тронули, они выглядели современно и могли пригодиться в качестве еды. За колодцем в кустах прятался дровяной сарайчик. Там на стене висел моток толстой веревки. Они его разрубили топором на двухметровые куски, которые прибили гвоздями к верхнему косяку двери. — За рубежом теперь такие занавески в ходу. По ночам они отпугивают комаров и летучих мышей. Когда будут не нужны, можно опять связать в цельную веревку. В садике с вишен сняли обрывок сети. Ее край пригвоздили к потолку, кое-где вплели в нее свежие ветки и найденные на чердаке старые шелковые чулки. Перед матрасом образовалась преотличнейшая занавесь. Теперь тут можно спать, совершенно укрывшись от любопытных глаз. И глядеть на огромный портрет Мика Джеггера, вырванный из поп-журнала. Джеггер в рубашке со шнуровкой, с волосатой вспотевшей грудью угрожающе рвал гитару. За неполный день сделав столько, сколько в Риге и за целый год не делали, оба почувствовали, что подошло время заслуженного ужина. Еще в Риге решено было есть картошку. Кажется, картошка хранится в погребе под кухней. — Молодая вкуснее, и ее не надо чистить, — вспомнила Байба и пошла в огород. Она ухватилась за ботву и вырвала самый пышный куст. У корней, как бусы, висели клубни величиной с ноготь. Странно — под такой пышной ботвой была одна мелочь. Издергав всю борозду, она добралась до другого края огорода, где ботва была совсем пожелтевшей, и вырвала один зачахший куст. Кто бы мог подумать? Именно здесь из земли вывалились три приличные картошки! То же самое обнаружилось и под другими заморышами. Рытье картошки оказалось несложной работой — схватишь за ботву, дернешь, и все — пальцы в землю совать не надо. Жаль только, что мало картошки внизу. Ничего, с одной грядки на ужин хватило. Электрическая плитка нашлась. Масла могло бы и побольше быть — всего небольшая мисочка. — Старуха посолила масло, чтобы дольше сохранилось. Съедим, тогда уж наверняка не испортится, — сказал Броня, уплетая масло и картошку поровну. Наевшись и напившись, они сели на ступеньках веранды, и к их ногам вместо мурлыкающей кошки льнул пластмассовый бок транзистора. По девятнадцатой волне Лондон посылал вибрирующий голос. — Это он… Как потрясно он берет это! — Джоплин! Колоссально! Бой гитары бил их по вискам, как баран лихо закрученными рогами, и наконец загнал в спальню, занавешенную сетью. Здесь был их отель. От неотступного призыва гитары, томного и страстного, они опьянели. — Мне хочется спать… — прошептала Байба, припав на плечо Брони. Транзистор из вечерних облаков выхватил несколько призывов любви. И Биннии полезли под одеяло. Поначалу они лежали, касаясь друг друга только руками да плечами. — Как мало нужно: картошка, соль, масло… шептала Байба, глядя на листья сирени, вплетенные в сеть. — Теперь я чувствую себя совершенно свободной. Дома, когда отец или мать смотрят, надо притворяться, держать перед собой открытую книгу. — За границей в высшую школу, говорят, принимают каждого, кто хочет поступить. Можно вступать когда хочешь, можно уходить когда захочешь и опять поступить. Никого не отчисляют. — И учиться там гораздо легче, всякие запрограммированные машины помогают. А главное, никто не навязывает тебе занятия. — Чей это голос?.. Это не Франк Запа? — Потрясно! На фестивале Монтро у него сгорели все гитары и все микрофоны. — Да. А один раз какой-то поклонник в Лондоне был в потрясном восторге и столкнул Запу со сцены — Запа ногу сломал. — Правую или левую? — Мне кажется, левую, потому что в левой руке он держал гитару, на нее он и упал. — Сделай громче. Это… Сюзи Кватро? — Да, да! Она сама отрывает на басах. — Угу. У нее якобы на все свой взгляд. Проблема такова, сказала она, что гитара — это нечто для головы, и любовь, и мысли о мире и так далее, все это, говорит, идет через голову. А насчет барабана и про ударные она говорит: это, мол, расшевеливает, это заставляет вращать седалищем. Пианино вынуждает парить руками, Ритм. А бас-гитара — та целится прямо в бедра, и это самое стоящее. — Об чем речь! Теперь они соприкоснулись и бедрами. Веранда плыла в томном грохоте бас-гитары, как пароход-люкс в тропической ночи между Вайкики на Гавайях и Манилой на Филиппинах. Теплая ночь сбросила с лежащих одеяло. — Если ты еще снимешь и трусики… я останусь… совсем голой… — Пожалуй… Все в таком случае остаются голыми.. Немного погодя раздался слабый вздох: — Это "Назаретяне", шотландцы. Они поют только нутром… Когда солнце стало выглядывать из-за прибрежной ветлы, из глиняной риги раздался утренний гимн — "The Ballad of Hollis Brown". Опасаясь потерять свой авторитет в глазах кур, опомнились соседские петухи и пустили свое старое-престарое "кукареку" — на простом латышском языке. — Ужасно… Это петухи! Как только милиция позволяет их держать… — вздохнула Байба, надела трусики и повернулась на другой бок.
Примерно в то же самое время в Риге еще в одной семье происходило столкновение поколений. Инженер Мелкаис утром, уходя на работу, заметил в прихожей, что замшевые туфли сына брошены кое-как — где нос одной туфли, там каблук другой. Это был не первый случай, но на сей раз Мелкаис рассердился. — Алнис, подойди сюда! — позвал он. После третьего оклика кухонная дверь раскрылась. Характерная черта современной молодежи. Разве отец Мелкаиса в детстве так себя вел? Он прибегал по первому зову… Сам же он, Мелкаис, в юности приходил, ну… на второй зов отца. В дверях появилась волосато-бородатая голова сына: светлые волосы, усы и борода росли кучерявясь, как самим хотелось. Тем не менее на лице видны были и приветливые голубые глаза, и нос, и даже нижняя губа. Борода и плавки — вот вся одежда сына в данный момент. Чем меньше на человеке одежды, тем менее защищенным от природы, от зверей и людей он себя чувствует, а поэтому и сам более миролюбив. Вот и стовосьмидесятипятисантиметровый, уже плечистый Алнис выставлял миролюбивое лицо, пока сам за дверью натягивал брюки. — В двадцать лет тебе еще нянька нужна? Туфли аккуратно положить не можешь? — Хочу быть оригинальным. Личность моя не желает походить на других. — Тогда и брюки надевай наоборот — ширинкой назад. — Неудобно, анатомия мешает… — А борода тоже доказывает исключительность личности? — Борода у всех разная, а бритые лица все одинаково гладкие. — Застегнув последние пуговицы штанов, Алнис почувствовал себя увереннее. — Моя борода ни у кого есть не просит. — Нет, просит, у меня просит! — Если военкомат не заберет меня в армию, пойду к декораторам лепить гипсовые головы, в одном дворце у амурчиков обколоты носы. Уже условились. Так что сам буду зарабатывать. — А твои младшие брат и сестра — на них-то мне зарабатывать, а на работе мне дали понять, что я не умею воспитывать детей: старший, мол, ходит, как древний германец, только коровьих рогов недостает на лбу. Твоя борода портит мою характеристику! — Хороший характер ценнее положительной характеристики. — Алнис не хотел сдаваться без борьбы. — Конечно, конечно, но положительная характеристика вместе с хорошим характером дала бы мне должность руководителя конструкторского бюро. Зарплату повысили бы до ста восьмидесяти рублей. Это пригодилось бы всей семье. — Благосостояние семьи за мою бороду? — Я этого не говорил… но порядочные люди не ходят, как папуасы. — Прости, но у папуасов бороды не растут, а если ты, называя меня папуасом, подразумеваешь ругательство, то это уже расовая дискриминация. — Не цепляйся к словам! Я считаю, что заросший человек — это некультурный человек, и другие тоже так думают, поэтому бороды не носят. — Иными словами: долой бороды! Вроде бы теперь не времена Петра Первого. Покажи мне такой закон, тогда побреюсь. — Это неписаный закон порядочных людей! — Нет, это ограничение моей личной свободы, но без личной свободы нет личности! — Почувствовав, что козыри отца биты, Алнис миролюбиво сквозь усы процедил: — И кроме того, это мода. Разве кто-нибудь ищет смысл в моде? У твоего пиджака три пуговицы. Если бы мода требовала четыре, ты накинул бы десять копеек и пришивал бы четыре. — Я… я поступал бы… как все порядочные люди. — Разве я виноват, что бородачи мне кажутся самыми порядочными, а те, что без бороды, — духовными евнухами, разумеется за исключением тебя. Разве я виноват, что живу в такое время, когда порядочными считаются безбородые. Может, завтра порядочными будут считаться те, что носят бороды, как во времена Энгельса, и пальцами начнут показывать на бритых? Это уж слишком, слишком… Где-то глубоко в подсознании отец, наверное, и рост сына, сантиметров на пятнадцать выше своего, ощущал как некоторое личное оскорбление. В эпоху акселерации бывает… Инженер Мелкаис выхватил логарифмическую линейку, которую косил во внутреннем кармане, и поднял ее, как меч, на собственного сына. — Никогда этого не будет! Как все сегодня существует, так и будет всегда! Можешь оставить… — Мелкаис оглядел линейку, — бороду… не длиннее пяти сантиметров. Иначе я не буду с тобой есть за одним столом. — Отец захлопнул дверь и не слышал, как сын возразил: — Личность нельзя измерять на сантиметры! Неприятно. Если отец не желает сидеть с Алнисом за одним столом — как же в таком случае быть с едой вообще? Чтобы обдумать ситуацию в условиях, способствующих творческой мысли, он поехал в кафе "Альбатрос". Неприютное гнездышко называли этим романтическим словом потому, что альбатросы, мол, забредают и в ледяные поля Антарктиды, а это кафе вызывало некоторые ассоциации с Антарктидой — здесь продавали мороженое. На стене намалеваны были зеленоватые глыбы льда, на которых торчали пингвины, вытянувшие клювы за рыбой, как собаки морды за колбасой. И все же в художественном отношении это было одним из наиболее насыщенных мест рижских посиделок: тут роились воспитанники окрестной художественной средней школы. Каждый из них каким-либо предметом одежды был ярым пропагандистом искусства. Перекинутый через плечо шарф цвета киновари доставал до пяток. Римские сандалии с настоящими — переплетающимися до колен — ремнями от постол. В форме и расцветке беретов можно было увидеть всю богатую коллекцию латышских сыроежек и поганок, — школа готовила также и будущих королей моды. Под мышками папки с проектами переустройства художественной жизни. Недостаток денег оберегал нравственность воспитанников, и обычно они обходились кофейной булочкой за семь и кофе за девять копеек. — Алнис Мелкаис! — раздались голоса, когда Алнис входил. По этому возгласу Бертул Сунеп, которого прихватил с собой Скродерен в пикапе потребительского общества, признал в Алнисе своего племянника. Алнис тоже заметил Бертула. Гладко зачесанные волосы, ниточка усов, хотя и в ярком, но все же общепринятого покроя желто-клетчатом пиджаке — он напоминал киноактера прежнего, а не теперешнего поколения. — Хорошо, что ты сам пришел, только ради тебя я и в Ригу приехал. — Ну и неожиданность! Как кирпич с вишневой ветки. Предок разозлил: сдирает бороду с меня. — Поезжай со мной в Бирзгале, будешь в безопасности! Хочу открыть художественный салон, нужен эксперт. Достаточно тебя качали в зыбке специального образования. — Торговать старинными вещами? — Алине из-под волос поглядел на Бертула. — Угадал. Нужен снабженец. — Это идея! Факультет резчиков по дереву я окончил, но еще неясно, не загребут ли в армию. Впрочем, идет! И предок отдохнет от моей бороды. Через месяц начнет упрашивать, чтобы я вернулся, потому что мама за завтраком будет съедать волосы у него с головы.
В послеобеденное время из пикапа потребсоюза в географическом центре города вылез молодой человек, очень высокий, волосато-бородатый, по случаю теплой погоды в одной спортивной рубашке из дешевого бледно-голубого материала. На этом размытом небесном фоне выделялась повешенная на шее круглая медаль с эмблемой Красного Креста в центре. На одном указательном пальце он нёс старомодный, обтрепанный, перетянутый ремнями кожаный чемодан, а на согнутом локте другой руки висел черный зонт дипломата. На ногах высокие сапоги на шнурках. Всю эту коллекцию вещей из различных эпох и общественных прослоек венчал строгий по форме, черный котелок, прикрывавший голову. Шенский, потягивая свое пиво, рассматривал нового бирзгальского гражданина. — Эдакий котел носил на голова бирзгальский пастырь. Сапоги егермейстера… Чемодан как у волостной акушерка. Немец, что ли? — Нет, англичанин, — вежливо поправил его Алнис. Он обосновался в пустующем фотоателье рядом с комнатой Бертула. Матрас для спанья, он же театральный реквизит, нашелся в ворохе барахла в оркестровой яме дома культуры. Скатав матрас в полосатый чурбан, Алнис нёс его на плече мимо киоска с мороженым и там обменялся улыбками с Азандой, которая высунулась в окошко, чтобы виднее был жетон "Jamaic Aeres" у ее сердца: "От меня можно получить почти все". Вечером, выпив козье молоко, дядя с племянником курили, поглядывая на сумеречный городок по обе стороны затуманенной реки, и мечтали, как они в этом самом помещении устроят первый художественный салон Бирзгале. — Искусство — это контраст между чистым и нечистым, — рассуждал Алнис. — По крайней мере одну стену надо сохранить чистой, на ней подвесить более отталкивающие экспонаты, например желтый, как урин, клык дикого кабана. А эту стену оклеим наждачной бумагой, чтобы посетители не терлись спинами, потому что в природе все нечистоты идут от человека. Я спас бороду… Патрон у них теперь вроде бы имелся, недоставало всего лишь такой чепухи, как револьвер, — чтобы закупать коллекции, кроме знаний необходимы еще и деньги. У Алниса был только талант. Бертул взялся за железные резервы — прихваченные с собой парики. Но и тут нужен агент. Не будет же Бертул сам стоять у киоска, держать в руке парик, как лисий хвост, и обращаться к прохожим: "Гетка из Гамбурга прислала. За пятьдесят рублей могу отдать в ваше полное распоряжение… Надежен, застрахован от моли, насыщен веществами, которые сохраняют не только парик, но и способствуют росту собственных волос. Гамбургский…" После такого обращения, пожалуй, большинство граждан не поверило бы, что у него есть еще и способности воспитывать других, приобщать их к культуре. Торговые сделки некоторая часть латышей считает капиталистическим пережитком и вообще неэтичными. …У киоска Шенский с портфелем для орудий труда в руке в это самое время прикидывал, кто бы из хозяев разваленных им печей готов пожертвовать на бутылку пива. — А я могу на следующий неделя класть печь комната актеров… — как некий секрет прошептал Шенский. — А, печной мастер! — откликнулся Бертул. — Прекрасно! Не могли бы вы помочь мне советом? У Шенского советов обычно как-то не просили, даже жена не советовалась с ним, поэтому он охотно пошел вместе с Бертулом за угол киоска. Истоптанная площадка в тени акаций напоминала покинутые серебряные прииски — на земле горстями валялись блестящие шляпки от бутылок. Занятые люди опорожняли здесь сосуды с "солнцеударом". Бертул приоткрыл респектабельный портфель-сумку, наподобие того, что был еще у председателя исполкома, и показал нейлоновые кудри. — Вы отменно знаете город — может, кому-нибудь нужен модный парик? Тетя прислала из Гамбурга для моей невесты, но мы расстались. — И когда расставался, ты этот шапка содрал с его голова? — Я ей вовсе не отдавал. Шенский запустил руку в портфель. — Этот щетина довольно жесткий. Как из хвост кобылы. Много за такой не возьмешь… — В комиссионном магазине дают пятьдесят, но там надо ждать. Шенский не ориентировался в ценах на парики, зато он знал законы частной торговли и предложил половину. Сошлись на тридцати. Деньги Шенский обещал принести вечером. Бертул отдал парик без квитанции, хотя и был в курсе аномалий в биографии своего контрагента. Но что писано в популярных статьях о перевоспитании жуликов? Их сокрушает неожиданное доверие. На этом основана даже целая система об условных наказаниях. Чтобы показать Бертулу, как пришельцу, свое хрустально-чистое сердце, Шенский на первый раз не надует.
Шенский, плавно размахивая портфелем в такт своим размеренным шагам, направился вверх по улице Апшу. В новом районе за прежней границей города, возле аллеи высоких лиственниц, строился новый дом, в котором он покрывал плиткой кухонные стены. Рабочих в это время было мало. Замешав в квашне жирный раствор бетона, прилепив один ряд плитки, Шенский высунулся в окно и наблюдал за канавой перед домом, по краям которой лежали блестящие коричневые керамические трубы. Здесь должен сегодня появиться — он. И он появился. Это был плечистый парень. Руки он засунул так глубоко в карманы заляпанных глиной рабочих штанов, что вынуть их оттуда можно бы лишь к обеду; на нем была еще полосатая тельняшка. Голову покрывала зеленая, неестественно чистая, новая шляпа. — Саварий! — громко шепнул Шенский. Молодой человек пугливо вскинул кверху плоское лицо. Нос как нос, самый заурядный, но глаза немножко косили в разные стороны, придавая мрачное выражение. Мужественность и таинственно-угрюмое выражение подчеркивал еще и могучий квадрат челюстей. — Мой курсак сегодня с утра пить не будет, — сквозь зубы сказал Саварий. — А я знай, почему ты целый полмесяц не был на работа и почему на твой голова новый шляпа, а я знай.. — Да вот, дерябнули — я и упал виском на столб. Голову зашивали, только бюллетень не дают… Меня не уволят, кто ж тогда этих в землю зароет? — Саварий носком резинового сапога ударил по трубе. — Уволить не уволит, но сколь тебе этом штука ходить? Под такой шляпа еще жарче. Я никому не говорил, как ты Валмиера на крутой берег клочьями шерсть терял, а валмиерском вытрезвиловка тебе отчекрыжили начисто волос, потому что-де находили один гнида… А потом пятнадцать суток дрова грузил. Не говорил и не расскажет. У Савария челюсть отвалилась. Зубы были большие и все на месте. — Откуда ты знаешь? — Милиция шепнули. Но я могу тебе отдавать волос. Подь сюды! Саварий вошел и вместо приветствия придвинул Шенскому кулак к подбородку: — Если твой язык проболтается! От Савария пахнуло старейшим в мире медикаментом. В таком состоянии легче улаживать серьезные дела, и Шепский помахал париком перед глазами Савария, которые ворочались за ним каждый в своем направлении. — Твой волос был такой же цвет, белокурый, а летом как лен. Надо только постричь немножко короче, и гуляй себе на здоровье, пока не отрастет свой. Под такой одеяло тепло, волос растет быстро. Ты опять сможешь ходить дом культуры на танцы. — Шенский достал зеркальце, обдав его дыханием и вытерев о штаны, приспособил на подоконник и стал надевать парик на бритую башку Савария, которая в профиль казалась всего лишь небольшим, спрятанным за ушами придатком к — мощным челюстям. Саварий прежде всего поглядел на обратную сторону зеркальца. — Мне на зеркальца голый баба нет. Ха-ха-ха! — рассмеялся Шепнский и принялся вертеть новое головное украшение на башке Савария. Саварию эта игра понравилась. — Идет по первому сорту! Теперь пусть попробуют болтать, что моей микитке дали сутки. Пока из Валмиерыпришлют счет за ночлег, волосы отрастут. Сошлись на сорока рублях. Саварий в Валмиере подрался сразу же после получки, денежки в заключении сохранились целехоньки. С покупкой под рубашкой он скрылся. Позже Шенский видел седого мужика в полосатой тельняшке, который рылся в канаве, соединяя концы труб. Вручая Бертулу тридцать рублей, Шенский сообщил, что Савария на самом-то деле звать Варисом. Прозвище возникло от слова "заваривать", потому что Варне часто заваривает кашу. Мать поначалу не хотела впускать его в дом — не узнала. Но когда сын показал ей зуб, сломанный в прошлом году при падении из автобуса, она подала ему сразу половину тушеного кролика. Когда же сын еще и признался, что его немножко задержали в валмнерской милиции, мать заплакала и заголосила: "Какие у тебя были красивые волосы… Я их впервые постригла, когда тебе исполнился годик… И вот — за две недели поседели… Это ж не милиция, а застенок!" …Заметив, что у Бертула, судя по живописной прическе, поселился интеллигентный человек, на следующий вечер молоко принес сам поэт Скродерен. С почтением поглядев на трапперские сапоги Алниса, каких в Бирзгале еще не видывали, он представился: — Поэт Андрис Скродерен. — Резчик по дереву Алнис Мелкаис, — отозвался Бертул. Молодые гении обменялись рукопожатием. Поэт сел верхом на стул, а Алнис откинулся на скатанный матрас. — Я подумал — нельзя ли при доме культуры организовать клуб творческой молодежи. Мы с вами да еще те, что поселились в доме Свикене… — Зачем же только молодежь? — втайне огорченный, улыбнулся Бертул. — Вернется еще художник Нарбут, которого завербовал Касперьюст… — Я так и думал… вообще творческий клуб, — согласился Скродерен. — При доме культуры вряд ли удастся, потому что Касперьюст; так сказать, не признает ни широкие, ни узкие, а только стандартной ширины брюки, — усомнился Бертул. — Если в других местах такого клуба нет, то никто ему не втолкует, что в Бирзгале он возможен. Но мы с племянником думаем кое-что создать именно здесь — нечто вроде художественного салона, дискотеки, где можно прослушивать новейшие записи и пластинки, собрать и выставить вещи, о которых мы говорили на собрании друзей природы. — Еще лучше! Будем слушать музыку, читать стихи. Значит, в принципе договорились. — Скродерен слез со стула и простился. — Я этого Савария не знаю, но чую, что он хороший человек, ибо отдал мне свои кровные денежки, заработанные на канализационных работах, — рассуждал Бертул, передавая Алнису полученные за парик тридцать рублей. Затем они обсудили план действия. Алнис прежде всего отправится в село Пентес. — И смелее ходи из дома в дом, осматривай амбары, дворы и чердаки! Что годится, проси, пусть подарят. Во всех музеях наиболее ценные экспонаты дарственные. Повсюду тебя встретят гостеприимно и предложат кружку молока, потому что ты будешь — крысоловом! Ошарашенный неожиданным повышением, Алнис напрасно пытался зажечь уже пылающую сигарету. — Меня в школе учили, что крысиные блохи разносят чуму и что крысы жили еще в Древнем Египте, это все, что я знаю. — Большего и не нужно знать. Работая в санатории, я вдоволь насмотрелся на крысоловов. Крыс давно уже не ловят кошки, потому что кошки в связи со всеобщим повышением благосостояния обходятся собачьей колбасой. Мы живем в эпоху химизации! Современные крысоловы ходят с портфелем, из которого на чердаках и в погребах оставляют пакетики с крысиным ядом, отравленные семечки для мышей, и собирают необходимые для отчета подписи. Вот тебе пакетики, вот зернышки. — И Бертул указал на коробку из-под обуви в углу ателье, в которой были аккуратно уложены в ряд бумажные пакетики, точно в таких же упаковывают в аптеках порошки от зуда, от остриц и воспаления легких. — Но тогда… мне надо будет тщательно мыть руки, ведь яды же… — забеспокоился Алнис, ногтями, как пинцетом, приподнимая смертельные пакетики. — Можешь и вовсе не мыть — где бы я тебе достал яду? В них просо и гречка. — Но от этого крысы не сдохнут — и я буду мошенником. — Официальные крысоловы, по существу, тоже мошенники, травят уже десять лет — но разве крысы исчезли? — Но они официально утверждены. — На, открой на букву "к" и успокой свою совесть! — Бертул подал ему знакомый красиво переплетенный уголовный кодекс. — Нет. Слово "крыса" тут вообще отсутствует. — То-то и оно. Спокойной ночи! Good bye! — Бертул еще полистал немецкий журнал "НБИ". По нему можно было судить, что расклешенные брюки за границей позволяют себе и мужчины в годах.
На следующее утро Алнис отправился в экспедицию. Головной убор — черный котелок — он оставил дома, ибо у деревенских жителей этот наряд мог бы вызвать недоверие к его способностям травить крыс. Что поделаешь — и в наши дни порой еще человека встречают по одежке… — Неприятности исключены, потому что ты по легенде инструктор четвертого отделения Рижской санэпидемстанции по борьбе с крысами. Это заведение пробует сейчас новую отраву. И главное — денег же ты ни с кого не будешь требовать. Если кто-то захочет двойную порцию и даст тебе что-то, так это ж по доброй воле. Уголовный кодекс направлен только против тех, которые сами требуют денег. — С таким напутствием проводил его Бертул. Накинув большой рюкзак на голые плечи, Алнис отправился на автовокзал. До отхода пентесского автобуса оставалось полчаса. Он прошелся по Рижской улице городка. Под кронами сочно-зеленых кленов стояли длинные столы, на которых было выставлено много натюрмортов, отделенных друг от друга весами. Розовая и желтая картошка в корзинках из прутьев, красная редиска с зелеными листьями; их сочный, здоровый вид поддерживали заботливые руки, периодически брызгая на них воду. Тут же теснились утомленные, бледно-зеленые стручки гороха и лениво разлеглись в больших корзинах огурцы. Сверху на это чревоугодие взирали, как разнаряженные актрисы в самых изысканных туалетах, ослепительные гладиолусы. Целое море гладиолусов! Это была первая и последняя публичная выставка этих цветов… На Алниса, как на возможного покупателя и волосато-бородатого шута в высоких сапогах со шнурками, глядело множество любопытных глаз в возрасте от десяти до восьмидесяти лет. Когда Алнис всем приветливо и открыто улыбался, глазевшие сконфуженно отводили глаза, ибо по газетам они знали, что хиппи по всем правилам поведения должен бы притворяться, что никого не замечает, или же показывать язык. Тут раздался крик "Цыплята!" — и возле столов остановился белый фургон. В открытую дверь видны были уложенные до самого потолка реечные ящики, И все — как покупатели, так и продавцы, схватив свои корзины, бросились к фургону, в одно мгновение создав невероятно аккуратную очередь. У Алниса мелькнула идея: если так бегут за цыплятами, значит, это дефицит. Дефицит ликвидируют высокими ценами. Высокие цены дают прибыль. Травлю крыс можно объединить еще и с продажей цыплят. Куда положить цыплят? Вот когда пригодился бы черный котелок… Здесь же продавал целый ворох корзинок седой дедушка. — Сколько? — крикнул Алнис, думая, что каждый пожилой человек должен быть глуховат. — Для картошки? — Сколько стоит? Опасаясь заплатить меньше положенного, ибо обманывать стариков и детей грешно, Алнис схватил корзину, другой рукой сунул старику три рубля и встал в очередь за цыплятами. — Те, которых затылки помечены синими чернилами, петушки, они по семь копеек штука. Курочки по тридцать пять, — огласила женщина в халате, и началась торговля цыплятами. Минут пять все шло хорошо, но тут кто-то неосторожно вздохнул: — Всем-то, наверное, не хватит… Сомнения в устах каждого последующего говоруна звучали все громче, превращаясь в убежденность, и вот в конце очереди раздался вопль: — Так-то всем не хватит! С этого крика в Бирзгале начались "цыплячьи беспорядки". Очередь смешалась, будто ее ложкой размешали. Над головой вместо боевых топоров поднялись корзины, и все двинулись штурмовать фургон. Начитавшись в журналах, что вежливость требует, чтобы женщин пропускали всегда первыми, бабы рванули вперед. Они пробивались и плечами, и иными более объемными частями тела, которыми иногда женщины пробиваются в жизни вперед. Только вот беда, тут почти все были женщины… Последствия оказались печальными: цыплят не получал больше никто, они удалялись, теснимые нежными руками, плечами и боками, — фургон откатывался прочь. Алнис, подняв корзину над головой, двинулся вместе с толпой. — Вы чего толкаетесь! А еще мужчина… — непрестанно стыдили его. Автофургон вытолкнули на мостовую и перегородили дорогу, — связь между Бирзгале и другими городами республики нарушилась. Продавщицы старались отделаться поскорее от цыплят, отсчитывая их в корзины кому попало. Тут, запыхавшись, перед мотором машины, где страждущих не было, встал участковый Липлант и закричал: — На улице торговать запрещено! Прекратить! Заметив милиционера, продавщицы изнутри прикрыли дверцу. Тут бабы устремились к Липланту: — Что это за безобразие! Сейчас же наведите порядок! — И начали корзинами колотить по жестяным бокам фургона, как по сковородке. Липлант вспотел и ослабил узел серого галстука. Алнису до отхода автобуса нужны были цыплята, поэтому и он потребовал: — Порядок или цыплят! — Встаньте, пожалуйста, в очередь! — изо всех сил три раза повторил Липлант, зная, что бог любит троицу. Продавщица заметила Алниса и приветливо на него посмотрела. Алнис, как стрелу подъемного крана, протянул через головы руку с корзиной, в которую было вложено два рубля десять копеек: — Тридцать петухов! Рада, что избавляется от петухов, продавщица отсчитывала их быстро. Разгневанные женщины тут же вытолкнули Алниса из очереди, чему тот очень обрадовался, а сами продолжали толкать фургон. — Опрокинут! — закричали продавщицы. — Милиция! Что делать? Арестовать кого-нибудь — нет оснований, вот если бы опрокинули… Стрелять в воздух нет смысла, никто же не удирает, а, напротив, именно жмут сюда. Огреть бы дубинкой по… Но боже упаси — здесь ведь жизнь надо прожить. Липлант попытался нежно схватить одну бабу за теплую руку, чтобы выстроить аккуратную очередь. — Не лапай, не то жене твоей скажу! И руку пришлось отпустить. — Почему вы не наводите порядок? — уходя, любезно осведомился Алнис. — Это… это неорганизованные беспорядки… очень неорганизованные беспорядки… — вздохнул Липлант. В автобусе, держа на коленях корзину с желтыми пискунами, Алнис размышлял, как бы в Пентес смыть у них с затылков чернильные пятна, чтобы петушков продавать как курочек, ликвидируя таким образом половую дискриминацию и к тому же зарабатывая с каждого цыпленка по двадцать восемь копеек. Итого он возьмет свой дневной заработок…
Бертул в это время в "Белой лилии" пил чашечку натурального кофе. Белой полотняной диадемы на буфетчице сегодня не было, и во всей красоте открывалась перманентная прическа Мерилин Монро. — Вы так редко бываете… Наверное, не нравится мой кофе… — вздохнула Анни. — Очень нравится, но боюсь часто обременять вас. — Бертул опасался, как бы за кофе его не приковали цепью к садовой лопате Анни. — К вашим белокурым волосам очень идет эта прическа. Теперь я вспомнил, где я вас раньше видел! — Не может быть! В Гауяскалнсе я никогда не лечилась. — На картинах Хильды Вики, помните, эти роскошные женщины с пышным… пышным… — Обождите, обождите! Все же еще не видели, потому что там эти дамы были голыми… А этого вы пока не видели. — Анни засмеялась так, что Бертул мог понять: если этого еще не случилось, то могло случиться. — Но истина все же такова — я в этом городе была блондинкой еще тогда, когда ни одной белокурой женщины здесь не было. В понедельник я поеду в район, там завезли босоножки на платформе. Вы не проводите меня? В тех случаях, когда благоразумные, видавшие виды женщины приглашают какого-нибудь опытного мужчину, они сами оплачивают и счета. — В понедельник я собирался заняться библиотекой.. — Значит, договорились. — По расходам Бертула Анни правильно оценила его и добавила: — Билеты на автобус я куплю заблаговременно. В доме культуры Бертул прошел пустой зал, вдохновляясь для предстоящей работы. В бухгалтерии Бока подмигнул ему: — Сам приехал из Ленинграда. За столом, из-под стекла которого была убрана немецкая дама в купальнике, сидел неулыбающийся Касперьюст. Рубашка та же, смняя потому что синий цвет он считал наиболее подходящим для руководящих работников. — Ты ничего путного так и не сделал. Чертов Нарбут тоже не показывается. Нужны новые лозунги, рожь поспевает. Где деньги? — Касперьюст угрожающе поднял нож для бумаг, единственную письменную принадлежность на огромном столе. — Деньги пока еще в чужих карманах, — признался Бертул, плюхаясь в кресло напротив директора. Только сегодня, разглядывая Касперьюста в профиль, Бертул заметил, что короткие волосы не могут заполнить или скрыть седловидную форму головы директора. — Я обзванивал колхозы и предлагал зал на случаи юбилеев. Будут снимать. Завтра "Волынка" песней разбудит секретаршу исполкома и поздравит с днем рождения. Этим номером мы начнем традицию "Утра дня рождения". Думаю, что дело это понравится и другие станут заказывать и платить по три рубля за песню. На сегодня объявлен вечер отдыха, то есть танцы. На нем я ознакомлюсь с деталями, а в будущую субботу закатим "экспериментальный вечер"! Танцы в парке, потому что летом все любят луга и нежное солнце. — Ладно… пусть будет, но только так — как-то исключительно! А в фойе нужны портреты передовиков. Набросай проект! В обед из дома культуры Бертул вышел вместе с Бокой. Дорожка под ветками акаций была выложена коричневым клинкерным кирпичом, ее не выкрошили за десятки лет и тысячи каблуков. — Вымой и наващивай — дорожка как паркет, — восхищался Бертул. — Касперьюст затребовал в исполкоме, чтобы кирпич покрыли асфальтом, так, мол, будет современнее… — вздохнул Бока. — В истории Бирзгале запишут, что директор Кас-перьюст заасфальтировал дорожку. Пути в историю разные. Бывают и асфальтированные, — изрек Вертул. Он остановился у киоска с мороженым. Подошла и заведующая прачечной Шпоре, та, со строгой выправкой. Бесстрастный взгляд Шпоре остановился прежде всего на жетоне Азанды "От меня можно получить почти все". Азанда, взбивая фиолетовые волосы, подчеркивала, что она не боится Шпоре. Скривив напудренное лицо и передернув утолщенные краской губы, Шпоре потребовала мороженое. Азанда наскребла в вафлю хранимое в бочке с ледяной солью мороженое и поставила на весы. Шпоре молча переводила карие глаза от стрелки весов на волосы Азанды и опять на весы. И чудеса — Азанда будто внутренне сжалась и робко, очень вежливо сказала: — Пожалуйста… На что Шпоре, коснувшись языком мороженого, как касторки, буркнула: — Спасибо. Когда Шпоре ушла, девушка снова выпрямилась и, укрывшись поглубже в киоск, показала ей кулак. — Старая лимонная корка… Так она истязает меня каждый день. — Она не сказала ни единого дурного слова, — возразил Бертул. — Но разве я не знаю, что у нее там за оштукатуренным лбом? Однажды так и сказала: "Взвешивайте как хотите, но если у вас фиолетовые волосы, то вы обвешиваете". Я же знаю — всех продавщиц мороженого считают жуликами. Разве стоит при этом честно работать? Меня вполне устраивают шесть процентов с оборота. Но раз так, то и я покажу, что умею взвешивать. Зря не стану возиться с солью и со льдом. Подошел лысый в тельнике, попросил два мороженых и унес их в стеклянной баночке. — Ленинградский профессор музыки. Когда он подходит, я уже знаю — четыре часа. Относит своей старухе мороженое к кофе. — Значит, вы будете участвовать в вечерах дома культуры? — Бертул тоже попросил мороженое, хотя это и било его по финансам, однако иначе было неловко тереться около киоска. — Говорить в микрофон я могу. Мне приходилось работать в киностудии… — Азанда достала из сумочки бумажку, изобилующую множеством отпечатков пальцев. Справка из бухгалтерии киностудии, что Азанда Матуле в 1972 году получила несколько рублей за работу. — Вы будете таскать за собой черный провод, но это в будущую субботу. Честное слово! А сегодня вечером на танцы? — Куда же еще пойдешь! В кино сегодня показывают про какую-то войну. Можно, конечно, и про войну, ко тогда нужно… ну, хотя бы приключения в тылу показать. Но в этих фильмах только стреляют. На край прилавка положили свои подбородки два полуголых мальчугана: — Нам, пожалуйста, один пломбьер. — Мальчики уже говорят по-французски, — заметил Бертул. — Животы как каток, — удивлялась Азанда, — сегодня уже третий раз подходят. — "Мы сыновья богатого отца", — засмеялся Бертул. — И вовсе нет, — мальчишки повернулись к нему, — мы нашли деньги. — Правильно! Вчера на Тендикском бетонном заводе выдавали зарплату, после этого в кустах за киоском между пробок от бутылок валяются и копейки, — согласилась Азанда. — Когда я сама была еще маленькой… Ну, чао, darling! Бертул отправился в свое жилище на берегу реки, чтобы погрызть ячменную коврижку и запить ее козьим молоком. Вместо масла он обходился воспоминаниями из прочтенных исторических романов про первых христиан-отшельников, которые жили на территории теперешнего Египта и тоже ели ячменные лепешки. Эти пустынники считали, что обходиться без жаркого — добродетельно, а Бертул — что это незаслуженное ущемление. Растянувшись на ложе под лампочкой с желтым абажуром из восковой бумаги, он изучал, что субботняя газета "Литература ун Максла" говорит о латышском поэтическом документальном кино, и вспомнил потенциальную киноактрису Азанду, которая никогда не попадет в кинодокументы, потому что у нее на груди надпись, не свойственная лирическому латышскому кино. Но разве Азанда в "данное время" не жила? Кино докажет, что не жила. Бертул задремал. Эта полезная привычка сохранилась у него со времен пребывания в туберкулезниках. Под вечер, по пути в дом культуры, он впервые встретил возле дорожки к "Белой лилии" Бинниев, У того, который побольше ростом, была жидкая борода, этот, наверное, в их симбиозе исполнял роль юноши, хотя, соблюдая равенство полов, они нагнули друг к другу головы под одинаковым углом, руки вокруг талии друг друга держали на одинаковой высоте и кули вельветовых штанов тоже казались одинаковой ширины. Большие пальцы свободных рук оба запустили под лямки синих заплечных сумок. Надпись "Пан-Америкэн" должна была свидетельствовать, что оба летели через тот большой пруд и принадлежат они отнюдь не к гражданам Бирзгале, а к гражданам мира. Эти, по крайней мере, не пресные.
Бинниев в "Белую лилию" погнал аппетит. После первой по-настоящему свободной ночи последовал первый по-настоящему свободный день. Они проснулись около полудня. — Единственная ценность часов в том, что их можно продать, — сказал Броня. Поэтому никто их не завел. Опять сварили картошку, потому что Байба это умела. Масла больше не было, но в погребе под потолком висела половина копченой свиной головы. Броня, ухватившись за коричневое ухо, набросился на голову с большим кухонным ножом. В общих чертах обрезанная половина головы обеспечила заправку для обеда и для ужина. От всего остались непонятно большие, украшенные зубами кости, каких раньше Байба никогда не видела. — Деревенские жители обычно отдают кости собаке, — вспомнила Байба прочитанное в латышской литературе. Наевшись, полуголые, с транзистором в руке, они пошли искать собаку, которой можно отдать большие кости. За картофельным полем вдоль реки простиралась полоска луга. Они упали в траву, с минуту повалялись, и тут Броня попытался погреть руки под Байбиным бюстгальтером. — Теперь нельзя, на другом берегу глазеют. — Но за границей, там, где собираются хиппи, все делают… почти… совсем открыто. — Видишь, какие там мамонты! Им, поди, завидно. Биннии спокойно сели на берег, опустили ступни в воду и только теперь заметили, что на другом берегу в листве, на высоте пяти метров над землей, стояла на столбах будка, выкрашенная в цвет зеленых листьев, с одним, но зато широким окном. В будку, как на сеновал, можно было попасть по лестнице. В тени ее валялись двое молодцов шоколадного цвета, в плавках, и время от времени приветственно поднимали друг к другу бутылку. — Это… какие-то наблюдатели. Там привязана белая лодка. Может, спортсмены на тренировках, — рассуждал Броня. — Поищи на девятнадцати метрах что-нибудь из Лондона, — сказала Байба, укладываясь на бок так, чтобы соблазнительнее выделялась впадина от талии к бедрам, одетым в красные бикини. Броня на девятнадцатой волне разыскал приличную музыку и отрегулировал нормальную громкость — такую, чтобы хорошо слышно было и на другом берегу. Они соблюдали основной закон любителей поп-музыки — хорошую музыку следует проигрывать так, чтобы соседи тоже слышали. Лежавшие на том берегу подняли головы, как потревоженные тюлени. Затем один, будто сорвавшийся с привязи шимпанзе, взбежал по лестнице. Спустя мгновение из будки высунулся, словно металлический клюв… огромный громкоговоритель, из которого тотчас раздался громовой голос: "Внимание, внимание! Говорит радиоузел Бирзгальской спасательной станции. Нельзя купаться раньше чем через час после приема пищи. Конец передачи". Объявленное умозаключение подкрепил оглушительный Том Джонс, который всему Бирзгале выплакивал свои душевные страдания по Дилайле. — Какая отсталость: этой вещи уже три года! — закричал Броня Байбе на ухо. То, что транзистор выхватывал на девятнадцатой волне, было задавлено. Биннии, объясняясь знаками, решили искупаться. Речное дно из гравия было сносное, вода доходила, во всяком случае, до пупка. Броня решил показать, как плавают рижские ребята, и бросился кролем. Но тут его окликнул грозный голос; — Гражданин в голубых плавках! Вне зоны купаться опасно! Прошу вернуться! — И оба шоколадных ангела-хранителя залезли в лодку, дважды обмакнули весла в воду, и бело-красный бок лодки уже закрыл Броне "вид на море", а воды этой реки через Салацу или Гаую наверняка попадали в море. От лодки исходил вроде бы пивной дух. — Чего дурака валяете: вода до пупка, разве тут можно утонуть! — Но, видишь ли, там, за водяными лилиями, десятиметровая яма. Поэтому по правилам купаться можно только здесь, — миролюбиво пояснял нежеланный спасатель, черные волосы которого спадали до узких индейских глаз, так что нельзя было сказать, есть ли у него лоб. — Ну а если бы я захотел купаться за излучиной? — Броня кивнул в сторону, где течение реки обрывалось на повороте и казалось, что река уходит в землю. — У нас есть телефон. Если где-либо тонут, нам сообщают, и мы едем делать искусственное дыхание утопленникам. У нас есть аппараты. — Но вы же не можете приказать купаться только здесь. — В том-то и дело., Правила опубликованы в газете, но народ несознательный, здесь не купается и десятая часть. — В таком случае вас напрасно держат. — Начальству виднее… Чего без толку болтать. Если мы за десять лет спасем хоть одного, этим все окупается: спасена жизнь человека! Разве ты не хотел бы, чтобы тебя, в случае чего, выловили из грязи и отдали бы той леди, которая там на берегу втирает в бедра солнечное масло? — В этом году много спасли? — В этом году план горит — не тонут, все время шел противный дождь, отчет будет неважный. — Послушай, — через борт лодки перегнулся второй, с круглым розовым лицом, — не мог бы ты немножко тонуть? Броня подумал: — Можно изобразить, когда деньги будут на исходе. Но чего вы гоняете эти старые пленки? У меня есть потрясные записи. На прощание они условились, что в тот момент, когда воздух начнет сотрясать одна сторона, другая будет молчать, чтобы дать возможность Бирзгале освоить больший репертуар современной музыки. А Броню и его леди как-нибудь вечером переправят на лодке на спасательную станцию, чтобы за легким выпивоном послушать записи рижан. — Ужасно хочется есть, — признался Броня, возвращаясь в обрезанную ригу Свикене. — Не надо было купаться, — вздохнула Байба, — мне тоже хочется… хотя бы одно пирожное-корзиночку… Так как на двоих еще оставалось четырнадцать рублей, они надели исписанные рубашки, спрятались за огромными черными очками, приобретя сходство с совятами, и в обнимку отправились в город, не обращая внимания на все окружающее, но надеясь, что окружающие обратят внимание на них. Да и смотреть-то тут не на что — вдоль мостовой обычные тропинки, на яблонях обычные яблоки, дома и дворы, как в Риге, только намного меньше. Заказанные в ресторане порции карбонада были огромными, мясо вокруг косточек сочное. Не оставлять же такое. Человек должен быть естественным, таков принцип, да и жить так легче, и они, помучившись немножко с ножом и вилочкой, схватили кости пальцами и обгрызли все до последнего волокна. На них поглядывали одетые в сверкающие сатиновые халаты официантки, которые вот так не посмели бы. На десерт они съели по две корзиночки и выпили по стакану хорошего румынского вермута. Оставив в "Белой лилии" пять рублей, они отдали концы. Было субботнее послеобеденное время, и Шепский, полив свой семейный огородик, высиживал у киоска ящик с пустыми бутылками совершенно легально. Заметив парочку с ангельскими волосами, он громко прошептал в сторону Байбы: "Я знай, где продают подержанный детский коляска, такой складной" — и заржал. Байба съежилась. От лошадиного смеха, подумала она. В киоске они купили масло, белый хлеб, вишневое варенье и твердую колбасу, потому что та, несмотря на четыре пятьдесят за килограмм, была вкуснее, чем молочная колбаса. В киоске оставили примерно три рубля. В витрине возле моста они прочли афишу о том, что сегодня вечером в доме культуры вечер отдыха, и решили посмотреть, как в Бирзгале трясутся. В пансионате Свикене они вытащили из сарайчика старый матрас и прилегли на нем, забывшись в послеобеденном сне. В грану ложиться нельзя было, потому что там Байба еще утром заметила прыгающего лягушонка, а на тропинке в черной земле исчезла головка дождевого червяка. Попробуй растянись на траве, эдакий червяк, пожалуй, в ухо заползет. — А не начнет ли придираться эта деревенщина? — размышляла Байба, рассматривая вечером свою рубашку, испещренную надписями. — В Амстердаме даже перед дворцом королевы могут ходить в лохмотьях и с бородой. Попробуй в Риге у исполкома… И они, опасаясь местных обывателей, надели через головы нечто вроде накидок, которые изготовили в Риге из детского клетчатого одеяла, растеребив бахрому по краям, а в середине прорезав дыру. Некоторые девушки сами ткут пончо, но для чего же тогда создавалась тяжелая и легкая промышленность? Опасения Бинниев оказались обоснованными. У входного портала дома культуры, украшенного полуколоннами, стоял тучный мужчина в коричневом костюме в мелкую клетку. Сверкающий галстук, должно быть, душил его, он часто засовывал палец за воротник рубашки, и глаза его в такие минуты немножко выкатывались наружу. Этот мужчина был Касперьюст, выполняющий сегодня обязанности ответственного дежурного. — Товарищ, у вас нет галстука, — перехваченным, будто прокуренным голосом спокойно пояснил он. — Это, старина, я и сам знаю! — Броня схватил медную дверную ручку, которая чудом не была пущена в расход во время последней войны. — В таком случае на вечер вам нельзя. Пожалуйста, ознакомьтесь! — И Касперьюст сам открыл высокую дверь. В фойе над окошком кассы была прикреплена вывеска, на которой первая буква каждой строчки была устрашающе большой и красной, как пожарная машина. — Видите! — Касперьюст приложил палец к соответствующему месту: — "На вечер необходимо являться в приличной одежде и при галстуке. Исключение — рубашки с отложными воротниками. Не допускаются жакеты вязаные, кожаные или из кожзаменителей". — Этот свиток был написан еще до моего рождения, когда предки ходили в ботинках со шнурками, так что ко мне это не относится. Что на мне неприличное? — На вас нет рубашки и галстука. Такой… такой… плед в списке приличной одежды не предусмотрен. — Ну так предусмотрите и получите медаль за изобретение. Пончо молодежь носит во всем мире, — зачирикала Байба. — В мире может быть, но не в Бирзгале. — Касперьюст не терял спокойствия, потому что на его стороне была правда в письменном виде. — Англичане не пьют, не курят, только немножко врут, — в разговор вмешался приятный голос. Заметив единственные пончо, подошел Бертул. — Не будем говорить, что пончо молодежь носит во всем мире. Кое-где носят. Зато я согласен, что эту одежду, пока она чистая, можно причислить к приличной. Для молодежи до двадцати пяти лет, а для индейцев в Боливии — на всю жизнь. Может, товарищ директор, впустим? Видите, туфли у них сверкают. — Биннии казались забавно современными, хотя и не особенно лестным было подчеркнутое безразличие, с каким оба выслушивали его защитную речь. Но разве не читано в зарубежных журналах, что равнодушие ко всему окружению, помимо еды, и есть современное проявление самоуверенности и самосознания молодежи? — Вы из Риги? — начал тактическое отступление Касперьюст. — Да, и только! — в один голос отозвались Биннии. — Возможно, вы еще не читали правила поведении нашего дома культуры? Ладно, на сей раз впустим. Спина Касперьюста сместилась и открыла кассовое окошечко. Биннии оставили там рубль двадцать и рука об руку отправились в зал. Не поворачивая головы, вращая только глазами, как хамелеоны, они заметили, что достигнут уже умеренный эффект — взоры молодежи выражали определенное внимание. В Риге они не были бы и вторыми, а в Бирзгале в пончо первые. Бимини чувствовали себя вполне как Каи Юлий Цезарь, когда он диктовал секретарю, что про него следует записать в паши учебники: "Лучше в деревне быть первым, чем в Риме вторым". Бертул тоже вошел в зал, чтобы освоить вечер отдыха этого дома культуры. Первое впечатление: зал со скошенным потолком, который в дневной тишине казался внушительно большим, как величественный кафедральный собор, стал меньше и на самом деле являлся всего лишь основательной духовкой, как в прямом, так и в переносном смысле слова. Духи не только хорошие, но и дешевые, натертый паркет не пылил, и все же воздух тут не соответствовал стандартам. Бертул обошел высокие окна. То ли Касперьюст, экономя дрова, то ли какой-нибудь индивидуальный застройщик убрал все оконные медные ручки. Вместо этого были вогнаны гвозди, так что свежий воздух можно впустить, только выбив стекла… Как бывшего туберкулезника, Бертула этот вопрос интересовал особо. Он записал себе: "Сквозняк". "Духовка" была не только жаркой, но и наполнена пламенем. В смысле освещения зал соответствовал стандартам. Равномерный свет загорался только в перерывах между танцами, в остальное время тьму рассекали фиолетовые, алые, зеленые и желтые снопы лучей в разных комбинациях и интервалах, так что одно и то же лицо девушки в мгновение ока напоминало то залитое страстью лицо константинопольской исполнительницы танца живота, то мертвецки бледный лист салата. Музыка? Тоже полный стандарт: пары объяснялись, произнося необходимое слово друг другу прямо в ухо, как в телефонную трубку. Может быть, поэтому, танцуя, говорили мало и чувства свои выражали в основном руками, то теснее притягивав партнершу, то совсем отдаляясь от нее. Усилители работали безупречно. Если бы в зал запустить стаю голубей, они упали бы замертво у ног танцующих, сбитые ревом электрогитары и грохотом барабана. В этом отношении все как будто бы было в порядке, только вот у самих музыкантов мог быть более современный внешний вид. Худощавый барабанщик в поношенных джинсах и в брезентовой куртке с длинными прямыми волосами и костлявым подбородком напоминал индейца, который, мечтая о славном прошлом своего племени, равнодушно исполнял четырьмя основными конечностями заданную хозяином работу. Рыжий тромбонист с волной волос, спадающей углом на лоб, лениво положив одну дугу инструмента на плечо, бесстрастно двигал другую медную сосиску взад-вперед. Гитарист уповал на усилитель и ленился даже переминаться, как это принято в хороших оркестрах. Более интересным выглядел сам руководитель, который время от времени вскакивал, чтобы вместо пианино пощупать электрический орган. В черном пиджаке, с черными волосами, спадавшими на лоб, сгорбившись, в старомодных очках — он походил на фанатичного — хромого монаха, влюбленного в поп-музыку. Потом Бертул занялся психологической группировкой участников вечера отдыха и начал с фойе. У стены между желтыми тюлевыми занавесками стояло два зеркала. В зеркале можно увидеть не только лицо человека, но и его характер. Бертул закурил, ибо тут была надпись "Место для курения" и неподъемная бетонная пепельница. Три тонюсеньких девчушки. Годики спрятаны под изрядным слоем краски. Они вертелись, гримасничали и, как актрисы перед спектаклем, прикладывали к губам там и сям пылающее острие губной помады. Бедные детишки — ножки тоненькие, коленки костлявые, без малейшей сексапильности, чулки за рубль пятнадцать пара морщатся вокруг икр, собираются в гармошку… Этих детишек Бертулу стало чуть ли не жаль, но что поделаешь? Входной билет купили и не пьяны, — значит, надо пускать. У другого зеркала долго вертелся мелковатый молодой человек, в то же время явно опасаясь, как бы не заметили, что он смотрится в зеркало; временами он робко, как косуля на водопое у ручья, оглядывался по сторонам. И долго возился с узлом желто-красного галстука, большого, как импортная груша. Потом ладонями тискал мягкие каштановые волосы, пока не поднял их над головой красивым хохолком. Затем одергивал двубортный пиджак, у которого сзади был хлястик с обтянутыми материей пуговицами. А брюки! На сиденье была нашита синяя бархатная заплатка, новая и непотрепанная. Бедняжка слыхал что-то о латаных штанах заграничных модников, но не соображал, как скомпоновать их в паре с жакетом. После таких приготовлений юноша стал у входных дверей зала, позади других, и вовсе не пытался протиснуться в первые ряды бойцов, хотя призывный гром гитары уже приглашал к танцу. Возле него группировались такие же раки-отшельники, вооруженные прическами-фантазиями и воистину неохватно широкими брюками. Это была группа нетанцующих, неуверенных в себе молодых людей. Как перед первым поцелуем — час размышляют над тем, куда девать нос в тот решающий момент. — Мадис опять будет весь вечер топтаться, — раздался протяжный голос рядом с Бертулом. Он обернулся. Появилось изящное создание, которое называлось Азандой. Фиолетовые волосы при свете прожекторов переливались, как лучи искусственного лунного света. Глаза покоились в глубоких озерах с черными берегами и зелеными окружьями. Лицо соответствовало лучшим стандартам иностранных журналов. Зато фигура у нее была своя, стройная, но не костляво-исхудалая от недоедания, вырез платья цвета фиалок совсем небольшой. Чулки ей были не нужны, они только скрывали бы ее бархатный загар. Заметив восхищение Бертула, Азанда будто бы без умысла крутнулась, как манекенщица на сцене. Бертул понял, почему у платья спереди нет выреза — он был на спине, до пояса. Бертул вздохнул: слишком много красоты… — Задача корешка информировать читателя о содержании книги. У красивых романов красивые переплеты… — проворковал он. Азанда вполне уяснила, кто здесь красивый роман. — И все эти ребята у дверей точно такие же, как Мадис, только и знают толкаться, когда девушка проходит мимо. — А кто этот Мадис? — Он работает на Тендикской фабрике бетонных потолков. Его вывешивают на Доске почета, поэтому-то, наверное, он не имеет права трястись, как другие, — пояснила Азанда. По мнению Бертула, эти столпившиеся просто не могли подавить непонятный страх: они тряслись бы, да еще как, но если у них получится не как у других? Девушки будут ухмыляться. Вот чего они боялись! И потому часть из них пропускает лекарство для смелости. Вывод: надо организовать мероприятия, чтобы вовлечь в общественную активность, то есть в танцы, и эту группу блокирующих дверь. Тогда и алкоголиков будет меньше. — Азаида, можно, пригласить вас? — поклонился Бертул. — Почему же нет, пошли трястись, — безучастно ответила Азанда и положила обе руки на плечи желтого пиджака Бертула. Белый пояс Азанды был чертовски широк, ее талию Бертул не ощущал. Опустить ладонь пониже вроде бы не подобает, щупать лопатки — мало удовольствия. Бертул еще не промочил горло, поэтому танцевал гладенько, как считалось шиком в начале пятидесятых годов на вечеринках клуба гризинькалнских пожарников. Шажок в сторону, еще один вкось, а там еще какой-нибудь шажок, полуповорот, если хорошо удается — полный поворот, и репертуар готов, чего ж вам боле! Теперь Бертул, с отдавленными ногами, постоянно толкаемый локтями окружающих, и сам чувствовал весь анахронизм своего танца, поэтому старался отвлечь внимание разговором. — Не только ребята стоят, но и девушек много сидит. — Это все пигалицы да те, которые прозевали свое время. Доярки, — безжалостно бросила Азанда. — Сюда не надо бы пускать и тех из Пентес, которые бутылки разливают на пивоварне. Ужасно нахальные. Поэтому нашим и приходится сидеть. Darling… — Это мы устраним, — отозвался Бертул. Он решил после танца опрокинуть в буфете рюмочку коньяка, который вообще-то терпеть не мог из-за безбожной цены. В трезвом виде он не мог так же вот раскидывать ноги и выписывать затейливые кренделя, как это делали все остальные. Но тут его замысел преобразиться разрушили аплодисменты, грохнувшие у левого уха. Бертул взглянул на желающего похитить Азанду и понял, что явился пират, акула! Пиратская акула, против которой он со своими небесно-голубыми брюками и черной ниточкой усов был мелким окуненком. Ростом тот был не особенно велик, превосходил Бертула, может, всего на два сантиметра, небрежно сутулился… зато все остальное было недосягаемым для Бертула. Моложе, лет тридцати с небольшим, загорелый брюнет, на лице не как у Бертула бесчисленные морщинки, а всего лишь две рытвины: от носа к уголкам рта. Густые темные брови и бесстыже открытые серовато-голубые глаза. Пышные темные волосы мягкой волной касались белого воротника. Густые, не слишком длинные бакенбарды. И костюм — кофейного цвета, в черную мелкую полосочку, за сто двадцать. При свете прожекторов он сверкал так же, как широкий фиолетовый галстук. Будто не заметив Бертула, незнакомец тянулся к талии Азанды… А Азанда, черт подери, не удостоив даже взором прошлое, то есть Бертула, положила ладони на плечи, покрытые французской тканью. Нарбут вернулся… Бертул вспомнил это самоуверенное лицо, виденное на страницах "Литературы ун Максла" в связи с открытием какой-то выставки. "Если художники не станут соблюдать традиции — не будут ходить в обтрепанных брюках, а бороду брить будут каждый день, — к добру это не приведет", — тяжко вздохнул Бертул, покупая в буфете пиво. Пить коньяк больше не было смысла — целоваться с Азандой этим вечером не суждено. В буфете стояла повсеместная металло-пластмассовая мебель с синим верхом, с которого можно было смыть абсолютно все, даже с помощью пальца выведенные пивом непристойные аналоги любви. К восприятию алкоголя располагают пышные растения, таков закон кабака. Посередине помещения из обрезанной бочки ветвился фикус. У дерева были блестящие сочные листья, — наверное, благодатное воздействие оказывал пепел, которым в избытке обеспечивали дерево посетители, втыкая в землю окурки. В поисках одиночества огорченный Бертул с бутылкой пива спрятался за зелеными листьями. И расслышал скучающий голос Азанды: — Одно пирожное можно. Мне нечего воздерживаться от пирожных. — Одно пирожное, два стакана токая! — решительно произнес Нарбут тонким голосом. У этого черта деньги водились. Токай стоил рубль стакан. — Знаете, я как художник сразу вас заметил, — плел Нарбут, — по фигуре! Нечто похожее было только у древних греков, когда они еще не спекулировали, а высекали из мрамора обнаженную натуру. Ваша фигура умоляет, громко просит, чтобы ее нарисовали… Поверьте мне, если ее выставят в Риге, у картины будут выстраиваться очереди, как за апельсинами. — Да, пропорции у меня хорошие — девяносто, шестьдесят и девяносто два сантиметра. В одном швейцарском журнале такие объемы были названы лучшими для манекенщиц. "Уже раздевается…" — вздохнул Бертул. — Стоп! И не шевелиться, ни-ни! — устрашающе зашипел Нарбут. Бертул тайком поглядывал сквозь джунгли фикуса. Азанда, вцепившись зубами в пирожное, как гадюка в мышь, так и застыла в оцепенении, а Нарбут пригибался, поднимался на цыпочках, прохаживался то в одну, то в другую сторону, наклоняя голову, приседая, так что ясно стало видно, что носки у него лимонно-желтые. Лоб наморщился, натягивая волосатый скальп почти до бровей. "Черт, изображает серьезного. Облапошит бедную девчонку". — Так я хочу набросать ваш портрет: "Девушка с кусочком торта во рту". — Вообще-то я люблю пирожное. Мороженое надоело. — Тогда сейчас же в ателье. — В Ригу? А я уже подумала, что вы серьезно… — Ну конечно, серьезно. Здесь же в подвале под сценой у меня есть полотна и краски. Два пирожных и бутылку токая! — Нарбут уже орудовал у буфета, на прилавок полетело четыре рубля. Азанда, как в тумане, пошла за Нарбутом. Почему у нас так медленно прививается новая мораль? Человека надо оценивать по его человеческим качествам, а не по его покупательной способности, сетовал Бертул. А Нарбут с Азандой вышли в пахучую летнюю ночь, в густую тень акаций, достигли бокового входа и, обойдя по закулисным переходам сокрушительные электрогитары, оказались в комнатке декоратора. — Какие у вас бывали иностранные вина! — изумилась Азанда стене, разукрашенной бутылочными этикетками. Теперь она полностью поверила, что Нарбут выдающийся современный художник. — О, это всего лишь десятая доля того, что я выпил, — обронил Нарбут, забыв добавить, что этикетки эти наклеивали его непутевые предшественники в течение десяти лет. Сбросив пиджак, закатав рукава белой рубашки, он начал неистово суетиться. Из-под лежанки вытащил желтый плоский ящик, отстегнул от него алюминиевые ножки, поставил их стоймя, к ним прислонил раму с неказистым серым полотном. В ящике под палитрой хранилась целая горсть кистей и уймазаляпанных тюбиков с красками. Затем Нарбут схватил Азанду не особенно нежно за плечи и посадил на лежанку. Прежде чем начнет писать картину, наверное, придется целоваться. Это можно, только пусть не съедает губную помаду, а то ее на портрете не видно будет. Азанда застенчиво опустила глаза. Но нет… Нарбут вертел ее бесстрастно, как лампочку под потолком, в промежутках перетаскивал также натянутое полотно и ящик с красками. И нёс всякий вздор: — Надо бы в комнате с черными стенами… — Вот еще! Такие теперь совсем не модны, лучше каждую стену выкрасить в разные цвета или обтянуть их блестящей тканью валмиерского волокна. — Леонардо в черной комнате писал свою Лизу. — Лизу? — Ту самую, которую повезут в Японию. Теперь, пожалуйста, возьмите пирожное. Подержите минуточку, так… — Нарбут схватил уголь и, чертя рукой в воздухе странные зигзаги, временами касался им холста. — Один раз откусите, потом опять подождите. Хлопоты по части тары-бары… я беру на себя. Вы только в том случае, если совершенно не можете утерпеть. — Как фамилия этой Лизы, не Тейлор? — Она была женой торговца, но Леонардо любил ее — просто так, впустую. Откусите еще раз. Так. Глазеть все время мимо моего правого уха… на бутылку токая, вон туда, на подоконнике. Пока кусочек бисквита с завернутым в него вареньем из красной смородины таял на языке, Азанда пялила глаза на этикетку, которая ярко желтела на темном фоне за окошком полуподвала. — По последним исследованиям медицинских экспертов, Мона Лиза была… как говорится… в интересном положении. Если хорошенько вглядеться… — Если муж да еще любовник, что ж тут удивительного. Теперь я догадываюсь: вы говорите про ту картину "Мона Лиза"! Ну ясно, там и врач не нужен, каждая женщина вам скажет: лицо отечное, руки на… ну, талия такая полная. И все это расследовали, говорите, только через сто лет. Долгонько же. И как же все это закончилось? — Просто: Леонардо умер, Лиза тоже. От долгого глядения этикетка бутылки начинала ослеплять. Давал себя знать выпитый стакан вина, и Азанда свободной рукой облокотилась о край постели. Туфли на высоком каблуке выгибали ступни в дугу, и те жутко устали. Азанда нагнулась, сняла туфли, затем закусила тортом. — Великолепно! Великолепно! Ноги свободны, сама свободна. Еще немножечко, и будем пить вино. — Из тюбиков на палитру вытекали цветные сосисочки. Левой рукой он схватил грязную тряпку и время от времени тер ею холст. — Я сейчас… этот эскиз делаю, как говорится, "al-la prima", по-латышски — "одним махом". Все еще помню слова одного старого мастера: "Лицо отделывай зеленой землей…" — Чокнутый, что ли? Зеленое нужно только вокруг глаз. — Истинная правда, прекраснейшая. Но в те времена: "Щеки необходимо делать возле ушей более алыми, чем у носа, потому что это усиливает рельеф лица и стушевывает эти округлости, сливает с окружающим". — Ну, потрясно — алые щеки возле ушей! Щеки вообще теперь не красят. — Вы-то нет, а вот художник… — И Нарбут, притронувшись кистью к полотну, забавно откидывал голову назад, будто уклоняясь от боксерской перчатки. — "Потом берут немножко черной краски из другой баночки и обводят глаза над глазным белком". — Это уже правильнее. Без черной краски у женщин глаз сегодня не бывает. — Закусите! Так. — И Нарбут ловил, как бабочек в сачок, мгновения блаженства при поедании пирожного, слетающие с лица Азанды, которая сама была написана вовсе не в манере старых мастеров, а совсем наоборот. Модильяни, ведь Модильяни тоже малевал милых, ветреных девушек Парижа. Но писал бы этот Модильяни в Ригс, так про него ни одна бы собака не знала. Соприкосновение пирожного с нёбом доставляло девушке такое наслаждение, будто она откусывала кусочек рая. Нет, кусочек от райского яблока. — "Потом беличьей кисточкой оттеняют верхнюю губу, которая должна быть темнее нижней.. — вслух продолжал Нарбут. — У меня есть западногерманский журнал "Моден-шау", но там насчет нижней губы ничего не сказано. Издали доносились приглушенные кулисами удары гитары. Там, в зале, другие тряслись, а она здесь сидит. Хмель от стакана вина начал улетучиваться. Не будет ли весь вечер потерян зря? — Где вы эту картину выставите? — Везде, где только возьмут, — чистосердечно ответил Нарбут, потому что эскиз в главных чертах был закончен. — А если не возьмут? — От меня — Доната Нарбута? Возьмут. Я происхожу от католиков, а это тоже кое-что значит. Возможно, картину купит какой-нибудь музей для своих фондов. — Разве… такие маленькие картины тоже покупают? — Покупают. Автопортрет Паулюка нисколько не больше. Нарбут поменял свою изжеванную, но не зажженную сигарету на новую и на этот раз закурил. Азанда поняла, что работа окончена. Она встала, чтобы взять с изрезанного дощатого стола второе пирожное, а Нарбут, испытывая безудержную радость после совершенной работы, поцеловал ее в шею. Слишком небрежно поцеловал, как показалось Азанде, поэтому она целомудренно отстранила Нарбута. — Покажите, что у вас получилось. Сегодня нельзя, не высохло. — Нарбут, не заботясь о французских брюках, полез под стол и спрятал там полотно. Он опасался, что эскиз, выполненный размашистыми и плавными линиями в стиле шведа Цорна, не вызовет восторга Азанды. Азанда попросила закурить. С курением у нее пока дело обстояло плохо, в школе же этому не обучали. Покатав дым в надутых щеках, она его выпустила наружу безупречно синим клубом. Что ж поделаешь, если в газетах пишут, что девушки в Дании и Швеции курят с двенадцати лет? Нарбут налил в ударостойкие чайные стаканы вино липового цвета. Они чокнулись, потом сидели на клетчатом одеяле. Горела только прикрытая желтой бумагой лампочка на столе. Нарбут положил руку на талию девушки. Они чокнулись еще. И опьянели. — Я с удовольствием написал бы вашу натуру… — приглушил голос Нарбут. — Натуру? — Ну да, обнаженную натуру. Голую. — Нарбут вскочил на ноги и, рисуя пальцем в воздухе, начал объяснять: — Вы опустились на колени. Линия бедер выделяется как натянутый лук. Лицо в профиль на фоне зеленого бархата или зеленого куста сирени. Со склоненной к плечу головой. Грудь — это вершина горы, и дуга замыкается в лоне… На выставке все восторгались бы только вами. Азанда в ответ прижалась плечом к плечу Нарбута. За этой желтой этикеткой с бутылки вина она видела себя в Рижском музее в том конце ужасно высокого зала, между двумя лавровыми деревьями, нагую на темно-зеленом бархатном фоне. На нее глядит толпа посетителей — и спрашивают друг у друга: "Где это Нарбут отыскал такую девушку? Интересно, как ее звать на самом деле и где она живет?" Среди посетителей одно лицо напудрено и неподвижно, как белая луна, — это Шпоре из прачечной, которая постоянно подсматривает, когда она взвешивает мороженое. Шпоре притворяется, будто не знает, что это Азанда, потом не может совладать с собой, сжимает кулаки, хочет кинуться на картину, но затем выбегает из зала… — Если вы так думаете… Нарбут понял: "То пишите!" — Договорились. На той неделе начнем. Может быть, мы уже сейчас выберем позу? Тогда вам надо бы снять платье. — Нарбут оторвался от нежного плеча девушки и занавесил полуподвальное окно афишей "Трудовые резервы поют и танцуют". — Знаете… мне будет трудно — это платье такое, немецкое, у него на спине глубокий вырез… — Разве вы хотите, чтобы я писал только спину? — Это платье немецкое… У него спереди вшит бюстгальтер… И если я сниму… — То останусь очень голой, хотели вы сказать. Но ведь именно это мне и надо видеть! Ключ вон, в дверях, дом полон людей. Если что не понравится, можете кричать, у вас красивый голос. За границей именно сейчас в моде такие вечера, называются партиями, и девушки там обычно оголены по меньшей мере наполовину. А у молодых людей сейчас в моде в дневное время голыми перебегать улицу. Бегут сразу вдесятером, чтобы не могли узнать. — Повернитесь спиной! Когда Нарбут, в углу своей каморки промыв в скипидаре кисти, снова обернулся, Азанда сидела на краю лежанки, задрапированная фиолетовыми волосами и в синеватых трусиках. Согнутой в локте рукой она прикрывала грудь. Будучи ученым художником, Нарбут знал, что это движение вовсе не для того, чтобы что-то скрывать, а напротив — чтобы привлечь внимание к чему-то. Подобный жест отобразили еще античные скульпторы, заставив Афродиту Книдскую держать ладонь перед лоном, но все же поодаль от него. Можно бы писать натуру, но необходим солнечный свет. И не на фоне зеленого бархата, а зеленой листвы. — Не знаете ли вы какой-нибудь уединенный садик на окраине этого Бирзгале, где бы я мог вас писать, и чтобы вокруг ни души, ни один сосед не подглядывал бы через забор? — Можно бы… Может быть, в саду Свикене, у реки. Там сейчас живут только те хиппи из Риги. — Идет! Сообразим! У вас чудесный… нет, на самом-то деле живота у вас вовсе нету! — Нарбут закурил и, будто погрузившись в глубокое раздумье, вышагивал от плиты и до окна — два шага туда и два обратно. Рассеянный свет лампочки делал загорелый стан Азанды экзотично темным. Она загорала голой — груди были темнее, чем их бутоны. — Знаете, одна танцовщица из Монте-Карло, которая зарабатывала деньги танцами живота, застраховала свой пупок. — Ну да, там не то что у нас, там что угодно можно. Нашего страхового агента не уговоришь. Есть у нас такой Мараускис, он еще и часы чинит. Как-нибудь спрошу его, но так, чтобы и жена услыхала. Вот будет у него бледный вид… Рано тем временем совсем окутало Азанду в свою розовую дымку, она больше не чувствовала себя полуголой и, приподнявшись, потянулась за стаканом с вином на столе. Нарбут поспешно подал ей стакан. Оба выпили. Художник наклонился к девушке, осторожно приложил губы к ее плечу и сам опьянел. А теперь?.. Гладить эти плечи, целовать губы, грудь и погружаться в те потусторонние колыхания, которые описал старый Хэм в романе "По ком звонит колокол"? В том романе они любили друг друга. Но — разве вместе спят только те, кто любят? Мир не настолько скучен. Неожиданно Нарбуту пришла на ум картина из польского фильма "Анатомия любви". Расстегнутый воротничок белой рубашки и галстук у него были такие же, как у мужчины в фильме. Но девушка — нет. Та, в фильме, торопливо стянула свитер через голову и приглашала мужчину на ложе. Азанда все еще сидела, упершись ладонями в лежанку. Азанда еще была только на пути к совсем современной девушке.
Бертул в буфете печально разглядывал пивную бутылку на фоне листвы фикуса. Пива нет, девушки тоже больше нет… Потом какое-то время он наблюдал в зале, как дергались исполнители культовых танцев в круговороте фиолетовых и зеленых огней. В центре зала, в нескольких шагах друг от друга, стояли две фигуры в клетчатых накидках и безразлично топтались, временами выбрасывая животы вперед, таким образом протестуя против того, что на латышском языке еще не издано ни одной книги о сексологии, так как в задачу хиппи входит также и протестовать — даже и на отдыхе и в свободное время. Певец, одетый в двубортный мундир дворового кучера XIX столетия, что-то кричал в микрофон на том английском языке, на каком говорят якобы на островах Фиджи, где к китайским, испанским, малайским и французским словам примешано довольно много английских словечек, — "пиджин инглиш". Как бывший туберкулезник, Бертул ценил ночной сон. Надо идти домой и выспаться. Идти одному… Ну, погоди, Нарбут, ты еще узнаешь Сунепа! С врагами бьются не только на кулаках, на рапирах, авторучками, но и устными докладами. Где Касперьюст? Касперьюста он нашел в будке кассира у Боки, где тот с явным удовольствием раскладывал двадцатикопеечные монеты в аккуратные столбики. — Товарищ директор, прибыл и. о. декоратора. — Тогда пусть завтра же и побыстрее вешает передовиков. Надвигается жатва. А где еще, кроме как не у Доски почета в доме культуры, люди будут учиться, как собирать урожай! — Сомневаюсь, будет ли Нарбут в состоянии это сделать, — проспится ли он? — Что, пьянствует в буфете? — Хуже. — Черт его подери, дерется, что ли? — Еще хуже: ведет аморальный образ жизни, и к тому же здесь, в доме культуры, в своей каморке. Касперьюст вскочил на ноги. Бока, оберегая, прикрыл рукой уже сложенные в стопки денежки. Глаза Касперьюста выпучились. Подобно бегемоту директор вломился в зал в толчею танцующих, чтобы напрямик пробиться к двери рядом со сценой, ведущей в полуподвал декоратора.
А Азанда уже чувствовала себя оскорбленной: неужто художник не заметил, не оценил ее — всю! Она выпятила грудь и откинула голову. Такова наиболее угрожающая поза всех женщин, в такой позе изображалась каждая киноактриса хотя бы раз. — Я давеча прочла, что Мерилин Монро пела президенту Кеннеди песенку "Happy birthday" — "С днем рождения", и песня эта, и Мерилин опять в моде. А вообще-то брат президента Кеннеди якобы тайно любил ее. И Нарбут сдался: — Вы сами в этот миг Мерилин Монро. А я буду братом президента Кеннеди, — прошептал он, погасил настольную лампочку и снял с окошка афишу. Азанда, запрокинув голову, зашептала: — Но брата Кеннеди застрелили… Сквозь грохот ударов гитары, приглушаемый кулисами сцены, они не расслышали тяжелого топота Касперьюста, пробивавшегося сюда, вниз. В каморке вдруг вспыхнула яркая лампочка под потолком, наполнив ее светом, будто взрыв атомной бомбы. Нарбут вскочил на ноги. Азанда метнулась вперед, прикрывая локтями живот и грудь. Они забыли, что выключатель потолочной лампочки находился за дверью… Касперьюст рванул дверь, увидел пустую бутылку вина на столе и только потом голую Азанду на лежанке. Будучи всегда и всюду человеком вежливым, он отвернулся и весь свой гневный монолог выкашлял в открытую дверь. Ибо в подсознании его мелькнула мысль: что произошло бы в семье, если бы жена узнала, что он глядел на чужую и полуголую женщину! — Что мы тут видим? Как-то так… как-то так исключительно! И это в то время, когда все общество должно учиться у дома культуры! Нарбут, загородив собой Азанду, пока та натягивала через голову платье, успел застегнуть рубашку и таким образом больше не чувствовал себя голым и невооруженным перед врагом. — Ах, должны учиться? Ну что ж, кое-чему я могу и научить. Вон как! Ты еще измываться!.. Хорошо, я сообщу твоей матери, как ты тут разлагаешься! — Касперьюст, боявшийся своей жены и дочери, считал, что высказал самую страшную угрозу. — Пиши-пиши. Мама обрадуется. Она давно уж говорила, что мне пора жениться. — Ах, так? Тогда я запрещаю тебе спать в этой комнате, то есть — запрещаю жить. Эти помещения предназначены для работы, а не так… как-то так исключительно… Если район об этом узнает?.. И если завтра не будут повещены передовики, зарплату не получишь. И если эта… эта, голая, через пять минут не исчезнет, позову милицию, и тогда… тогда у нее будет аморальный образ жизни! — Касперьюст хлопнул дверью так, что выпало стекло из окошка. — А тут в самом деле нельзя жить — на таком сквозняке, — заключил Нарбут, выпивая остатки вина. — Не знаешь ли ты какой-нибудь сарай, где бы я мог переспать на сеновале? — Darling, тебя прогнали из-за меня! — Растроганная Азанда обвила шею художника. — Слушай! Там же, где ты будешь меня писать, возле риги Свикене есть сарайчик. Старуха там хранит сено для козы. Козу продали, а сено осталось. Нарбут проводил Азанду домой, жила она за полуразваленной церковью. На траве была сильная роса, и, целуясь, они не могли присесть, потому что Азанда жалела новое платье, а Нарбуту не хотелось завтра гладить брюки.
Писк цыплят становился слабее. Видимо, они охрипли на сквозняке, потому что в корзине между прутьями были щели, по сравнению с размерами цыплят, очень большие. В Пентес Алнис первым выпрыгнул из автобуса, с огромным рюкзаком, в высоких зашнурованных сапогах, волосато-бородатый, с голыми руками и в жилете, похожий на альпиниста, который возвращается с Гималаев, неся с собой в корзине цыплят никем не меченных снежных куриц. В центре села Пеннее когда-то было старое имение. Возле автобусной остановки пруд, над которым склонялись старые иры. По другую сторону улицы могучее каменное здание, в торце которого под арочным навесом, где, по всей вероятности, была когда-то кузница, находился магазин. Под арочным навесом на старой-престарой каменной мостовой были сложены всякие ящики. На них торчали местные завсегдатаи я сосали из бутылок пиво или иной фруктовый сок. Некоторые из них, наверное, были трактористами, потому что рядом, не жалея топлива, тарахтел трактор без водителя. От остановки на три стороны расходились старые дубовые и ясеневые аллеи. Почуяв здоровый деревенский воздух, цыплята дружно запищали. Мужики под навесом вынули изо ртов горлышки бутылок и стали глядеть. Цыплят они не слышали: тридцать цыплят не могли перекричать по крайней мере сто лошадей, каковые скрывались в моторе трактора. Значит, объектом внимания был сам Алнис. В провинции приходится считаться с тем, что внимание обращают даже на жилет, на бороду, на ботинки со шнурками, хотя все эти предметы одежды по отдельности носили еще в прошлом веке деды этих глазеющих. Лучше бы вытащили из пруда детскую-коляску, которая валялась в иле, как опрокинутая модель колесного парохода. — Цып, цып, цыплятки! — Алнис бережно вынул одного цыпленка, чтобы смыть чернильное пятно с пушистого затылка. Пятно не исчезало, а петушок отчаянно жаловался. У Алниса было с собой подходящее именно для такого случая "Детское мыло". Он обернулся к оставленному на берегу рюкзаку, но увидел возле него крепкие босоножки на пробковой подошве и над ними две стройные, сильные, голые, загорелые даже выше колен женские ноги; кто-то медлил пройти мимо. Кому, принадлежали эти ноги? Этого Алнис не узнал, — для этого надо было поднять глаза выше, но такое поведение могли бы истолковать как неприличное подглядывание. Алнис нагнулся над корзиной с цыплятами, а ноги удалились по направлению к ясеневой аллее. Вот черт, сбегутся еще, начнут дивиться на то, как цыплят моют. К тому же обмытый цыпленок обмяк, наверное замерз, и больше не пищал… Алнис, ухватившись за иву, выбрался на дорогу, подхватил перевязанную рубашкой корзинку, чтобы сгинуть из центра. Из-под навеса автобусной остановки за ним наблюдала владелица босоножек и сильных ног. Эдакая небольшая, кругленькая, бойкая. Черный пояс вокруг талии перерезал ее на две части — в одной оставались ноги и голубая мини-юбочка, в другой — облаченный в полосатый апельсинового цвета джемпер женский бюст, подпирающий овальное лицо в оболочке коричневых волос. Глаза были прищурены и глядели на Алниса и его корзину пристально и бесстрастно. Алнис учтиво поклонился девушке. Ни одна длинная ресница даже не шевельнулась. После такой реакции было ясно, что Алнису следует отправляться в противоположном направлении. И он пошел под аккомпанемент будущих петухов. Аллея становилась уже, обогнула другой пруд. На берегу пруда, окутанный жужжанием пчел, на солнце дремал когда-то белый домик с имитированными проемами окон в стенах. Четыре короткие колонны поддерживали пологий треугольный фронтон. Алнис сообразил, что это, должно быть, старая часовня при имении. Вокруг нее, вросшая в крапиву и покрытая мохом, виднелась развалившаяся каменная ограда, которой полагалось охранять покойников от живых. Алнис приостановился и свободной рукой ухватился за волосы. Нечего было и надеяться найти здесь кованые ножки баронских гробов. Из истории известно, что за последние семьдесят лет через Латвию перекатывались туда и обратно две войны мирового стандарта и несколько воин помельче. А может быть, и каком-нибудь углу часовни скрывался побитый и незамеченный ангелочек, высеченный из доломита рукой мастера, или святая Мария. Он шагнул через канаву и подошел к двери. Дверь в елочку была заперта. Но в потускневшей дверной ручке что-то угадывалось под слоем вековой грязи! Алнис плюнул на ладонь и почистил ручку. Ага: появлялось нечто похожее на голову человека — величиной с голову цыпленка. Почистить, навести блеск — небось как еще пригодится! Только жаль, что дневное время… И не промелькнуло ли там за деревьями что-то оранжевое? Алнис не хотел привлекать к себе внимание и по тенистой аллее пошел дальше. Аллея кончилась, началась настоящая сельская местность с желтеющими полями ржи и очень зелеными, наверно от свекольной ботвы. Дорогу пересекала еще не выпрямленная речушка. За ольховыми берегами ее находился крестьянский двор. Алнис остановился: надо было начинать операцию "Цыплята" либо операцию "Старинные предметы". У речушки грустила банька, у которой не хватало половины крыши. В траве были заметны места от костров. Очевидно, у баньки не было платного сторожа — и она стала жертвой индустрии туризма. Но вандалы, сжигающие стропила брошенных строений, в ценностях старинных предметов ничего не смыслят. Алнис положил жалобно пищавшую корзину в тени кустов, прислонил к стене баньки разбросанные решетки вешал сена и забрался на чердак. К сожа-лению, чердак и сама банька, куда он провалился сквозь прогнивший потолок, походили на разграбленные фараоновы гробницы. Не хватало лишь египетских навозных жуков, которых называют скарабеями и, преобразованных в брошки, носят на дамских блузках. Зато в расщелине бревна Алнис заметил несколько мумифицированных тараканов орехового цвета, до эры ДДТ тараканы были постоянными обитателями латышского крестьянского двора. Забрать их? Пожалуй, никто не станет покупать. Поднявшись на полок, Алнис пальцами перебрал зеленую труху банных веников. И нашел! Нашел длинную, жесткую кожаную веревку. Потянул и вытянул неподдельный постол с дыркой на том месте, где находился большой палец ноги. Постол наверняка годился! Спрятал его в рюкзак. С цыплячьей корзиной он отправился к самому дому. Ничего примечательного: сруб как сруб, крыша с напуском. За домом яблоневый сад. Там пожилая женщина привязывала корову на прикол, деревянной дубинкой загоняя в землю железный штырь. Деревянная дубинка могла бы заинтересовать покупателей только в том случае, если бы удалось доказать, что она принадлежала эстонцам, что окружали древний замок Беверины. Это было невозможно. Поэтому после вежливого "Бог в помощь" Алнис предложил старушенции цыплят. Старуха надела очки, которые висели на старом шнурке от ботинок на шее. — Сынок, дак это же все петушки! — Откуда вы знаете? — Алнис был крайне удивлен. — Красный затылок и тут эдакий пупырышек, из которого вырастет гребешок. — Но в городе сказали… что цены на цыплят подымутся до пятидесяти копеек за штуку, и за петушков тоже… — несвязно пробормотал Алнис, не будучи торгашом. — Ну, если подымутся, тогда будем сами высиживать, — засмеялась старушка, приняв за шутку предложение незнакомца. То, что гость тронутый, она поняла сразу по высоким сапогам и длинным волосам — в такую жару даже бараны ходят аккуратно подстриженные. Разве мало эдаких в газетах выставляли и по телевизору показывали! Тех, которые у государства и у бога дни воруют. Увы, остается лишь операция "Крысиный яд"… Алнис ткнул пальцем в свою медаль, висевшую на шее с заслуживающим внимания большим красным крестом. — Я из отдела грызунов санэпидемстанции. Крысы и мыши есть в вашем доме? Ага! Старуха понимающе улыбнулась: значит, крысолов. Ну да, те-то всегда такие забавные. — Неужто мы беднее других — мыши пешь бегают! На чердаке овчинку изгрызли до основания. — Значит, туда надо положить яду. У нас имеется такое средство, которое безвредно для кошек, людей и собак. Мы это делаем бесплатно, потому что крысы съедают огромное количество зерна. В государственном масштабе это окупается. — Пожалуйста, пожалуйста! Ужасно нахальные, когда сплю, они через щели в потолке свешивают хвосты прямо в лицо мне. И так Алнис, взяв пакетики с добротными зернами проса, по страшно скрипучей лестнице попал на чердак. Старуха, пыхтя, поднималась следом. Воровать тут было нечего, но старые латыши порою бывают недоверчивы, мало ли во время войны их обчищали. На чердаке кострика, топором обтесанные стропила, обычные веревки для белья и много всякого, хлама. Алнис с пакетиками в руках облазил все стрехи. Бочки — наверное, для соления мяса, для культурных целей они непригодны. Бутылки — обыкновенные, в деревне же "Old Scotch Whisky" не пьют. Постой: такие никелированные шарики! Да это же нанизанные вереницей погремушки с лошадиных хомутов! Когда зимой ездили на санках в церковь… Спросить, сколько стоит? Нет. Старуха заподозрит, не серебряные ли они, и не продаст. Значит, обстоятельства вынуждают — не будем говорить — воровать, а присваивать эти художественные ценности. Разница! Если поймают, то будем говорить то же, что и автоворы, — я хотел только позабавиться. Опустившись на колени тылом к старушке, Алнис упрятал погремушки в огромный карман штанов. Но стоило ему только приподняться, как нога загремела, и приходилось переставлять ее не сгибая, как протез. На гвозде висел лоскут какой-то материи. Он был когда-то белый и после стирки опять мог бы стать белым. Ветхий, разукрашенный красными выцветшими буквами. Ага, народная песенка в старой орфографии:
Шла девица к роднику,
В руках зеленый кувшин несла.
Блюдя где-то слышанную поговорку: пунктуальность — вежливость простых людей, Бертул всегда в половине девятого, гладко причесанный, приходил в дом культуры. После этого у него, как у творческого работника, ритм дня обычно нарушался с такой же легкостью, как составленная смета. Деньги и время он не умел беречь. Мороженое за двадцать копеек. Хотя было уже заметно, что Нарбут вскружил Азанде голову своим искусством. Одна или две бутылки пива за какие-то пятьдесят — семьдесят копеек. А пиво иной раз чертовски возбуждало аппетит… У замшевых туфель носы уже потеряли бархатистость, блестят, как долго ношенные штаны. С художественным салоном медлить нельзя, иначе придется щеголять голыми пальцами ног! В то утро, когда запланирована была поездка с Ан-ни в районный центр, он тоже в половине девятого приотворил тяжелые, вооруженные медной ручкой двери дома культуры. Может быть, заменить эту ручку более современной — блестящей колбаской из стальной трубы? Можно бы, но старую ручку в Бирзгале не удастся продать. В вестибюле слышался стук молотка, падали доски, раздавались шлепающие шаги. Это шумное оживление создавал Нарбут единолично, сегодня он был в клетчатой рубашке, джинсах и кедах. Художник пилил, забивал гвозди, отступал, прищуривал глаз, наклонял голову, отдирал и снова вколачивал гвозди. — Касперьюст потребовал картинную галерею. И он ее получит. Только добывайте побыстрее фотографии тружеников! — Оборудовать витрины поручено вам. — Я художник, я не обязан знать передовиков! Это в вашей компетенции, — обронил Нарбут. Чувствуя, что Нарбут больше не видит его, Бертул направился в апартаменты дирекции. Жена Касперьюста с дочкой в Риге, сам, должно быть, нянчит внука Хлопотку. Итак, Бертул в полном уединении сосредоточенно изучал документы, которые Касперьюст уже проштудировал и завершил свою работу резолюциями на углах бумаг. Будучи психологом-практиком, Бертул открыл еще одну черту на гладком лице Касперьюста: директору очень нравилось ставить резолюции. Накладывание резолюций полностью компенсировало разницу директорского оклада с той зарплатой, которую Касперьюст получал когда-то, раскрашивая стены дома культуры наподобие узоров на пиебалских полотенцах. В то время он получал две сотни, а сегодня ему отсчитывали только одну сотню. Если за такую зарплату работает квалифицированный маляр, то он по природе слагатель резолюций, всю жизнь ждавший случая, когда авторучка в его руках будет эквивалентна маршальскому жезлу, которым размахивают на театре военных действий. На бумаге о проведении субботника по уборке сена было начертано: "тов. Сунепу обеспечить своевременную явку на репетицию группы танцевального коллектива среднего поколения в связи с уборкой урожая в 18.00 часов". На письме об усилении антирелигиозной пропаганды: "т. Сунепу! Обобщить материалы, произвести анализы и сделать выводы в связи с тем, что в доме культуры праздник совершеннолетия прошли 1:2 чел., а у служителя культа — 4, в то время как в прошлом году только 2". Бертул позвонил пастырю. Тот был дома. "Скорая помощь" дежурит, чтобы лечить больных, священник ожидает вы шва, чтобы хоронить мертвых. Вот и вся разница. — Господин священник, откуда взялись данные, что в прошлом году у вас прошли конфирмацию четыре некрещеных души? — Простите, крещеные души. Двое из них были близнецами, которые я крестил накануне перед конфирмацией. А данные взяты из церковных книг. — Не смогли бы вы… впредь конфирмовать просто так… без отчетов? — Бертул надеялся таким способом исключить конкуренцию церкви: раз не будет церковных отчетов, дом культуры ни в чем нельзя будет упрекнуть. — Господин Сунеп, у нас строгий реестр доходов, и я не хочу утаивать от государства законные налоги. К тому же и так церковь никогда не хитрит. И то, что у нас проходили конфирмацию в этом году вдвое больше, я как христианин просто констатирую, а церковь может гордиться. Хитер, не попался на удочку. Праздник совершеннолетия в доме культуры финансовые инспекторы не контролировали, — значит, надо будет записать на несколько душ больше. Далее бумага об усилении правовой пропаганды. Тут Касперьюст красным карандашом приказывал: "Коллективу д. культуры обсудить в этой связи недостатки, которые еще встречаются в проведении досуга отдельными сотрудниками, ибо истопник Башкис был задержан в связи с загрязнением воздуха и окружающей среды дымом и нецензурными словами и действиями". На самом деле старичок спустил выпитое пиво в акациях за киоском, ссылаясь на семидесятилетний возраст и грязный публичный туалет, к тому же он цитировал нацарапанные на стенах туалета слова, ничего не добавляя от себя; правда, ничего и не убавляя. С этой склонностью старика к выпивке Касперьюст разделался удивительно просто: "Впредь запретить истопнику Башкису пить". Хорошо, что вместо Башкиса не стояло "Сунепу". Так что пока Сунепу нить не запрещается. Затем Бертул сделал запись в журнале учета работы. Без учета нет работы, это знает каждый работник культуры. В субботу перед танцами состоялась лекция врача соседнего, Падеджского участка о случаях младенческого алкоголизма в связи с употреблением алкоголя на общественных крестинах. Из этой одной записи в журнале получилось три записи в отчетах: тематический вечер, концерт и лекция — за счет Падеджского ансамбля в пользу Бирзгальского дома культуры. Бертул отправился на свидание в "Белую лилию". Анни, одетая в кораллово-красный джемпер, сидела за столиком в ожидании его. Откусывая кусочек торта, она энергично шевелила угловатым подбородком. С ушных мочек, которые казались самой нежной частью лица, как капли серебряной росы, Сегодня свисали серьги. Бертул заметил их еще и потому, что, когда Анни ела, движения серег не были синхронными с движениями челюстей, и это создавало интересную аритмию. Кусочек торта ожидал и Бертула. Даже в выходной Анни одним глазом наблюдала за прилавком. Была умеренная очередь женщин, потому что привезли свежие, пахнущие корицей, печеными яблоками и слегка горелым сахаром булочки. В женщине есть что-то от мухи, нет, от осы: как те, так и другие любят сладкое, думал Бертул. Вдруг мимо них протиснулся мужчина в обвисшей жокейке. По стеклянному глазу уровня в потрепанном портфеле Бертул узнал Шепского. Шепский встал первым в очереди и потребовал десять булочек. Врожденное чувство справедливости в повседневной жизни чаще всего проявляется в очередях. — Ноги, руки у него есть, не инвалид! — Может быть, ты капитан дальнего плавания? — Может, мать-героиня? Чего лезешь без очереди! — раздавались возгласы возмущения. Шепский не смутился. Серьезно взглянув на ближайших женщин, он протянул руку к стене, на которой висел украшенный красным крестом плакат: — Я есть донор! Ты не знает, что ли — донор берет без очередь. Женщины, услышав слово "донор", притихли. Может, иная из них даже вспомнила родильный дом, где получила капельку чужой крови вместо своей… Продавщица уже потянулась за розовыми булочками; но Анни тоже любила правду и тряхнула серебряными серьгами: — Не отпускай, Марта! От крови этого мужика каждый умрет. В его жилах синяя сивуха. Это же Шепский! Бабы, услыхав, что кровь Шепского схожа с кровью зеленого змия и не годится для переливания, воспрянули: — Мошенник! — Последний пропойца! — Уже с утра нализался! — раздавались выкрики, хотя ни одна из них не была твердо убеждена, что сказанное соответствует истине, зато уж не сомневались, что такой напор выдержать трудно. Шепский отступил с достоинством. Разразившись вдруг громким: "Ха-ха-ха! Во как я вас надул!" — помахивая портфелем, он неторопливо вышел. — Минуточку… — Бертул извинился перед Анни и последовал за Шепским. Они встретились на лестнице под флагштоками. — Сегодень в магазин привозил венгерская мужская туфля, мой дочка там работает… — шепнул Шепский. — Бутылка пиво, и тебе положит сорок первый номер, у тебе есть женский нога. — Благодарствую, у меня дома одна пара уже лежит, — героически соврал Бертул. — Вам по работе приходится лазить по чердакам, трубу подправить и тому подобное. Если случится увидеть старую керосиновую лампу, или сундук для приданого с намалеванными цветочками, или конские уздечки с хорошей чеканкой… Я заплачу. — Я-то знай: старый вещь теперь есть модный. Борода-то тоже старый вещь. Я погляжу. Бертул отдал деньги на бутылку пива. Ничего не поделаешь: гербовая пошлина договора. С чемоданчиком для инструментов в руке мимо проходил слесарь Зислак, аккуратный, волосы на пробор" отглаженные складочки на рукавах рубашки. — Хорошо, что встретил вас… Вы тогда в обществе друзей природы обещали взять на себя сбор ценных предметов и посредничество, — сказал Зислак. — На этом поприще уже многое сделано. Что вас интересует? — На работе говорили, что в Пентес мелиораторы сносили дом и нашли такую штуку — ни патефон, ни граммофон, с железными пластинками. Музыкальный ящик! Потом проиграли его в карты. Я за такой заплатил бы… большие деньги! После работы люблю слушать старую музыку. У меня уже есть граммофон, как он называется?.. Кажется, хисмастерс. — "His masters voice", — уточнил Бертул. — Прославленная английская музыкальная фирма. Моя фирма будет не хуже. Именно в Пентес работает, так сказать, особый агент. У Бертула грудь наполнилась радостным желанием действовать. Его салоном уже интересуется даже такой общепризнанный трезвый человек, как Зислак! Как только Алнис вернется, пусть тут же отправляется назад с конкретным детективным заданием. Предприятие разрасталось — Шепского теперь можно считать агентом номер два, он будет инспектировать чердаки бирзгальских хибар, построенных в начале века. В городе Салдус, говорят, был найден даже картон, написанный Розенталем, на обратной стороне которого неизвестный старичок резал листы самосада. В автобусе на районный центр пассажиров было мало. Анни выбрала место сзади. Шофер в свой перископ не мог тут наблюдать за ними. В густом бору за городом на шоссе встречались выбоины, и Анни, подпрыгивая, притерлась плотнее к Бертулу. Прикрытое тонкой полуюбочкой, теплое бедро Анни действовало на хилую комариную ногу Бертула, как гальванический ток на лягушачью ляжку в общеизвестном опыте на уроке физики. Отступать было некуда — не пускала стенка автобуса. Голос Анни, вздрагивающий вместе с красным джемпером, ласково ворковал: — Вам еще не надоело жить в одиночестве в этой обшарпанной будке фотографа? А может, вы вовсе не одиноки, может быть, ночью какая-нибудь зеленая русалка выплывает к вам из реки погреться? — Анни, это исключено, пока в Бирзгале живете вы! — Вы всё льстите мне… — Анни повторила известную формулу, которой отвечают застенчивые девицы, уверенные, что на самом-то деле им вовсе не льстят. — Наверняка кто-нибудь уже успел что-либо про меня наговорить. Взять хотя бы того же Касперьюста. Он как-то раз покупал бутылку пива, а я в шутку спросила, есть ли у него разрешение от жены. — Анни глядела на бегущиесосны. — Я и сама могу порассказать правду. С последним мужем я вынуждена была разойтись, потому что ни одну ночь я глаз не могла сомкнуть… Бертула ужалила ревность, какую испытывает всякий мужчина, если при нем приятная женщина хвалит достоинства другого мужчины. — В Африке, говорят, такие случаи не редкость. Расовые особенности… — пробормотал он. — Разве негры тоже сильно храпят? — Почему… негры должны храпеть? — смутился Бертул. — Я разошлась с последним мужем потому, что он ужасно храпел. Так был муж как муж, работал в пекарне. Но если хоть немножко выпьет, так от храпа прямо потолок обваливался. А какой же мужчина не выпивает! — Совершенно верно, — от души согласился Бертул. — Поначалу думала — выдержу, он всегда приносил свежие пирожные эклеры, но под конец я стала говорить: "Не можешь ли ты спать потише!" Храпун-то сам ни за что не верит, что от его храпа всю ночь оконные стекла дрожат. Проходит неделя, другая. Нет, не могу. Как выпьет и уснет, иди спать в другую комнату. А он, этот Ояр, проснется — нет меня рядом, сразу скандалить. Опять, мол, я от него убегаю. Я потихоньку к врачу ходила, может, имеются какие лекарства. Попалась эта докторша Симсоне, такая тихая, молодая. Думаю, молодых теперь больше учили. Оказывается — ничуть. — Про невесомость учат, а как избавиться от храпа, не знают, — согласился Бертул. — Вот именно. Симсоне только смотрит на свои туфли и объясняет мне: храпят люди, собаки, медведи, гориллы и слоны… Мне-то какое дело, что горилла храпит, я должна спать рядом с мужчиной! Ну да, говорит она, когда храпят, шевелится мягкое нёбо. Храпят, мол, оба пола. Хватит, говорю я, раз уж вы знаете, что там шевелится, то закрепите это мягкое нёбо на месте. Дайте лекарства, чтобы по крайней мере ночью не шевелилось! Нет, этот недуг нельзя, мол, лечить, потому что его — я онемела, такое издевательство! — медицина не считает за болезнь, значит, нечего и лечить его… "Терпела я, терпела, но однажды Ояр был выпимши, и я сказала ему, что он громко хранит; а он как двинет меня по щеке. Ну уж этого я никому не позволю! — Грудь Анни подалась вперед и застыла в боевой готовности. Бертул вполне верил, что ударить Анни опасно, и торопливо пробубнил: — Да-да, женщину надо часто любить и редко бить. — И тогда я сказала: "Убирайся!" Вот так и живу… — Анни вздохнула и опять позволила себе дотрястись до Бертула. Она рассказала только про одного мужа, но на пальцах было по меньшей мере три кольца. Пусть! Денег на четвертое кольцо у Бертула не было, и достоверно известно, что и не будет. Скорее всего… придется у Анни выпросить те сотни, если найдется музыкальный ящик, про который пронюхал Зислак. Анни открыла белую сумочку и стала показывать фотокарточки в качестве иллюстрации к биографии. — В общем-то в Бирзгале Жить можно… Вот где я живу. Мне принадлежит полдома. — Змея-искусительница начинала с дома, не понимая, что у Бертула была душа художника. Здание типа чернильного пузырька, так себе. Оштукатурено, забор из проволочной сетки. За ним далии и в проеме входной двери Анни в купальнике. Значит, на снимке объединено материальное и художественное. — Домик славный, оконные рамы белые, как нейлоновая рубашка. — В мой день рождения… — Второй снимок. Свежепричесанные женские головки, мужчины уже без пиджаков, но все при галстуках. Обязательная бутылка коньяка, как символ культуры и ранга. Стол в добровольном соревновании с соседями до последнего предела завален посудой и закусками. И ваза с розами. Только розы, ну, может быть, еще гвоздики или каллы, другие цветы, когда идешь в гости, уже и не цветы. Если бы кто-нибудь принес букет васильков, над ним бы долго смеялись, как над ничтожеством или блаженным. Один верзила, таращась на фотографа, прижал нахально свою бороду а-ля Бауман Карл к щеке Анни. — Муж сестры. — пояснила Анни, догадываясь о ходе мысли Бертула. — Нет ли у вас каких-либо фото с собой? Хотя Бертулу не принадлежал особняк и единственная жена бросила его еще шестнадцать лет назад, фотографии у него имелись. Из Гауяскалнсского санатория. Бертул посреди танцевального ансамбля. По обе стороны от него по девушке, одетой в смешной русско-венгерско-молдавский национальный костюм. У Бертула под подбородком "бабочка". Затем моментальный снимок — Бертул в единственном числе. Застигнутый врасплох фотографом — в полуобороте, с бокалом вина в руке. — Красноречиво. Без притворства, — засмеялась Анни. — Подарите мне это. Как неизменны способы сближения… Точно в средней школе. В районе она наверняка угостит его обедом. Фотография стоила всего лишь двадцать копеек. Облик Бертула перекочевал в белую сумочку. В городе они остановились у низкой стеклянной клетки на краю старого парка. — Величавые деревья, как в английском парке, — заметил Бертул. — Тут было старое кладбище.. — вздохнула Анни. — Поэтому в народе это кафе называют "Покойничком". — Кто знает, может, и я когда-то буду держать в зубах сладкий березовый корень… — рассуждал Бертул. — За это стоило бы пропустить по одной. Они свернули на тропинку к "Покойничку". На обочине возле дорожки среди известкового туфа цвел очиток, яркий как лик солнышка. — Хорошо бы у каждого дома культуры иметь такой же каменный садик, как у этого кабачка, — Вздохнул Бертул. — Это не кабак, а кафе, — поучала Анни. Бертул заметил, что засохла одна из свилеватых сосен, которые росли у входа. — Все же кабак, погубил это дерево урин пьяниц, в котором содержится спирт. Внутри стеклянная клетка была чистой и аккуратной. Поверхность столов из покрытого лаком волокна. Спинки сидений удобно охватывали тело и не давали подняться до тех пор, пока не было выпито по два стакана "Бисера". После второго Бертул заметил, что холодильник за буфетом такой огромный, что в него можно упрятать целого быка, но вино все же тепловато, что у музыкального автомата все клавиши целы, но "сегодня он не работает", что на одной степе окна большие до пола, а на другой — маленькие у самого потолка, как в тюрьме. Хватит, сказал себе Бертул, критика отдельных недостатков — первый признак опьянения. Анни уплатила, потому что она же пригласила. Анни ушла "прочесывать магазины". Договорились встретиться через два часа у церкви, петух на ее шпиле был виден с любой точки города, и церковь была такая большая, что ее заметил бы даже хмельной. Бертул продолжал знакомиться с городом. "Салон народного искусства". В магазинчике имелось огромное количество цветных салфеток, ковриков и довольно больших настенных ковров. И множество деревянных подсвечников. Должно быть, в этом городе возвращались к свечному освещению. — Нельзя ли заказать у вас оленьи рога? Не деревянные, а настоящие, с лобовой костью оленя? — с серьезным выражением на лице спросил Бертул. Старообразный, сутуловатый продавец поглядел на него внимательно. Судя по пиджаку в крупную клетку, по волосам нормальной длины да еще прямому пробору, это человек солидный, возможно коллекционер. Будучи продавцом старых времен, он ответил: — Сегодня нет. Посмотрим на складе, и я позвоню нашим поставщикам. Зайдите, пожалуйста, завтра. — Позвоните поставщикам? Браконьерам? — холодно простился Бертул. Как экскурсант, Бертул обратил внимание на кафе под названием "Солнце". Только и было что название; а так — те же трубчатые стулья, тот же сизоватый релиновый пол и бездействующий венгерский кофейный автомат на стойке. Стакан венгерского вина, правда, был настоящий и действенный. Взял еще сигарет, и оставалось всего два рубля… "Один в чужом городе…", с этими рублями шутить нельзя. Если Анни не выручит, придется топать домой все сорок километров. А что бы можно осмотреть без денег? Раздумье прервал хлопок ладонью по плечу. Поднялось легкое облачко пыли. Черт, забыл дома почистить щеткой. Виновником был инспектор отдела культуры, у него была привычка, разговаривая, поднимать обе руки. Говорили, что он когда-то дирижировал духовым оркестром. Инспектор тут же сообщил, что заведующего отделом культуры перевели в министерство и отделом заведует и. о. — Если бы на вакантное место был объявлен конкурс, я подал бы документы; а так не все ли равно, имеется ли свободное место в отделе культуры или в министерстве иностранных дел Абиссинии, — сказал Бертул. — Мда, — проворчал инспектор, — хотя… если на войне убьют одного майора, то получат повышение по меньшей мере три человека — один лейтенант, один старший лейтенант и один капитан. Еще вот что: в районе нужен один передовой дом культуры, по которому равнялись бы другие дома. Бюджет подкинем. Ваш не хочет постараться? Шансы есть. — Спасибо за любезное предложение! Отчеты у нас и в самом деле неплохие. Спасибо. Доложу директору. Это дело нужно было спокойно обдумать. Он зашел в универсальный магазин, потому что на втором этаже там находилось кафе. Не по-мужски брать к кофе пирожное. Половое различие требует пить кофе с коньяком. Из двух рублей больше одного было пожертвовано на полрюмочки "Плиски". Кафе находилось на стратегически удобном месте: с высокой табуретки можно было обозревать лестницу, так что ни одна жена не могла бы незамеченной накрыть мужа, если тот, пока жена на нижнем этаже ревизует полки с кофточками и трусиками, увлекся крепким кофе. Анни ценила пьяниц в ресторане "Белая лилия", но не переносила пропойц в собственном доме, Бертул это почувствовал. Потому-то Анни хотела, чтобы Бертул принимал необходимое для жизни количество алкоголя только в ее присутствии. Ну так, прежде всего — кто такой сам Бертул в этой армии носителей культуры? Бывший библиотекарь, куль-торг, по ведомостям на зарплату — даже пианист. Учитывая девятилетнюю выслугу, он возвел себя в чин лейтенанта. До пенсии в генералы не попасть, но, скажем, если посчастливится, до капитана можно дослужиться. Кто такой Касперьюст? По меньшей мере старший лейтенант. Разница в зарплате у них не особенно большая, но директору легче что-нибудь присовокупить к зарплате. Руководство драматическим кружком" к примеру, — рубль за час. Можно бы списать и не порвать национальные костюмы, барабан. Премия за квартал рублей пятьдесят. Можно придумать и еще кое-что, до чего Касперьюст никогда не додумается. А свадьбы, крестины, совершеннолетие, — говорить Бертул умел, голос, как говорится, дай бог каждому, букварь будет читать, а иной прослезится. Потом домашние званые вечера — раз в неделю… Будущее вырисовывалось ему столь же радужным, как вид налево, где на полках и на столах, подобно слоеному мармеладу, лежали простыни, полотенца, скатерти. Решительно опрокинув рюмочку, он медленно, точь-в-точь новый Касперьюст, спускался вниз, мимо неподвижной глиняной девицы, на коричневое тело которой было надето новейшего образца летнее платье "Рижской швеи". Руководство магазина нелепо поскупилось на туфли, и ступни коричневых ног манекена были укутаны в зеленую сборчатую ткань. Забрела в траву девица, ухмыльнулся Бертул. В отделе письменных принадлежностей он купил конверты, писчую бумагу и спросил, где тут находится почта. На почте написал два письма, каждое другим почерком и с разными подписями. Бертул хотел стать хотя бы старшим лейтенантом. Закончив осмотр магазинов, Анни спохватилась, что ни в одном вроде бы не видела Бертула. Денег у Бертула, в общем-то, нет, но все же для рюмочки всегда найдется даже у голого и в бане. Аини стала систематически проверять главную улицу. В кафе "Солнце" она спросила: — От нашей группы отбился один экскурсант. Такой чернявый — с гладкими волосами, в желтом пиджаке… Не покупал ли он у вас что-либо из питья? Продавщица таращила глаза: — С черными гладкими волосами… Как бы мог выглядеть человек с гладкими волосами? Тут Анни вспомнила, что ей принадлежит фотокарточка разыскиваемого лица. Распахнув сумочку, она выхватила фото и протянула продавщице: — Вот он какой. Продавщица посмотрела, посмотрела и рот раскрыла от удивления: — Это же Гунар Цилинскис. Вы из Театра драмы? Ой… Анни, оказывается, вытащила не тот снимок. Гунара Цилинского, как эталон настоящего мужчины, от недавно купила в киоске и носила в сумочке… — Нет… он не Цилинскис, но… очень похож. Продавщица грустно вздохнула: — Нет, не был. Такого я бы сразу узнала. Мне очень нравится, как он дает Карлену своюкровь… Следующее кафе в универмаге. Продавщица сразу вспомнила предъявленного. — Был, только что тут был. Все время через плечо наблюдал, кто поднимается и спускается по лестнице, а когда не смотрел, пил кофе и улыбался. У автобусной остановки, где находилось следующее кафе, то самое, где Бертул намеревался истратить свои последние гроши, Анни встретила его улыбкой, солнечной, как локоны ее волос. — Все осмотрели? — Музей сегодня закрыт на ремонт, зато я нашел салон народного искусства. Обещали оленьи рога. — Я купила билеты и уже собиралась идти к церкви, на место нашего рандеву. У нас еще двадцать минут. — Может, зайдем в кафе? Бертул радостно распахнул перед ней дверь. Это было мрачное кафе, город не чувствовал ответственности за его благопристойность и чистоту, потому что здесь бывали граждане всей республики. Обтерев газетой столик, Анни принесла две рюмочки южного ликера. Бертул сообщил, что ему предложили место в районном отделе культуры: — Должность считается более высокой, чем моя, но в зарплате разницы нет. Я попросил время подумать. — Это был ход; пусть Анни не думает, что он привязан к Бирзгале. Анни в самом деле стала серьезнее, и ее серебряные серьги колыхались тихо, как вечерний звон. По дороге домой оба задремали, Бертул сидел у окна, чувствовал плечо Анни, и его щеку щекотали ее волосы, Анни засыпала, и голова ее склонялась на его плечо. Затем она будто встрепенулась и произнесла: — Простите, — и снова повалилась на него, на сей раз уже без цели, просто уснула на самом деле. Естественно, что в Бирзгале Бертул проводил Анни до дома. Авоська со свертками мануфактуры и валмнер-ским окороком руки не оттягивала, но все же было рискованно: городок небольшой, и уже завтра все будут говорить, что худрук побывал у Межляжки дома, И вместе с этим известием он будет списан в глазах остальных женщин, то есть общества. Надо было пройти мимо пустых рыночных столов. Налево в сторону реки сворачивала усыпанная гравием улочка, и они подошли к знакомому по фотокарточке домику — "чернильному пузырьку" за забором из проволочной сетки и за далиями, у которых распускались первые цветы. — "Лаймдота", "велта рука", "королевское дитя", — Анни мощной рукой, украшенной серебряной цепочкой, нежно прикасалась к цветкам. Далии сейчас в Латвии в моде, хотя красивыми были всегда. Бертул еще чувствовал хмель под волосами, и ало-зеленый свет предвечернего солнца превращал уединенный сад в иллюстрацию из книжки сказок. Как хорошо было бы здесь же поужинать и завалиться спать… Поди, уж нашлась бы тахта пошире. — Подождите! — Анни ушла, оставив авоську в его руке. Ну да, сама войдет со двора и впустит его через белую "парадную" дверь, которую открывают редко. Так и есть! В прихожей в целлофановых мешках висели зимние вещи, вдоль стены стояли в ряд вымытые бутылки для вина будущего года. Потом его ввели в просторную комнату. — Вот одна комната. Другая маленькая. — Анни кивнула на стену, где под зеленой тяжелой занавеской, наверное, скрывалась дверь спальни. — Хозяин второй половины дома — бывший шофер больницы, теперь на пенсии. Люди тихие, лишнего не болтают. Бертул вздохнул: — Великолепно! Уютно! Полированные стулья с велюровыми сиденьями, буфет с закругленными углами, карнизы для штор из сверкающего металла, телевизор накрыт вышитой цветами скатеркой, на ней глиняный кувшин. На стене среди других фотографий он приметил цветное фото размером с тетрадный листок с синим морем, пальмами и белым пароходом. — Это на память, — пояснила Анни, и от нее веяло тяжелым ароматом лилий. — После средней школы я ездила на поездах дальнего следования, потому что ужасно хотелось вырваться из дома. Есть такое село у реки Салацы. Ну, разве что река, а само село… И так изо дня в день. А хотелось увидеть мир… Поэтому я и поступила на работу в вагон-ресторан. Другой снимок в полированной рамочке показывал нечто вроде большой каменной корчмы, а может быть, даже замок мелкого помещика в тени старых деревьев. — Первый муж работал здесь агрономом, мы жили на втором этаже, А теперь уж не хочется никуда ехать, свет повидала… Так. Первый муж агроном, последний пекарь. Но колец на пальцах было четыре. — Присаживайтесь, сейчас согрею колбаски. — К сожалению… через полчаса мне надо быть в доме культуры. Репетиция драмкружка. И не знаю, право, очаровательная, как отблагодарить вас за сегодняшнее радушие… Анни хлопнула в ладоши, будто этого только и ждала: — Помогите мне полить огород! Должно быть, высох, как в Туркмении, я там однажды была. — И она исчезла за зелеными занавесками. Не успел Бертул выкурить и полсигареты, как Анни появилась в халате макового цвета, разукрашенном белыми японскими журавлями. Халат чуть приоткрылся, мелькнули ноги выше колен и без чулок. Как сказать ей, что не может он таскать ведра с водой… Влип. Через кухню они вышли во дворик. За обычным двухэтажным сарайчиком находился сад, черт его знает какой величины — ряды яблонь, красной смородины и вишен исчезали в сторону реки, как в лесу. Это несправедливо. Куда смотрит исполком, если у одного сад величиной с прерию, а, к примеру, Бертулу отпущено столько земли; сколько прилипает к подошвам туфель. Копаясь в земле, люди изнуряют себя… — Этот уголок мой, — Анни сделала полукруг носиком лейки. В уголке, кроме яблонь, к сожалению, еще имелись грядки длинного и хилого гороха, стручковой фасоли, моркови и, к несчастью, еще не съеденных гусеницами капустных кочанов. — Насос у сарайчика. Подносите воду" а и буду поливать. — Уже бегу… — в болезненной улыбке подергал усиками Бертул. Бертул вернулся к насосу. Борозды в этих брюкво-бурако-турнепсовых грядках высохли, как пепел. Замша туфель вмиг запылилась, стала серой, как мышиная шкура. Единственные туфли… В какое болото забрел, такие ягоды надо есть. Бертул кряхтя снял туфли и взялся за рычаг насоса. — Правильно, босыми ногами. Песочек как бархат, — восторгалась Анни, принимая первые ведра. Чудовищно глубокий колодец, наверное, пробурили местные искатели нефти… Рычаг двигался тяжело, скрипел, как тюремные ворота, вода шла струйками, как у собаки возле столба, но Анни с каждым ведром становилась все радостнее: — Видите, огурцы подняли головы! Через две недели угощу вас маринованными огурчиками! Рабский труд оплачивать огурцами… Два стакана вина — рубль сорок, рюмочка ликера, все это он уже оплатил своим обществом. Билеты туда и обратно — вместе около четырех рублей… Бертул, качая насос, считал и пришел к заключению, что после двадцати ведер он все отработал. Улыбаясь, с дрожащими бицепсами, он сообщил Анни: — Зарядка летним вечером мне нравится, но теперь все же я должен бежать, а то Касперьюст от злости схватит астму. — Жаль… А в общем-то все полито, хватит на неделю. Большое спасибо. Ну, ужин теперь заслужен… — Когда Анни переступала через грядку, халат еще раз показал выше колен голую ногу. И, используя возможности и очарование женских глаз, она поглядела на Бертула долгим взором. Сначала раскрытыми глазами. Это означало, что от чистого сердца. Затем веки слегка опустились. Это символически означало портьеры спальни. Серьги, шевелясь, как колокольчики, возвещали канун праздника. Вспотевший Бертул, опасаясь, что повышение и понижение температуры могли бы вызвать спад способности организма к сопротивлению, грустно улыбаясь, все же простился. Ушел с чистой совестью, что он отработал также и ложечку растворимого кофе, которую подсыпали в его чашечку при посещении "Белой лилии". Дома, развалясь на топчане и пуская синий дым в желтый абажур лампочки, он взвешивал положение. Кто-то тяжело карабкался вверх. — Good evening, шеф! — Алнис, одеревенелый, опустив одна плечо и прижав ушибленную руку, втащился в комнату и рухнул на стул напротив Бертула. — Я грохнулся с мотоцикла… А в остальном — совершенно живой… — От несчастных случаев я тебя не застраховал, не стоило падать, — извинился Бертул, предлагая курево. Алнис поставил между ног рюкзак и расстегнул его. Первая боль была позади, и раз уж медики его не задержали, значит, ничего серьезного быть не могло. Чтобы момент был поторжественнее, он протянул руку, снял с печной вьюшки котелок и надел его на голову. Затем выгрузил перед Бертулом постолу, передник "Шла девица к роднику", потенциальный школьный звонок, календарь, кладбищенскую цепь и заключенного в медную дверную ручку ангела. Бертул от восторга забегал по комнате, и широкие штанины дешевых спортивных трусиков развевались вокруг его голяшек, как синее знамя. — Колоссально! За сим объявляю, что художественный салон основан! Приоткрылась дверь, и появилось одухотворенное чело Скродерена, повязанное черной лентой. Будучи поэтом, он не скрывал восторга и сел на пол рядом с кладбищенской цепью. — И о чем только могла бы поведать эта цепь… Ночь, часовня открывается… — И заходят хулиганы пить водку, — затормозил полет его фантазии Бертул. Пропустив то, как он лежал ничком на гундегасском чердаке, Алнис рассказал о трудностях в поисках экспонатов. Когда Скродерен услышал про рессорную коляску, он воскликнул: — Дрожки немедленно сюда и наверх! Сюда, в ателье! За границей некоторые привозят в спальни санки с медвежьими полостями — и спят в них! Я договорюсь в потребсоюзе насчет грузовика. Предложение занесли в перспективные планы. Козырем Алниса был рассказ о музыкальном ящике. Зато Бертул не рассказывал, что у этого ящика заочно появился покупатель, но заявил: — Как только достану две сотни, поедешь в Пентес! Скродерен ушел на берег реки, чтобы в обществе девушки черпать вдохновение для стихотворения о другом пауке. Бертул резюмировал: — Музыкальный ящик продадим по меньшей мере за три сотни. Барыш пополам. Алнис, отыскав для ноющего плеча место помягче, как лёг на раскатанный матрас, так и уснул сразу и видел сон, будто лежит он в лакированной рессорной коляске, которую ночью качает специально впряженная лошадь. Бертул просмотрел последнюю страницу "Kobieta i zycie", на которой обычно находил какую-нибудь скромно одетую даму и сведения о предполагаемой невестке английского престолонаследника. Выключая лампочку, он вздохнул: — Чтобы приобрести три сотни, необходимо достать две…
Касперьюст опять напомнил Нарбуту: — Чтобы в вестибюле были уборка урожая сена и передовики! И побыстрее. — Скажите: уборка урожая сена — это то же самое, что косьба? — Совсем не то, косьба только часть работы… от целого комплекса работ. Сушка, возка в сараи, сдача на хранение — вот что такое уборка урожая сена! — Где находятся эти… как они называются — эти родословные книги передовиков? — У фотографа. Все колхозы и заводы посылают своих к фотографу. В Бирзгале ни один передовик не помрет не сфотографировавшись. Фотоателье комбината бытовых услуг находилось на улице, идущей в сторону Тендикского железобетонного завода, вроде бы на эдаком пригорке. На огнеупорной стене двухэтажного здания, под смытым дождем слоем известки, можно было различить три культурных слоя. Самый первый был, наверное, наложен в царские времена, потому что едва заметные выкрошившиеся готические буквы свидетельствовали, что тут находилась "Колбасная лавка". Следующая общественная формация — по всей вероятности, буржуазная — оставила потрескавшуюся лазурь и буквы "Хлоро…". Значит, в то время пользовались зубной пастой "Хлородонт". В этом соревновании красок Бирзгальская ремонтная контора оказалась наиболее слабой. Слово "Фото" можно было лишь угадать, ибо буквы, оплакивая халтурщиков, серыми слезами стекли, оставив длинные потеки вплоть до самой травки. Фотограф Пакулис, растеребив бакены и расчесав брови в обе стороны как беличьи хвосты, орудовал один-одинешенек. Выписывал квитанции и перед школьниками круглым жестом, будто выхватывал кролика из шапки, на мгновение снимал черную крышку с объектива вмонтированного в деревянный ящик фотоаппарата. Узнав про нужду Нарбута, он выгрузил на стол несколько аккуратно связанных папок. — Бирзгальская фототека. Продолжаю традиции отца: все, что есть примечательного, фиксирую на пленку. Все! И даже такое, на что пока спроса нет. Пригодится для истории. Вам этот год.. И перед Нарбутом раскрылась история Бирзгале 1973 года. Экскаватор роет котлован под фундамент здания. На краю котлована мужики льют что-то в глотку, надо полагать, водку. — Первые кирпичи в новое пятиэтажное здание трикотажного цеха. — Это не первые кирпичи, а первая поллитра, — усмехнулся Нарбут. — И это тоже. Но разве из-за того, что фотограф этого не показал, строители обошлись бы без выпивки? Историю фальсифицировать я не стану. Пусть этим занимаются другие. Фотограф должен быть объективным, как… как… — Объектив, — дополнил Нарбут. — Чем примечателен этот автобус? — "Икарус", этот с раздевалкой сзади. Впервые в Бирзгале. Рига — Бирзгале. Три часа. Супер! — А эти возбужденные женщины? Рты разинули. Какую арию поют? — Про апельсины. Очередь за апельсинами. Если бы я этого не зафиксировал, грядущим поколениям не было бы ясно, что такое очередь. — А это — внизу, как шнур кнутовища, а поверху широкое, как простыня. Будто окна, будто шиферные балконы.. — Есть окна, есть балконы, есть. Новые дома в Тендиках. Перспектива снизу. Районная газета заказала новые тендикские дома. Полдня я глазел со всех углов: как доказать, что эти коробки построены в Тендиках, а не в Валмиере, Лиепае или Волгограде? Ну никак. Залез на дерево — тоже самое. В строительстве все крыши одинаковы. Серый шифер. Эпоха волнистого шифера. Все равно не отличить. Тогда я лёг навзничь. Видите — совсем другие, чем в Сигулде или в Салдусе. Теперь у здания свое лицо! — Свое-то свое, но такое, как у пропойцы, у которого каждый глаз косит в другую сторону. — В газете все-таки поместили. Нарбут поглядел на Пакулиса пристальнее. Пойди пойми, что скрывается за пушистой прической, за этими бакенами и дешевым синим пиджачком. Историк по меньшей мере. — А как насчет передовиков? Семьдесят третьего года, для дома культуры. На полу тут же были выложены в ряд доярки, трактористы, плотники, вязальщицы. Неужто снимал их тот же самый Пакулис: все одинаковые, торжественно-серьезные, световой венчик над головой, как у людей, занятых в сеансе столоверчения. До фотографа, кажется, все лица обработал боксер, сдвинув их наискосок. Разница только в том, что одних ударил с правой, других с левой стороны. Молодые они или старые — лица у всех гладкие, как попочки у младенцев. Нарбут опять поглядел на фотографа. Довольно экспрессивные жанровые картины с сорванной бурей крышей фермы или сварливые бабы у ящиков с апельсинами и академически величавые лица вязальщиц джемперов или свиных акушеров казались взаимоисключающимися. — Знаю: одинаковые, как почтовые марки. Иначе нельзя. Таков стандарт. Смеяться тоже нельзя. Касперьюст мне сказал: если в публичном месте увидят, что председатель колхоза смеется, никто больше не будет его слушаться. Нарбут отобрал десятка два, по его мнению, более выразительных лиц. Приливы энергии у него наступали не только когда очень хотелось писать, но и когда не было денег. А Касперьюст пригрозил заморозить его зарплату. Перейдя через улицу, в мастерских молочного пункта из гвоздей разного калибра он согнул нужные крюки и взялся за украшение вестибюля. На степах повесил широкие струганые еловые доски. Сквозь лак, как речной поток, волнуясь, текли широкие волокна. Стараясь найти приятные для глаза расстояния и пропорции, он прикреплял к доскам фотографии. Над дверью в воздухе повесил вырезанные из картона буквы, которые напутствовали: "До жатвы сено под крышу!" Когда под снимками были прикреплены выведенные тушью надписи, с улицы через высокую дверь вошел Касперьюст. Они оба видели фильмы об открытии художественных выставок. Касперьюст — первый гость — заложил руки за спину и начал обход в сандалиях на босу ногу. Осмотрев передовиков, Касперьюст торжественно крякнул: — Фотографии соответствуют действительности и все они правильные, только не знаю, как насчет отбора.. — Это все зарегистрированные передовики! — Но какие? К примеру, эта доярка Элма Юкумниеце. Вы не знаете, что месяц тому назад она окатила молоком мужа, когда тот подвыпивши начал на ферме ее лапать. — Нет… По лицу этого не скажешь… — Но мы-то знаем. Еще будет товарищеский суд, потому что это было колхозное молоко. Так что… не надо торопиться с Юкумниеце до товарищеского суда. Может случиться, что после него ее больше не оставят в передовиках. Так, рядом Дайлонис Буцис, тракторист. А вы знаете, что он два раза провожал с вечера танцев замужнюю учительницу Лиепиню? И под своим пиджаком, потому что якобы шел дождь. Поговаривают даже о расторжении брака. Так что сомневаюсь, долго ли будем мы считать его примером для других. — Жаль, такой симпатичный парень, — вздохнул Нарбут. У следующего фото Касперьюст сурово нахмурил брови: — Чем глубже в лес, тем больше дров: и Скродерен тут! — Лучший грузчик на товарной базе. Конфеты из ящиков не выуживает, пишет поздравительные стихи для нужд дома культуры. — А лента, черная лента вокруг волос? Углы рубашки завязывает в узел. Если мы такого выставим тут в пример, то будут говорить, что дом культуры пропагандирует лепты вокруг волос и голые пупки. Не годится, определенно не годится! Нарбут сунул руки в карманы брюк, прекращая тем самым изображать любезного сопровождающего во "время акта открытия выставки. — Вчера годились, сегодня нет. — Если человек, пусть даже вчерашний передовик, сегодня ведет себя как-то так… исключительно, то в дом культуры его впускать нельзя. — Даже у передовика может что-нибудь приключиться, не та жена или… Не грешат только покойники да пенсионеры. — Нельзя сказать, чтобы голова у вас была совсем пустой. Этих трех изъять и заменить их тремя ветеранами труда. Тут Касперьюст запрокинул голову и увидел тот самый лозунг. — Это еще что такое? "До жатвы сено под крышу!" Что сие должно означать? — Это значит, что всякий, кто заходит в вестибюль; должен поскорее убрать сено, потому что жатва на носу — рожь начинает желтеть, я сам был в деревне, зерна уже можно вышелушить на ладонь. — Не суйтесь не в свое дело, в Бирзгале вы не агроном, а всего лишь оформитель. Раз я сказал сено, то не впутывайте сюда рожь! Из района насчет жатвы еще не звонили. Пишите: "Труженики…" — Почему труженики? А может — деятели? Латыши народ деятельный… — Поэтому никто и не говорит — трудяги, а труженики. Итак: "Труженики! Боритесь за высокие урожаи сена!" Так. Но что я вижу? — фото пришпилены к доскам? Почему к доскам? — Разве плохо? Видите, как волнисты волокна дерева! — Прикрепить к доске! Надо же додуматься. На доске вывешивают объявления, а не живых людей. Переделайте, пусть будут реечки, как в районном доме культуры! Касперьюст повернулся к музыкальной комнате. Нарбут затаил дыхание, потому что шеф был уже так раздражен, что начинал задыхаться. Там на стене висели четыре полотна, красочные как цветы астр. — А тут что? — Это… это как бы отчет о моей летней работе в Бирзгале… Осенью я буду их показывать и в Риге. Я вот был в колхозе "Сила". Касперьюст обеими руками стиснул портфель, нагнулся и прочел: — "Доярка Зента Лиепиня". Не знаю такую. — Председатель сказал, что хорошая доярка, окончила среднюю школу и осталась в доярках. Сам посоветовал. — В районе утверждена? — Говорит — будет. — Этого мы еще не знаем. Почему не в белом халате, как должны быть все доярки? — Телята пугаются. Видите — на лице утреннее солнце… — Биографию ее знаете? — Мне важно лицо. — А мне — биография. А этот малый рядом? Так… "Тракторист Эдвин Тауриньш". А почему он сидит возле трактора? — Это в конце борозды. Люди иногда отдыхают, трактористы в том числе. Сейчас встанет и начнет работать! — Почему он курит? — Потому что некоторые несознательны, еще курят… — В таком случае его нельзя показывать так, чтобы все видели. Дом культуры посещают и дети. Называется тракторист, а сам сидит и курит. Но председатель сказал, что работает как зверь. Можете позвонить… — Председатель в колхозе, а в доме культуры директор. Пусть позвонит мне! — Тут Касперьюст отстранился от Нарбута, как от человека, который непрерывно отхаркивает вирусы гриппа. — А здесь! Батюшки-светы! Азанда, не замечая, что Касперьюст отворачивается от нее, на полотне продолжала подносить ко рту кусочек пирожного, счастливо глядя в будущее, Голубые соблазнительные тени на платье под буграми грудей… — Эта… На той стороне улицы! — сказал Нарбут. — Знаю. Ее зовут еще и Казандой. Знаете ли вы, как она танцует! Виляет попой во все стороны. Знаете ли вы, какое короткое платье она носит! И такую вывешивать в доме культуры! — Но разве она вам не нравится, такая, как здесь, на картине? Щечки как лепестки цветка. В глазах тоска по кусочку счастья. По счастью, как она его понимает. Разве ваше счастье лучше? — Мое более правильное. И тоскует она не по кусочку счастья, а — но пирожному. Пирожное… это не счастье, это… как-то так исключительно! — Но если бы вы совсем не знали ее, не знали, что это Азанда из Бирзгале, а вот здесь была бы надпись "Девушка из Ленинграда", неужели она и тогда бы вам не понравилась? Касперьюст на мгновенье мечтательно прикрыл глаза, потом закричал: — Я же говорил, что я женат. И не могу я не знать того, что я должен знать! И не позволю в доме культуры выставлять такую, которая путается с парнями. Нарбут вздохнул. Сводчатый лоб Касперьюста был утесом, который не могли поколебать такие нежные средства, как округлости Азанды. Касперьюст прошелся вперед, глянул на очередное полотно и опять отпрянул назад: — С ума сойти! Нарбут, это уже издевательство над домом культуры: вывешивать на стенах не только сомнительного толка девиц, но еще и пьяницам вы самолично оказываете честь! Крупнейший мелкий жулик в Бирзгале и — в доме культуры! В одних стенах с ветеранами труда и лучшими доярками! Сам виновник Магнус Шепский, в обвисшей жокейке набекрень, своими черными глазами внимательно глядел на Касперьюста, да еще гадко улыбался. Казалось даже, что в вестибюле раздается его внезапное громкое "Ха-ха-ха!". Именно такого Шепского Нарбут увидел у киоска, подметил в лице его необычную бойкость и не мешкая набросал его, угостив за позирование двумя бутылками пива. — Но если бы вы не знали, что это Шепский и что он чуточку ворует? Франс Гальс писал… пьяниц. Возможно, что и они воровали и даже дрались. Разве бирзгальский пьяница хуже амстердамского? Надо же быть хоть немножко патриотом… — Не заливайте мне про Амстердам! Пусть в Голландии поступают как хотят, но в Бирзгале я пьянство не позволю пропагандировать. — Тот пьяница в Амстердаме умер, мастер Гальс тоже, а картина живет! — Ну вот, вы же сами подсказали — оба умерли! Когда умрет Шепский, когда умрете и вы, тогда поговорим. На такое бесстыдство у меня иного ответа нет и не будет. Не была ли Азанда в этот миг подлинной и даже беспомощной перед окружающим миром, спрятавшись за кусочком торта? — Шепский! Эдакое чудище в доме культуры! — Касперьюст мелкими шажками, выворачивая ступни и переваливаясь, пошел к дверям зала. — Теперь я вспомнил, двоюродный брат мне рассказывал, что в детстве вас укусила за задницу бешеная лиса. Дискуссия вошла в последнюю стадию, то есть стадию взаимного обмена "любезностями". Нарбут почувствовал, что бакены его встают дыбом, как у окуня колючки плавников. — Меня — лиса! Круглый идиот! Вам… в эту башку следовало бы воткнуть нож и вилку, и вы приобрели бы свой естественный вид — поросенка! Подарю вам велосипедный насос, чтобы вы могли накачивать себя! — Окажись у Нарбута под рукой кисти, бросил бы их на пол. На подоконнике стоял истерзанный паразитами кактус гардеробщицы. Нарбут схватил его. Величие художника измеряется величием его эмоций. Раздробить! Поскольку сцена напоминала идиллию в кругу собственной семьи, Касперьюст превратно понял намерения Нарбута. Прикрыв лицо портфелем, он отважно закричал: — Если вы бросите, уволю с записью в трудовой книжке! Нарбут швырнул кактус на пол и крикнул в ответ: — Только попробуйте! Тогда я подам в суд на вас за членовредительство! В доме культуры нет никакой охраны труда! В комнате декоратора вся вентиляция — печная труба в плите, а мы годами работаем с химикалиями, с а-це-то-ном! Штраф будете платить из своего кармана. Двадцать пять рублен по меньшей мере. Заметив, что от цветочного горшка остались одни осколки, Касперьюст кряхтя опустил портфель. Двадцать пять рублей не шутка. Что жена скажет… — Уберите со стены эту голую и хулигана и тогда можете уходить по собственному желанию! — Через белую дверь Касперьюст выскользнул в пустой зал. Этот месяц надо бы еще протянуть. Здесь было что писать. И Азанда… Нарбут и в самом деле будет не только любить Азанду, но и писать. И он отправился в дом Свикене, где якобы проживают те рижские чудаки, чтобы сговориться с ними если не о ночлеге, то, во всяком случае, о беспрепятственном ателье на лоне природы. Хиппи сами охотно гуляют голыми, они поймут и других голых.
Если тебе принадлежат только две сорочки и еще какие-то пустяки из нижнего белья, то это еще не означает, что белье вовсе не приходится стирать. В этой связи Бертул разыскал белое, похожее на барак здание по улице Салацы, стоявшее за рядком рябин. Опрятность здания соответствовала его назначению: это была бирзгальская прачечная. В приемной комнате все было белым, начиная со стен и кончая халатом приемщицы. Лишь прикрепленная бечевкой к потолку комнатная береза и карминно-красные губы приемщицы Шпоре были другого цвета. Она сидела за столом величественно, как судья, проводила пальцем по списку белья и в то же время карим глазом внимательно следила за каждой штукой белья, которую кидали на весы: пришит ли номерок к воротнику рубашки, не бросают ли в кучу вместо полотенца лишь один конец от него. Бертул вошел с простым приветствием: — Здравствуйте! Как говаривали в деревне: "Наверное, не ждали?" Этот Бертул со своей дружелюбной улыбкой, очевидно, хотел ей понравиться. Мужчина, который хочет понравиться, — осторожно! — Ждем всех, у кого грязное белье, — ответила она. — Всех, кто жаждет чистого белья, — добродушно поправил Бергул, бросая свою бедность на большие весы. — Рубашки прошу накрахмалить. Даже в Риге я не видел такое ослепительно чистое и отутюженное белье, как в Бирзгале. Парни в доме культуры ходят, как дипломаты. Видать, этот Сунеп понимал, что такое отглаженная сорочка. На щеках Шпоре в буквальном смысле слова по морщинкам растеклась улыбка. — Вы в первый раз? Номерок не пришит. Возьмите, это будет ваш номер. Двести семьдесят. — Делится на три и на девять. Счастливая цифра. Благодаря вам буду ходить в счастливой рубашке. Кончилось тем, что Шпоре взялась сама пришить эти номерки. Зазвенел телефон. Шпоре говорила с сосредоточенным выражением на лице, будто бы собеседник находился по другую сторону стола. — Акт для административной комиссии? Комиссии — после работы. По вопросам музыки? У меня находится товарищ Сунеп из дома культуры. Хорошо. В шесть часов на мосту. Она повернулась к Бертулу: — Уполномоченный Липлант приглашает вас, как специалиста, тоже принять участие в комиссии. Жалобы на загрязнение окружающей среды. — Но я… из химических веществ знаком только с алкоголем, пардон — с одеколоном… — Среда — это не только земля, но и воздух, и отбросы, не только нефильтрованные помои, но и нечистые звуки. Вы приглашены как специалист по музыке. Нельзя же было заявлять, что он в принципе ноты не признает, потому что не знает их. Поэтому Бертул согласился. В шесть часов на мосту собрались уполномоченный милиции Липлант, в форменных брюках, но в сандалиях и без пистолета, Шпоре — в зеленом брючном костюме, банковский кассир Кергалвис, широкоплечий, глядящий на мир с чувством ответственности через четырехугольные очки, в пиджаке, потому что на рубашку ленту дружинника повязывать не подобает. Врач Симсоне, как обычно, в белой блузке, часто складывала руки и глядела на носки туфель, лишь изредка окидывала взором окружение, чтобы успеть многое приметить. — Пошли! — Липлант повел маленький отряд в атаку на загрязнителей воздуха. — Слышите, как они там душат своих обезьян… По берегам реки, против течения, до самого моста докатывались вопли, какие вырываются у человека, если его ритмично несколько часов подряд бьют гитарой по голове.
Жизнь Байбы и Брони, то есть Бинииев, продолжалась в зеленой музыкальной идиллии, ибо после посещения вечера танцев у них осталось еще пять рублей восемьдесят копеек. Дергая картофельную ботву, они ухитрялись еще собрать себе по картофелине. То, что большинство клубней оставалось в земле, Байба не знала, потому что на уроках биологии в такие подробности о картошке не вдавались, к тому же она не была курицей, чтобы копаться в земле. Ногти женщине нужны, чтобы их покрывать лаком и ущипнуть милого за плечо, а вовсе не для того, чтобы обламывать их, гоняясь за лишней картофелиной. Ещё раз купили масло, твердую колбасу, кусочек копченого окорока, конфеты "Кара-Кум". Ели, лежа на матрасе, так было удобнее, и разве мало в фильмах перевидано, как любовники пьют кофе в постели. Колбасную шкурку бросали на пол. Когда после часа ночи умолкал звуковой аппарат, на веранду прокрадывалась белая кошка с черной пестринкой вокруг глаза и шкурки съедала. В остальном кошка выказывала новым хозяевам свикенского дома недоверие, даже презрение. Если кошку заставали на кухне, сидящую на столе, откуда она обозревала мышиные норки, то в одном прыжке она оказывалась на полке с посудой, а оттуда через потолочный люк исчезала на чердаке. Особенно после того, как Броня картошкой запустил и попал в нее. Безмозглая кошка не понимала, что Броня это делал просто так, ради спортивного интереса. Как-то раз кошка даже оставила что-то нехорошее возле плиты. А в школе ведьникто не учил, что подобное стихийное бедствие следует посыпать пеплом. — Вот вернется Свикене. Она человек опрятный, не захочет нюхать, тогда и уберет, — рассудила Байба. Хуже того — однажды утром, проснувшись примерно в десять, Байба возле себя на полу увидела дохлую мышь. Сама кошка, сидя под сиренью, усмехалась в усы и наблюдала, как эта девица вскочила и дергала за плечо своего рыцаря: — Броня! Мышь… к постели пришла дохлая мышь! — Скажи ей… пускай уйдет… — проворчал мужчина. Так как перенести матрас на новое место было более тяжелым трудом, он все же убрал мышь. Свикене оставила в колодце только холодную воду. Часто умываться в такой воде не было никакой возможности. Байба, в фарфоровых посудинках замешивала генциано-фиолетовую, черную, как сажа, краску, потом тонкой кисточкой и карандашом очерчивала брови, оштукатуривала края век, все остальное покрывала фиолетовой краской, и после этого, разумеется, лицо надо было беречь от воды, немыслимо же каждый день по два часа так тяжело работать. Грязной посуды на веранде почти не было, ее относили обратно на кухонную полку. Однажды утром Байба вызвалась сходить за хлебом. Хлеба она купила, а у Азанды поинтересовалась, где тут поликлиника. — В животе жуть как режет, уж не пристала ли желтуха, — пояснила она. В поликлинике, в сером двухэтажном доме, рядом с рестораном, Байба искала не терапевта, а гинеколога. В кабинете доктора Симсоне, в царстве накрахмаленных белых одежд, ее обтрепанные вельветовые штаны были единственной грязной вещью. — У меня по утрам под ложечкой мутит что-то и слюни текут… — робко прошептала Байба, на миг позабыв, что для хиппи, в общем-то, все безразлично. Носик под веснушками даже покраснел. Симсоне, неестественно приветливо улыбаясь, кивнула в сторону никелированного кресла. Оказалось, что без мешковатых штанов Байба не хиппи, а испуганная девочка. Со вздохом начала она свой женский путь. Первый этап — кресло гинеколога с подпорками для ног. — Вы много курите; как только вошли в кабинет, сразу почувствовался запах табака, — заметила Симсоне, продолжая записывать в карточку. Байба уже надела штаны и, стоя на платформах, опять почувствовала свое превосходство над этой молодой, но старомодной докторшей, у которой на ногах были какие-то босоножки. — Наши все курят. — Ну что ж, тогда всем нашим этого не надо делать, — благодушно ответила Симсоне. — Бывает, и у девушек текут слюни и появляется тошнота, особенно если курят натощак. Сказать, что вы в положении, твердых оснований у меня нет. Зайдите, пожалуйста, через две недели. А пока применяйте это. Два раза в день. — Врач протянула брусочек, завернутый вроде бы в туалетную бумагу. — …свидания, — выдавила из себя Байба. У свикенской риги она с любопытством развернула сверточек Симсоне с тяжелым лекарством. На бумаге лежал кусочек мыла, совершенно нетронутый, с надписью "Банное". — Вот коза, ну и коза! Броня ее отстегает! — И мыло полетело в траву. Пусть лягушки умываются. Однако Броне она ничего не сказала. К столику в тени сирени они вынесли стулья с плетенными из камыша сиденьями, пили воду с клюквенным сиропом и закусывали белым хлебом с краковской колбасой. Денег оставалось еще два рубля восемьдесят копеек. Поев, они закурили. — Бинний, тебя по утрам не тошнит от курения? — Если еще ничего не ел, то иногда ужасно хочется плеваться, — ответил Броня. На девятнадцатой волне отыскали музыку для послеобеденного отдыха. В сторону Бирзгале уносились знакомые раскаты гитары, сопровождаемые будто бы проклятиями. Наверное, Джеггер! За домом кто-то громко крикнул: — Есть здесь кто-нибудь? — Что за чудеса, или они не слышат, что мы здесь, Заходи! — откликнулся Броня. Во двор вошел мужчина в синих плавках обычного фасона, тучный, волосатый, с лысой вспотевшей макушкой, держа в каждой руке по вырванной лебеде, и начал орать: — Целую неделю люди спать не могут без зимних шапок, дети по ночам вскакивают и со страху писаются в постели… Будет, наконец, тишина или нет! Броня с достоинством, как дипломат, закинул ногу на ногу, пошевелил грязными большими пальцами и оглядел взволнованного обывателя. — При чем тут я, если ваши дети мочатся в кровати? — Чтобы тишина была, понятно! Надоело слушать, как в вашем доме ишаки орут! Если не прекратите, будем жаловаться! Броня приглушил транзистор: — Музыку слушать не запрещается. Если хотите писать жалобу, одолжу бумагу, — и возобновил прежнюю громкость. Грозный окрик на английском языке поразил незнакомца. Думая, что грозятся тут же убить его, обыватель выпустил из рук лебеду, схватился за голову и убежал. Биннии обменялись улыбками, без слов выражая удивление столь недоразвитой публике. В Манеже и во Дворце спорта играют вдвое громче и за вход надо платить четыре рубля. Когда эта превосходнейшая вещь отзвучала, во двор, ворочая головой, как курочка, вошла, быстро семеня ногами, седая бабуся, подстриженная "под мальчика". Броня, взгромоздив ноги на стол рядом с транзистором, позу менять не стал. — Добрый день. Это… я вам, дети… — Старуха поставила банку молока рядом с приемником. От изумления Броня снял ноги со стола. — Платить не станем, мы не заказывали. — Батюшки мои, да я разве о плате, только очень, очень прошу: не играйте так громко, у меня курочки как услышат, так бегут с гнезд и теряют яйца в крапиве… Так как старуха вела себя прилично, Биннии ее ни в чем не упрекали. Но, будучи честными, они не обещали играть потише, так как это было бы уже ограничением их личной свободы. Старуха молча поклонилась и засеменила в сирень. Биннии пошли купаться. Броня заплыл поглубже, где над водой плавали цветы водяных лилий. Когда схватишь их, потянешь, стебли, кажется, растягиваются, как резиновые, потом с приглушенным щелчком отрываются от корней. Броня принес их Байбе. Байба смастерила из стебельков лилий нечто вроде бус, одну гирлянду повесила вокруг шеи, другую вокруг бедер. — Как на Флориде… — шептала она и позволяла Броне положить ладонь в долину между бедрами и туловищем. Тут их потревожил хруст гравия, лодка выползла на берег. Это была бело-голубая лодка "спасателей на воде". Теперь они уже знали, что одного спасателя, пухлого, рыже-волосатого, звать Помидором, а второго, с черными подстриженными до бровей волосами, Редиской. Приехал Помидор. — Прихватите бутылку вина. Вечером приеду за вами, — сказал Помидор. — Ты обещал тонуть. Надо бы поскорее, а то начальство придирается, что мы никого не спасаем. — Найди свидетелей, — фыркнул Броня, пыряя под лодку. Под вечер Биннии в парадных костюмах — в пончо и на платформах — ждали лодочника. В заплечной сумке "Пан-Америкен" лежала бутылка "Бисера" за два тридцать. В кошельке еще оставалось примерно копеек пятьдесят. — Достаточно для почтовых марок, — сказал Броня, — будем требовать, чтобы прислали денег, иначе домой не попадем. Люди на посту были востроглазыми, зря свой хлеб не ели — в один момент лодку оттолкнули с того берега, и в три весельных взмаха спасатели были тут как тут. Они тоже были в парадных костюмах: в сине-полосатых тельняшках моряков и в джинсах с матросским клешем. У Редиски на шее висел бинокль. В лодке на решетке валялись резиновые ласты, очки ныряльщика, под рукой мегафон. Перебравшись на другой берег к будке на сваях. Броня посмотрел вверх, назад на реку, потом на тот берег реки и констатировал: — Вот где подходящее место было бы нашим раскинуть "Green camp". Помидор разинул рот: — Что это такое? — По-английски. Зеленый лагерь. Это место, куда сходятся хиппи со спальными мешками и палатками. Спят, курят… Играют на гитарах, поют, можно танцевать экзистенциально… Как в Копенгагене. Редиска стал у подножья лестницы и пояснил: — По бумагам это считается спасательным постом третьего класса, а мы являемся матросами номер один и номер два, но можем устроить и гринкемп. Хау, наверх! Наверху, на площадке перед дверьми, они остановились. Под ними спокойно текла река, обходя хвощовые островки, чернели омуты, поросшие листьями водяных лилий, склонялись ветлы, и казалось, что поникшими ветвями пили воду… Романтичная картина, но хиппи не должны были показывать, что им тут очень нравится. С мачты, привязанной к углу будки, свисал флаг с якорем на полотнище. Над головой, как толстый алюминиевый цветок, развернулся громкоговоритель. — Наша палатка. — Матрос номер один приоткрыл дверь. Самый маленький домик, если его не перегораживают, кажется вполне просторным. Рукой можно достать до потолка, стены обшиты пластинами из прессованных опилок. На реку выходило широкое окно. По углам валялись пустые бутылки из-под пива. Особенно много было окурков от сигарет: и на подоконнике, в пустых консервных банках из-под трески в томате, и на полу, у изголовья двуспального топчана, и даже наверху, на узеньком шкафу. Биннии тоже закурили. — Много приходится курить, такая работа, — извинился Редиска, высыпая окурки из некоторых более мелких пепельниц в трехлитровую банку из-под маринованных огурцов. — Нервы сдают? — спросил Броня. — Так, от нечего делать, томимся. Никто не тонет. Когда идет дождь, никто не купается, по два дня торчим здесь, чтобы получить два выходных, — вздохнул Помидор. — Запишем, кто есть вы, — Редиска открыл серый журнал, приговаривая: — Матрос номер один. В двадцать часов пятнадцать минут явились на пост местные жители Биннии… Профилактическое собеседование на предмет… опасности утонуть. — Редиска захлопнул журнал. — Бумаги у нас в порядке. Как-то раз примчался Кергалвис с дружинниками проверять, "на месте" ли мы. В журнале все сошлось минута в минуту. — Ну так, начнем профилактическое собеседование. Ситдаун! — широким жестом указал на топчан Помидор и снял с него лишние тряпки. Матрас был застелен когда-то в прошлом клетчатым одеялом, но теперь оно такое замызганное, будто собаки на нем спали. Биннии сняли пончо, оставаясь в лимонного цвета рубашках с письменным пожеланием "Fit!" и намалеванными каплями крови на спине. Они сели и вытянули ноги вперед, чтобы хозяева разглядели туфли на платформах. Оба матроса, будучи детьми природы, нагнулись, оглядели обувь и одобрительно протянули: — Вот это корабли! Бикини из "Пан-Америкен" извлекли бутылку "Бисера". Из двух чайных стаканов вытрясли мух, которые потонули непосредственно на спасательной станции, и все тяпнули по первому заходу. Матросы стали разговорчивее и открыли несколько служебных тайн. — С одной стороны, хорошо, что не тонут, было бы жаль людей. — Вам-то что — ласты есть, опускайся на дно и спасай, — возразили Биннии. — Это если пускают пузыри здесь, на виду, а если за кривуном, то амба. Даже в бинокль за кривуном ничего не увидишь. На! — Редиска протянул Байбе бинокль. До чего ж чудесно это — как в книжке с картинками! — Лягушка сидит на листике водяной лилии! — А за поворотом и в самом деле могло хоть десять человек тонуть сразу незамеченными. — Зачем же вас держат? — удивлялась Байба. — Предусмотрено, что в городе должен быть пляж, а на пляже спасательный пост. По распоряжению купаться положено здесь. За кривуном есть плакат, там купаться запрещено, но именно там мужики лежат как тюлени, играют в карты, прыгают в воду, Столб-то наказать никого не может. А нам-то что, от мая до сентября получаем шестьдесят в месяц и через два дня два свободных. Но по правде сказать, особой пользы тоже нет — от скуки зарплату прокуриваешь да пропиваешь на одном пиве. Конечно, бывает, кто-нибудь и принесет что-то. Предусмотрено, и все тут. В этом году якобы будут держать нас и зимой, чтобы ходили по школам, лекции читали. Зато мы гармонично развиваемся. — Редиска выхватил из-под шкафа гантели и с молниеносной быстротой раз двадцать толкнул их над головой. — Иногда мы помогаем, — извинительно сказал Помидор. — Прошлым летом двое, топчась в воде, порезали ступни о разбитые бутылки. Мы тут же их перевязали. В шкафу у нас все есть.. — Помидор распахнул дверь узкого шкафа. На верхней полке видно было несколько пузырьков и такие марлевые бинты, будто их долго держали в кармане. На нижней полке опрокинулась одна из пустых винных бутылок. Помидор опять захлопнул аптечку: — Тяпнем! Тяпнули, затем Броня поставил на магнитофон одну из своих кассет. Проигрыватель подключили к усилителю, и от угла будки к Бирзгале как цунами покатились волны мощных звуков, вламываясь в каждую квартиру. Но этой стороне реки в ту ночь все спали при закрытых окнах, многие из-за жары вспотели, разбрыкались, сбросив одеяла, а потом мучились с насморком. Более музыкальные собаки подвывали, правда, без нот, часто путаясь в ритме, другие же со страха или от злости дрожали и непрерывно рычали. Зато отличная, музыка была доведена до самых широких народных масс. — Первый сорт! — признал Помидор. Редиска тем временем во все свои черничные глаза разглядывал Байбу. Когда выпили, эта макаронина показалась ему сносной, ключицы и верхние ребра не бросались больше так в глаза, а в сине-зеленых глазных озерах сверкали белизной глазные яблоки. Свет они не включали. Над противоположным берегом реки поднимался светло-синий шатер неба с воткнутым в него желтым полумесяцем. — Это был Олдиес, прозванный "Воющим буем", — пояснил музыку Броня, встал и пошел в угол сменить ленту. Редиска пододвинул руку к Байбиным бокам. Байба не почувствовала себя оскорбленной. Что с того, что они с Броней вот-вот поженятся? Значит, она еще кому-то нравится! Да к тому же хиппи в существе своем не ревнивы. В Калифорнии и в Непале якобы даже живут вместе большими семьями, парни и девушки вечерами спят под одеялом как попало, детей все растят совместно. Редиска продвигал ладонь все выше. Встал округлый Помидор. Даже в ночных сумерках его щеки пылали здоровьем. Из груды пустых бутылок под шкафом была извлечена полная посудина "солнце-удара". Налив всем, Помидор стал шарить по шкафу: — У нас ведь тоже есть… одна штучка. У моей мутерхен кузина в Америке, в мае была в Риге, привезла такую пленку, одуреть можно, и одну пластинку. Все умолкли. Оригинальная американская пластинка попадается не каждый день. Из проигрывателя доносились застенчивые звуки гитары и женский голос, который, странно причмокивая языком о нёбо, меланхолически пел "Подойдет осень"… — Ну и поп-музыка! Она же поет по-латышски! — издевался Броня. — Но пластинка и в самом деле из Америки! Сверху же написано! — оправдывался Помидор. — Ну и что? Это же народная, это жеребячья песня, так-то могут петь и где-нибудь здесь, в Бирзгале. Убери! Музыка не национальна, а интернациональна; В школе тебя не учили, что такое интернационализм? Гостеприимство превыше всего. Помидор, вздохнув, лишил голоса американскую латышку. Ничем другим он похвастаться не мог, поэтому поставил свою капитальную штучку — Том Джонс страстным ревом наполнил комнату и половину Бирзгале. Редиска тем временем ощупал спину Байбы под надписью "Fit!". Все-таки слушком костлява. Сидеть возле такой дальше не было смысла. В комнате стало сумеречно не от ночи, а от сигаретного дыма. Редиска распахнул дверь. У рижан звериные внутренности, передернуло его, пили, пили, а ничего не прихватили с собой для закуски. Матросы успели у себя дома поесть грибов с картошкой и пахтой. Они пожелали показать гостям свой коронный номер — как в случае тревоги попасть к реке, не пользуясь лестницей. Биннии взяли свои стаканы и по ступенькам ощупью добрались до берега. Наверху в обе стороны распахнулось белое окно. Из темноты вынырнули двое в плавках, сели на подоконник, протянули в воздух руки, как цыплята крылья, оттолкнулись и приземлились на корточки перед Бинниями. — А я могу шевелить пупком… Как йоги, — лепетал Броня. Вдруг в тени под ветлами кто-то громко кашлянул — и появился мужчина в отглаженных брюках. Редиска немедленно направился к нему навстречу. Оба побормотали что-то и Редиска протянул пришельцу руку. — Перевезу вас обратно, — сказал Помидор гостям. — Кто-то пришел вас контролировать? Струхнули? — лепетал Броня. Редиска тем временем уже сбегал по лестнице вверх и выбросил в окно обе шали Бинниев. — Вот ваши парашюты! — Помидор подобрал пончо Бинниев и сунул их владельцам. — Пусти, я поговорю с этим чавелом! — Натянув через голову пончо, Броня стал храбрее. А на Байбу, казалась ей, падала ветла, и она, поддерживаемая Помидором, шла пошатываясь к лодке. Другой рукой Помидор сграбастал за пояс Броню и тоже втащил в лодку. — Тсс! Это Мараускис. Дама его стоит в кустах. Понимаешь, к нам приходят гости с дамами. В гостиницу с дамой не пойдешь — впускают в один номер только тогда, когда в паспортах одинаковые фамилии. А в кустах холодная роса, с листьев падают гусеницы светлячков… За пять рублей мы до утра выбираемся в палатку. И польза прямая — дамы всякий раз вычищают эту конюшню, простыни тоже меняют. Кому захочется обниматься на колбасной кожуре… — Но… если ночью кто-нибудь станет тонуть… то вы оттуда ничего не увидите, — лопотал Бинний, обеими руками держась за борта. — Ну, чокнутый, кто же ночью тонет! Есть такое правило, что даже водолаза ночью нельзя опускать на дно. А то как бы раки не съели. Утопающие-то об этом знают… Приезжай завтра опять! До берега лодка не дошла, Биннии угодили в воду и Достигли берега вброд, затем, чертыхаясь, сняли обувь. Байба все время тяжело валилась на плечо Брони. — Меня очень, очень тошнит… но не идет, — жаловалась она. — Сними рубашку, станет лучше. Байба действительно сняла накидку и даже рубашку. — Дай свою тоже… надо будет их выстирать. Броня послушался. Оба остались в широких штанах. — Теперь можно бы изобразить танец… живота. И лунный свет есть… Охваченная внезапным приливом чувства чистоплотности, Байба встала и, глядя вдаль на луну, выпрямившись и удерживаясь на ногах, спустилась вниз к реке, вытянула из рубах шнурки, которыми зашнуровывалась грудь, привязала рубашки за рукава, бросила в воду, а конец шнурка привязала к ольхе на берегу. — Белье… перед стиркой надо намочить. Мама всегда так делает… Охая, оба дотащились до риги, положили туфли под изголовье, чтобы они быстрее высохли, и упали на матрас. Проснулись около двенадцати, потому что мухи лезли в рот. Их мучила страшная жажда, да еще кто-то непрерывно старался опрокинуть матрас. Байба ухватилась за чулок, привязанный к занавеске из сетей и, подтянувшись, встала. День был хмурый, сквозь веревки в дверях веранды и через оставленное открытым кухонное окно дул ветер, шевеля подвешенный к потолку, теперь уже увядший аспарагус. Бюстгальтер не особенно грел, и Байба щупала руками на полу, где обычно лежала рубашка. Ее не было. — Броня, вставай, кто-то ночью утащил рубашки! Броня лежал, вытянув руки над головой так, будто собирался прыгнуть в воду. — Ты сама вчера их утопила. Принеси их сюда, у меня гусиная кожа. — Сам иди, тоже мне барин нашелся! Будет тебе приказывать! — И прикажу! Как было там у сатаны Менсона в Америке? Все жены — должны повиноваться. Ни слова против. Я тебя не посылаю убивать, сходи только за рубашкой… Вот чучело гороховое! Это противоречило равноправию полов, но рубашка тоже нужна. И Байба в дырявой тенниске с намалёванными цветочками поплелась к берегу реки. Шнурок одним концом был привязан за ольху, а на другом конце, где вчера были рубашки, болталась пустая петля, как на виселице, когда у палача выходной день… Пока что они натянули накидки. Пытались закурить, но стало так тошнить, что хоть рот затыкай кулаком. — Вчера слишком мало ели… — Не было же ничего… Гниды, приглашают в гости, а жрать не дают. — Этот "солнцеудар" могут вынести только алкоголики. Теперь пригодилось бы вчерашнее молоко. — Поставим на форте! Старуха моментально прибежит с молоком! — И сразу же в сторону Бирзгале полетел громовой голос Джеггера, приказывающий принести молоко нуждающимся. Когда через полчаса банка с молоком так и не появилась на столике во дворе, проигрыватель пришлось унять, потому что в связи с сегодняшним исключительным положением у них у самих начало в ушах шуметь море. Байбу у порога вырвало, и ей стало немножко легче. Физически, но мысли все еще расплывались, нельзя было сосредоточиться на одной теме. Все же одна идея вылупилась, потому что она воскликнула: — Шмотки будут! У Свикене есть трехстворчатый шкаф! За тремя дубовыми дверьми шкафа действительно нашли полосатую мужскую сорочку с накрахмаленными манжетами, у которой не хватало только накладного воротничка. — Свинство, сорок второй номер, а мне нужен тридцать седьмой, — Броня надел сорочку, завязал ковбойским узлом цветастый платочек и почувствовал себя в общем-то удовлетворенным этим новым фасоном. Байба вытащила нежную шифоновую блузку. — Шифон, правда, не в моде, но блузка прозрачная секс-блузка. Голод давал себя знать. Копать картошку не хотелось, потому что нагибаться нельзя, опять станет плохо. Кому тут в Бирзгале что продашь, сразу поймают. — Вот где музей! — Байба опять засунулась в шкаф. — Смотри, какие были женские трусы — на пуговицах, с клапаном. Темнота… — Вдруг что-то стукнулось о пол шкафа. — Старуха спрятала бутылку вина! Бутылку положили на пол рядом с матрасом. Есть нечего — так выпьем! — и сразу в небытие, в сны потому что только сон есть реальная жизнь. Хиппи подобает употреблять наркотики, этим они изрядно отличались от алкоголиков. Это знали Биннии, но наркотики находились в аптеке под замком, алкоголь же — под рукой. В кофейные чашки налили вино. Первый глоток у Брони прошел без труда, Байбе же пришлось стиснуть нос пальцами. Со вторым уже стало легче. После третьего они закурили — и приятное тепло распространилось вплоть до пальцев ног. Ненадолго Броня облупил Байбу догола. Потом они еще выпили, закурили, и Байба надела женские панталоны с клапаном, а Броня влез в кальсоны с завязками внизу. После стольких трудов их объяла сладкая усталость. — Котлеты с белым соусом и цветной капустой… На сладкое — малина с молоком, — мечтала Байба. — Свиной окорок с горохом. И кефир, много кефира, — продолжил Броня. — Напишем письмо, пусть присылают деньги! — Это тебе не конная почта, письмо дойдет только через неделю. И потом, мы не можем получить деньги — мы же не прописаны. — До чего противно… Что же нам — умирать с голоду? На картошку смотреть тошно, человек же не поросенок. Я заплачу… Ты мой муж, ты должен меня кормить! — И она стала всхлипывать, крохотная девчушка, напялившая штаны-панталоны, которые, как надутый шар, охватывали ее бедра. — Хныкать будешь? Кто придумал ехать в эту дыру? Я или ты? Если будешь выть, я уйду, оставайся тут одна с крысами. Под веранду вчера залезла жаба. — Не может меня содержать и хочет бросить! — Байба стала лягаться. — Надел наши фамильные подштанники да еще вякает! — Не реви! Выпьем! Как же за границей наши живут? Ведь никто не погибает. Какой-нибудь выход всегда находится, особенно в нашем государстве, где по закону никто не должен помирать с голоду. Вино в Брониной голове произвело неожиданное прояснение. Хотя и слабый, но все же наркотик! Он присовокупил окурок сигареты к другим окуркам в горшке аспидистра и с развевающимися на ходу шнурками кальсон зашагал по веранде. Байба, присев, наблюдала за ним через сетчатую занавеску из "спальни". — Нас спасет самоубийство! Люди никогда бы не изобрели самоубийство, если бы от него не было никакой пользы. Есть! Сквозь розовый туман опьянения изо всей этой речи до Байбы дошло только одно: Броня хочет, чтобы она умерла… — Броня, но у меня есть еще тридцать копеек для почтовых марок… Может быть, принимают телеграмму в кредит, пусть вышлют нам деньги… В субботу под открытым небом будет шикарнейший бал… — Самоубийство еще не означает, что мы умрем! Черт, эти шнурки! — наступив на завязки от кальсон и споткнувшись, проворчал он. — Что такое самоубийство? Философски, экзистенциально? Это сношение с окружающим… это значит… что я хочу сказать нечто важное, но никто не слушает, что я говорю. Это… оглушительный вопль! — Тогда зачем же умирать? Давай включим магнитофон во всю силу… — тихо всхлипывала Байба. — Самоубийство — это вопль отчаяния во весь подлинно человеческий голос, я читал в одной книге по психологии. Раз нам общество не дает есть, то мы бросим им в глаза это самоубийство. Как за границей теперь совершаются самоубийства? — Мерилин выпила снотворное. Бриджит дважды пила, но у нее якобы прочищали желудок… Значит, снотворное? — Правильно. И мы тоже примем! — Броня остановился напротив Байбы. — А нельзя ли таблетки от головной боли? — захныкала Байба. — Нет, потому что в них никто не поверит. У меня есть с собой… — Броня вынул из кармана рюкзака два тюбика. — Фенобарбитал, люминал. Если каждый это выпьет до конца, то — капут! — Он выпрямился. Байба стала поглядывать на дверь. Если бы вскочить да убежать… Нет, запутаешься в сети… — Порядок? Таблетки я высыплю обратно в рюкзак, а эти пустые тюбики оставляем на видном месте, ну, вот здесь, на полу, у порога. Где календарь? В комнате на круглом столе. А как же — как у всех деревенских… Записаны номера "скорой помощи" и пожарников. А мы это выписываем большими цифрами на бумаге. Пусть тогда поломают головы. Так… и бросаем вот здесь, поблизости. "Скорая помощь" найдет эту пустую упаковку от снотворного, эти номера телефонов. Значит, отравились, хотели вызвать "скорую помощь", но уже потеряли силы… Помощь приедет и начнет интересоваться, обнаружит, что нам нечего было есть! Нас обязательно накормят. Байба ладонью вытерла слезы, и вокруг глаз вместо палитры возник хаос красок. Ну и что, зато опасность для жизни миновала! — Но как мы сообщим "скорой помощи"? Тетя тоже хороша — не провела телефона. Живет, как в деревне. — Очень просто. Поставим звук на полную силу. Прибежит, по крайнем мере, тот тип в плавках или кто-нибудь другой, увидит снотворное, а мы будем лежать, как убитые, Этот тип и сообщит, куда следует. — Иди сюда, погладь меня по головке… Байба хотела вознаградить Броню за интенсивное мышление и за ожидаемый ужин в больнице и, раскинув руки, опустилась на матрас. Помиловаться не удалось, потому что чувство голода сводило им животы. Запустив в эфир ансамбль "Prokul Harum", они рухнули в изнеможении и стали ждать "скорую помощь". Она явилась одновременно с двух сторон. Оба матроса, закаленные здоровым и оплачиваемым образом жизни, ничего особенного с похмелья не почуяли. До обеда они плавали в лодке, обходили границы официально установленной купальни, веселым голосом предостерегая в мегафон купающихся: "Граждане, купайтесь только через два часа после приема пищи!" "В случае несоблюдения правил дело будет передано административной комиссии!" "Жизнь можно застраховать на улице Лауку, семь". После обеда, когда купающихся не было, они догребли до кривуна, где были поставлены жерлицы на щуку. — Ну и каша: Биннии утонули! — простонал один. За ветку тальника, погруженную в воду, зацепилась желтая рубашка, ее так тянуло по течению, что можно было даже прочесть ободряющую надпись "Fit!". Рубашку вытащили. Оказалось, что их было две, но самих утопленников не видно было. Что делать? Сообщить в органы, что на посту пили вместе с ними? Будет жуткая заваруха. У Редиски мелькнуло в голове, что работой можно искупить любой проступок. И, надев очки, сунув ступни в ласты, оба начали работать по-настоящему — впервые за все лето. Метр за метром прощупали реку по всей ширине от поста вниз по течению. С ямой, в которой росли водяные лилии, дело обстояло труднее всего. Тут надо было нырять глубоко. Дно илистое, ничего не видно, приходилось работать на ощупь. Наступили на полотняный мешочек, но к нему они и не притронулись. Опыт научил, что не деньги топят в мешочке, а скорее всего внебрачных котят. Трупы, должно быть, уплыли дальше. Ждать, когда на третий день сами всплывут? Совесть этого не позволяла. Надо сообщать. — Послушай, но еще после обеда от этой риги жуть как громыхала музыка! — ободрился Помидор. — Болван, это же маскировка: ставят долгоиграющую, чтобы отвлечь внимание, а сами либо стреляются, либо тонут, — поучал Редиска. — Хиппи думают совсем иначе, чем ты. По пути в милицию решили заглянуть в эту ригу. С рубашками в руке они дошли до сиреневых кустов Свикенс в тот самый момент, когда во двор с другого конца вошла комиссия с Липлантом во главе. Музыка уже стихла. — Вам чего? — спросил Липлант. — Мы… в общем-то, вместе и не пили. "Бисер" был у них с собой… — У кого с собой? Чего болтаешь? — Ну, у Бинниев, которые, кажется, утонули… — выдохнул Помидор. — В реке мы нашли только их рубашки. — Это было не на территории купальни, — дополнил Редиска. — Значит, вместе пьянствовали на посту в рабочее гремя, — строго сказал Липлант. — Сами признались. А потом они утонули. Поссорились? Угрожали? Матросы стали размышлять, не повинны ли они в чем-то на самом деле? Все, что окружало их, казалось странным, будто внезапно покинутым. На газоне зелёно-полосатый, затоптанный лошадьми матрас. В дверях веранды ветер уныло шевелил концы толстой веревки. У ступенек в алюминиевом котелке мутная вода, в которой плавала деревянная ложка. Вокруг веранды увядшие штокрозы печально опустили листья. — Мрачная картина… — сказал Бертул. — Пока можете быть свободны. Сидеть и ждать на спасательном посту! — распорядился Липлант, взял мокрые рубашки, первым раздвинул веревки и вошел на веранду, стараясь своими сандалетами не затоптать возможные следы преступления.
Так как "скорая помощь" шницеля не привозила, Броня выключил проигрыватель. — Еще немножко надо подумать, — сказал он. — По системе йогов лучше всего думается стоя на шее. Неру, когда-то в Индии был такой президент, каждое утро пять минут стоял на шее и даже во время конференций выходил и делал вот так… — Броня лёг на тахту, задрал кверху ноги и руками стал придерживать собственное туловище. Байбе удалось поднять только ноги и чуть оторвать попу от тахты. Из широких панталон торчали тонкие лодыжки, которые оканчивались грязными пятками. Все же и она почувствовала, что к лицу приливает кровь и мышление становится яснее. В этой классической асане йогов, задней частью к дверям, их и застала комиссия. Услышав шаги, они не стали менять позу. Кто из йогов из-за посторонних когда-либо переставал сосредоточиваться на солнечном сплетении, то есть на собственном пупке. Невиданная доселе картина ошеломила комиссию, потому что массовый йогизм они видели впервые. Липлант опомнился раньше всех: — Так, значит, не утонули. — Что-то гниет, — принюхивался Кергалвис, потому что сквозняк доносил из кухни ядовитый запах кошачьего мщения. Полное запустение вокруг: засохшие мирты, кактусы, вплетенные в сети увядшие ветки с тряпками и лоскутами. Над тахтой на стене висел портрет: тощий волосатый молодой человек мрачного вида, сильно загорелый в огнях рампы, с раскрытым в устрашающем крике ртом. Шнуровочная рубашка раскрывала зверски волосатую грудь. Он держал гитару и что-то вопил. Сунеп поднял с пола тюбик и бумажку с телефонными номерами: — Фенобарбитал… Пустой. Номер двадцать восемь шестьдесят восемь. — "Скорая помощь" больницы… — заметила Симсоне. — Допустим… Попытка отравиться снотворным, сами же хотели вызвать "скорую помощь", бессилие… — нанизывал факты Бертул. Бинниям этот голос казался необыкновенно благозвучным. Клюнул, дурак! Но возведенная Байбой пирамида немножко пошатнулась. — Вряд ли. После снотворного спят и не шевелятся, а эти шевелятся. Но почему они такие… странные? — размышлял вслух Кергалвис. — У некоторых после снотворного возникает противоположная реакция, психическое беспокойство, бред, — пояснила Симсоне. — Если приняли снотворное, то надо дать им кофеин и очистить желудок. Постой, постой, у меня же в сумочке стерильный шприц и кофеин. Давайте сперва вынесем их на свежий воздух, и там я им сделаю укол… Липлант откинул занавеску из сетей, и все вошли в "спальню". Байба с закрытыми глазами спала стоя, вернее, в согнутом состоянии вверх, тормашками с внешней стороны тахты. Липлант и Кергалвис, как наиболее крепкие, принялись за дело, один сунул ноги Байбы под мышку, другой подхватил ее рукой под спину, чтобы поднять туловище. — Не лапайте! — завизжала Байба, выдернула ноги и раскрыла злые, в черных омутах глазки: шницеля не дают, а собираются выворачивать желудок и откачивать остатки вина! Попытка самоубийства сорвалась. Броня тоже проснулся: — Почему заходите без стука? Комиссия пришла в легкое замешательство оттого, что совершенно живые существа приняла за полумертвецов. Растерянность скрывают под напускной строгостью. Липлант вынул бумагу из портмоне. Бумага в руках милиционера в глазах всякого честного человека столь же опасна, как пистолет, но эти двое даже глаз не повернули в его сторону. — Граждане, поступила жалоба, что вы систематически нарушаете первый пункт постановления исполнительного комитета об охране общественного порядка" который гласит, что с двадцати трех часов до семи утра запрещено в квартирах на полную громкость включать радио, магнитофоны, транзисторы, проигрыватели и играть на других музыкальных инструментах, производить громкое пение, а также сильный шум, который мешает спокойно отдыхать населению. Биннни опустили уставшие ноги и полезли под простыню, потому что только самые закаленные хиппи могут лежать в нижнем белье на сцене. Правда, говорят, что в Вене один на глазах у зрителей даже облегчился. — Эта бумага ко мне не относится. — Броня закурил и повернулся спиной к комиссии. — Мы все не раз слышали, как от вашего дома раздается рев! Такой рев, будто… из ангинной глотки, — взволнованно сказал Кергалвис. — Так говорить могут только невежды. Это Сачмо. Негритянский певец Луи Армстронг, — ответил Броня. — Или принесите мне шницель, или уходите! — Я повторяю: на вас жалуются! — Липлант помахал бумагой. — Ваша жалоба относится к неизвестному лицу, а не ко мне. Этот писака даже не знает моего имени. Комиссия окружила Липланта с бумагой. Действительно: ни имени, ни фамилии, ни даже хотя бы неправильного отчества не было, только: "молодой человек с бородкой и девушка с веснушками, которые проживают в доме Амалии Свике". — Гражданин, как вас звать? — Так же, как моего отца. А отца так же, как деда, и меня, следовательно, так же, как моего деда. — Отвечайте пристойно! Ваши документы! — Я презираю документы! Кергалвис любил активное действие: — В таком случае заберем вас вместе с постелью в участок для выяснения личности. Там посмотрим! Броня повернул голову. Кергалвис наклонил слегка кучерявую темноволосую голову и застыл в позе борца. Теперь он походил на виденного в газетах профессионального тяжеловеса. За такого нельзя было ручаться. — Если нам так нужны документы, вон на подоконнике. Липлант взял паспорта в синих обложках и прочел: — Бронислав Камцерниек, родился в 1955-м. Байба Свика, родилась в 1955-м. Прописаны в Риге. — Совершеннолетние, вот не сказала бы, непохожи на совершеннолетних, — в первый раз приоткрыла карминно-красные губы Шпоре. — А вы вообще похожи на лягушку в этих зеленых штанах, — буркнула Байба. — Где работаете? — В тресте отдыха. — Учитесь? — Фу-ты ну-ты, слепые, что ли, — мы хиппи! — зафыркала Байба. — А что вы смыслите в этом деле? — О боже, что бы с нами стало, кабы развелось подобных кикимор побольше… — вздохнула Шпоре. В Броне проснулся теоретик. — Точно, наших мало. Если бы каждый был таким, как мы, то нас никто бы и не заметил. Это уже была бы не жизнь. Тогда нас вроде бы и не было. — Какое развели тут свинство… До чего же низко могут опуститься молодые люди, — вздохнула Шпоре. — В прачечной они ни разу не были. — Хотя я и лежу на полу, на вас я смотрю свысока, — ответил Бронислав Камцерниек, с улыбкой превосходства глядя в потолок. Комиссия с минуту подавленно молчала, лишь Бертул про себя улыбался. Наглость пополам с остроумием не так-то часто встречаются. — Постричь, что ли, волосы у них! — подал голос Кергалвис. — Не стоят, натура от этого не меняется. Уж если бы такое помогло, то можно было бы сократить милицию и открыть детские сады. Видите, кое-что они уже постригли, но характер не изменился. — Врач Симсоне указала на пол возле постели. Там было что-то рассыпано, вроде серой стружки или рыбьей чешуи. — Когти и мозоли, — пояснила врач. Бертул опять разглядел ироническую усмешку в улыбке врача. Опасная личность. Байба от злости лязгнула зубами. Липлант спохва-тился, что все еще держит в руке бумагу, ради которой все сюда явились. У него была привычка смотреть пристально и долго в глаза хулиганам и мелким ворам. Было несколько случаев, когда мелкие прохвосты через полчаса, устав стоять под этим тяжким взором, признавались даже в таких поступках, о которых Липлант и не слыхивал, и даже каялись. Стоя у торца тахты, он оцепенел, и взгляд его светлых глаз, как стрела, был нацелен на то место, где начинался длинный Бронин нос. С минуту молчал и не моргал глазами. Окружающим казалось, что от сосредоточенного взора башка хиппи вот-вот расколется и оттуда посыплются опилки, что же еще могло быть там внутри. — Почему вы шумите и нарушаете общественный порядок? Последствия строгости Липланта были таковы: Броня натянул простыню на голову: — Я не шумлю, а слушаю международную музыку. — Музыку? Одни электрические ударные инструменты и ни одного живого звука, — усмехнулась Шпоре. — Эта механическая музыка соответствует технической революции. Это чистая музыка. Играйте сами на своих скрипках… Струны скрипки изготовляют из овечьих кишок. Лошадиным хвостом пилить по овечьей кишке — это скрипка, это ваша музыка! Фу… Музыка не была сферой деятельности Липланта. — Мы составим акт, и вас накажет административная комиссия: или вынесет вам предупреждение, или денежный штраф до десяти рублей, — объявил Липлант. — Вас просили, вам приносили даже молоко. Труженики мучаются без сна… — Я же нигде не работаю — что же вы взыщете? Так что стоит ли определять сумму? Липлант задумался на минуту, как взыскать деньги с такого остолопа, который нигде не работает, но является совершеннолетним. — Так издеваться над обществом! Люди работают, а эти от лени пухнут… Неужто у вас нет ни капли стыда! — вмешалась Шпоре с извечным вопросом, на который обычно ничего толком не отвечают. На сей раз было иначе. — Нет! — в один голос отозвались Биннии. — Ваши слова как молоко из-под автоматической коровы. Комиссия умолкла, потому что против тех, у которых нет стыда, а также нет и денег, законы об охране порядка были бессильны. — Составим акт еще и на то, что живете без прописки, заплатите еще и за нарушение паспортного режима! — Не будем платить, тетя заплатит! — отозвались Биннии. — Домовая книга принадлежит ей. — Пошли! — Липлант подал команду к отступлению. — Еще есть закон о паразитическом образе жизни. — Не выйдет! Мы паразиты только один месяц, раньше были учащимися. Последней простилась доктор Симсоне: — Мне очень жаль… но мы вас еще немножко потревожим… Я должна сообщить в санэпидемстанцию в связи с антисанитарным состоянием. Возможно, будет хлорирован весь ваш двор, а может быть, даже и ваша спальня. До свидания! — Я не хочу вас видеть! — крикнула Байба. — Женщины никогда не говорят так гинекологу, — поучала Симсоне. Потом все исчезли. — Хлор — это мощный окислитель, — вспомнил химию Броня. Их будут выкуривать, как каких-то дизентерийных бацилл! Но это же противозаконно и недопустимо! Этого нельзя делать! На лугу Липлант вытер пот: — Хоть бы пьяные были, отвезли бы их в вытрезвитель… теперь ни то ни сё. Лучше иметь дело с бандитами… — Добрый вечер! Вечный праздник! — восторженно воскликнул Нарбут, увидев необычные штаны Бинниев. — Какой же это праздник, если жрать нечего. — Эта турбаза принадлежит вам? — Тетке по отцу, Амалии, но она уехала на Карпаты и на время оставила все нам, — пояснила Байба. — Прекрасно. Не могли бы вы сдать недели на две этот сарайчик? Мне только для ночевок, днем я малюю, и еще… нечто конфиденциальное, но вы же современные люди, вы поймете! Я тут во дворе хотел бы писать одну обнаженную натуру… понимаете… — О да! Garden-pafty. Все голые. Так же как где-нибудь в Швеции или Дании… — Если вам угодно, называйте так. И не могли бы вы в то время… немножко погулять? — Ясно. Мешать не будем, — согласилась Байба. — Но если в это время пойдет дождь и я должна буду отсиживаться в "Белой лилии", то нужны финансы. — Светлая мысль! Для того я и пришел, чтобы принести вам деньги. Сколько хозяин требует? Презрение к деньгам столкнулось с нуждой в деньгах. Раз уж общество не дает им даром даже колбасу по рубль восемьдесят за килограмм, то придется брать с общества деньги. — На взморье за козью будку берут пятьдесят в месяц, — заметила Байба. — Но тогда за эти деньги надо подавать и козий дух. Здесь чувствуется только кошачий. Двадцать рублей. От радости улыбаются только обыкновенные глупцы. — Ладно… — кисло согласилась Байба. Нарбут положил на столик одну красненькую. — Аванс. Вторую — через две недели. И еще одна просьба: пока я тут, не позволили бы вы подмести двор — придет дама… — Нарбуту дурно стало, когда он увидел очистки картошки, окурки сигарет и прочий мусор. — Позволим! — великодушно согласился Броня, забирая деньги. Красненькая бумажечка сделала его более важным. Медленно пуская дым, он облокотился о веранду и закинул ногу на ногу. — У вас есть внебрачные дети? — Пока нет. — У больших художников всегда были внебрачные дети. У Пикассо было по меньшей мере трое. — В таком случае надежда стать большим художником у меня еще не потеряна. Завтра после обеда прибудем. — И Нарбут исчез в сирени. Рубашки высохли, туфли на платформе тоже. В тот вечер в "Белой лилии" они проели два пятьдесят. — Я говорил, что наше общество никому не позволит погибнуть, — сказал Броня, вернувшись домой. Байба благодарно обняла его.
После катастрофы Алнис Мелкаис, прохаживаясь по утрам полуголый по пустому фотоателье, громко произносил: — Родился семнадцатого марта тысяча девятьсот пятьдесят четвертого. Мать. Илзе, урожденная. Путнынь… — Допустим, допустим, но мне это уже известно, — вмешивался Бертул, зажигая в своей комнате первую сигарету. — Я проверяю, не пострадала ли память от падения… — И потом, корчась от боли, медленно махал руками, как мельница крыльями. — Дай деньги, надо ехать за музыкальным ящиком и уплатить за звонок и за ключ. Заодно хотелось встретить девушку, ибо соперника увезла карета "скорой помощи". Но от нужных двух сотен у Бертула была лишь десятая доля. За границей все просто: на каждом углу улицы банки только и ждут, чтобы кто-нибудь занял у них деньги для покупки музыкального ящика. В Бирзгале в государственном байке ты не получишь и на сигареты. Анни! Огород доказывал, что она женщина с хозяйской хваткой и железными резервами, раз уж пальцы опоясаны золотом. Обождать до вечера, чтобы вызваться полить огород? Нет, тогда придется еще и дрова колоть. Но не для того Бертул бежал из Гауяскалнса, чтобы без разбора попасть в новое рабство. В двенадцать он явился к Анни попросить краткосрочный кредит. Выпив для храбрости стакан вина, Бертул подошел к стойке. Анни скрестила руки на груди и навалилась на прилавок напротив него, так что почти соприкасались их черные и белокурые волосы. Анни была надушена горьковатой, напоминающей романтическую лесную пущу "Лелде". Бертул выслал на разведку взор своих бархатно-карих глаз. Хочется стакан венгерской "Бычьей крови", но нет денег, догадалась Анни. Это можно, заодно надо будет попросить, чтобы вечером полил огород, а то яблоки начнут опадать. И Анни разглядывала то правый, то левый глаз Бертула. Такое разглядывание иной раз оканчивается поцелуями. — Анни, я вам откроюсь. У меня очень выгодная покупка для моего "салона": примерно столетний музыкальный ящик с металлическими пластинками, который я продам дальше музею консерватории. Анни поняла: не хватает денег. Она вздохнула, чтобы груди, вздымаясь над прилавком, показали глубокое волнение. Одолжить деньги! Тропинка к тихому счастью для одинокой женщины. — Упустить выгодную покупку — ни за что. Будь то модные сапожки или музыкальный ящик. Если в сию минуту у вас нет свободных денег, я охотно выручу вас. О небо! У Бертула чуть, ли не выступили на глазах слезы. — Но мне нужно много денег — не меньше двух сотен. Разумеется, только на две недели, до аукциона. — Это можно. — Но мне нужны они сейчас! — И это можно. Попрошу у сотрудников, а завтра расплачусь. Бертул едва успел выпить чашку кофе, когда Анни уже помахала крепкой, до локтя обнаженной рукой, украшенной серебряной цепочкой, двумя перстнями и алым лаком для ногтей. Бертул проследовал в камбуз за прилавком, где были сложены пивные ящики, подносы с бутербродами с килькой и находился столик с накладными и другими бумагами. — Мы ведь немножко друзья, я надеюсь? — Она подошла к Бертулу так близко, что он почувствовал, как с наиболее выдающихся, прикрытых тонкой тканью мест Анни, по законам физики, полетели электрические искры на его хилую фигуру. — О да! Я надеюсь, я желал бы быть даже более, чем это немножко! — с жаром откликнулся он. Через две недели, когда салон будет распродан, можно прекратить и всякую дружбу и одному дома пить свежемолотый кофе хоть литрами. — Порой мир и дружба непрочны, если денежные отношения неясны. — Разумеется! К чему эта проповедь? — Хорошо, что вы понимаете… — Анни вынула из сумочки шариковую ручку, пачку денег и положила на столик бумагу. Долговая расписка, что занял и вернет через две недели, подпись. Так вот как выглядит проявление настоящей дружбы… Тем лучше! Значит, Анни действительно не собирается купить его, а всего лишь одалживает деньги. Расписавшись и получив деньги, Бертул пошутил: — А проценты? — Проценты запрещает закон. Но надеюсь, что вы по доброй воле… — И опять живое электричество перескочило на Бертула, который с деньгами в кармане чувствовал себя невосприимчивым и свободным. Дома, отдав Алнису деньги и инструкции, он раскрыл уголовный кодекс. Не найдя в нем таких терминов, как "одобрение" или "благодарность", он написал два письма в районный отдел культуры.
В Пентес Алнис прибыл с таким чувством, будто он приехал в гости. Пруд и ветлы у автобусной остановки казались давно знакомыми. Здесь он мыл цыплят. Афро-папуасская прическа и жилет внимания к себе не привлекали, и, значит, его не подозревают во взломе дверей на складе старых ботинок. Проворно шагая, он быстро дошел до полураскрытой баньки, на потолке которой нашел старую постолу. В крапиве в конце хлева по-прежнему пряталась старая рессорная коляска. В Гундегас газон муравы казался таким свежим, будто его только что принесли из химчистки, и Балбес с ресницами фокстерьера, лежа на камне под дверью, пролаял только три раза. В дверях показалась Инта в той же голубенькой, цвета льна, юбочке и в свитере цвета апельсиновой-корки. Взбитые волосы, как толстый шлем, охватывали ее серьезное лицо. Алнис улыбался, как говорится, в бороду, говорил "Добрый день!" и ждал, когда девушка сойдет с высоты порога. Так как ничего подобного не случилось, а в окне рядом с дверью, изучая его, появилось незнакомое женское лицо, Алнис смутился. — Я хочу заплатить за звонок, ключ и календарь "Зубоскала". — Дедушка сказал, что деньги не возьмет, этот хлам валялся на чердаке просто так. — Мне неудобно… — Вам — и неудобно? Я скорее поверю, что вы на тот склад вломились за ботинками, а не из-за ангелов, — отрезала кроха. — Дедушка сказал, раз такой цыган нашелся, пусть берет и другое барахло. — И она вынесла из дома ржавую каску. — После войны в ней варили раков. У соседей таких же касок еще штук десять. Если концом напильника проколоть в каске дыры от "пуль", то сойдет как "боевой трофей". Годится. Алнис подошел поближе и взял каску, В нее был вложен зазубренный, как пила, проржавевший серп и желтый щиток циферблата от стенных часов с алыми розами в углах. Передайте дедушке сердечную благодарность от меня. Он курит? Привезу кубинские сигары "Корона". — Дедушка сам может купить сотню таких сигар. Подождите… — И опять исчезла в комнате. Почему она такая сердитая? Он-то надеялся поговорить об искусстве, надеялся, что его пригласят в комнату к накрытому белой скатертью столу, на котором в глиняной вазе поставлены васильки, ромашки и подмаренники. Раз девушка учится в Булдури, на это можно было рассчитывать. Поэтому вместо тельняшки он надел под жилет белую рубашку с распахнутым тиллеровским воротничком. Кажется, понапрасну… Инта появилась с чем-то похожим на огромную кофемолку и, прогнав ленивого пса, поставила на плоский камень. Широкий, в полметра, кубический, красновато-коричневый деревянный ящик. Под крышкой металлический валик со множеством зубчиков. Сбоку внушительная ручка, еще всякие медные прутики. — Вот он, этот музыкальный ящик. Четыре пластинки при нем. — И приподняла четыре дырявых, грязных, позеленевших от времени медных диска. На них можно было различить музу в белой тунике, играющую на лире. На одной пластинке было написано "Chant des fiac-res viennes". Пока Алнис дивился, Инта поставила пластинку, энергично покрутила ручку, пластинка тоже начала крутиться, и раздалась медленная мелодия "Камаринской" Глинки, будто кто на мандолине играл. Инта победоносно посмотрела вверх на Алниса и почти улыбнулась. — Улыбка вам идет больше, чем гнев… — Сама знаю, что мне идет. Владелец сказал — две сотни. Алнис тут же заплатил. От операции "Музыкальный ящик" ему перепадет эдак рублей пятьдесят. Ящик упаковали в мешок и затолкали в рюкзак. Что делает молодой человек, если нет повода заговорить с красавицей? Он просит напиться, так было написано в "Домовом наставнике" 1910 года. Мудрые люди жили в то время… — Нельзя ли… что-нибудь попить? — Пахту, простоквашу или березовый сок? — строго спросила девушка. — Сок. В Риге же нельзя сверлить березы. Алнис пил из глиняной кружки сок, одним глазом поглядывая на плавающий в соке изюм, а другим на девушку. Почему она такая странная? — Вы сердитесь на меня? — не утерпел он. — Да — свалили человека в канаву! А если бы он убился? Фу… Значит, речь идет о Кипене, мотогонщике. Недоразумение! — Не я его свалил! Я даже никому не говорил, как он старался стряхнуть меня с сиденья… — В Бирзгале все знают, что вы сзади на него наваливались, как мешок, и опрокинули мотоцикл. Это нечестно. Уж лучше… подрались бы. Значит, она думает, что он, терзаемый ревностью, нарочно опрокинул мотоцикл. — Так плохо обо мне думать… — упал духом. Алнис. В девушке боролась гордость, что из-за нее, была устроена даже дорожная авария, с возмущением по случаю кровавого инцидента. Но что поделаешь, если этот увалень все свято отрицает? — Докажите, что вы его не опрокинули! — А если докажу, то могу вам позвонить? — В этом случае — да. — И она ушла. Как боевой слон, с огромным рюкзаком в руках он вломился в автобус и без напоминания уплатил за багаж. В Бирзгале, выставив музыкальный ящик, каску и серп перед постелью Бертула, сменив белую рубашку на полосатую тельняшку, он отправился искать Кипена. В телеателье сказали, что Кипен живет у Кипенов на Почтовой улице. В передней кипеновского домика на полу валялся сапог с разрезанным голенищем, объективный свидетель аварии, но он говорить не умел. Падение обошлось дороговато, так как стоимость сапога в пособие по нетрудоспособности не зачислят. На комнатной двери был наклеен аккуратно вырезанный из журнала красный мотоцикл, на котором сидело верхом похожее на космонавта существо. В комнате пели четыре битла. Отзываясь на стук в дверь, Кипен их перекричал: — Войдите! На тахте лежал проигрыватель. Стол был накрыт клеенкой и завален деталями мотора. На стенах дипломы в рамках. В витрине мини-буфета две кофейные чашки и три кубка, один сине-эмалированный, другой из фальшивого, неправдоподобно сверкающего золота. Сам Кипен, полуголый, но тщательно причесанный, со взбитой копной волос, сидел за столом, разместив рядом с собой загипсованную ступню и костыль, и ел клубнику. Увидев Алниса, он ответил на приветствие и снова принялся за клубнику. — Вы якобы сказали, что я вас опрокинул? — А разве нет? Если бы вы со своей удлиненной верхней частью не нагибались в противоположном направлении, я бы прошел бровку по первому классу, это чепуха для меня. — Чего же вы ехали как сумасшедший? — А чего вы садились на машину, если не знаете, как надо вести себя! Нагнуться не можете. Сидит будто с раскупоренной бутылкой на макушке. Аривердерчи, я не подал на вас в суд за порчу моих сапог! Уже уходя, Алнис заметил, что Кипен сидел верхом на мотоциклетном седле, закрепленном на вмонтированной в пол прочной трубе. Одержимый. Может быть, по ночам он привязывает к потолку еще и руль и держится за рога… Если она не поверит Алнису на слово, то никакие доказательства не помогут. Матросская тельняшка выгоняла пот, но полуголым не пойдешь по улицам. Он завернул в "Белую лилию" выпить бутылку пива и подумать, как теперь доказать Инте свою невиновность. За эти три встречи девушка уже казалась ему другом, доброй знакомой. А как же иначе — она ведь хранила тайну взлома… В "Белой лилии" Алнис заметил спину желтого пиджака Бертула. В соседней нише тот сидел рядом с Анни.
Забрав газеты из дома культуры и в киоске прибереженные продавщицей журналы "НБИ", набросав план мероприятия насчет юридического воспитания, Бертул вернулся в "Белую лилию", чтобы отметить в общем-то удачный день бутылкой пива. Сдав смену, здесь задержалась и Анни. Теперь-то нельзя было делать вид, что нет денег, Анни сама утром одолжила ему, и, внутренне постанывая, Бертул взял два стакана рислинга. Итак, без своего символического передничка с фиговый листик Анни села рядом с ним. Стакан вина и дневная усталость настроили Анни на философский лад. Высоко ценя понимание жизни Бертулом, она вздохнула: — Изображай целый день улыбку, пока тебе лицо чуть судорогой не сведет… А со стороны кажется: чего там делов? Налей, посчитай деньги… Но попробуй хотя бы просто простоять целый день! Пусть придут, пусть постоят те женщины, которые оговаривают меня, так за одну неделю заработают, себе расширение вен. И сможет ли каждая выдержать, когда тебя по десять раз на дню раздевают до сорочки? Любой пьяный старик пялится, будто ты раздетая… хоть ватник надевай. На самом-то деле в кабаке вредная для здоровья работа, и особенно опасная для нервов… На пенсию надо бы уходить раньше, чем какой-нибудь продавщице из колбасного отдела… И пары алкоголя тоже… Ты одна, а их, нализавшихся мужиков, десятки. И так глазеют, будто, простите, именно они в кровати самые что ни на есть. И как нелепо, именно за это многие жены нас ненавидят. Хотя, с другой стороны, каждой женщине нравится, что мужчина на нее смотрит. Оттого-то часто меняем платья… Косметическая промышленность существует только ради женщин. Простите, это от усталости, но хочется с кем-нибудь поговорить… — Анни приглушила голос, и Бертул почувствовал, что ее бедро опять излучает приятный жар вынутого из печи каравая хлеба. — Да, у всякого хлеба своя корка, — согласился Бертул. Но кто же вынуждает Анни оставаться на этой каторге? Разве здесь же на трикотажной фабрике работы мало? Пусть уж тогда расскажет и о тех каплях, которые не доходят до глотки каждого честного пьяницы. А двадцать капель уже кубический сантиметр, это известно еще по книге "Домашний доктор". Кубический сантиметр коньяка стоит две копейки… Взгляд Бертула на мгновение погрузился в морскую пену, которая в виде кружева заполняла декольте Анни. Анни уловила его взор и прошептала: — Благодарю за комплимент… За столом, заставленным всякой всячиной, в соседней нише сидели трое мужчин. На трясущихся ногах подошел четвертый. По обвислым щекам и могучей свилеватой палке Бертул узнал завмага на пенсии, который спорил здесь однажды с прокурором-пенсионером. — Это мой столик, — прокряхтел старик. — Я здесь сижу уже двадцать лет. — Здесь не английская палата лордов, где у каждого свое наследное место, — наставительно отпарировал один из сидевших. — И все-таки. — Старик придвинул свободный стул и сел. — Сию минуту старик останется за столом один, — сказала Анни, отрываясь от философствования. Старик протер лысую макушку и пододвинул поближе свободную тарелочку. Затем, пристально поглядев на соседей по столику, поднес руку ко рту. Старик сидел спиной к Бертулу, и тот не заметил, что именно произошло, но те трое, ошалело глядя на старика, друг за дружкой встали, молча собрали свою закуску и бросились в другой конец зала. Бертул привстал, но, заметив, что на тарелке зевает розовый протез с желтыми зубами, тут же сел и произнес: — Франкенштейн!.. — Ну вот видите, с кем я имею дело изо дня в день? Потому что деньги у них есть, — вздохнула Анни. Тут Бертул заметил Алниса, который подавал какие-то знаки. Уже вернулся? С ящиком или без? Бертул заторопился: — Анни, уважаемая, очень извиняюсь… пожаловал мой агент, которому я должен отдать те две сотни, пока я их еще не прокутил. — Он вдруг схватил руку Анни, прижал к ней губы и умчался вместе с длинным волосатым бородачом. Это, должно быть, означало целование руки… Правда, обычно дама сама подает руку так, чтобы кавалер мог взять только пальцы и не захватывал бы в лапу всю ладонь. Так, к примеру, показывали в фильме об Иоганне Штраусе и о Петербурге. Как бы то ни было, но в этом кабаке руки не целовали, так что это было столь же редким событием, как пожар в Бирзгале. Анни огляделась кругом. Жаль, что ни одна из местных дам не видела. Хоть и бродяга Бертул, но все же джентльмен.
— Ну, ящик видел? — спросил, переводя дух, Бертул. — У твоей постели. — Слава богу! — Нет, мне. По пути они встретили слесаря Зислака, который в халате, с чемоданчиком для инструментов в руке, чистый, как банковский служащий, направлялся домой. — Насчет музыкального ящика узнавали? — вежливо осведомился он. — Деньги при мне. Если подождет, заплатит, что запросим. — На открытии салона непременно будет. Мой агент сегодня осмотрел его. А раз он видел, значит, вещь реальная. — Очень надеюсь. — Зислак улыбнулся всем своим бледным лицом, какое часто бывает у слесарей, если они смывают масло и пыль. В тот вечер Бертул с Алнисом яичницу запивали пивом и старались извлечь из металлической пластинки "Песенку венского извозчика", которая предвещала, что ожидается барыш по меньшей мере рублей по пятьдесят каждому. Бертул видел сои, что был он одет в синий пиджак с яркими-пуговицами, как у адмирала британского флота, и на нагрудном кармане имелась вышитая золотисто-красная эмблема клуба.
Над Шепским, сиднем сидящим на пивных ящиках возле киоска, бирзгальское общество смеялось, но и остерегаясь его, присматривало за носками, вывешенными во дворах сушиться; и все же с ним считались, потому что в случаях, когда ему хорошо доплачивали, выложенные им печки тянули будь здоров, и к тому же Шеп-ского слушалась хворостинка. Рассказывали такой случай. У колхозного хлева прорубили колодец, но вода не шла, даже капли на дне не было. Тогда пригласили Шепского. Председатель как следует накрыл на стол. Тут же на берегу пруда Шепский отломил от ветлы веточку с развилкой и в разных направлениях стал обходить окрестности возле хлева, что-то ворча про себя и глядя на горизонт. Наконец вошел в хлев и в одном углу стукнул каблуком о глинобитный пол. — Рой здесь! Ну, разломали пол, стали бурить, запустили в землю всего только пять труб и наткнулись на неисчерпаемую жилу — воды хоть залейся. Председатель колхоза и коровы того хлева якобы восхваляют Шепского и по сей день. Когда после разговора насчет собирания предметов старинного обихода Шепский появился в приемной поликлиники, там все насторожились, так как было известно, что он зимой ходит без пальто с голыми руками и никогда не болеет. Встав в дверях, он оглядел всех карим глазом, затем громко зашептал: — Кто долго спит на водяной жила, получает рак! Ха-ха-ха! — и вышел. А в приемной среди клиентов старшего поколения начались пересуды насчет водяных жил. Что будто над жилами молния бьет, что там не живут аисты и пристает рак. В тот день Шепский там же, на территории поликлиники, получил два приглашения проверить, "не стоит ли моя кровать на жиле". Любя своих ближних так же сильно, как и их деньги, Шепский обещал зайти завтра же. Прикрепив нужное количество плиток к кухонным стенам нового здания бетонного завода, он отправился по делам профилактики рака. За церковными развалинами в садочке он нашел дом по улице Калею, 5. Шепского уже ожидала женщина средних лет, подстриженная под мальчика, которая еще в поликлинике попросила осмотреть ее дом. — Три рубль. Дай теперь! А то если жила я не найдет, потом платить не захочет. Сунув "зелененькую" в нагрудный карман, он перевернул жокейку козырьком назад и вошел в сад. В портфеле у него были развилистые хворостинки. Он схватил их в обе руки, зажал между большим и указательным пальцами, выплюнул сигарету и, глядя вдаль, размеренными шагами стал ходить по саду. Шел как по ниточке и, чтобы внушить уважение, забрел даже в огурцы. Наконец, проходя вдоль стен дома, он заметил, как хворостинки задрожали. Шепский замедлил шаг. Кончик хворостинки неудержимо склонялся к земле, затем опять медленно приподнимался вверх и, достигнув горизонтального положения, успокоился. Прошел еще раз — то же самое. — Есть жила, есть. Он идет поперек, под дом. Надо заходи. Взволнованная увиденным, хозяйка тут же распахнула дверь. В кухне на столе посреди выложенных рядами дозревающих помидоров возвышалась поллитровка, рядом стояла стопочка и лежало три ломтика колбасы. У Шепского не возникло ни малейшего сомнения в том, что это маленькое угощение предназначается ему, поэтому он сам налил себе, выпил и съел колбасу. — Колбаса совсем мало… У хозяйки руки опустились: возможно ли, чтобы алкоголизм с магнетизмом уживались в одном организме? Но Шепский в этом не сомневался и налил себе еще. — Не бойсь, хозяйка, от алкоголь мой способность не пропадай. Вы знает, как я его открывал? В немецкий время меня забирал Управлений трудом "Arbeitsamt", как я есть горшечника. Потом отправил меня в Германий бетонировать бункера. Из Германия во Франция. У Шербург был Атлантический вал. Там я отделывал штабный бункер. И тут немцы говорит, что фельдмаршал Роммель насобирал себе для Африканский армия специальный рота из мужчин, который слушается прутик, чтобы там пустыня побыстрей найти вода. Тогда я там у Шербург попробовал — и меня тоже слушается! Над вода этот прутик нельзя просто совладать. Но Роммель из Африка вышибали вон, и он пришел во Франция к нам… Там было вино! Пол-литра в день! Вспоминая ликер "Grand Marnier", Шепский вздохнул и опрокинул одну "Vodka de Riga". Прежде всего надо попасть на чердак, а потом он посмотрит, не спит ли старуха в самом деле на жиле. Шепский испытывал гордость, что прутик слушается его, и в этом смысле он и не думал жульничать, ибо к силам, которые проходили через его пальцы и гнули ивовую веточку, он испытывал большее уважение, чем к уполномоченное милиции. — Теперь я должен попадать на чердак, там не мешает электропроводка. Я обследую там, и тогда можно определяй, что именно находится под тем местом. Чердак выглядел довольно богатым. Прежде всего в глаза бросилась ножная швейная машина. Но она не годилась, во-первых, не была редким предметом, а во-вторых, ее нельзя было сунуть в карман. — Пожалуйста, приноси мой портфель, там есть другой прутик, который нужен внутри помещений. Как только затылок хозяйки скрылся в люке, Шепский засуетился. Обгрызенный мышами конский хомут — не годится. Старая шуба — слишком большая. В деревянном ящике ворох бумаг. Под верхним слоем — синяя облигация или лотерейный билет. Во хитрецы! Знают, что здесь-то воры не будут искать! Но забыли про Шепского. Он сграбастал полную горсть и запустил ее глубоко в карман, который доходил чуть ли не до колен. Тут же рядом лежала перевязанная связка разноцветных лоскутков. Может, и не пригодятся, но их легко было сунуть в карман, значит, надо брать. Когда хозяйка с портфелем в руке тихонько выглянула в чердачный люк, Шепский рылся в сундуке, в котором хранилась пересыпанная нафталином зимняя одежда и шапки. Хозяйку охватил внезапный гнев. Пусть даже спит она над водяной жилой, пусть ей угрожает рак и молния, но так это дело она не оставит. Тихо спустившись, она так же тихо сняла телефонную трубку. Вдоволь порезвившись наверху, выбросив в сад одну зимнюю шапку, Шепский спускался вниз, чтобы самому взять прутик для внутренних помещений. "Пыжика" он потом выудит из кустов красной смородины и зимой продаст, и он был убежден, что в карманах у него ценностей не больше чем на пятьдесят рублей. Когда Шепский на кухне протянул руку за "Водкой де Рига", растворилась зходная дверь, вошла хозяйка, уполномоченный Липлант в серой форменной рубашке и закройщица Зислака, потому что это был дом ее родителей. — Очень рад! — Побывавший во Франции Шепский приветливо протянул руку Липланту, но тот обеими руками держал портфель. — Шепский, мне сообщили, что ты тут на чердаке что-то сунул в свой карман. — Утиральник, которым вытирал нос. — Шепский, я тебя предупреждаю, отдай добровольно, иначе придется заводить судебные дела! — Раз так, тогда сам возьми. Липлант отступил, чтобы осмотреть — не выпирает ли что-либо спрятанное под одеждой. Разгадав этот маневр, Шепский расстегнул и выдернул рубашку из-под штанов, оставаясь с голым круглым животом, как Будда на известных изображениях. Его глубинные карманы штанов под вылинявшей парусиной нисколько не выпячивались. К несчастью, задний карман штанов был нормальной глубины, и из него торчали соблазнительные женские бедра и стройные ноги. — Мое зеркало! воскликнула хозяйка дома. — Покажи! — приказал Липлант. Шепский, сердито тараща глаза, вытащил треснувшее овальное зеркало с медной ручкой, отлитой в виде пленительных женских ног, притом в туфельках. Шепский в искусстве понимал ровно столько, чтобы определить, что он получит за него от Бертула примерно пятерочку, то есть столько же, сколько зарабатывает хороший гончар за пять часов. — Это ваше зеркало? — спросил Липлант официальным тоном хозяйку дома. — Это мне подарил хозяйка, я ему искал жила. — Я подарила? Никогда! — Выявилось, что в твоем кармане чужое зеркало, — констатировал. Липлант. — Так. — Наконец-то ты попался! В Валмиеру, в суд! — возрадовалась одетая в золотистый сверкающий халат Зислака. — Теперь ты получишь и за мой зонтик, который ты стащил в темноте в кинозале! — Сколько стоит это зеркало, которое мы обнаружили у Шепского? — выяснял Липлант. Хозяйка переглянулась с дочкой, опасаясь, как бы не оценить зеркало слишком дешево: — Примерно… примерно.. — Тут она заметила, что дочка тайком показывает ей три пальца. — Тридцать рублей! — Тогда баста, — вздохнул Липлант. — Если меньше пятидесяти рублей, то дело в народный суд не получается, можно только в товарищеский суд. Обе женщины, несмотря на разный уровень образования, там же на кухне сплюнули. — Значит, это чудовище опять выйдет сухим из воды… — прошипела хозяйка, развязывая передник и с негодованием бросив его на стул. — Не выйдет, получит осуждение в газете, — сказал Липлант. — Главное — он будет считаться судимым и, если сопрет в этом году хоть один огурец, будут судить как рецидивиста. — Не утерпит, — вставила Зислака, и в голосе слышалось пожелание, чтобы Шепский не утерпел. — Мама, я напишу заявление. Последний раз говорю — отдай зеркало! — Не дам! — Шепский застегивал рубашку. — Это есть подарок. Если ты докажет, что ворованный, то отдам. — И, сунув прутики в портфель, быстрее, чем бывало, исчез за дверью. По дороге домой, рядом с домом культуры, он встретил Бертула, показал зеркало и рассказал про свои дела. Зеркало привело Бертула в восторг. На аукционе кто-нибудь из холостяков отвалит за него все десять, а то и двадцать. — Я даю… пять рублей! — Я отдам и за пять, но тогда делай так, чтобы этот суд меня не осудил, чтобы бумаги мои были чисты. На рукоятке зеркальца чулки над коленками дамы были повязаны лентой с оборочками. Ради предполагаемого барыша стоило поломать голову. — Допустим, что вас станут судить… — рассуждал Бертул, потирая подбородок и припоминая все прочитайные на латышском, русском и немецком языках детективные романы. Насчет товарищеских судов в них не било ни слова. — Надо бы сделать так, чтобы они забрали свою жалобу… — Это я и сам знает. — Что вы еще там взяли? — Откуда вы это знает? — Оттуда, что не считаю вас ребенком: совсем один в кондитерском магазине — и выйти оттуда с пустыми карманами, — всезнающе улыбнулся Бертул. — Там был еще такие бумажки и такие тряпки. — Пройдя за дом культуры, в тени акаций Шепский выгрузил карманы. Бертул, используя в качестве пинцета свои ухоженные ногти, брал и подносил на свет тайные документы. — Облигации — очень старые… Ими можно оклеивать стены. А у этих лотерейных билетов, если даже на каждый из них пал выигрыш машины, срок получения истек десять лет тому назад. — Чего же такие хранят? — Хозяин, наверное, все время надеялся увидеть в газетах объявление об исправлении ошибки. Так, какой-то рецепт. Ужасно старый… 1939 год. Как звать отца Зислаки, которому принадлежит этот дом? — Аргал. Рейн Аргал. — Аргал, должно быть, из крестьян. Если лекарство помогло, они хранят рецепт долго, авось пригодится еще наследникам. Патентованное средство "Пичилин". — Это я помнит, до война его применяли против трипер! Когда я служил в Валмиерский пехотный полк у Крестовый церковь, там был много девок… — Защита начинает строить свою речь… — бормотал Бертул. — А эти обрезки материи… Хоть из заплаток шито, но все же пальто, как сказал писатель. Суд вас оправдает. Но зеркальце мне потом отдадите за трояк. На этом и сошлись. Бертул тут же объявил мероприятие дома культуры по юридическому воспитанию: публичный товарищеский суд. Ремонтная контора была маленькой, у них своего суда не было. Судить Шепского взялся товарищеский суд уличного комитета. В витрине возле моста, через который проходило полгорода, и на автобусной станции, где другая половина садилась в автобусы, появились нарисованные Нарбутом афиши с грозным, похожим на змею изображением параграфа. Бирзгале узнал, что нашелся-таки суд, который доберется в конце концов и до Шепского. Под вечер, направляясь в дом культуры, люди дивились, что подвергаемый осуждению преступник спокойно пьет пиво возле киоска. На сей раз он был не в рабочих, а в отутюженных воскресных брюках, в синей рубашке и в черных туфлях и походил из-за своего по-южному смуглого лица на эдакого разорившегося итальянского графа. Суд предполагалось провести в музыкальной комнате рядом с вестибюлем. Над дверью повесили нарисованный Нарбутом лозунг "Не проходите мимо!" и опять изображение параграфа, на сей раз обвившегося вокруг преступника, от которого были видны лишь поношенные туфли снизу да бородатое лицо сверху. Обычно так рисуют алкоголиков, и никто не сомневался, что и этот тип был пьяницей. Бертул не возражал против плаката, однако у него возникли подозрения, что Нарбут тайком издевается над товарищеским судом. За стол перед пианино сел суд: посередине председательствующий, часовых дел мастер Мараускис, сутулый, с веночком волос вокруг лысой макушки, и заседатели: женщина из трикотажного цеха и молоденький, часто краснеющий Мадис Скрабан, с завода железобетонных изделий с аккуратно уложенными волосами, которого видели на вечере с бархатной заплаткой на новых штанах. Последним в зал вошел подсудимый и направился к первому ряду стульев. — Когда ты отделывал плиту, пропали теплые кальсоны. — У меня был такой маленький кактусик, не собака же съела его, наверное, ты сунул в карман… — Хорошо, что теперь нет лошадей, а то Шепский крал бы и лошадей… — вздохнула какая-то старушка. Странно, разбойник от тяжести обвинений не рухнул, а с улыбкой встречал обращенные к нему возгласы с мест. В первом ряду сидело также и пострадавшее семейство Аргалов с дочкой и зятем Зислаком. Мараускис зачитал обвинительное заключение. Упомянуто было и о шапке, которую нашли в кустах красной смородины в соседнем саду, правда, с примечанием, что "это пока следует считать подготовкой к последующей краже, что усугубляет кражу зеркала". — Вот тот зеркало, который она мне подарил. — Шепский положил зеркало на судейский стол. Председатель суда тщательно разглядывал его, не прикасаясь к самому зеркалу, чтобы присутствующие не истолковали бы это превратно, как проявление нездорового интереса к женским ногам. — Так вы хотите вернуть это зеркало пострадавшей? — спросил Мараускис. — Не отдам! Это мне подарок. — Как он безбожно лжет! — простонала пострадавшая. — Уполномоченный милиции поясняет, что, когда вы спустились с вышеупомянутого чердака, это зеркало недвусмысленно было найдено в заднем кармане ваших штанов. — Потому что у меня рука был занят, в нем был прутик. Ладно, я сейчас докажет, как мне подарил. — И Шепский из дерматинового школьного портфеля вытащил связку с разноцветными лоскутками. — Эти я взял там на чердак, чтобы потом выяснить, кому таки они принадлежат. Пострадавшая переглянулась со своей дочкой и зятем, а на лоскутки больше глаз не поднимала. Закройщица Зислака вышла. Публика насторожилась. — Так это не есть ваши лоскутки? Тогда, наверно, ничего не ваше, что я нашел на ваш чердак? Правильно. Эти лоскутки, наверно, когда-то находился в швейный мастерская, но кто их приносил на ваш чердак? В публике загомонили женщины: — Дочь там работает закройщицей. — Зислаки расчетливы, даже из лоскутков сошьют простыню. — А что находился на дно ящика из-под экспортный масло? — Шепский извлек из опасного теперь портфеля пачку бумаг. — Эта бумага ваша или нет? Пострадавшая вместе с мужем, седые волосы которого спадали на оба уха, встали и подошли к столу. В бумагах ничего опасного вроде бы не было. — Это мои лотерейные билеты, они хранились на чердаке в старом ящике из-под масла, — признал сам Аргал. — Жаль выбрасывать, когда-то деньги платили… — Это есть хорошо, что эти бумаги ваши… Я еще раз спрашивай — может быть, кто из вас дарил мне этот зеркало? — Ну нет, — возразила пострадавшая, но не так уверенно, как вначале. — А что было на самый дно этот ящик из-под масла? Старый рецепты. Я прочту только то, что был на один рецепт написано. — Шепский поднял к публике продолговатую бумажку, которая когда-то украшала пузырек с лекарствами или коробочку с таблетками. Со стороны уже совсем не похоже было, что Шепский тут подсудимый, сами члены суда глядели на его поднятую руку. — Тут один гражданин, который имя я назову потом, 29 июня 1939 год, то есть один неделя после Иванов ночь, получил выписан препарат "Пичилин". По публике прошел шумок разочарования, и вытянутые женские шеи вобрались обратно в воротнички, как у черепах в панцирь. Но Шепский следующей фразой снова выманил их наружу; — Но "Пичилин" в тот время применяли от трипер, то есть гонорей. — Вон что! В нашем городе в те времена была даже гонорея… — почтительно протянула публика. Неожиданно встал муж пострадавшей, подошел к судейскому столу и, наклонив голову к председателю суда, сказал: — Я хотел бы… я хотел бы дать показание… Мне сейчас пришло на память… В тот день, то есть в другой день, мы с Шепским вместе немножко выпили, потому что оба строим в Тендиках новый дом, и Шепский одолжил мне… совершенно одолжил три рубля. Тогда я сказал… за это я тебе дарю необычное зеркало… — Значит, этот зеркало есть мой? — Шепский обратился ко всему пострадавшему семейству. — Совершенно ваше… — поспешно отозвалась семья. — Просим дело прекратить. Зеркало перекочевало со стола в задний карман штанов Шепского. — Распишитесь, пожалуйста, в получения вещественного доказательства, — попросил секретарь Мадис. — Но кому выписан этот "Пичилин"? — кричали из зала. — Надо узнать, а то кто-нибудь может влипнуть! — И глаза всех, даже пожилых женщин, устремились к Шепскому. — Пускай Бирзгал спит спокойно по ночам. Рецепт выписан в 1939 году. Тому мужчина тогда был не меньше двадцать лет. Давай сегодня посчитай все вместе, — ему теперь пятьдесят пять лет, а может, и больше. И он то ли вылечен, то ли помер. В зале поднялся смех, начались шумные разговоры. Председатель суда Мараускис стучал карандашом о стол. Бертул протянул ему подключенный к звуковой системе дома культуры микрофон. Присутствующие почувствовали, что Мараускис не удовлетворен ходом разбирательства, ибо показательная жертва собиралась уходить. — Э… как-то нет полной ясности… Мы еще не оправдали гражданина Магнуса Шепского… Не покидать зал! — Тогда вы не хочет ставить печать уличный комитета, что я не воровал? Такой дело я не могу допускать. Тогда я приглашай один свой свидетель. Попрошу! — сказал Шепский. С первого ряда встал до сих пор никем не замеченный маленький мужичок с косым галстуком, который оглядел присутствующих веселыми синими глазами. Все умолкли, потому что узнали фактического руководителя бирзгальских строительных работ, от которого порою зависело — крыше быть или не быть. Это был начальник стройконторы Синевич, который, как штабной генерал, мог свои бригады, вооруженные подъемными кранами и бетономешалками, посылать или не посылать. Синевич начал непринужденный разговор, иногда даже посмеиваясь. Прежде всего он спросил застенчивого секретаря суда: — Вы оба сейчас работаете на одном объекте. Тогда скажите нам — как Шепский работает? — Когда работает… то работает… Плитки кладет прямо… — Вот видите, — подхватил Синевич. — Слова товарища по работе. Что характеризует человека? Работа, и только его работа. К слову — мне не хотелось бы, но я должен предупредить. Перед заседанием Шепский сказал мне: "Начальник, если эти профаны, нет, не так, — если эти адвокаты меня засудят, я от вас ухожу в межколхозстрой, гончар им нужен как пить дать". Если Шепский уйдет, то в новом доме будете жить без кухонь и клозетов. Нравится это? — Без клозета никоим образом! Куда это мы зимой по снегу бегать будем! — раздавалось из зала. Мараускис узнал голос жены, им тоже была обещана квартира в новом доме. — Значит, не нравится. Мне тоже не нравится, — согласился Синевич. — Я-то мастерок в руки не возьму. Вы-также не возьмете. Если Шепского засудят, дом осенью нельзя будет сдать. Через пятнадцать минут "Даугава" играет с "Запорожцем", прямая передача. Мужики, которые болеют за футбол, пошли! Синевич вышел, и за ним дружно последовали все присутствовавшие мужчины. Засим и суду стало ясно, что зеркало Шепскому было подарено, а в отношении шапки дело следует прекратить из-за отсутствия свидетелей и состава преступления. Мараускис так и сказал в микрофон: — Товарищи… по ходу процесса всплыли дополнительные сведения, и товарищеский суд решил дело прекратить, ибо не хватает состава преступления. Так как женщины еще не собирались на футбол, микрофон схватил Бертул. — Уважаемые участники судебного процесса! От имени дома культуры благодарю всех за активное участие в рассмотрении этого дела. Вы были свидетелями того, что, только объективно выяснив абсолютно все "за" и "против", мы приходим к истине, которая в большинстве случаев только одна, где бы она ни скрывалась, пусть даже в старых, будто бы забытых документах. И в дальнейшем дом культуры будет держать в центре внимания работу по юридическому воспитанию населения. Поэтому — не проходите мимо! Шепский тоже продвигался к выходу. У дверей его поджидал муж пострадавшей, плотник Аргал, и мрачно сказал: — Шепский, негодяй, по тебе плачет могила… — По тебя тоже! Когда тебе еще раз будет двадцать лет, тогда не разбрасывай кругом свой рецепты! Ха-ха-ха! Мероприятие по юридическому воспитанию Бертул записал в двух отчетах и упомянул в анонимном письме в отдел культуры.
На следующее утро Касперьюст в своем кабинете с глубокой серьезностью в широко раскрытых глазах изучал циркуляр. Бертул сел в кресло, которое, несомненно, было удобнее жесткого сиденья у письменного стола. — Требуют, чтобы мы боролись с пьянством. — И Касперьюст дважды лязгнул зубами. — Приближается жатва, а мы не боремся с пьянством. — Допустим… В таком случае надо устроить встречу с писателями. — Разве… писатели борются с пьянством? — удивился Касперьюст. — А я слышал… то есть что поэты именно сами.. — Это было раньше, при другом строе. Теперь писатели обязаны бороться с пьянством, потому что это входит также и в задачи народного хозяйства. Роман, в котором восхваляется пьянство, просто не напечатают. — Правильно. — Значит, они борются, хоть и косвенно, но борются. Ни в Пентес, ни в других домах культуры писательских вечеров не было. Мы в микрорайоне будем первыми. — Это немаловажно, — согласился Касперьюст. — Это будет шагом к "Образцовому дому культуры", — дополнил Бертул. Бока вошел с бумагами на подпись и сел под народным танцевальным костюмом цвета мха, висевшим на стене. — К сожалению, писателям надо платить… — вздохнул бухгалтер. — Как! — удивился Касперьюст. — Писатель одновременно является и общественным деятелем, а за общественную работу не платят. Тут достаточно и ужина. — Трудно им это внушить, они требуют денег, — сказал Бертул. — И как высоко они оценивают себя? — В санатории, где я работал, им платили от десяти до двадцати рублей. — Ну, так возьмем тех, кто по десять, — принял решение директор. — У меня дома жена читала, как это… это, ага: "Не гляди в родник", там якобы хорошо написано про деревенских женщин. — Роман Люции Калады, — пояснил Бертул. — Очень популярная писательница, ее просто нельзя не читать, из общего количества новых книг Каладе принадлежит половина. Калада понравится всем, потому что одинаково хорошо пишет как про детей, которые сидят на горшке, так и про стариков, которые из-за отсутствия зубов шепелявят, хорошо пишет также и про аллигаторов Амазонки. Подходит. Но еще надо бы пригласить и поэта, потому что Калада пока еще стихов не пишет, хотя вроде бы грозилась. Может быть, Валдиса Вилиса? Он пишет довольно много стихов, переводит и даже пишет про других поэтов. — Сколько ему лет? — выяснял Касперьюст. — За сорок перевалило. — Тогда можно. В таком возрасте обычно женаты, детей имеют, бесстыжие стихи читать не станет. Чтобы двум писателям заплатить по десять рублей, нужно по меньшей мере продать пятьдесят билетов на танцы. Поэтому решили на литературно-танцевальный вечер билеты продавать в самом начале. — Старшее поколение любит поэзию, но не танцует, — заметил Бока. — Дом культуры есть дом культуры, а не благотворительное заведение. Таков он в масштабе всего государства. Если кто за свой билет не захочет танцевать, так это его личное дело. — Так-то оно так, но нужно еще ужин устроить, — советовал Бертул, — это чуть ли не в уставе Союза писателей записано. Везде кормят. И какой-нибудь сувенир. Бертул внес предложение на ужин пригласить тех, кто бы накрывал стол из своего кармана. Бока обещал три бутылки домашнего вина из черной смородины, потому что ему было приятно услышать суждения о литературе из уст самих писателей. Касперьюст обязался принести не занесенную в домашний инвентарь бутылку водки. Фотограф Пакулис считается любителем искусства. За право фотографировать писателей пусть принесет под мышкой что-нибудь с собой. За бутылку коньяка можно бы позволить Скродерену прочесть свои стихи и даже потом посидеть за общим столом. Но кто соберет на этот стол? Кто его накроет? Необходим знаток со своей скатертью, ножами, чашками, ложечками, хлебом, сыром и колбасой. По финансовым соображениям Касперьюст дал согласие на предложение Бертула поручить это дело буфетчице Анни. — А как насчет прекрасных дам? Кого будем сажать рядом с поэтом Вилксом? — Вы же сами сказали, что он женат, — возразил Касперьюст. — Потому-то он и ездит так часто на встречи с читателями — жена-то остается в Риге. В Америке, говорят, можно приглашать таких, которыеумеют правильно говорить и есть. Я думаю, было бы недурно… пригласить Азанду из киоска с мороженым? Касперьюст дважды лязгнул зубами: — Казанду? В таком платье, которое едва стыд прикрывает! Что про нас подумают в Риге! — Самое лучшее. Таких ног нет во всем Союзе писателей. И в связи с санитарным контролем у нее всегда чистые руки. — Одну девушку нужно пригласить, а то как долго можно говорить о поэзии лишь в теоретическом плаще, — улыбнулся Бока. — Искусство должно быть и осязаемым. Бертул знал, что Нарбут через несколько недель уедет, а Азанда останется. Через неделю он вернет Анни долг. Азанде надо доказать, что только через Бертула она тут, в Бирзгале, попадет в мир искусства.
Поэт Вилкс с романисткой Каладой обещали приехать. Наверное, потому, что, путешествуя по Латвии на автобусе Союза писателей, в Бирзгале еще не побывали. Начало литературного вечера было назначено на девять — летом дни длинные, кто же захочет раньше лезть в зад. Но и в девять Касперьюст пожаловался: — Маловато, всего каких-то полсотни человек. — Зимой зал набивали в два счета, — пояснял Бока. — Директор только позвонит в школы, и зал полон. Кто поменьше — делали книксен, покупали и приносили цветы на свои деньги. И учителя тогда бывали — присматривали за малышами. Даже лекции по истории философии собирали полный зал. Летом труднее… Так они рассуждали, ожидая в вестибюле писателей. Касперьюст на сей раз надел не только сандалии, но и носки. Воротничок Бертула украшала зеленая бабочка. Вокруг них вертелся Скродерен, без ленты в волосах, в синем двубортном пиджаке и в светлых в красную полоску брюках клеш. Условились, что он прочтет свои стихи после Вилкса. Наиболее почтенным из всех выглядел Бока в черном бостоновом костюме, с седыми волнистыми волосами. Поэтому и гости, войдя в вестибюль, прежде двинулись поздороваться с ним, но Бока тут же отступил за Касперьюста, любезно представляя его: — Директор дома культуры… Романистка Калада была примерно лет сорока, солидная, облаченная в брючный костюм цвета резеды, она, как треугольная пирамида, опиралась на пол двумя маленькими черными лаковыми туфельками. Волосы светлые до самых корней, четырехугольное, энергичное лицо, широкие медлительные испытующие глаза. Говорила она тоже медленно, чтобы не изречь какую-либо неточность, которую потом нельзя будет цитировать на уроках латышского языка. Вилкс был на голову выше всех и довольно плечистый. Уткнув, подбородок в грудь, откидывая рыжеватые кудри с глаз, он в упор, почти враждебно глядел на окружающих. Одет был он неважнецки — в зеленоватый пиджак из магазина готового платья. Сначала они прошли через зал, направляясь в кабинет директора. Вот это зал! Тут в дождливую погоду можно проводить республиканский праздник песни. Ну и сцена! Здесь, как под открытым небом, можно ставить спектакли с конницей и трубачами! — грохотал поэт Вилкс. В кабинете все закурили. Касперьюст на этот раз не возражал, потому что это были гости. Пепел стряхивали в конское копыто. — Конское копыто уже встречалось. Надо бы коровье, — сказал Вилкс. — Вы богаты на идеи, — заметила Калада, сидя у заставленной куклами витрины. — Потому-то я и поэт, а не романист-протоколист, — отрезал Вилкс. — Ну-с, какая у нас повестка? Сошлись на том, что после вступительного слова художественного руководителя первой будет говорить Калада, о чем сама захочет, потому что короткие рассказы, которые можно бы прочесть на вечере, она не причисляла к большой литературе и вообще не писала их. В половине десятого Бока доложил, что зал, в общем-то, полон. Гуськом из-за кулис они появились на сцене, в знакомом, созданном прожекторами островке света. Касперьюст с Бокой спустились в зал, остальные сели за столик посреди сцены. Касперьюст, показывая пример, стал аплодировать, его примеру последовали службисты дома культуры — Бертул, Бока и только один доброволец — поэт Скродерен. Дальше все протекало как на всех вечерах, которые Бертул перевидал за девять лет работы на поприще культуры. Он встал, поламывая руки, поклонился гостям и публике. — Уважаемые гости, уважаемые друзья книги! Сегодня вечером в Бирзгале редкое событие и редкая возможность: нас почтили знаменитые художники слова… — Чаще не приглашают, — расслышал Бертул тихое замечание от стола. Уж не тяпнул ли малость поэт Вилкс.. — Прежде всего: слово женщинам! Выдающаяся романистка Люция Калада. Представлять ее нет нужды, это делают наши редакции: нет журнала или газеты, в которой по крайней мере раз в месяц не появлялись бы объемные, емкие, каждому понятные повести, новеллы, романы Калады. Прошу! — И Бертул протянул ладонь, как это в эстрадных концертах делают бойкие конферансье. Калада степенно встала, сложила руки на животе, обрамляя грудь. Говорила она четко, как-то рывками. — Я не могу не писать. Я пишу только так, как могу. — Километрами… — расслышал Бертул шепот Вилкса. — Иногда критики, которые сами не написали ни единой строчки, упрекают меня, что я пишу обстоятельно, но я так вижу мир. На лице человека, на вашем лице, есть глаза. Глаза имеют цвет. В глазах есть зрачки, большие, круглые, маленькие, круглые. Глаза бывают узкие, глаза бывают широкие. У пьяниц на следующее утро белки глаз затканы мелкими прожилками… Пожилые женщины в зале согласно закивали друг другу. Я должна писать о бровях, я не могу иначе. Брови характеризуют старшее поколение — это широкие брони, выросшие без помех, потому что брови должны были защищать глаза рабочего человека, чтобы в них не текли ручьи пота во время сенокоса. Сегодня у девушек брови узкие, длинные, они меняются, потому что у бровей осталась только функция украшения. На лице есть нос — и у вас, и у меня, и об этом надо писать. Иногда ночью в отблеске света мы видим только нос. — У пьяниц он сверкает как стоп-сигнал, — бормотал про себя Вилкс. В зале кое-кто стал ощупывать свой нос. — И по носу тогда надо узнать человека. Мы часто едим на кухне. Могу ли я не писать о кухне? На кухне есть пол. Плиточный — в новых домах. Дощатый, со щелями — в старых. В эти щели попадают крошки хлеба. Если крошки черствые, значит, пол давно не подметался, и это уже характеризует жильцов дома. Каладе начали жать новые лаковые туфли. Она переступала с ноги на ногу — не помогало. Добравшись до описания живота, она кончила: — В моих рассказах нет ничего выдуманного. И тот теплый пар, который поднимается к потолку, когда мы снимаем крышку с котла, в котором варится картошка для свиней, теплую, влажную, тяжелую крышку, тоже не выдуман. В зале чувствовалось явное согласие, потому что в Бирзгале у многих в сарайчиках хрюкали поросята. Калада поглядывала на свой стул, в то же время медлила, как бы не сесть раньше времени, так как по своему опыту знала — сейчас что-то преподнесут. Ага! — по ступенькам взбежала девочка в стилизованном народном костюме, в этой мини-юбочке она смахивала на фигуристку. Перед Каладой она сделала книксен и протянула ей белые розы. Как обычно, аплодисменты заглушили то, что она сказала или, наученная взрослыми, хотела сказать. Это была дочь мастера-маслобойщика Бигауниса. Мать сама купила розы — на радостях, что весь зал увидит ее дочь на сцене. И дому культуры дешевле. Второй поднялась продавщица книжного магазина и поднесла изготовленную из обрезков фанеры ладью длиною в целый фут с соломенной мачтой и бумажным парусом, на котором было написано: "Люции Каладе. Приезжайте к нам еще". В магазинах такие ладьи лежали навалом, значит считались модными, решил Касперьюст и купил их. — Нельзя сказать, что поэт и переводчик Валдис. Вилкс является самым большим латышским поэтом. Говорят, что Арвид Скалбе по росту еще больше, но все же я не ошибусь, если скажу, что он один из самых крупных как в прямом смысле слова, так и в переносном, — сказал Бертул и, соблюдая ритуал, сам, аплодируя, стал приглашать Вилкса. Вилкс встал, тряхнул рыжими волосами, одернул задравшиеся вверх рукава и сердито поглядел в зал. Затем вытянул вперед руки, и рукава опять задрались. Оперевшись концами пальцев о стол, он начал говорить. Оказалось, что у него два голоса, один — гулкий баритон для закулис, кабака и картежного стола, а другой — приглушенный, даже ласковый — это для обычной аудитории. Этим тихим, ласковым голосом он без всяких вступлений стал читать свои стихотворения. Размеренные, с правильными стопами, с цезурами и чистой рифмой. Что-то сердечное, об озерах в Пиебалге, об Александре Чаке, встреченном после его смерти однажды ночью возле фонтана перед оперным театром. Слушали все, потому что стихи были понятными. Но как только отзвучали последние строфы под высоким потолком зала, Вилкс снова нахмурился. Казалось, ему самому было теперь неудобно за эту сердечную лирику; будто он, читая свои стихи, снял с себя на сцене не только пиджак, но и рубашку. И он с некоторым пренебрежением произнес: — Если что-нибудь неясно в поэзии или в других жанрах, можете спрашивать, — и оглянулся, как бы пытаясь отыскать цветы. На сцену поднялась уже взрослая девушка, лет двадцати пяти, с розами, купленными библиотекой. Драночную баржу от дома культуры преподнесла кассирша универмага. Женщина в кофте ручной вязки преподнесла Вилксу пару варежек. От этого у Бертула потеплело на душе — варежки не были организованы. Калада этого не знала и теперь своими красными глазами чирка глядела поверх аудитории на белую дверь зала. Но, увы, дверь не открылась, нежданный слон с варежками или с шарфом не появился. Это Калада восприняла как личное оскорбление — ее оценивали ниже, чем Вилкса. Бертул снова встал. — Планы дома культуры на предстоящий сезон длинных зимних вечеров обширны. Предусмотрена и работа литературной студии. Основные кадры у нас уже имеются: это рабочий-поэт Андрис Скродерен. Его стихи стали уже достоянием всего района — они печатались и в районной газете. Прошу! Скродерен не остался стоять у столика, как это делали Калада и Вилкс, а, развевая полосатыми штанами, вышел на край сцены к самой рампе. Ну, этот будет читать битый час, давно уж не было ни юбилеев, ни собраний друзей природы… Теперь не дождаться танцев. Андрис разрядил над головами слушателей заглавие: "О пауке, который ест муху".
Почему так делаешь? Судьба. Заведено.
Крошки хлеба на столе, под столом, под полом…
Маленькие щенки слепы,
но небо они видят…
Тысячу лет назад я низвергал скалы,
но сейчас, в эту эпоху, у меня работа другая…
В этот же день после обеда Алнис навестил Пентес, сторговал у старушки вросшую в крапиву рессорную коляску, а у часовенки подкараулил Инту Зилите, когда она, одетая в рабочие брюки, на своем мопеде возвращалась с работы домой. Девушка вроде бы немного оттаяла и сказала: — Может быть, Мунтис и сам немножко виноват в том, что сломал ногу. Он мне как-то вечером звонил и сказал, что как следует дал вам прикурить. Кстати, надо будет посмотреть, нет ли на чердаке колеса от прялки… Когда-то валялось там эдакое гладкое, блестящее… — О, как это пригодилось бы! На таком колесе можно укрепить свечи и вместо люстры подвесить под потолком! Так я послезавтра подъеду… осмотреть. — Послезавтра я поздновато буду возвращаться с работы. — Я могу и попозже! — уверял Алнис, радуясь, что девушка назначила ему свидание на вечер. Вернувшись в Бирзгале, он занялся оборудованием салона, так как экспонатов набрался уже целый угол. Как было задумано, единственную капитальную стену в фотоателье, в которой была дверь, ведущая в комнату Бертула, он принялся оклеивать грубой наждачной бумагой. Тут притащился Скродерен, сгорбленный, словно кто-то угодил ему на ринге ниже пояса. Бледный лоб в поту, полосатые брюки клеш уныло обвисли. Поставив на пол украшенную цветами корзинку, он свалился на шезлонг Бертула. — С сегодняшнего вечера я больше не поэт… Это мне сказал мастер Вилкс… Поэт должен добыть по меньшей мере одну книгу, как, например, Уолт Уитман, а я… — Добыл свою корзинку, — закончил Алнис и вынул цветы. Обнажился нижний слой корзинки… — Должен сказать — тебе выдалась короткая, но богатая карьера. — Под цветочками лежала бутылка коньяка и связка сосисок. — Они сказали, что я перепеваю других молодых поэтов… Откупорь! — Если перепеванием можно так заработать, то это неплохо, — утешал его Алнис, наливая по стопочке снадобья. — А я хотел быть поэтом… — Мы часто хотим быть теми, кем мы еще не являемся, — рассуждал Алнис, плюхаясь на постель Бертула. — Я хотел бы быть Микеланджело, хотя умею только месить гипс. Мой дядя хочет быть директором оперы, а вертится в доме культуры. Мечты, друг, мечты. Лучше нелепо мечтать, чем ловко воровать. Ты, друг, растишь кроликов. У вашего сарайчика я видел целую шубную колонию. Но что такое кролик? В своей первозданной сущности кролик — это обыватель из рода зайцев. Хочет прикинуться зайцем, но стать нм не может, потому что был искусственно вскормлен. Ты тоже перекормлен чужой поэзией. Выкурив полсигареты, Андрис устало ответил: — Эта меняет всю мою жизнь. Раз я не поэт, то пойду на курсы шоферов. Если получу класс, буду одновременно шофером и грузчиком — совсем другой заработок. Раз я не поэт, то и жить надо совсем по-другому… Они выпили еще по стопке, попробовали ломтики колбасы, закурили, и лицо Скродерена помаленьку прояснилось. Потирая свой гамлетовский лоб, он вышел на берег реки под ветлы, ища ответ на мучительный вопрос: писал бы он стихи, если бы и не читал молодых авторов? Бутылка коньяка, почти полная, осталась в комнате Бертула. Бертул, вернувшись домой, благословлял за это молодую латышскую поэзию.
Касперьюст опять напомнил о приближении зимы, когда понадобятся деньги для оплаты руководителя детского драматического кружка и танцевального коллектива среднего поколения. Не найдя в своей настольной книге — красиво переплетенном уголовном кодексе — термина "экспериментальный вечер", Бертул начал действовать. Отец Скродерена по — вечерам обкашивал траву вокруг буфета и танцплощадки у речного затона. Сено он забирал для своих коз. Этим как бы оплачивался долг Бертула за молоко. Дыры в полу танцплощадки заделывал Алнис. Они, как рассказал Бока, возникли во время последнего гулянья несколько лет тому назад, когда на спор один силач полез под пол и спиной поднимал доски вместе со всеми танцорами, создавая эффект землетрясения, за что потом был соответственно побит. При посредничестве Анни договорились насчет буфета от райпотребсоюза. Участковый уполномоченный Линланг с начальником охраны общественного порядка Кергалвисом объявили на субботний вечер мобилизацию дружинников, приказав им явиться, в шлемах мотогонщиков. Электрик привел в порядок осветительную систему, запрятав в прибрежных ветлах и в парковых липах несколько лампочек для сюрприза. Оборудовали специальный пульт управления освещением. Листая записную книжечку, Бертул нашел слова: "Мадис Скрабан и ему подобные. Робкие". Дом культуры как бы обворовывал их: они платили спои шестьдесят копеек, но танцевать не решались. Разрешение этого вопроса стоило Бертулу сорок копеек: он съел два мороженых, пока откровенно обговаривал все с Азандой. — Ну ладно… Значит, вы хотите, чтобы мы сами приглашали на танец этих робких. Shocking! — Будем вжаривать почаще дамские танцы. — Я читала в "Бригите", что за границей разорившиеся бароны по заказу танцуют с богатыми дамами. За это нм платят якобы огромные деньги, и если они вместе идут в ресторан, то дама заранее передает ему целый конверт с деньгами, будто тот угощает ее шампанским из своего кармана. Есть, конечно, и девушки, taxi girls, но знаете, Берчу, в Бирзгале таких нету. Как только я подумаю — фу! — А теперь я говорю "фу"! Потому что вы меня превратно понимаете. Если девушки пригласят таких, как Мадис, то ведь никто им не заплатит ни копейки, только потом от имени дома культуры скажут "Спасибо!". По существу это общественная нагрузка! — Ну, если действительно не будут платить, то я поговорю. У меня в трикотажном цехе три знакомых девушки — Камилла, Ванда и Урзула, раньше мы все вместе разбойничали. — Вы сказали — разбойничали? О’кей, тогда назовем вашу труппу как за границей — "Cannibal girls", "Девочки-людоедочки". — Darling, в таком случае они обязательно придут! Бертул по пути заглянул на репетицию эстрадного ансамбля. Репетировали прямо огромной сцене, потому что эстрадная музыка зависит от электричества и штепселей. Позади сцену от кулис отгораживал печально серый, насыщенный пылью занавес. Четыре музыканта, покуривая, вяло перелистывали ноты, временами играли. Певец, женственный, мягкий и розовощекий, ходил по сцене и, разогревая голос, иногда вдруг выпячивал кадык и издавал несвязные звуки. Руководитель ансамбля постоянно передвигал по носу когда-то старомодные, но теперь снова вошедшие в моду очки в металлической оправе и тискал электроорган. Эта штука стоит тысячу рублей, жаль, что у него нет сходства с церковным органом, думал Бертул, — тот можно бы продать, разобрав по трубочке. Выпитая за обедом рюмка мятного ликера воодушевляла Бертула изречь какое-нибудь дельное слово. Так как в музицировании он не очень разбирался, то решил дать общие руководящие указания. Усевшись в первом ряду, он сказал: — Как надо играть, вы и сами знаете. — Но музыканты на эту лесть не среагировали никак. — Все же со стороны глядя, скажу — надо выглядеть более современными, чтобы на экспериментальном вечере в субботу все было, как говорит наш шеф, "так как-то исключительно". Но на вас и порядочных штанов нету, не говоря уже об исключительных. Оркестранты, все как один, принялись осматривать себя: уж не снял ли кто с них штаны. Нет, на каждом потрепанные джинсы. Только у певца были брюки клеш в зеленую полоску. — По рублю за час — фрак не купишь… — мрачно ответил Капельмейстер. — Фрак пусть останется для скрипачей, современная музыка наряжается по-другому. Современная музыка включает, в себя не только звуки, но и цвета. Для этого и существуют прожектора и цветные пиджаки. Если по-другому нельзя, пусть останутся те же самые брюки, только нашейте на них модные заплатки! На коленках и на заднице. И микрофонов слишком мало. Достаньте хоть негодных, но по меньшей мере с десяток, и пусть сцена будет полна проводами, как… почва в лесу корнями. Как за рубежом! Потом — жесты, товарищи, жесты! Женщинам, разумеется, легче, у них есть чем вертеть и шевелить и спереди и сзади, но мужчины в современных оркестрах тоже не стоят, как оскопленные. Головы-то у вас на плечах такие же, как и у женщин, — почему вы не можете трясти ими в такт? И то же самое насчет ног — женщины топчутся и выставляют одну ногу перед другой. Мужчинам это тоже не возбраняется. Равноправие полов! Вообще — движение, товарищи, движение! Эти наставления музыканты, казалось, выслушивали серьезно. Через час Бертул, на этот раз трезвый, снова явился на репетицию вместе с аккуратно одетой дамой, седую голову которой даже в этот теплый день прикрывала шапочка из сверкающей материи, украшенная искусственными цветочками. Это была пенсионерка, в прошлом учительница английского языка Вилциня. Бертул усадил ее в зале и попросил, чтобы солист ансамбля спел что-нибудь из своего репертуара, желательно на английском языке. — А на другом языке стоящую вещь и не оторвешь, — пояснил певец, сжимая в ладони микрофон. После выступления Бертул спросил учительницу, не смогла бы она перевести текст песни на латышский язык. — У вас есть чувство юмора! Разве это был английский язык? Я в тридцать восьмом году целое лето провела в Лондоне, понимаю даже жаргон "кокни", на котором говорят хулиганы, но в этом исполнении — ни слова. После ухода учительницы Бертул пояснил певцу: — Как бы то ни было, но дикция английского языка соответствует у вас стандарту. Если бы эта англичанка вас поняла, я бы забеспокоился. Поп-музыка не проповедь, тут ничего не надо понимать, эмоции есть — и порядок. Так держать! Нарбут отмотал с огромного рулона оберточнойбумаги метров десять и нарисовал плакат. "Экспериментальный вечер "В речном затоне цветут водяные лилии". С феерическими представлениями и с развлечениями для посетителей". Под этой аршинной надписью была нарисована укутавшаяся в водяные лилии русалка, по лицу и по волосам очень похожая на Азанду. Когда плакат еще подсыхал на полу сцены, Касперьюст лязгнул зубами: — Ну… это уже как-то так… очень исключительно — совсем голая! — Что ж поделаешь, у русалок всегда так: внизу ничего не надо, там рыбья чешуя, а наверху… блузки или еще что-нибудь другое я нигде не видал, — бормотал Нарбут. — Это… это то же самое, как если бы женщина вышла голой на улицу, ведь мы же это будем вывешивать на улицу. Это противоречит правилам общественного порядка. Не хочу платить административный штраф. Нарбут, откровенно плюясь, пририсовал русалке бюстгальтер. Потом пригвоздил все это к витрине на краю улицы. В субботу вечером уже с восьми часов пошла бойкая торговля билетами. — Рубль? Раньше мы тряслись за шестьдесят копеек, — дивились недозрелые покупатели, которые сами еще не зарабатывали. — Будут и представления, — неустанно пояснял Бока. Теперь весьма пригодился и такой пережиток капитализма, как основательный дощатый забор, который опоясывал весь парк дома культуры. В потемках, может быть, кто-нибудь, на ком поплоше штаны, и рискнет перелезть, но большинство пойдет в этот загон, как послушные овечки через ворота, где, положив под рукой, как парашютисты парашюты, белые штурмовые каски, дежурили охранники общественного порядка со своим шерифом Кергалвисом во главе. До половины девятого посетители толпились вокруг буфета. Потом на танцевальную эстраду явились музыканты в двухцветных штанах и в белых рубашках. Ранее невиданные штаны, у которых одна штанина была желтой, другая синей, всех явно заинтриговали. Пьющие пиво покинули буфет, девушки — столы с мороженым и все собрались вокруг танцплощадки, обнесенной кольцом закрепленных в земле скамеек. Дождь не грозил. Солнце, скрывшись за прибрежными ветлами, румянило округлые облака сенокосной поры, которые под вечер, как отара ласковых овец, набродившись за день по безбрежной лазури, теперь столпились на небосклоне. Сзади, оттуда, где возвышался трехэтажный безоконный корпус сцены дома культуры, медленна приближалась ночь. Зажглись спрятанные в листве деревьев прожекторы. Они заставили сверкать все яркие части музыкальных инструментов и стерли на эстраде все тени, как солнце в пустыне Кара-Кум, которое от самого большого верблюда бросает самую малюсенькую тень. Руководитель оркестра с негнущейся спиной надел очки и взялся за трубу. Ударник тряхнул волосами, с силой опустил ногу на педаль барабана, треснул обеими медными тарелками, а потом стал колотить в три разного калибра барабана. Мембраны усилителей завибрировали на полную мощь. Из дупел старых лип без звука поднялось целое облако галок и, вопреки обычаям, без громких воплей протеста проплыли в сторону близлежащего леса. Экспериментальный вечер отдыха начался. Из путаницы проводов и микрофонов, откуда-то из-за оркестра, вынырнуло зеленое явление и, глядя вдаль, поверх дома культуры, на невидимое здание Рижской киностудии, тянуло за собой черный провод. Спокойно, мелкими шажками, чтобы не свалиться с красной, толщиной в два пальца, подошвы, Азанда не видела, но почувствовала, что выглядит именно такой, как та дама, какую видела она во французском журнале "Vogue" у стойки в гонконгском баре. В зрителях этот наряд вызвал поначалу разочарование — ведь Азанда же обычно на вечерах обнажала ноги, как кавалерист саблю, отправляясь в бой. — Ишь ты… Глянь — на пузе красный попугай? — раздалось по-женски завистливое шипение. В "Бурде" было написано, что расписная ткань вскоре войдет в моду, поэтому Нарбут намалевал на зеленом платье попугая. Когда Азанда подняла ко рту микрофон и прошлась то в одну, то в другую сторону, как это делают во всем мире девушки с микрофонами в руке, стало видно, что Азанда вовсе не прячет ноги: шлицы по бокам платья раскрывались, как занавес сцены, и нога становилась видна намного выше колена. Так же как в Гонконге. — Начинаем вечер отдыха "В речном затоне цветут водяные лилии", — раздался с макушек деревьев голос Азанды. — Выступает ансамбль песни дома культуры "Волынка". "Я обувала белые ноги". Народная мелодия в обработке руководителя ансамбля Висвалдиса Пакулиса. Вышли три женщины-жрицы в длинных, до земли, кремового цвета платьях и трое мужчин в черных костюмах — среди них был и Бока, покинувший кассу. В бархатном пиджаке, с бабочкой на шее, со скрипкой в руке за ними следовал Пакулис. Жестом Иоганна Штрауса, который перенял он от Гирта Яковлева, Паку-лис подкинул скрипку под подбородок, подернул густыми бровями и высоко поднял смычок. Посетители выдержали еще и вторую песню — "На берегу затона цветет древняя черемуха", музыку к которой написал сам Пакулис. Опять по эстраде шла Азанда. Теперь уже все знали, что на нее надо смотреть сбоку. — Объявляется час в ритме танцев! Затем впервые в нашей республике с демонстрацией голосов животных выступит товарищ Мараускис. Загрохотал оркестр. Учитывая руководящие указания Бертула, оркестранты теперь без устали изгибались каждый в свою сторону, как колоски на поле под ветрами, дующими со всех четырех сторон света. Танцующих было маловато. Да и те двигались лениво, избегая более бешеных па, потому что еще было довольно светло, да и головы тоже были еще у всех ясными. Но часовых дел мастер, он же одновременно дружинник и страховой агент, Мараускис, который вскоре должен был выйти на эстраду, в это время дрался за забором в ольшанике. Как он сам позже говорил: "Я не мог не драться.."
Хотя Биннии в последние дни курили только сигареты по пятнадцать копеек за пачку, ели кирпичный хлеб с комбижиром, все же у них оставалось всего лишь три рубля. Так что голоданием ничего не сэкономишь. Танцульки объявлены в парке, значит, смело можно идти в пончо и без галстука, потому что на природе правила внутреннего распорядка не распространяются. Подготовка к балу была короткой: обули туфли на платформе и вычистили ногти. Ногти у них обоих росли без помех, точно так же как растут они у независимой молодежи за рубежом. Этот обычай был позаимствован от абиссинской знати — длинные ногти свидетельствуют, что их владельцу работать не надо. Теперь это вероисповедание приняли и хиппи. С моста была видна соблазнительно пестрая и подвижная людская толчея по ту сторону парковой ограды. Но если покупать билеты, то останется только рубль на двоих. К счастью, у входа среди дружинников Броня заметил знакомую фигуру — слегка сутуловатого Мараускиса с плешивой головой и сверхотутюженными брюками. Биографию Мараускиса Броня уже знал от матросов. — Через пятнадцать минут я принесу тебе десять рублей, — прошепелявил он сквозь бороденку. — Этого часового скорпиона сейчас мы познакомим с зарубежными методами: шантажом! — Ты хочешь… похитить его? — в восторге зашептала Байба. — Жена за эдакого ничего не даст. Поступим попроще. Броня вразвалочку подошел к улыбающемуся Мараускису и что-то шепнул ему на ухо. Затем оба вошли в прибрежный ольшаник. — Говорите быстро, что вы хотели сказать, скоро мой выход на эстраду. Броня холодно усмехнулся: — Хоть через пять минут, только оставьте мне десять рублей. — То есть… как? — В прошлую среду ночью в двадцать три часа тридцать минут мне представилась возможность наблюдать, как вы вместе с женщиной, одетой в светлый пыльник, поднялись в будку спасательной станции и там наедине провели два часа. За десять рублей я согласен забыть этот факт и не сообщать вашей жене. — И Броня сатанински скрестил руки на груди, хотя этого под накидкой нельзя было заметить. Мараускис стал уменьшаться на глазах, так как ноги, подкосились и шея ушла в плечи. — То есть… как? Разве вы сами не женаты? — Я? Состою в свободном браке. Но речь-то идет о вас. Десять. И побыстрее! Мараускис запустил руку в карман брюк и бережно вытащил кошелек. Заглянул в обтрепанный кошелек, как лягушке в рот. Зубов-то в таком нет… — Три рубля есть. Мелочью… Но Броня со своей высоты уже разглядел живительную красную бумажечку. Скупой, сатана. — Десятку сюда, или же я иду с рапортом к вашей жене. — Броня протянул ладонь и топнул ступней о землю, как мексиканский танцор, у которого тоже широкие, только намного более чистые концы брюк. Расчетливость победила предосторожность. Мараускис вздохнул: — Мне жаль… И вдруг стал преображаться. Спрятал кошелек. Перестал дрожать. Выпрямился. С рукава пиджака снял голубую повязку охранника порядка. Пальцем укрепил очки на носу. — Давай трояк и беги домой за семью! — Броня собирался схватить за галстук Мараускиса. — На… тебе… трояк… — сквозь зубы процедил Мараускис. Нечесаная Бронина головушка трижды очень быстро меняла местонахождение между черствыми ладонями Мараускиса, потому что тот три раза в две руки двинул Броню по щекам. Затем отступил на шаг. Броня прежде всего собирал мысли в потрясенной голове, потом пробормотал: — Так… нельзя… За рубежом хиппи сами… бьют… Иду… к вашей жене! — И повернулся, чтобы идти. Мараускис прыжком преградил ему путь: — Поживиться на чужой беде? — и опять замахнулся. Броня испугался: может, этот дружинник специально обучен, как из невооруженного юноши сделать отбивную… Чего ждать от невежд, которые ничего не знают об основных законах шантажа? И он убежал в кусты. Мараускис снова натянул на рукав должностную повязку. Честь организации охраны общественного порядка не была запятнана, так как он дрался как частное лицо. Наткнувшись на столб, врытый в берег, Броня остановился. Столб был одной из свай, на которые опиралась спасательная станция. Постой, может быть, деньги удастся заработать тут? Броня ногой стукнул по столбу: — Помидор! Наверху из окна свесились головы обоих матросов. — Вы говорили, что нужен утопающий. У меня сегодня есть время. — Очень нужен. Отчет пустой, — с жаром отозвались матросы. — Пятерка будет? — Это ж всего час работы. — И потом час сушить одежду. — Тони голым. Сошлись на четырех рублях и за чаркой обсудили подробности операции по спасанию утопающего.
В сумерках красный попугай Азанды с эстрады сиял ярче. Она подняла микрофон. — Итак, невиданное доселе в истории Бирзгале представление! Член собачьей секции общества охотников Мараускис продемонстрирует… — она приостановилась, потому что так делали все дипломированные спи-керши филармонии, провоцируя аплодисменты плохим эстрадным оркестрам, — …продемонстрирует собачьи голоса! Отразив надвигавшуюся семейную драму, вышел Мараускис со стулом, на который положил магнитофон. — Товарищи, в Бирзгале много собак, — начал он, все время потирая руки. Не будучи ученым оратором, он не знал, что еще в подобных случаях можно делать руками. — Так же как нет хорошей или плохой нации людей, так же нет хорошей или плохой собачьей породы. Бывают только хорошие или плохие собаки. Еще с детства я люблю собак… — И жену тоже? — раздался вопрос из полумрака, И тотчас последовало: — Ха-ха-ха! И все узнали Шепского. — Я люблю собак, — упрямо повторил Мараускис, — и я изучал их язык. Всякий может отличить, радостно лает собака или грустно, но я знаю семнадцать различных собачьих диалектов, то есть выражений. Сегодня я буду демонстрировать вам наиболее отличительные из них и попрошу вас определить, что собака хочет сказать. Правильные решения будут отмечены, и давший верные ответы получит ценную награду — сюрприз. Итак, начнем. Кто он и что он говорит? Раздалось громкое: "Гав-гав-гав!" Минуту на обдумывание. И к эстраде подошел юноша: — Это собака Паэглита, и она… — Он, — поправил Мараускис. — Он, эта собака, говорит, что… подходит почтальон и что он пока не будет кусать. — Правильно. И опять: "Гав-гав-гав!" На этот раз подошла девица в брюках. — Этот живет по соседству со мной. Это собака того рижского декоратора, ну, такой, большого роста, ну да — Розенбах. Собака тоже большого роста. Дог. У этой собаки глаза красные… — Как у пьяницы, — подсказал кто-то. — …Эта собака живет в отдельной комнате. Там только пустые бутылки и тахта. Эта собака лает от скуки, людей она не кусает, потому что не считает их за людей, так же как и сам этот художник-декоратор. Оба они какие-то… чванливые, что ли, у этой собаки во дворе есть еще и конура, с картинами на стенках… — Правильно. Очко в вашу пользу, — согласился Мараускис. Раздался голос другой собаки, который вскоре перешел в жалобный вой. К эстраде тут же подбежал малолетка в джинсовой куртке. — Доктор Берзинь лупит свою черную собаку за нечистоплотность. Собаку звать Черный Берзинь! — радостно сообщил тот. — Пол-очка. Берзиньская собака, но ее не бьют, — пояснил Мараускис и повторил собачьи жалобы. Прислушавшись повнимательнее, тот же подросток поднял руку, как в школе: — Черный Берзинь слушает радио! — Очко в вашу пользу, — согласился Мараускис. — Музыкальная собака — довольно редкое явление. Эта собака, слушая музыку, вроде бы пытается воспроизвести ее. Что из этого получается, вы уже слышали. Мелодию определить невозможно. Я понаблюдал и пришел к выводу, разумеется не окончательному, что собака воет чаще, когда слышит наши эстрадные оркестры, особенно "Голубой экран"… Еще остается вопрос: вызывает ли такая музыка у собаки тоску или негодование. Так что. Мараускиса прервал неподражаемый громовой окрик из громкоговорителя спасательной станции: — Гражданин в синих плавках! За пределами купальни купаться опасно! Небольшая пауза, затем вопль: — Тревога номер один! Человек за бортом! — и тишина. Все, даже не умеющие плавать, бросились к берегу реки на помощь, но этому благому порыву помешал забор дома культуры и прибрежные ветлы. Кое-кто в джинсах влез на деревья. Хорошо, что все это происходило относительно близко, так что, несмотря на сумерки, общий ход событий был виден. Один матрос налег на весла. Второй сбросил брюки и надел маску ныряльщика. Лодка остановилась, в воздухе мелькнули ласты матроса и скрылись под водой. Вскоре он вынырнул, с прилипшими ко лбу волосами, как тюлень, только вместо рыбы он держал голову утопленника. На том берегу на самом видном месте спасатели стали вытряхивать из "гражданина в синих плавках" воду, а самого потом расстелили на песке как для сушки. Матрос номер два надел на Броню намордник и ручными мехами стал накачивать того воздухом. Зрители не слышали, как черноволосый Редиска нашептывал наставления спасенному: — Шевельни ногой… Теперь рукой. Поднимайся, садись… Теперь удивляйся! Броня делал, как его учили, потягиваясь, с трудом сел и удивленно вертел головой. — Все-таки жив! — Шустрые ребята, не дрыхнут на посту! — Пьют, но всегда начеку, — комментировали зрители. Авторитет спасательного поста был упрочен. Спасатели и спасенный поднялись в спасательный пост. В журнале было записано: "На посту матрос номер один. Время — 21.00. От купальщиков за пределами купальни отделяется гражданин в синих плавках. Несмотря на предупреждение, через 5 мин. уходит ко дну. Объявляется тревога. Все по лодкам. Матрос № 2 вытаскивает утопленника, и через 3 мин., вместе с матросом № 1, применяя аппаратуру искусственного дыхания, возобновляется самостоятельное дыхание. Сознание ясное". В соответствующих графах акта записал данные Брони. Свидетели происшествия завтра придут дюжинами. — Четыре рубля! — обсохнув, потребовал Броня. Матросы встали и начали звякать пустыми бутылками: Деньги получишь… У нас послезавтра зарплата… В один вечер дважды разочаровавшись, потеряв веру в людей, Броня застучал своими толщенными каблуками в пол: — Надуть хотели! Или деньги, или я сейчас же расскажу, что вы. На сей раз угроза помогла. Матросы, почесываясь, вытряхнули мелочь из кошельков и набрали три рубля семнадцать копеек. Договорившись, что остальные Броня получит послезавтра, они допили оставшиеся полбутылки бормотухи, и "спасенный" уже в приподнятом настроении, гордясь, что за час головой заработал три рубля, то есть больше, чем врач или каменщик пятого разряда, направился обратно на экспериментальный вечер.
Неслыханная демонстрация собачьего языка и драматическое одноактное представление по спасению утопающего всем взбудоражили кровь. Разговоры о собаках и спасателях продолжались. У буфета Шепский за бутылку пива раскрывал секрет, почему собаки его не кусают: — Я по ночам свой штаны кладет в собачий конура. Когда на другой день я идет во двор к чужом собаке, он хочет кусать, но тогда нюхает мои штаны. Ну — собачий дух, он думает, что я есть большой собака, и не кусает. А ребята рассказывали девушкам, как Помидор вкачивал в утопленника коктейль из кислорода и веселящего газа. На эстраде танцующих стало больше, и все же гораздо меньше, чем продано было билетов; и опять возле ступенек, ведущих на эстраду, толпились стайки робких молодых людей. Касперьюст с Бертулом встретились у оркестрового навеса. — Теперь… поднимите ту мою надпись! — приказал Касперьюст, он сегодня при полном параде, в белой сорочке и модном галстуке. Два дружинника подняли над головами нетанцующих парней на шестах лоскут с над-писью: "Здесь стоят только дураки!" Нельзя сказать, чтобы это определение не подействовало. Стайка юношей, прочитав надпись, поначалу громко засмеялась, потом потише, затем стали перебираться на другое место. Таким образом, дураков больше не было, но число танцующих тоже не увеличилось. — Может быть, перенесем это указание в другое место? — учтиво спросил Бертул. — Не надо, раз уж они как-то так… исключительно большие дураки, то их не исправишь, — прошипел Касперьюст. Бертул, напротив, считал, что современными, проверенными за рубежом методами тоже можно преодолеть застенчивость, и стал оглядываться, ища Азанду. — Азанда, прошу, дайте указание "Cannibal girls" и потом объявите белый танец для дам, женщин и девушек.
Своих подруг Камиллу, Ванду и Урзулу Азанда нашла за углом дома культуры, где те на троих распивали толстую черную бутылку самого дешевого портвейна. Камилла была более белокурой, чем от рождения, с прической Анджелы Дэвис, в сандалиях со шнуровкой крест-накрест до колен. У Ванды волосы такие огненно-красные, что того и гляди вспыхнут и задымятся, её мощные голени обтягивали блестящие черные кожаные чулки, а на черноголовой Урзуле, подстриженной под мальчика, были натянуты белые гольфы. Брови и ресницы, крашенные из одного горшочка, у всех были черные, и от внешних уголков глаз пущены кверху черные запятые, которые придавали их лицам, так же как и лицам многих бирзгальских и рижских девушек, китайско-индонезийский колорит. — Тебе не осталось, — сказала блондинка Камилла, завидев Азанду. — Я такое вовсе и не пью, — ответила на приветствие Азанда. — Девчонки, следующий танец белый. Теперь вы "Cannibal girls". Как договорились. За это вас весь сезон будут пропускать без билетов. Привет. И все двинулись к эстраде. — На этот танец приглашают девушки — а настоящие парни не отказывают! — с макушек деревьев заявила Азанда. Теперь она уже знала, что надо делать свободной рукой. Порою она ее изгибала как лебединую шею, а иногда сгибала под прямым углом и загребала воздух словно веслом. Когда основные кадры танцующих вышли на эстраду, неподалеку от вывески "Здесь стоят только дураки!" сиротливо жалась стайка парней, которые курили, подергивали галстуки, пытались смеяться и показывали пальцами на танцующих. Среди них опять стоял маленький спокойный Мадис в двубортном пиджаке, со свежей бархатной заплаткой на новых брюках. Иногда он приподнимался на цыпочках, чтобы получше видеть танцующих. На него, как на более известного нетанцующего, был направлен первый удар. Из сине-зеленых сумерек вынырнула белокурая Камилла, в босоножках с накрученными на голени шнурками, протянула обе руки к плечам юноши и сказала: — Чего торчишь? Идем потрясемся! Счастье, очевидно, обрушилось слишком неожиданно, и Мадис воспринял это за розыгрыш. Сделав вид, что не заметил девушку, он склонил похожую на петушиный гребешок башню волос и нырнул в темноту. Но тщетно! За ним бросилась Ванда, сверкая голенями в кожаных чулках. Она в одно мгновение настигла его, схватила за руку, потому что ей не хотелось терять бесплатный пропуск на весь сезон. — Спокойно, от нас все равно не уйдешь, — любезно приговаривала Ванда. Мадис кинул быстрый взгляд на эстраду, где прямо перед его глазами ноги дергались вверх и вниз, странно брыкались, выписывая затейливые кренделя, и, не поверив, что и у него могло бы это так получиться, вырвал руку и опять нырнул в толпу. Бертул, наблюдая издали эту картину, вздохнул и посетовал на теперешние школьные программы, которые не могут научить своих воспитанников изжить самый простой комплекс неполноценности. Попытка девушек вовлечь и увлечь их танцами провалилась. У буфета мелькнул бархатный пиджак Пакулиса. Чего там ищет непьющий? Очередь у буфета за пивком или винцом соблюдалась аккуратно, иначе буфет пригрозили закрыть. Пили как из бумажных стаканчиков, так и прямо из бутылок. Более гигиеничные, пуская бутылку дальше по кругу, предварительно обтирали ее горлышко ладонью, вынутой из кармана брюк. Кто-то печальным образом свалился за углом буфета. Руки его все еще держали пустую бутылку. По тигру на седалищной части джинсов определить личность не представлялось возможным. И Пакулис снимал это при помощи фотовспышки. Одновременно с Бертулом к буфету подошел Липлант, на сей раз при полной форме. — Почему вы фотографируете? — строго спросил Липлант. — Иллюстрация для истории Бирзгале, — легкомысленно ответил Пакулис. — Это не бирзгальская история, это пьяница, которого сейчас уберут. Это… это крайне частный случай. Он разрешил вам его фотографировать? — В данный момент он ничего разрешить не может — он спит. — Значит, не разрешал. Без разрешения… это нарушение авторских прав. Я запрещаю! Нарушить авторские права Пакулис не осмеливался. Дали знать Кергалвису, чтобы спящего вынесли вон. — Пакулис, расшевелили бы вы этих пентесских девушек; вон там они весь вечер упорно тоскуют… Вот это был бы сервис, — попросил Бертул. Пакулис убрал свой аппарат, переговорил с двумя прилично одетыми парнями и втроем направились через эстраду туда, где в затемненном углу, призывно и понапрасну обнажив красивые, полные колени, сидело несколько пентесских девушек, добиравшихся сюда за десять километров. И три из них, набравшись смелости, встали навстречу группе Пакулиса. Оказалось, что парни пропустили мимо ушей, что объявлен опять "танец только для девушек". Ну, не все ли равно, кто кого приглашает? И они пошли танцевать. Никто не обратил внимания, как возбужденные портвейном девчонки-людоедочки возмущенно совещались, ибо они и сами не прочь были нежно возложить руки на крепкие плечи Пакулиса и его товарищей. Как только окончился танец и пентесские девушки были галантно сопровождены на их базу, к ним тотчас подошли три представительницы женского сословия Бирзгале. Неизвестно, что они изрекли, но факт таков, что группа из шести девушек скрылась в парке. Тут Ванда, та самая, что была в воинственных кожаных чулках, решительно заявила: — Эй вы, приставалы! Хотите подмазаться к нашим ребятам? Сейчас же проваливайте на автобус! Или я со всех вас сдеру парики! — И в подтверждение своей угрозы она внезапно подпрыгнула и вцепилась в волосы одной бедолаги, испортив прическу, ради которой та провеса два часа в очереди, уплатила два рубля в кассу и опустила пятьдесят копеек в кармашек парикмахерши.. — А если ты будешь орать, я ударю тебя ногой! — Черная нога выглядела весьма грозно. Самый древний прием женской вольной борьбы — рвать волосы — оказался эффективным и по сей день. — Я поеду… домой… — прошептала оттрепанная за волосы. Вторая сбежала во тьму, а третью задержали Камилла с Урзулой. — Пойдем вместе! На улицу! — приказывала Ванда. — Не вздумай бежать обратно, изорву твое платье в клочья! Еще на прошлых танцах ты приставала к Видвуду, с бетонного завода. Держа свою жертву под руку, Ванда вышла из парка. За ней следовали подружки, держа так же ласково под руку другую пентесскую девушку. Это были работницы с пентесской пивоварни. Они вовсе не были слабее своих соперниц, но были трезвыми, и поэтому драться или хотя бы звать кого-то на помощь им было стыдно, к тому же в чужом городе и на улице. Урзула, тряся черным хохлом, еще пригрозила: — И не вздумайте кому-нибудь проболтаться! Мы девки-каннибалки! Понятно? У нас и ножи есть! Марш в автобус! Девочки-людоедки вернулись в парк трястись, и другие предусмотрительно уступали им дорогу, к садикам ребят. Азанда в микрофон напомнила, что недалеко от буфета находится устройство "внезапного освещения", при помощи которого за тридцать копеек можно посмотреть "редкостные виды природы" и "картины из жизни дверей и людей". Кое-кто оторвался от пива и разыскал устройство "внезапного освещения": это был стол, аккуратно накрытый пластиком, со множеством вмонтированных электрических выключателей, наподобие тех, при помощи которых в магазинах электроприборов демонстрируют подвешенные к потолку люстры. От стола вверх по стволу липы уходила, извиваясь, путаница проводов. Возле стола дежурил электрик дома культуры, который за тридцать копеек разрешал повернуть любой выключатель по собственному выбору. Первая попытка оказалась неудачной. Луч света с ветки дерева осветил всего лишь открытую полянку с большим пнем посередине. Второй подход был куда более удачным: в дальнем конце парка высветило молодого человека, с виду едва ли достигшего совершеннолетия, который держал в объятиях березу и сильно дергался от тошноты. У пульта "внезапного освещения" раздался беспощадный смех. — Малман нализался "солнцеудара"! Теперь многие захотели попытать счастья. Разумеется, были и холостые выстрелы, но все же несколько охотников попали в столь неожиданные ситуации, что публика диву давалась, чего только не делают в парке, забыв при этом, что те, застигнутые врасплох, такая же публика, как и они сами. Так, луч света выхватил парочку, которая целовалась. С минуту оба ошеломленно глядели на полуночное солнце, затем бросились в разные стороны, сопровождаемые смехом и аплодисментами. Видать, любовь не была еще достаточно крепкой, чтобы убегать вместе. Некоторое время не удавалось ничего нащупать. И вдруг — какая-то девушка, поправлявшая застежки чулка. — Стриптиз в Бирзгале! — закричали от стола. Это придало новую энергию поискам. В шкатулку летели, накапливаясь, белые монеты. Мероприятие расстроил какой-то несознательный тип, которого высветили в тот момент, когда он, стоя за деревом, поливал его. — Вот почему деревья сохнут! — комментировали у стола, на на этот комментарий последовала молниеносная реакция. Застигнутый врасплох пьяный тип схватил подвернувшийся под руку камень и швырнул в лампочку и — везёт же пьяному! — не целясь попал в цель. Это был опасный пример, и электрик, сославшись на неисправность предохранителя, предприятие закрыл. Выручку поделили с Бертулом. К сожалению, поступило меньше, чем ожидали. А веселье между тем нарастало. Особенно на танцплощадке. Когда сюда прибыли Алнис с Интой Зилите, позволившей пригласить себя на вечер, тут все бурлило и кипело. Хотя они по праву являлись представителями современной молодежи, но довольно долго размышляли, как танцевать. Проблему весьма просто решил Алнис: глядя вниз на Инту, улыбаясь в окладистую бороду, закрывшую расстегнутый воротничок белой рубашки, он изрек: — Все танцуют, как умеют! — и положил руку на талию девушки. Первый раз. Они не знали, что танцуют, молчали и чувствовали себя хорошо. Потом оба сели на краю танцплощадки и стали свидетелями того, что точки зрения на современный танец все еще разные. Следующий танец первыми начали девушки-каннибалки. Они вышли на середину площадки с тремя такими же живописно одетыми подружками — в зеленых, синих и фиолетовых брюках клеш, на одной белый пояс шириной с ладонь, у другой до половины бедер свисала красная безрукавка. Поначалу все взялись за руки и, замкнув круг, медленно повели хоровод, как в дошкольном возрасте. Затем стали раскачиваться за все стороны, отпустили руки и как хотели задирали ноги. Девицы в широких брюках напоминали 6 этот миг кривляющихся медвежат на лесной поляне. Надо сказать, что в современном танце укрепился, если можно так выразиться, принцип "без рук". И в Бирзгале часть молодежи тоже танцевала "без рук". Иные пары даже совершенно поворачивались друг к другу спиной, а когда оборачивались, партнера уже нельзя было найти — он уплывал в трансе куда-то прочь. Иная девица, как в балете "Шакунтала", работала животом. Юношам это не удавалось, потому что мужской организм непригоден для танца живота. Когда некоторые, танцуя спиной друг к другу, порой то ли сознательно, то ли случайно стукались попками, начальник дружины Кергалвис и охранница порядка Шпоре порывались подняться на танцплощадку, чтобы призвать виновных к соблюдению правил установленного порядка. Пропустив одну рюмочку коньяка, тут же оказался и Бертул. — Оставьте! — в улыбке шевелил он усиками, удерживая Кергалвиса. — Если стукаются… попами, это задевает нравственные чувства каждого человека, — сказала побледневшая Шпоре. — Допустим… Хотя я, по правде сказать, не знаю… Вроде бы, по признанию медицины, дети от этого не рождаются. И за границей теперь танцуют так же, как эти милые дети, — сказал Бертул. — Могу показать иллюстрированные журналы. — Мы не за границей! У нас безнравственное поведение в публичных местах строго запрещается. Запрещается! — Кергалвис опять поднимал блестящую черную туфлю и ставил на бровку танцплощадки. — Обождите, успеется! Вы помните, что писали когда-то газеты про твист: "В этом танце будто голой ступней стараются погасить пылающую сигарету и при этом еще вертят задним местом"? — И правильно писали! — Но знаете ли вы, что в Бирзгальской неполной средней школе в прошлом году учили учеников танцевать твист? — Это был школьный твист, правильный. А эти к тому времени уже не учились в школе и поэтому танцуют непристойно. Я требую, чтобы вы положили конец этим непристойностям! — заявил Кергалвис, отводя сильные руки, как борец перед схваткой. — Не могу, или же я должен вернуть деньги. А как быть тогда с бюджетом дома культуры? Кстати, скажите мне — почему люди танцуют? — Что за вопрос, это каждому ребенку известно, — отрубила Шпоре. — Ну, право же: я забыл. Очень прошу вас, объясните. — препирался Бертул. Чтобы двигаться и всесторонне развивать мускулатуру в сопровождении музыки, — пояснила Шпоре. — А в энциклопедическом словаре сказано: чтобы люди были друг другу ближе. И если это правда, то эти танцы лучше всего выполняют всемирную задачу сближения людей. — Вы берете на себя тяжелую моральную ответственность. Если в Бирзгале понизится нравственный уровень… — угрожала Шпоре. — Ради бюджета я беру на себя все, за исключением выплаты алиментов чужим детям, — отозвался Бертул, а Кергалвис и Шпоре отступили до входных ворот парка. Теперь на эстраде стало так тесно, что даже солист балета мог бы только топтаться. Бешеный шум и вихри света отфильтровали менее выносливых и более солидных. Остались только настоящие топтуны. Иной, закрыв глава, даже засунув руки в карманы брюк, с согнутыми в коленках ногами, утрамбовывал землю и чувствовал себя счастливым. Школа — это как венский вальс: это широкие круги на паркете зала или же как искусное танго — то на носке туфельки, то на каблуке. Жизнь — это теснота, толкотня, это когда чужой локоть вонзается в твои бока на досках танцплощадки. Между этими полюсами, которые прикидывались, будто не замечают друг друга, чего-то не хватало, размышлял Бертул. Вдруг его схватил за руку незнакомец, на вид более солидный, чем те, что остались на танцплощадке. — Вы же помните меня? — спросил тот. Бертул не помнил его, но разве всякое незнание необходимо выказывать: — Вы работаете. — Ну да, все там же, на бензозаправочной. — И затем шепотом: — Не можете ли впустить нас за сцену? Мы солидная компания. Прежний директор — всегда пускал. Роса на траве… Ну как, лады? По рукам? — Незнакомец пожал ладонь Бертула, и в ней осталась какая-то бумажечка. Засовывая ее в карман, Бертул покосился. Зеленая. Ого! Эта система подходящая. — Допустим, что я впущу вас… — Он наморщил лоб. — Но ни одного окурка! Иначе вы сгорите до того, как меня посадят в тюрьму. В тени за их спинами уже стояла солидная компания: еще один молодой человек и две дамы с сумочками. Бертул отпер двери дирекций. Все четверо вошли за ним. Две тусклые, запыленные лампочки создавали полумрак, в котором висели на высоте потолка какие-то мостики, разные занавески, блоки и веревки декораций. Каменные стены здания глушили неистовый шум внешнего мира. — Ну, давайте взбираться вверх по ботве волшебной фасоли, — сказал Бертул, ухватившись за поручни крутой узкой лесенки. Вот черт! Как это он до сих пор вовсе не приметил надпись "Дзиедонис" на бетонной штукатурке. Визитная карточка знаменитого мужского хора? Оказалось, вся стена на высоте двухэтажного дома испещрена различными, вполне художественными, удобочитаемыми надписями — "Земгальский театр". "Братья Ошлапини". "Народная пьеса Родина". "Семеро двойняшек". "Лиепайская опера". Какую прекрасную традицию лет пятьдесят тому назад ввел тогдашний хозяин дома! Как хорошо, что опрятный Касперьюст не приказал побелить воистину рукой художника написанную возвышенную историю Бирзгальского дома культуры! Но мужчина, который отдал три рубля за постой, превратно понял Бертула: — Это не мы стены запачкали. Насчет этого будьте спокойны! Они достигли галереи, которая вела вокруг помещений сцены. С такой высоты головой вперед, и амба. В дальнем конце находилась платформа. Там-то и обосновалась компания. Договорились, что выходная дверца котельной останется незапертой. Пригласив продавца бензина с собой вниз, Бертул предложил ему матрасы со склада рухляди по рублю за штуку. Компания понесла два матраса наверх. Как только Бертул исчез в преисподней, оставшиеся выпили, закусили. Продавец бензина бросил свой матрас сверху в бездну, куда-то на сцену, со словами: — Пусть блохи убьются! Вверх поднялось облако пыли, и все стали чихать. Одна парочка спустилась к матрасу. Джентльмен изрек: — Будем спать на зеленом лугу! — и, отцепив нужную веревку, спустил с чердака декорацию с лугом, Ивановыми травами и озером. После этого все погрузились в интимные беседы. Став более обеспеченным, Бертул вернулся в шумный ночной мир и удивился, что танцплощадка почти опустела, хотя оркестранты еще извивались вовсю. Виновником оказался тип, которого в городе называли Саварием. Даже в темноте заметно было, что его глаза угрюмо косятся каждый в свою сторону. С седыми нечесаными волосами, стиснув крепкую челюсть, Саварий ошалело, как слезшая с дерева горилла, вертелся под ногами танцующих. Определенно был под градусом. Руками грабастал девушек, танцевать хотел, но все шарахались от него, даже девушки-каннибалки, потому что никто не знал, что этому привидению может еще взбрести в голову. На нем была измятая рубашка, полы связаны узлом на голом животе. Про штаны нельзя было сказать — чистые они или грязные, широкие или узкие. Ясно было только, что на бедрах они еще держались, а штанины были сморщены, как гофрированная трубка противогазной маски. Боже, как он одет! — сердился Бертул. Вообразил себе, что он хулиган, а одеваться не умеет. Полный анахронизм — современный хулиган одевается очень модно, он и не подумает явиться на вечер с неряшливо растрепанными волосами, без джинсовой куртки или без носков. Значит, отсталый хулиган. Вот что получается, если просмотреть подряд три серии "Ну, погоди…". Танцевать один Саварий не желал. Вдруг он схватил со скамьи чужую сумочку, бросил ее наземь, закурил сигарету и потом начал скакать вокруг сумочки, подражая негритянским колдунам, которых видел в кино: то подпрыгивая обеими ногами одновременно, то выбрасывая обе лапы вверх. На него направили зеленый свет. Саварий походил теперь на чудище, которое до этого вечера спало здесь же в реке под корнями аира. Музыканты брали пример с солнца, которое светит над всеми, и добрыми, и злыми, и продолжали играть. Все это увидел Броня-Бинний. Они с Байбой на честно заработанные им в роли утопленника деньги съели в буфете по пирожному и выпили по стакану самого дешевого алжирского вина. Что же это такое? Все смотрят на того буяна, а не на него! В Брониной голове столкнулся пар выпитого на спасательной станции волжского вина и алжирского из буфета. Он ринулся на танцплощадку прямо наперерез Саварию. Саварий остановился и скосился на странное существо, у которого даже рук не было, так как его оторопевший мозг не мог уразуметь, что руки могли находиться под покрывалом. Броня тоже стал дрыгаться возле сумочки, проделывая движения, какие возникают, если в заднее место жалит пчелиный рой, таким образом он подчеркивал сексуальный момент танца, как это делают в остальном прочем мире. Саварий выплюнул горящую сигарету. Она попала какой-то танцующей по ноге. — Пожарники! — закричала несчастная. И наконец музыка умолкла. — Пошел! Это… это моя леди! — заорал Саварий. Но Броня продолжал трястись и платформами царапать пол. Саварий доковылял до Брони и сзади весьма примитивно толкнул его обеими руками. Броня этого и ждал. За рубежом ведь тоже дерутся! Например, "Черные ангелы" с "Саламандрами" дрались целую неделю. До смерти. Этого волосатого убивать не стоит, он все равно помрет от алкоголя и глупости, а поколотить не мешает. Броня повернулся и из-под накидки дал один прямой. Попасть было нетрудно, у этого челюсть жутко широкая, а главное — Саварий не ожидал, что и у Бродни есть руки… — Благородное искусство самозащиты! The noble art of selfdefence! — произнес Броня на чистом английском языке. Соответствующую его взглядам на жизнь терминологию он знал. Удар мог быть и более точным. Однако кулак скользнул мимо уха и наполовину сдвинул парик. Голова Савария странно преобразилась. — Жуть!.. Он сбил у Савария полголовы… вместе с волосами! — закричала какая-то девушка. Кергалвис от ворот засвистел в свисток футбольного судьи. Дружинники мигом разобрали сложенные в ряд штурмовые каски и бросились в оцепление танцплощадки. Между тем Саварий, обозлившись за непочтение к собственному парику, массированно двинулся на Броню, а тот, выказывая "благородное искусство самозащиты", лягнул платформой Савария в колено, но тут обоих окружили вынырнувшие из зеленой темноты парни в белых касках. Застенчивый Мадис, который еще недавно удирал от девушек, незамедлительно перехватил и заломил за спину поднятую лапу Савария. Остальные одолели все прочие конечности Савария. Сам же Кергалвис схватил Броню. — Наконец-то нашлась статья закона против тебя… — бормотал Кергалвис, вспоминая наглое поведение Брони на веранде Свикене. — Ответишь за мелков хул… Но тут случилась осечка. Броня присел, выскользнул, как змей из своей шкуры, и у блюстителей порядка осталась в руках только его накидка. За рубежом тоже удирают, мелькнуло у Брони в голове, и, спрыгнув с площадки, он бросился сквозь толпу зрителей. Куда бежать? Вокруг ограда, пока будет перелезать, поймают за ногу. Оставался дом культуры. Вперед! Ради безопасности и самозащиты Броня опрокинул одну скамью. Споткнувшись о нее, Кергалвис потерял очки. Но Саварий был в надежных руках. Он пытался упасть на землю, зная, что по советским законам живого человека волочить по земле нельзя. — У тебя что, падучая болезнь? — сочувственно спрашивали парни и рывком ставили его на ноги, больно заламывая руки. Тогда Саварий применил другой способ самозащиты: он начал ужасно ругаться и угрожать. Окружающим предлагались котлеты из дружинников. — Заткнись! Надоело… — одернули его. — Придумал бы за неделю что-нибудь новое. Саварий взглянул на телохранителей и узнал их. Это же были ребята с бетонного завода! Один из них днем сидел в кабине крана, другой… Эти, пожалуй, в темноте без свидетелей могут хватить его по роже… Поэтому он стал стонать: — Ребята, дома ждет мать, вчера сломала ногу… Закрыв изнутри двери на крючок, Бока высунул голову в окошко кассы и наблюдал почетный эскорт Сава-рия. Когда подошел Бертул, Шпоре уже строгим, окостенелым взглядом со всех сторон оглядела задержанного Савария. — Теперь видите, к чему приводят эти дикарские танцы? — сказала она. — О да! Если бы он танцевал народный танец "Тудалинь", у него бы не свалились волосы, — согласился Бертул. Услышав упоминание про волосы, Саварий пригнул голову к собственной руке, которую удерживали дружинники, и содрал парик совсем: — Этот гангстер Шепский… эта шапка на голове не держится… — Настоящий продукт дикого Запада. Все поведение, даже парик… — с отвращением сказала Шпоре. — Согласен полностью, хотя и ругался он исключительно на латышском и русском языках. Разумеется, это объясняется тем, что по английскому языку у него была двойка, а по латышскому и по русскому — тройка сказал Бертул. Свободных машин, чтобы отправить нарушителя в валмиерский вытрезвитель, не было. Организационное упущение экспериментального вечера. Поэтому Савария вывели за ворота, и Мараускис объявил приговор: — Теперь можешь идти, но прямо домой к больной матери. Если патруль тебя еще заметит, свяжем веревками и упрячем в морозильник молочного пункта, а утром отправим в Валмиеру к судье. За повторное мелкое — годик обеспечен. Понял? Обожди, кажется, автомобиль идет сюда! Саварий испуганно обхватил за плечи одного из телохранителей: — Андрис, мы же вместе вкалываем! Ты можешь за меня поручиться? Ну, как друга прошу… — Через час мы пойдем патрулировать. И глянем в окно на твою кровать. Ясно? Отпущенный на волю, Саварий с минуту подтягивал штаны. Хотя и мелкий хулиган, но чувство справедливости не покинуло его. — А как же с тем чавелом? Который в туфлях на колодках? — И того отправим к матушке. А ты иди! Считаю до трех. Раз… В Валмиере суд попонедельникам начинается в десять утра. Два…. Саварий ушел, пошатываясь, в темноту.
Броня сновал вдоль стен дома культуры, как летучая мышь, ловящая комаров. Вдруг перёд ним — маленькая дверца. Без ручки. Он ударил в нее ногой. Толстая подошва оказалась мощным инструментом — Дверца приоткрылась. Броня проскользнул в нее и, нащупав крючок, накинул его на петлю. В дальнем конце угадывалось едва заметное мерцание слабой лампочки. Подошвы отвратительно стучали. Для бегства эта обувь не годилась. Он снял туфли и привязал их шнурками к поясу. Ступеньки вели вверх — и он оказался за кулисами сцены. Спрятаться бы ненадолго, сколько ж они будут искать его? Не сберкассу же он обокрал. Крутая лесенка, Броня поднимался по ней вверх посмотреть — что там? Нечто вроде галереи с дырявым, щелистым полом. Проводя ладонью по грубо выложенной кирпичной стене, в полумраке он двинулся дальше. Неожиданно перед ним вырос мужчина в плавках. За ним на полу что-то блеклое и подвижное свертывалось в клубок. Похоже на женщину без платья. Броня инстинктивно понял, что попал в опасную для жизни ситуацию: отнять у льва окорок зебры, разумеется, негуманно, но лев может и уступить, чуя превосходство силы. Польститься же на самую любимую львицу того же льва — тут уж извините! Кто-то один должен умереть… И этот верзила теперешнюю ситуацию понимает именно так… — Чучело расписанное, куда ты лезешь! — раздался из логова рык льва. Развернувшись на голой пятке, Броня поскакал обратно. Чердак, декорации, крутая лестница, подвешенный в воздухе мостик — все чередовалось, как в зарубежном фильме… На нижней ступеньке его чем-то трахнули по голове. От неожиданности он споткнулся и увидел перед собой что-то черное и твердое, поднял — колбаса… Тот наверху вместо бутылки запустил в него колбасой. Броня сунул колбасу в карман. — Лаймон, двинь ему в рыло, чтоб он тут не шлялся! — крикнули сверху. Из-за кулис появился другой, мужчина, этот в длинных брюках, в рубашке с закатанными рукавами. Тот, который спал на "зеленом лугу". Не мешкая, сзади огрел он Броню по уху. Ну, нет, лучше к дружинникам, те, по крайней мере, не будут бить… Броня бросился обратно в парк, вскарабкался вверх по какой-то крутой стене. Это была ограда. На другой стороне его приняла мягкая травка. С двумя заработанными рублями и с колбасой вернулся он на веранду Свикене. Вскоре пришла Байба. Она была огорчена, что никто не приглашал ее танцевать — считали слишком тощей, а штаны слишком грязными. Засыпая, в утешение они сосали кусочки колбасы. Итак, вечер отдыха достиг своей кульминационной точки. Более занятного аттракциона, чем драка, быть не может. О том, что Броня выскользнул из накидки, как змей из кожи, говорили не меньше, чем о собачьем языке. Приближался второй час ночи, и народ стал расходиться. Дружинники пошли проверить, спит ли Саварий.
Алнис с Интой ушли с вечера, как только Саварий начал буянить. Оказалось к тому же, что для танцев Алнис не очень подходящий, хотя и вырос в Риге. У него, правда, хватило смелости надеть черный котелок и ходить в жилете, напяленном на тельняшку, но трястись он не умел… Из-за этого он был опечален и много курил. Инта хотела переночевать у подруги, потому что первый автобус шел только в шесть утра. Возле подружкиного дома они остановились под липой. — Мне неудобно… что и еще не успел купить мотоцикл. Каска у меня уже есть… Инта вырвала руку и отступила на шаг: — Ты… Вы думаете, что я не понимаю, что вы намекаете… что Мунтис возил меня на мотоцикле домой! Издеваетесь? Нет, вы завидуете! Вы… вы крысолов! И больше никто! — От резкого поворота мини-платье поднялось, как балетная юбочка, и Инта исчезла во дворе. Когда в шесть утра Инта явилась на автостанцию, какой-то тип уже сидел под навесом, опустив афро-папуасскую голову, далеко вытянув ноги, обутые в высокие ботинки на шнурках, выгребал из карманов хлебные крохи и кидал их воробьям. — Желаю успеха! — сказала она, узнав Алниса. Тот вскочил на ноги: — Я… хотел извиниться… Хотя ни один из них не знал, за что надо извиняться, эта формула изъяснения весьма годилась для починки испорченных отношений. К тому же Алнис ждал ее четыре часа в ночной темени, в промозглом тумане, боролся со сном и прятался в акациях от подозревающих всех ночных сторожей… Это льстило Инте. — Ну ладно. Если вас интересует это колесо прялки… — Инта! Меня очень интересует… во вторник, вечером, у часовенки… …А между тем в бухгалтерии, как картежники над ломберным столиком, возбужденно нагибались и откидывались Касперьюст, Бертул и Бока. Перед ними ящик с деньгами, собранными Бокой. Люди, прикасаясь к деньгам, всегда забывают, что, в общем-то, на них целые скопища микробов и бацилл, жаждущих проникнуть в плоть и душу человека. Пятьсот рублей! Бертул гордо засунул руки в карманы голубых штанов и стал прохаживаться от телевизора до пальмы и обратно. — Допустим, товарищи, что фонд заработной платы создан. Значит, осенью организуем театральную студию. Поначалу могу взять ее на себя. Детский драматический кружок… Пусть на нем подзаработает кто-нибудь из учительниц. Для среднего поколения и ветеранов труда будет оплаченный учитель танцев. Пусть танцуют, в тяжелой юности некогда было… Они расстались в радушно приподнятом настроении. Не следует ли обмыть выгодное начинание? Конечно же следует. Бертул вышел в парк. Прожекторы погасли. На земле валялись бумажки, в которых недавно еще хранились холодное мороженое, горький шоколад и соленые куски колбасы. Увядшие цветы радости, сказал бы поэт Скродерен. На берегу реки еще горела одинокая лампочка. На самом жизненно необходимом месте — там находился буфет. Но увы, слишком поздно, Бертул вздохнул: Анни не было, а вместе с ней улетучилась и надежда на выпивку. Полки пустые, стойка голая. Ничтожные остатки упакованы, и Андрис Скродерен в это время поднимал на грузовик уже ненужные весы. — Где Анни? — Ушла. Она просила, чтобы я вам конфиденциально передал вот что: "Я знаю, говорит, что Бертул захочет еще выпить. Тогда скажите ему с глазу на глаз, что срок истекает". Значит, ждала провожатого. Не дождавшись, обиделась и высказала угрозу. Идти сразу к ее домику в саду и постучать в окошко? Пожалуй, это было бы полной капитуляцией. Через неделю аукцион художественного салона. В обмен на долговую расписку будут возвращены две сотни, и тогда Анни не посмеет говорить с ним с позиций силы. В более романтических местах — в паркс, у развалин церкви, под ветлами у берега реки — еще угадывались светлые пятна одежды. Из открытого окна вырывалось: "Синий лен, ай, ай, ай…" Субботняя ночь в Бирзгале протекала, в общем, в пределах нормы. Нога в ногу промаршировали двое дружинников. Кергалвис был, конечно, забавный малый, но надо признать, что охрана порядка не худшее хобби. Бертул написал письмо в отдел культуры, в котором упомянул и об экспериментальном вечере.
Подготовка к открытию художественного салона началась с перевозки из Пентес заброшенной в крапиве рессорной коляски. Грузовик раздобыл Андрис. Хотя он больше и не чувствовал себя мастером слова, но культурная жизнь все равно все еще привлекала его. Вытащить развалюху из крапивы, почистить колеса, разогнать пауков и сороконожек было пустяковым делом; по наклонным доскам закатить ее в кузов тоже чепуха, но вот поднять в стеклянный зал на второй этаж — тяжелая строительная проблема. К счастью, стеклянные стены оказались разборными. Достали канаты, которыми можно было и корабль, удержать. С тендикской новостройки привезли мощные брусья, оперли их на подоконник, и подъем начался. После работы вместе с Андрисом пришли его товарищи по работе, любители потехи. Одни наверху, как волжские бурлаки, тянули веревки, другие снизу подталкивали тарантас и поддерживали его жердями. По всему Бирзгале раздавалась зычная команда: — Раз-два — взяли! Еще — взяли! Потом Бертул, согласно местным, заслуживающим порицания традициям, вынес водицу по четыре рубля за бутылку, потому как заработали: карета находилась на веранде. В городе распространился слух о салоне художественных старинных вещей под названием "Старый тарантас". Алнис обзавелся цветным картоном и, демонстрируя приобретенные в художественной средней школе навыки, устраивал экспозицию. В рубашке со шнуровкой, в плавках, костлявый, как сингапурский кули, расхаживал Бертул, заложив по-наполеоновски руки за спину. — Правильно сказал товарищ из Ленинграда: экспонат без паспорта вообще не экспонат, так же как и человек еще не человек без свидетельства о рождении, — говорил Бертул, шагая между рядами круглых чурбаков, накрытых зеленой бумагой, на которой лежали экспонаты. — А теперь вооружись бумагой и записывай. Алнис стал записывать каллиграфическим почерком на полосках чертежной бумаги. — Итак — ключ железный, — диктовал Бертул. — Высота 18,5 см. Покрылся естественной ржавчиной. Бородка двусторонняя с зарубками разной глубины. В верхнем кольце рукоятки сделаны изгибы, отвечающие профилю трех пальцев. Работа кузнеца — крепостного пентесского барона, вторая половина XVII века. Ключ от потайной двери Пентесского замка. До июля 1973 года хранился у правнука кузнеца — колхозника-пенсионера Дависа Зилите". Алнис написал, и тут от удивления в бороде его раскрылся влажно-алый рот: — Когда я сграбастал этот ключ на чердаке, мне и в голову не приходило… От такой лжи рука немеет. Бертул продолжал расхаживать: — Пиши! Марокканский король, играя в карты, сказал своему первому министру: "Ходи с червей или я сверну тебе шею!" Следующий. "Звонок. Потускневшая медь. Высота…" Так они напряженно трудились до самого вечера. Под конец эта игра понравилась и Алнису. Когда Бертул начал: "Календарь, издание 1923 года…" — Алнис живо подхватил: — На внешней обложке красная танцующая фигура Уленшпигеля… Левая нога поднята вопреки законам анатомии… Членам общества друзей природы и истории было сообщено об открытии салона. Наиболее важного потенциального покупателя Бертул посетил лично. На улице Апшу по обсаженной далиями асфальтированной дорожке он подошел к недавно отстроенному архитектурному гибриду Зислаков, покрашенному в розовый цвет. Фасад его в общих чертах напоминал трехступенчатую ракету; эти ступени шли от одноэтажного гаража через полутораэтажный средний корпус до спален на верхнем этаже, с круглыми из цветного стекла окнами на лестнице. Асфальт во дворе чистый, будто, по нему прошлись пылесосом. Позвонил. Сначала отодвинулась занавеска со смотрового окошечка в дверях, затем Бертулу открыла жена Зислака. Вокруг ее щечек вились кудряшки. Бертулу она напоминала молодую овечку, без тени зла в светлых глазах. Появился и сам Зислак, в тренировочных штанах, широко распространенных в нашей стране, пригодных почти всюду: в поезде, на пляже, при пробежках в лесу и на променаде по улицам курортного города. Описаны случаи, когда некоторые были даже похоронены в тренировочных штанах. — Вы впервые у нас. Если вас интересует… — сказал хозяин дома. — Весьма интересует! — заверил Бертул и отправился в экскурсию по новому дому Зислаков. Еще немножко пахло олифой и едкой ацетоновой краской. В прихожей к стене прикреплен рог косули, на нем висела женская шляпка. Здоровое стремление к старине, значит, поселилось в этом доме. В самой парадной комнате большой стол, секционные витрины с хрустальными рюмочками, которым, наверное, суждено было всю жизнь прожить невинными, так сказать, не целованными губами хмельного мужчины. И святая троица наших дней: в углу телевизор на тонких ногах косули, а напротив него два удобных кресла. — Здесь под потолком подошла бы модная люстра — большое колесо прялки с вмонтированными в него электрическими лампочками. Завтра покажу, — сказал Бертул тоном эксперта-искусствоведа. — Очень интересно, — согласились Зислаки. В конце экскурсии в коридоре, проходя мимо маленькой дверцы, хозяйка тактично ушла в комнаты, а хозяин открыл дверь туалета: — Оборудовали… как сумели. — Принцип верный, — оценивал Бертул. — Это помещение должно быть чистым, как лаборатория. Великолепно! Ватерклозет, плитка, раковина, зеркало… И еще одно: сейчас за рубежом наблюдается мода устраивать в туалете полочки для книг, так как в связи с современным образом жизни — малая подвижность, известная вялость в работе кишечника, как показывает статистика, — люди тут просиживают подолгу. Даже дети. И зачастую читают. — Очень интересно, — согласился Зислак. — Но где вы поставите античный, очень ценный музыкальный прибор? — Рядом с телевизором. — Правильно. Этапы в истории музыки!
Зислаки, уложив детей спать, стали и сами готовиться ко сну, поэтому сели в освещенный круг возле экрана телевизора. Зислак положил свою руку на теплую мягкую руку жены. Почувствовав это прикосновение, она, вздохнув, сказала: — Спать хочется… — Ну так пойдем спать… — ответил муж, и они начали совместный путь к постели. Этот путь пролегал через чердак, где они, идя друг за другом, проверяли, закрыты ли окна, подобно кассирам в больших банках, проверяющим сейфы. Как на верхнем, так и на нижнем этажах по-прежнему совместно они подергали окна и по очереди каждый повернул на один оборот ключ в парадной двери. Из прихожей зашли в гараж, и Зислак посветил в яму под "жигуленком", где в старом ящике для гаек хранились трехпроцентные облигаций и резервные брачные кольца. Вернувшись в спальню, стали раздеваться. Тут муж отпер скрываемый от детей выдвижной ящик в ночном столике и подал жене книгу, которую та почтительно приняла. Это была "Новая книга о браке". Книга бесспорно правильная, потому что издавна в Риге. Она раскрыла главу "Жена встречает мужа" и прочла: "Прежде чем ложиться спать, жена в ванной комнате должна принять теплый душ. Это вызывает у мужа приподнятое настроение, он чувствует, что это делается ради него". — До чего же правильная книга… — сладко вздохнул Зислак, пока за дверью в ванной комнате шумел водопад, омывая голые плечи жены. Улегшись в постель, она прочла: "В минуты близости говорят только о приятных вещах". — Как шикарно этот Сунеп попался, — улыбался Зислак. — На двести рублей! — отозвалась она и выключила ночник. — Но как там написано в книге: с какой стороны я должен лечь к тебе — с левой или с правой? — еще спросил Зислак, потому что он хотел жить правильно.
На следующее утро Бертула разбудил аппетит. Он погрыз найденную в продуктовом ящике краюху хлеба. Из-под матраса вытащил голубые брюки, на которых спал, применив таким образом автоматическую глажку — старый-престарый способ студентов и холостяков. Сорочка из прачечной Шпоре хорошо накрахмалена, а желтый немецкий пиджак из искусственного волокна вообще не мялся. Принарядившись, Бертул сварил утренний кофе себе и Алнису. Держа в руке чашечку, он откинулся на залатанную ткань шезлонга и огляделся по сторонам, — посетители должны будут проходить через эту комнату. Разница конечно же была разительной, если вспомнить, что всего несколько недель назад, когда он вошел в эту комнату, в ней была только железная койка, кривой стул и подвешенное на веревке полешко в качестве плечиков для одежды, и всю эту скудость освещала голая лампочка, как в общественном туалете… Вместо железной койки теперь тахта, покрытая одолженным у Анни пледом. Удобную низкую тахту притащили из дома культуры, где ею когда-то пользовались во время театрального представления, а также для отдыха актеров. На полу лежала дорожка, сшитая Алнисом из старых лошадиных попон Скродеренов. В углу из синеватых списанных кулис дома культуры был сымпровизирован платяной шкаф. Ночной столик сооружен из большого картонного ящика из-под бутылок вина "Болгар-экспорта" и накрыт списанной юбкой народного костюма. На стене места отвалившейся штукатурки прикрывали не театральные афиши, а разноцветные куски картона в качестве фона для изготовленных со вкусом старинных предметов, на расписанной национальным узором тесемочке подвешен обгрызенный, вываренный в лавровом листе деревянный ковш, увядший венок Иванова дня из ромашек, дубовых листьев и других Ивановых трав. Сказать по правде, когда он ехал сюда, он мечтал о леопардовой шкуре на полу и голове буйвола на стене… Но не всё сразу. Бертул вышел в салон. И Алнис сегодня облачился в глаженую рубашку и жилет. — Выпей кофе! — предложил Бертул. — Сегодня мысль должна быть ясна, придется считать деньги. На обширной наждачной стене головы буйвола не было, но ее вполне заменяла потемневшая немецкая каска, в которой Алнис проделал пробитые смертоносными осколками гранат дыры. Каску обрамляла могучая цепь со всеми шипами с ограды часовни пентесских баронов. Железная голова Христа XX столетия в терновом венке… Для равновесия между войной и миром повесили в расправленном виде старый передник с вышитой надписью "Шла девица к роднику". Другую стену заслонила рессорная коляска, под которой в последние ночи на матрасе спал Алнис. — Черт, каждую ночь вижу сны, будто лошадь подковой бьет меня по лбу, — жаловался Алнис. Экспонаты были расположены вдоль стены и поставлены на круглых с натуральной берестой березовых чурбаках. Посреди помещения нежилось зеркало с прелестными женскими ножками, у которого теперь была и своя детективная история. Это повышает стоимость. Алнис с высоты своего роста заметил поверх сирени на улице белую рубашку. — Нарбут… несется сюда с каким-то свертком под мышкой!
Утром, укладываясь к окончательному отъезду, Нарбут сортировал урожай этого лета, прикидывая, нельзя ли отдать некоторые наскоро набросанные на улицах Бирзгале эскизы кому-нибудь на хранение. Хотя бы тому же Бертулу. Тот человек старозаветный, племянник-художник, такие не дадут картинам заплесневеть. Сегодня у них нечто вроде торга. Может, попытаться продать? В таком случае картинам не помещала бы небольшая легенда. Подхватив продукцию под мышку, он направился к Бертулу. По пути догнал врача Симсоне, с которой познакомился в поликлинике, когда искал медиков с примерной трудовой и жизненной биографией, чтобы оформить обложку журнала "Наше здоровье". — Не сможете ли выдать мне справку, что я скоро умру? — без обиняков спросил он врача. Художникам история прощает даже пьянство, не говоря уже о мелком хулиганстве, поэтому Симсоне не стала удивляться. — Медицина может все, если это, нечто благоразумное. — Для художника смерть самый большой филантроп: она повышает ценность его работ. Сегодня хочу продать вот эти. — Нарбут остановился и показал Симсоне свою ношу. — Пожалуйста, выберите себе одну, Говорят, что раньше медики часто покупали… Теперь — то ли скупы, то ли бедны… Симсоне подержала на вытянутой руке подряд все работы. Одну, с угловым киоском и вроде бы Шепским на пивных ящиках, разглядывала дольше. Нарбут выхватил эскиз у нее из рук и отошел шагов на пять, чтобы создать необходимую дистанцию для благоприятного обзора. Затем, поклонившись, передал холст врачу: — Прошу, примите от художника Нарбута, который умрет через месяц от туберкулеза печени… — И тут же отступил, чтобы Симсоне не могла вернуть холст. Докторша в белой блузке растерялась: — Это… было бы взяткой. Кроме того., исключительно печеночный туберкулез еще не найден. Справку не смогу… — Ну так распустите слух! — Может быть… так к слову, ежели придется. Но твердо обещать не могу. Симсоне повернула домой, чтобы отнести картину, а Нарбут поднялся к Бертулу и попросил выставить для продажи его картины тоже. Алнис приметил в них неподдельную хватку, и и Бертул, ради салона преодолевая ревность, согласился. К тому же Нарбут послезавтра уезжает. В звонке они не нуждались — ступеньки под шагами одного посетителя за другим долго и жалобно скрипели. Первым пришел Бока, который в честь такого торжественного события надел пиджак и теперь вытирал пот. Эта августовская суббота была такой жаркой, что на полях от сухости стебельки ржи даже ломались, Бертул открыл в салоне окно. От Заречья, как от отдаленного негритянского поселка, доносились приглушенные удары барабана и гортанные выкрики хриплого голоса: Биннии без расчета на вознаграждение заботились о музыкальном оформлении салона. Бока прежде всего осмотрел работы Нарбута, пощупал свой маленький подбородок: — Если не больше, то вы по крайней мере не лжете. Дай бог, чтобы вас не постигла обычная судьба художников, когда самомнение растет быстрее мастерства, — и, добродушно улыбаясь, посмотрел на Нарбута. Тот сначала нахмурился, нахохлив густой чуб, так что вздыбленные волосы подались вперед, но тут же опомнился, потому что от Боки веяло истинной доброжелательностью, о которую разбивалась всякая дерзость. — Это… это задача всей жизни художника. За несколько лет ее не выполнишь, — проскрипел Нарбут, закурил и начал страшно кашлять. Так, высунув голову в открытое окно, он продолжал кашлять, пока не пришли следующие посетители: Касперьюст, Шпоре, Пакулис, Мараускис, Кергалвис, ветврач Спилва, румяный, полный, у которого кровяное давление выдавило даже волосы из кожи на голове, несколько учителей, Андрис Скродерен, Зислаки, какие-то работники райпотребсоюза, врач Симсоне тоже. Она остановилась недалеко от Нарбута, временами бросая на него тревожные взгляды. Сзади мелькнул гладкий, блестящий лоб Шепского. Вошло еще несколько человек, биографии которых Бертул не знал. Он посмотрел на часы. — Мы, слава богу, не англичане, но тем не менее постараемся быть точными. В связи с известным решением на собрании друзей природы и истории, мы заложили основы небольшого салона для обозрения исторических и художественных предметов… Этим собранием мы, по существу, присоединяемся ко всемирному движению за возвращение к своим истокам в природе и в истории, потому что иной раз, гоняясь за индустриальной серийной продукцией, убегаем слишком далека от тех вещей, к которым прикасалась подлинно творческая рука народа и от которых веет дыханием истории. Прошу, ознакомьтесь с экспонатами. Если пожелаете что-то приобрести, договоримся в индивидуальном порядке. — Бертул с достоинством поклонился. Из рессорной коляски послышалась "Песенка венского извозчика", будто кто-то там сидел и наигрывал на мандолине. Это Алнис отпустил пружину музыкального ящика. Коляска сама по себе сразу вызвала интерес, но покупателей не объявилось, потому что ни у кого не было лошадей и никто так сильно не любил старинные вещи, чтобы выбросить в сарайчик две кровати, а вместо них втащить в дом рессорную коляску. Зато музыкальным ящиком сразу заинтересовался ветврач Снилва, ужасно потевший в белой нейлоновой рубашке. — Даю пятьдесят, — сказал он. — Подарю племяннику-крестнику на свадьбу. Бертул покачал головой: — Уже давали три сотни. Так что — от трехсот и выше… — Тогда я отступаю… Куплю радиолу за сто двадцать… А что иное мог сказать скотский врач? Радиолы можно достать в любом сельском магазине, а эдакий инструмент с металлическими пластинками единственный во всей Лифляндии. Ничего, его унесут Зислаки, которые верят Бертулу — знатоку современного стиля жизни. А Зислаки тем временем приблизились к Нарбуту, узкие глазки которого время от времени расширялись от кашля, как у совы. Поблизости от него стояла и Симсоне, которая неоднократно, при Зислаках, утешительно повторяла: — Пока еще не надо думать о худшем… Не будем думать о худшем… Нарбут, откашлявшись, прерывисто отвечал! — Меня… в туберкулезном диспансере уже предупреждали… не загорать… а то конец. — Еще не будем думать о худшем… — Симсону в ответ протянула Нарбуту свой носовой платочек, который тот приложил к губам. Зислаки попросили Симсоне на пару слов в соседнюю комнату: — Вы думаете, что художник… как говорится… может умереть? Симсоне несколько раз вздохнула: — Как вам сказать… от туберкулеза умирают даже в наши дни. Особенно если застарелые каверны, если много загорать… Зислаки поняли: врач никогда перед смертью ясно не скажет, что человек умрет. Но если художник умрет, его картины сразу повысятся в цене. Разве мало в газетах об этом написано? Зислака тут же подошла к несчастному Нарбуту, тряхнула кудрями своих волос в стиле Бидермайера и сочувственно спросила: — Сколько вы просите за картину? Нарбут откашлялся в окно: — "Речной мост с подводой" — двадцать пять, "Продавщица гладиолусов" — тридцать, "Уличный фонарь ночью" — двадцать пять.. — Итого восемьдесят. Я не знала… У меня с собой только семьдесят пить. — Мне теперь все равно. Можно и за семьдесят пять… — Нарбут от счастья прижимал ладонь к сердцу и в честь Зислаков закашлялся еще раз. — Вот деньги… Не пересчитывая, Нарбут сунул их в карман брюк: — Спасибо… Пойдут на гроб. Помощник Сунепа вам упакует их. Алнис незаметно убрал эскизы Нарбута, завернул их в бумагу, и Зислаки, улыбнувшись друг другу, покинули салон. — После смерти Нарбута мы их продадим музею по сотне за штуку! Устав от кашля, Нарбут прилег в комнате Бертула на шезлонге, закурил и стал про себя насмехаться над присутствующими: — Тут не только овцы, но есть и бараны. Дай бог таким дурачкам расти на всех кочечках. — И тому подобное. Бертул не заметил ухода своих Рокфеллеров-Зислаков, потому что у посетителей возник интерес к зеркалу с ручкой в виде женских ног. Мужчинам ножки нравились, но открыто выказать это они стеснялись — чтобы не прозвучали упреки в увлечении сексом, что так характерно для загнивающей культуры. Мараускис нашел выход, будучи часовых дел мастером и разбираясь в работе ювелира, он вынул из кармана флакончик со шлифованной стеклянной пробкой и лупу и прикинулся, будто проверяет, не является ли медная оправа на самом деле золотой. — Царская водка, — сказал он. Обронил одну каплю жидкости на оправу, затем внимательно разглядывал ноги прекрасной дамы, которые исчезали в кружевах тонкой работы, окаймлявших штанишки. — Нет, все-таки не золото, — согласились и другие, основательно разглядев зеркальце. — Сколько? — шепнул Бертулу на ухо молодой человек с бензозаправочной, который накануне снимал чердак сцены. — Двадцать, — ответил Бертул. — Пять, — отозвался покупатель. — Семнадцать, мне некогда. — Бсртул двигался дальше. — На! Бертул незаметно приложил к экспонату заранее заготовленную записочку — "Продано". Продавщица мануфактуры взяла за четыре рубля передник "Шла девица к роднику". — Повешу в столовой на стейке рядом с оленьими рогами, подарком отца… — пояснила она. Большой, вываренный в лавровом листе и обгрызенный деревянный ковш на узорчатой тесемке, подарок Инты, перекочевал к учительнице латышского языка за пять рублей. — Когда есть ложка, еда найдется, — застенчиво улыбнулась она. Бока за три рубля купил дырявую постолу. — Стал старым и сентиментальным, — сказал он. — Уйду на пенсию и буду вспоминать, что пастушьи постолы были моей первой обувью. Я из того поколения, которое вышло в мир обувшись в постолы. И пришел я туда же, куда и вы… Тут через толпу посетителей протиснулся инвалид на костылях: это прибыл Кипен, тщательно причесав рыжеватые бакены и рассыпчатые волосы, в цветастой рубашке. За пять рублей он купил продырявленную Алнисом немецкую каску, паспорт которой свидетельствовал, что она "в 1970 году вместе с черепом найдена на ветвях дерева в 10 км к юго-западу от Валмиеры, где в сентябре 1944 года стоял немецкий 85-й дивизион физилеров. Можно полагать, что каска принадлежала артиллерийскому наблюдателю, который сам свалился и был зарыт возле дерева, а каска с головой осталась в ветвях. Найдена после того, как дерево было спилено". На самом же деле эта железная шапка была взята у соседей Инты, которые кормили в ней собак и кур. Женщины почтительно разглядывали странную желтую гладкую кость, в которой были просверлены дырочки. В паспорте говорилось, что это "кан-лин", тибетская флейта, изготовлена из голени человека, что ее в Бомбейском порту в 1938 году купил умерший в 1953 году житель Светупе Петерис Калныньш, который плавал на английском пароходе "Canary" кочегаром. — Значит, это кость тибетца… Угрюмый желтый народ, пьет чай с солью, нет, не хочу иметь такую… — передернулся Мараускис. Латыши в этом отношении до смешного консервативны, думал Бертул. Что сказали бы они, окажись в Южной Америке, где по сто рублей за штуку предлагают высушенные головы индейцев! Напрасно Алнис полировал наждачной бумагой кость, выброшенную мамашей Скродерена из кастрюли с супом. Выкованный пентесским крепостным кузнецом ключ от потайной двери замка, сыгравший немаловажную роль в революции 1905 года, нашел нового хозяина в лице управляющего аптекой Клешмита, который желал видеть его висящим на кованом гвозде у дверей своего дома. Торговля шла не слишком бойко, но и не слишком плачевно. Ангела от дверей часовенки несколько раз брал и клал на место заведующий продуктовым магазином, тихий, стеснительный человек. — Мне хотелось бы подарить его жене на день рождения для дверей спальни… — признался он. — Было бы так славно заходить… — Но, как торговец, он сомневался в запрошенной цене. — Двадцать пять рублей? Бертул чувствовал, что уже через полчаса получит по меньшей мере двадцать. И получил бы, если б не возникшее небольшое недоразумение. Разговоры вполголоса, характерные для любого осмотра художественного салона, прервал пронзительный возглас: — Не может быть! Возмутительницей спокойствия была женщина средних лет, одетая не по-выходному, а как в турпоходе — в джинсовых штанах и в куртке. Значит, принадлежала к практически-систематическому разряду людей. Она взволнованно показывала на паспорт музыкального ящика и повторяла: — Это не совпадает с исследованиями Института истории Академии наук! Тут написано: "Этот музыкальный инструмент, моральный предшественник всех современных проигрывателей, реквизирован в Вейтнерском имении". Я преподаю географию и историю — такого Вейтнерского имения в Латвии вовсе нет! Все взоры обратились к Бертулу. От учителей добра не жди, это даже любой школьник знает. — Допустим!.. — спокойно сказал он и подошел к музыкальному ящику. — Допустим, что по-латышски это имение называется по-другому, но на немецком языке и у Бирзгале есть совсем другое название! — Тут Бертулу помог его несклеротический мозг. Во время войны он, еще подросток, находчивый парнишка, отец которого пропал без вести, на Видземском рынке занимался мелкими сделками: покупал, продавал и выгодно обменивал одно на другое — сигареты, каустическую соду, нитки, картошку — и, чтобы иметь представление обо всем, что происходило в местных судах, читал газету "Дойче цай-тунг им Остланд" тоже. Он перешел в улыбчивую атаку: — Вы можете сказать, что по-латышски значит Lemsal, Rositten, Segewold? — Что-то… мы такие места по географии не изучали. — Учительница уже неспокойно ощупывала верхнюю, единственно видную пуговицу штанов. — Ну так вот: по-немецки так назывались Лимбажи, Резекне, Сигулда! — торжественно закончил Бертул. Нападение вроде было эффектно отбито, однако учительница немного погодя ушла, пробормотав: — Я дома посмотрю… Разговоры вокруг экспонатов возобновились, но Бертул каким-то шестым чувством почуял, что атмосфера сгущается. Он уже искал завмага, чтобы отдать ангела от часовенки хотя бы за пятнадцать, и вдруг опять раздался не предусмотренный в программе обзора возглас: — Боже ты мой… уже нет зуба… Когда я его впервые увидела, у него были красивые, кучерявые волосы. Как у Пушкина. Он родился в Бирзгале. Два года назад в доме культуры играли пьесу, он любил даму с камелиями. И уже нет зуба… Посетители ринулись к обтянутой наждачной бумагой стене, где под цепью с ограды часовенки на зеленом картоне висела белая костяшка в виде запятой с соответствующей надписью. На нее обратила особое внимание старая дама с жидкими, беличьего цвета волосами, слабо прикрывающими кожу головы. Она в киоске откладывала для Бертула "НБИ" и "Экран". И эта дама громко читала: — "Зуб актера Арнольда Гризиня. Приобретен конфиденциально у его дантиста". Бертул хотел посредством этого зуба внести в галерею латышской старины евро-американские веяния. Разве в наших газетах не пишут, что за рубежом по лоскутику продают испачканную кровью одежду эстрадных звезд, побывавших в катастрофе, а нюрнбергские веревки распроданы были по кусочку за огромные деньги. Сохраняя гуманность, Бертул предлагал частицу истинно положительного героя, с которой тот расстался добровольно. Вокруг зуба собрались все присутствующие, даже Нарбут, который шепотом израсходовал уже все запасы неприличных слов в адрес посетителей. У него были черные волосы и естественные кудри, когда отец посылал его ко мне за газетами, — рассказывала продавщица газет. С минуту все печально молчали, будто из старомодного, похожего на раковинку радиоприемника образца 1931 года, висевшего в углу, только что прозвучал голос диктора: "Сегодня, на тридцать восьмом году жизни, скончался заслуженный деятель искусств Арнольд Гризинь…" Ветврач Спилва, все еще сердясь на Бертула, что тот не уступил ему за пятьдесят рублей музыкальный ящик одиннадцатого стрелкового полка, не разделял всеобщего траура. Протиснувшись прямо к зубу, он фыркнул: — Нечего тут вешать нос! Актер жив, умер только зуб, — и, надув щеки, принялся исследовать зуб. Повернулся к Бертулу, ошалело посмотрел на него и опять принялся за изучение зуба. Наконец, откинув голову, заржал: — Вот это номер! Вот это я понимаю! Ну и ну… Это же второй передний зуб свиньи! Ну и смех! В глазах посетителей пропала жалость к бедному артисту, потерявшему зуб, и все взоры устремились на Бертула. Катастрофу он переносил мужественно, так как облокотился о коляску. Этот насмешник, насытившись на скотобойне за пробой колбасных образцов к напившись ветеринарного спирта без салицила, его просто… Теперь начнут ставить под сомнение паспорт любого экспоната и могут даже спросить, а не напечатай ли календарь "Зубоскала" 1923 года нынешним летом? — Через неделю на этом же месте и в этот же час к паспорту экспоната будет приобщена экспертиза медицинского института о том, что это человеческий зуб, а не свиной, — заявил Бертул. По ветврач свое дело сделал и собрался уходить. Бертул, провожая его, показал свое духовное превосходство, осведомясь: — Вы, к сожалению, еще не сказали нам, какой свинье принадлежал этот зуб: хряку, свиноматке или поросенку. Может, вам это не под силу? Хотя некоторые и засмеялись, но распродажа на сегодня была сорвана. Посетители разошлись. Бока прощался дружелюбно: — Моя постола определенно подлинная. Этот застойный пруд вы все же немножко потревожили. Спасибо и на том. Шпоре, уходя, изрекла одно-единствснное слово: — Мешугес! Значение этого еврейского слова понимал каждый: тронутый… И Бертул вспомнил: Шпоре видела, как он поливал морковку Анни. Кергалвис сквозь свои очки, оказывается, наблюдал за всем только с точки зрения финансовых органов. Присоединяясь к Шпоре, он заявил глухим голосом: — Завтра проконсультируюсь, не плачет ли подобная торговля по финансовому инспектору. Бертул и этот удар воспринял как человек, которому терять нечего: — Допустим, что я хочу продать вам свою старую рубашку и вы хотите ее купить. И в этом случае тоже необходимо спрашивать разрешения у министерства финансов? Касперьюст, протискиваясь в дверь, выпучил глаза! — Это как-то так… исключительно! Наконец осталось только младшее поколение. Пакулис, фотографировавший салон с разных ракурсов, Андрис Скродерен, Нарбут, который, растянувшись в шезлонге, опять курил плохие сигареты, и Кипен, опираясь на костыли, повесив немецкую каску на руку, все еще ждал, не появится ли Инта Зилите, потому что Алнис, заприметив что-то в окно, грохоча по ступенькам, сбежал вниз. В этот момент в неловкой тишине из рессорной коляски, как из подпола, раздался утробный голос: — Ну что? Ударили кулаком в тесто. Ха-ха-ха! — Это Шепский, забравшись в коляску под полог за сигаретами Алниса, там и остался, чтобы разделить горе с Бертулом. Бертул раскрыл уголовный кодекс. Термина "Старые вещи" в нем не нашлось. Зато в кармане лежало рублей пятьдесят выручки. И еще рублей пятнадцать он получит за ангела с часовенки. Покупатель был серьезный, он вернется. И только тут Бертул спохватился, что в последние полчаса не замечал Зислаков, которые должны были унести музыкальный ящик и принести триста рублей — ближайшее будущее всего салона и Бертула. Значит, Зислаки не слыхали и этот диспут про историю музыкальной машины. Тем лучше! Заскрипела лестница. Деньги идут! Бертул открыл дверь, но — вошел Алнис и девушка в оранжевом свитере, с высокой прической. Кипен, стуча костылями, направился ей навстречу, но та без улыбки только и произнесла: — Добрый день, Мунтис. Смотри-ка, ты уже на ногах, — и последовала за Алнисом, который кивнул на Бертула. — Бертул Сунеп, художественный руководитель. Бертул изогнул свои усики в предназначенной для девушек улыбке. — Инта Зилите. Значит, это вы купили музыкальный ящик моего дяди? — сказала девушка. — Сыграем последний марш, потому что вот-вот за ним придет Зислак. — Бертул крутнул рукоятку. — Зислак? Он же наш родственник. — Девушка была удивлена. — С какой стати он придет? — Он твердо решил приобрести колесо прялки для люстры. — Бертул указал на потолок, где на обрезках козьей цепи мамаши Андриса висело подаренное Интой колесо. — И этим музыкальным инструментом пополнить свою коллекцию. — Этого быть не может! Он же сам привез мне этот граммофон, или как его там называют, чтобы я за две сотни продала его вам. В новом доме, говорит, такая рухлядь не годится, — пояснила девушка, не понимая трагичности ситуации, и вместе с приумолкнувшим Алнисом вошла в салон к другим молодым людям. — А это же рессорная коляска мамаши Каулинь! Долг художника интересоваться всем прекрасным. За Интой последовал Нарбут. В сумрачной каморке остался один Бертул. Кто-то хлопнул его по плечу. — Тебя надувал этот Зислак? Обещал купить и не купит? — Допустим… Допустим… что он стал бережливым.. — Бертул опустился в нагретый Нарбутом шезлонг. — Бережливый? Они оба такой бережливый, что лягут в один гроб и один могила. Не горюй, я на один чердак видел кукла, который писиет. Бертул не ответил. Множество рытвин на его лице с каждым мигом становились все более глубокими и скорбными, словно их прорезал невидимый нож судьбы. Две сотни, пиши пропало. Долг Анни, согласно долговой расписке, надо отдать сегодня. Добрую славу салона погубил поросячий зуб. Разве можно было предвидеть, что сюда забредет скотский врач?.. — Нонсенс, вся моя работа опять нонсенс. Все суета сует… — Бертул шептал слова Библии, которые знал и по-латыни: — Vanitas vanitatum et omnia vanitas… Из салона раздался светлый девичий смех. — Ой! И этот звонок, оказывается, был "в волостной школе, в которой в то время учился. А в нашем доме никто об этом и не знал! Дедушка говорил, что в прежние времена в Бирзгале звонок висел на дверях селедочной лавки — ручка снаружи, звонок внутри. Подойдешь — дернешь за ручку, он и звонит. Напрасно эта девушка смеется: чтобы узнать подлинную историю звонка, нужна интуиция, а таковая в этом городе есть только у Бертула. И даже его, Бертула, интуиция подвела, когда он принял Зислаков за честных тружеников… К Бертулу вышел Нарбут в приподнятом настроении, как и подобает художнику, который в один день продал пусть не шедевры, но все же три работы. Где продал? В салоне Бертула. Жуликом он еще мог быть, но гнидой — никогда. — Нечего тужить, если эти обыватели не могут за один день усвоить мировую культуру. Авось со временем. Что-то уже проклевывается, — во всяком случае, усекли, какую пользу приносит смерть художника! Я сегодня вечером угощаю всех. Будем сидеть в тарантасе, будем сидеть на полу. Идет, не так ли? Бертул ожил и без ненависти поглядел на Нарбута. — Правильно. Еще греки говорили: если тебе радостно, пей вино. Если тебе грустно — пей вино… — Прихвачу с собой и свикеновских хиппи, пусть создают современный шум. — Идет, — согласился Бертул. Нарбут сбежал по ступенькам вниз, потому что семьдесят пять рублей жгли его карман. Пакулис и Скродерен тоже согласились прийти на посиделки. В связи с банкротством сунепского предприятия можно было надеяться, что Алнис вскоре уедет, поэтому нельзя было упускать Из виду Инту. Кипен тоже пообещал приковылять. Салон для Инты был странным сюрпризом. То ли Бертул Сунеп немножечко жулик, или он действительно "мешугес"? Если жулик, то Алнис его помощник? Надо приглядеться. Поэтому она приняла приглашение на посиделки, съездила домой и вернулась с сумкой, в которой был каравай деревенского подового хлеба, баночка сметаны и кусок копченого окорока. Скродерен принес огурцы, редиску и соль. Алнис, раздевшись, полуголый, переоборудовал помещение. Середину салона освободили на случай, если кто-нибудь пожелал бы потрястись, для сидения приготовили рессорную коляску, на полу положили покрытые одеялами матрасы. Доска на чурках — длинный стол, На бумажных салфетках, как на бумажных тарелочках, Инта красиво разложила бутерброды, украсила их листиками салата и красными редисками. В техникуме в Булдури она кое-что усвоила. Алнис прибил гвоздями к потолку потрепанные обрезки бывших занавесей дома культуры, понизив таким образом потолок и создав интимно задрапированные уголки. …Все прибыли к восьми, одетые по принципу: хорошую одежду можно испачкать. Скродерен — с голой гимнасткой на шее, с повязкой вокруг волос и в рубашке с узлом на пупке. Пакулис в неопределенном вельветовом пиджачке, но с фотоаппаратом. Рижскими духами, красками и шумом заполнили все помещение две группы, которые явились одновременно, одна — через двери, другая — в окно. Ансамбль Нарбута, в который входили Азанда и две девочки-каннибалки, вошли в дверь: Камилла с прической супербелокурой Анджелы Дэвис, в черном мини-платье и в сандалиях Иисуса, Ванда с рыжим клоком волос на голове, в черных кожаных чулках на подошве толщиной со спичечную коробку, поставленную торцом. Обе крепкие и бойкие. Нарбут, сам в джинсах и в кедах, ташил огромную заплечную сумку; сумку он поставил посреди салона. — Слово женщинам… — простонал он. Когда эти входили в дверь, о подоконник грохнул конецлестницы, "и в окно влезли Биннии. Они хотели оставаться в первобытном естестве: наши предки, мол, поднимались не по лестнице из струганых досок, к сеновалу над хлевом они прислоняли макушку сухой ели. Азанда, чувствуя себя хозяйкой сумки, открыла ее и вопросительно посмотрела на Инту, которую, наверное, считала хозяйкой дома. Инта вроде бы с завистью, на женском языке — одобрительно, оглядела девушку, серебристо-фиолетовые волосы и зелено-черную роспись глаз которой уже примечала, когда покупала мороженое. Волосы у нее и теперь были те же, но в противоположность глазам Байбы, Камиллы и Ванды, окаймленным целыми коллекциями красок, на лице Азанды этим вечером не было почти ничего. Значит, Азанда хотела понравиться кому-то, кто не любит крашеные глаза, догадался Бертул. Инта и в самом деле как бы исполняла роль хозяйки и сказала Азанде: — Может быть, сыр положим здесь… А ломтики колбасы вот сюда, на лист салата… А кильки, может быть, расположим рядком… Камилла с Вандой энергично резали хлеб. Верные своим принципам — ничего не делать без абсолютной необходимости, Байба с Броней в желто-серых рубашках, в замызганных вельветовых штанах сели на пол, вытянув вперед рваные тенниски и, облокотившись о коляску, поставив под руку сумку "Пан-Америкен" с магнитофоном, затягивались дымом сигарет и ухмылялись. Нарбут принес мощную батарею: белое, бенедиктин, румынский вермут и венгерскую "Бычью кровь". Бертул из-за бедности не терял собственного достоинства и присоединил пол-литра белого и бутылку сладкой "Варны". Скродерен тоже что-то поставил. К стеклянным стаканам присоединили всякие иные посудины — стаканчики для зубных щеток, колпачки от термосов, баночки из-под поливитаминов и так разрешили рюмочный вопрос. Наливал Бертул. Вино пожелала пить только одна Инта. Азанда потребовала ликер. Байба — налить и того и другого. — Дай бог нашим детям богатых родителей! — старомодный тост провозгласил Бертул, хотя дети были только у него одного. — За образование нового клуба! — отозвался Скродерен. — За… как их звать-то, Зислаков! — проскрипел Нарбут, так как от них получил нежданные деньги. Бертул скривился, но тут же выпил. Закуски насаживали на вилочки и перочинные ножи. Биннии пользовались пальцами. Тут же пошли "по второй". Так они и сидели на полу, как японцы, только не умели ноги сложить крест-накрест на восточный манер. У Азанды обнажились округлые колени, а у Ванды и у Камиллы выпирали довольно могучие бедра. Инта пристроилась рядом с Алнисом на коляске и положила ему в рот кусочек сыра. После третьего стакана возник первый конфликт. Выпив водки, Броня лёг на пол плашмя и схватил один из приготовленных Интой бутербродов с ветчиной. Сняв и проглотив ветчину, он стал рассматривать хлеб. — Наверно, деревенский. Снизу зола. — Выел мякоть, а корку бросил под коляску. — Не бросайте хлеб на пол! — крикнула Инта, чувствуя себя оскорбленной, потому что корка была посыпана вовсе не золой, а хорошей ржаной мукой, и хлеб пекла она сама. — Собака съест. Вы, наверное, тоже из деревни, — фыркнула Байба на эту овечку с уложенной прической и в отглаженной юбке. Инта медленно выбралась из коляски и пошла к выходу, в дверях обернулась и, прищурив глаза, прошипела: — Обезьяна, это мой хлеб! Я не могу сидеть… если рядом у кого-то ноги немытые! — Это, должно быть, относилось к Бинниям, вытянутые лодыжки которых повыше теннисных тапочек были цвета дождливого неба. Алнис вылетел вслед за Интой. И тут же раздался страшный шум ударных, щипковых и просто воющих инструментов — Броня включил свой магнитофон и закричал: — Это Юрай Хип! Из-за этого шума Инта с Алнисом объяснялись за дверью. — Инта, останься еще немножечко… — Тогда выпроводи этих желтых обезьян, чтобы не совали ноги в салат из огурцов! — Не могу… гости… — Долговязый растерянно и беспомощно сжимал сильные руки. — Если не можешь, иди обратно… к своим крысоловам! — Инта уже надевала кофточку, и под ней угрожающе заскрипели ступеньки. — Я провожу тебя… — Голый по улице? С таким не пойду. Алнис прихватил куртку. Они шли до Пентес пешком часа три, около полуночи дошли до той копны, в которой Алнис когда-то занимался дыханием по системе йогов. Поцеловались, помолчали, а когда Алнис шелохнулся, чтоб двинуться в обратный путь, кроха топнула ногой: — Останься! Иначе ты напьешься в той конюшне! И они простояли в тени липы, опираясь о ее теплый ствол, как о шерстяное одеяло из грубой ткани, пока не запел петух. — Смотри, как петушки мои быстро выросли! — радовался Алнис, вспомнив свой бизнес о крашеными петушками. — Боже, какой ты наивный! — сказала девушка, приподнимаясь на носки. — Я не могу прикоснуться к тебе щекой… Алнис опустился на колени. — Не могу: борода! — Зилит, я… обрежу бороду, но разреши оставить волосы… — Волосы можно, они такие мягкие. — Она запустила ладонь в его волосы. Но если он лишится бороды, то правым окажется отец, сказавший, что порядочные люди не носят бороды… Потерять свое лицо или Инту? Обратный путь, когда уже повсюду распевали петухи, он проделал часа за полтора, сохранив на вспотевшей спине один только жилет. На рассвете он вошел в свое жилище, когда там царил полный хаос — коляску выкатили на середину комнаты, раздавив несколько килек. Драпировка с потолка была содрана и накрывала остатки пиршества на полу. Из-под нее сочились красные капли по полу, как искусственная кровь на сцене в какой-нибудь драме Шекспира, сына мясника. Бертул лежал на своей тахте, не сняв рубашку со шнуровкой, и крепко спал; зато брюки его, аккуратно сложенные по швам, висели на спинке шезлонга, На мгновение он приоткрыл глаза, увидел бороду Алниса и пробормотал: — Вся ненависть уже пропала, как сказано в писании, — и снова захрапел.
После исчезновения Алниса на коляску взобрался Нарбут, Азанда необычайно робко прильнула к Нарбуту. — Дарлинг… — счастливо вздохнула она. Свою белую гипсовую ногу вверх по ступенькам приволок и Кипен. — Подожди, Инта сейчас вернется, — удерживая, подбадривал его Бертул, заметивший в кармане Кипена подходящий "входной билет". Бертул предложил Кипену удобный шезлонг, и тот вытащил бутылку муската, которую и в самом деле купил только ради Инты, — стоила она почти четыре рубля. Но эти ненасытные тут же налили себе по третьей или по четвертой. В недопитых стаканах отстаивались сложные коктейли. Если бы салон сравнить с финской баней, а теперь, говорят, их в Латвии больше, чем озер, то можно сказать: внутренний подогрев достиг градусов восьмидесяти, и стали проявляться психологические особенности каждого индивидуума, в трезвом состоянии заторможенные. В Скродерене все еще не был убит поэт — ему хотелось по всякому случаю читать что-нибудь вслух. Если не стихи, то какие-либо познания. Сидя на полу, он, указав на дырявую кость, подвешенную под цепью на наждачной бумаге, начал горячо и приподнято вещать: — Как представлю себе… вечером пылают снега на Тибетских горах. Величавая Джомолунгма становится красной. Монахи шепчут свои молитвы и играют на этих флейтах из человеческих костей. В оркестре барабаны "чо-дар", из двух сложенных вместе человеческих черепов. В каждом монастыре какая-то тайна. К Скродерену все прислушивались, потому что смерть даже в кругах алкоголиков еще не утратила свое значение. Некоторые оглядывались на костяную флейту, которую когда-то вместе со своей ногой таскал по джунглям вдоль тибетско-индийской границы какой-то человек. — Тайны у монахов имеются, а монахинь нет, — крякнул Нарбут. — Поехали! — Наверное, все же имеются и монахини, а то откуда бы у них взялось столько монахов — каждый девятый. — Скродерен никак не мог удержаться, чтобы не поделиться с другими своими знаниями. — Тибетские монахи — это тайная буддистская организация, такая же, как масоны — вольные каменщики… — Они что же, просто так по своей воле строят? И не халтурят? — наивно спросила Ванда, пережевывая ломтик сухой колбасы и выставляя на обозрение свои черные сверкающие голени. — В том тайном обществе вообще нет каменщиков. Они рассеяны по всему миру. — Шепский тоже? — спросил Бертул. Нарбут заржал, а Скродерен только откинул голову с по-гамлетовски широким лбом. — Можно, конечно, смеяться, но у Шанского есть свои секреты. Он бывал во Франции и наделен магнетизмом. Очень интересно, как вольные каменщики признают друг друга, — Скродерен вскочил на ноги и стал говорить, размахивая руками, сверкая голым животом. — Один приходит к другому, а тот еще не знает, что вошедший вольный каменщик. Тогда вошедший вместо обычного "Добрый день!" говорит "Боаз". — В юности мы вместо "чао" говорили "боа". Значит, это шло от вольных каменщиков, — вспомнил Нарбут. — Говорит "боаз" и ступни ставит вот так, — Скродерен сложил пятки вместе и вывернул ступни под прямым углом. — В одном старом фильме Чаплин тоже ставил вот эдак свои плоскостопые ноги, — подключился Бертул. — Тогда хозяин спрашивает посетителя: "Кто ваша мать?" Это на самом деле значит: "В какой ложе, то есть первичной организации, вы состоите?" А незнакомец отвечает: "Меня учили остерегаться". И надо проводить большим пальцем по глотке, будто бы ее перерезают. — Зверство… — Азанда передернула плечами под винного цвета накидкой. — Вот почему вольные каменщики так сильны. Года они исчисляют по-своему. Сейчас у них 5973 год. Хорошо бы и нам, создавая свой клуб, ввести какие-либо условные знаки общения. Бертул знал, что в его справочнике под буквой "О" имеется термин "Организованная группа", поэтому он поспешил унять Скродерена: — В этом нет необходимости. Я знаю тебя, ты знаешь Пакулиса, который сейчас фотографирует нас, пока еще не пьяны. Пакулис знает Камиллу… Ну, рот высох. Поехали! Скродерен опять сел на пол, в общем довольный собой, потому что доказал, что он знает о мире нечто такое, о чем другие даже и не догадываются. Биннии сохраняли спокойствие и не удивлялись даже тому, чего не знали. Ну, чего этот поэт бахвалится! Броня запустил магнитофон, и мелкие оконные стекла начали вибрировать. Больше никто никого не слышал, зато все понимали, что вот так — это модно. Нарбут все же не выдержал и кулаком указал, чтоб приглушили магнитофон. — Это были "New York dolls", — важно сказал Броня. — А что это такое? — спросила Камилла. Биннии сочувственно улыбнулись друг другу. — Она не знает, что такое "New York dolls"? Нью-йоркские куклы? Момент растерянности прервал Бертул, наполняя стаканы одновременно из нескольких бутылок: — "Кровавая Мери" без томатного сока. — В Америке пьют коктейль "Индейская кровь", — одновременно осушая стакан и уплетая кильку, поучал Броня. — Мы бы тоже пили индейскую кровь, но в Бирзгале нет индейцев, — отозвался Бертул. — Единственная животина, подлежащая убиению, — свинья, но пить "свинскую кровь", право же, совершенно не звучит. — Бертул снова налил, входя во вкус. Биннии непрерывно протягивали свои щупальца и, не признавая вилки, потому что человек должен быть естественным, совали пальцы то в банку с треской, то в салат из огурцов. После них к этим закускам никто больше не притрагивался, хотя все считали себя современными молодыми людьми. У Нарбута мелькнула мысль — а не хитрят ли они? Не создают ли они таким манером себе съестные запасы? Нарбут пил не торопясь, старался подольше сохранить розовую пелену блаженства, сотканную первыми рюмочками, которую разрушает обычно тяжелое, беспамятное опьянение; до отъезда осталось всего несколько дней, нет, ночей, и в нем пульсировала ноющая боль близкого расставания. Азанда останется… останутся ночи в сарайчике на сеновале, где благоухание слаще и пронзительнее любого созданного человеком аромата… Биннии знали, как ведут себя в подобных компаниях за рубежом. Довольно тощий рацион последних дней способствовал более сильному воздействию намешанных Бертулом бомб замедленного действия. — В мире все… так! — Броня стащил рубашку через голову и повязал ее вокруг пояса. То же самое проделала и Байба, оставшись в цветастом бикини-лифчике. Этого Азанда не могла перенести. Вино смыло все то напускное безразличие хорошего тона, которое было ей присуще в киоске с мороженым. У Байбы же нет фигуры! Азанда остановила лошадь, выпрыгнула из коляски, расстегнула юбочку и осталась в черных, хорошо сшитых шортах и прозрачной винного цвета блузке. Модель из "Бурды". Один подскок, и у нее на голове оказался черный котелок Алниса. — У меня есть журнал "Бригита" из Федеративной. Там была одна статья о Марлен Дитрих. Она, мол, когда-то была помоложе и сексапильнее и тогда в кино снималась в черных чулках, в черном белье и в черном цилиндре… — И на радостях, что теперь она действительно здесь самая прекрасная, Азанда взяла бутылку превосходного вермута и налила всем, делая округлые движения женственными руками, извиваясь всем корпусом между березовыми чурбаками, не опрокинув ни единой бутылки; и все смотрели на ее гибкие руки и на талию, которую так хотелось обнять. Нарбут болезненно вздохнул и прикрыл глаза. О, если бы он умел лгать и обещать Азанде роль в каком-нибудь фильме! Но Нарбут уже рассказал ей про свою каморку в Риге, в которой спит, и про студию с большим окном в доме художников, в которой пишет. И о том, что иногда грабастает сотнями, если попадается заказ, а иногда не зарабатывает ни черта. Я еще не Рембрандт, чтобы свою Саскию-Азанду в бархатном платье сажать на колени, приветствуя жизнь бокалом вина. Пока бархата не было, был только бокал вина, он дешевле бархата. И Нарбут с высот рессорной коляски слегка осоловевшими глазами смотрел вниз, и казалось ему, что черная лошадь везет его мимо странного города, в котором с неба свисают лохмотья облаков, а пестрые полуголые люди, прекрасная Азанда и крепкобедрая Камилла весело празднуют приход Страшного суда… Биннии перестали копаться в тарелках, потому что все внимание присутствующих было обращено к Азанде и никто больше не смотрел на их жирные пальцы. Броня вынул из сумки "Пан-Америкен" цветной журнал, а из магнитофона извлек томные, растерзанные аккорды, прерываемые шумным дыханием и вскриками, будто кого-то в заданном ритме кусала собака. — Секс! Это секс-музыка, — крикнул он этим невеждам. — А здесь — журнал из Федеративной Германии "Poster-Press". — Броня, оторвав корпус от спиц большого колеса, открыл нужную страницу и протянул журнал Ванде, которая все еще часто перекладывала с места на место блестящие голени, словно под её кожаные чулки залезли блохи. К журналу потянулось несколько голов. Нагая девушка в бикини слабо отводила руку полуголого нахального парня. Снимок в цвете, большого формата, яркий. Заметна была даже оставленная лифчиком полоска на боках девушки. Красотам Азанды Биннии все же что-то противопоставляли, если не свою, то хоть чужую наготу. В магнитофоне половой акт звуков кончился, и началось что-то тоскливо мелодичное. Броня как-то неуклюже поднялся на ноги, вроде бы кивнул Камилле, протянув руку ей, а сам глядел куда-то в окно на улицу, Камилла столь же безразлично приняла его руку и отворила китайско-японские веки, потом лениво встала. Сначала Броня положил ладони на ее бедра, но потом отступил — и оба затряслись индивидуально. Камилла, в коротком платьице, с длинными, перекрещенными завязками сандалий, напоминала Нарбуту ожившую статую амазонки. Отличие было в грудях, у амазонок они якобы были непримечательными, а по некоторым сведениям, одну грудь им даже сжигали в детстве. У Камиллы же эти богатства тряслись в танце вместе с ней. Скродерен, — изысканно приложив руку к сердцу, поклонился Байбе. Та, в одном лифчике и брюках, встала и, закрыв глаза, изгибалась только в пояснице вперед и назад. Пакулис залез на облучок рессорной коляски и, словно из перископа подводной лодки, бросал по сторонам через объектив фотоаппарата ищущий взор, Нарбут заметил черный стеклянный глаз, направленный на него и на тех полуголых, и закрыл лицо ладонями. — Нельзя! — окликнул он Пакулиса. — Если все будут так говорить, то я не смогу отразить историю Бирзгале… — пожаловался Пакулис. Азанда призывно поглядела на Нарбута, и он слез с кареты. Нарбут обнял ее за талию, она склонила голову на плечо Нарбута, и, стоя на одном месте, они принялись слегка покачиваться. Пакулис поклонился Ванде. Эта здоровая рыжая девица энергично, стучала толстыми подошвами о пол и кружила Пакулиса вокруг себя, но быстро притомилась, обмякла и стала виснуть на руках фотографа, потому что выпитое вино ударило ей в голову с не меньшей силой, чем Бронина музыка. Было бы просто неприлично что-нибудь не опрокинуть. Броня с Камиллой свалили два чурбака с экспонатами. На одном находился звонок вышеупомянутой волостной школы, который со звоном покатился в растоптанные Байбой обрезки ливерной колбасы и затих. Кипен, тяпнув несколько глотков предназначенного для Инты муската, сидел в шезлонге, прислонив костыли и вытянув белую гипсовую ногу, и в глубокой печали щипал бакены. Для самого Бертула дамы не хватило. Скрестив тощие руки, он стоял в дверях и безмолвно оглядывал присутствующих. Некоторые из них считали, что стало веселее после приема "happy pills" — "пилюли блаженства". Нарбут радовался, что всучил Зислакам этюды. Азанда чувствовала себя как Марлен Дитрих в молодости. Винный дух освободил ее от личины равнодушия, которую она считала модной. Красивая проказница… Биннии? Чем они отличаются от Азанды? Они также хотели быть модными, на уровне мировых стандартов. В еде и в питье, по крайней мере этим вечером, они превосходили всех. Они не продавали мороженое и даже не умывались. Ступень свободы более высокая. Андрис?.. Бертул Вздохнул. Пройдет несколько лет, Андрис сам будет смеяться над тем, что когда-то носил на груди гимнастку или голый труп, может быть, даже купит мужской зонтик. Паку-лис в своем развитии уже достиг зрелости и пришел, наверное, только для того, чтобы получить материал по истории Бирзгале. Не надо бы позволять ему, а то, если какой-нибудь снимок с голым пупком Байбы или фотомомент, когда у Ванды вздернулось повыше миниплатье, попадет хотя бы в "Белую лилию", об этом пойдут разговоры в городе. Бертулу придется оставить дом культуры. Но разве запретом на фотографирование можно стереть событие? Пакулис честный малый, объективный историк и нарочно, с целью опорочить кого-то, фотографировать не станет. Бертулу самому интересно будет кое-что посмотреть на старости лет. Вайда толстой подошвой, как футболист, ударила по пустой бутылке. Ванда и Камилла сильные, жизнерадостные девушки, им нужны крепкие мужья. Правда, Ванда тяпнула лишнее. Как бы ее совсем не развезло. Быстро провернем-ка один психологический тест! Посмотрим, кто и что усвоил от культуры внешнего мира, Бертул проскользнул к своей ночной тумбочке. Музыка затихла, Броня еще раз провел ладонью по спине Камиллы, как будто оценивал упитанность овцы. Вайда цепко держалась за фотографа Пакулиса, и тот, пошевелив густыми бровями, был вынужден опуститься на матрас рядом с ее сильной ногой. Все выпили заслуженные танцем стаканы. В дверях появился Бертул, поднял металлическую коробочку с надписью "Индийский чай". — Uwaga! Attention! Внимание! В Гауяскалнсе был один больной, который предложил вот это. — Бертул двумя пальцами вынул из коробки щепотку табака. — Табак с примесью мака. Опасаться нечего — это не опий, только улучшенное курево. — Это называют "brown afghan", "коричневый афганец", — сказал Броня. — Один из сорняков. Давай, сюда! Нашлась курительная бумага, и Биннии, подавая пример, скрутили папироски. Ванда тяжело выдохнула: — Ерунда, все могу выдержать… Бертул скрутил и для нее цигарку. Взвился синий дым. Ванда закашлялась. Пакулис прислонил ее к колесу. Бертул спрятал коробочку с махоркой, не отвечающей мировым стандартам. Верящие на слово клюнули моментально, — Байба легла на бок и курила, уронив голову в ладони; она видела на журнальных картинках: точно так делают японские курильщицы в логовах наркоманов. Броня встал, тупо огляделся вокруг, пошевелил бородкой, затем прыжком кинулся в угол, сорвал со стены с экспонатами подаренный Интой зазубренный проржавевший серп, стал посреди еще не разбитой посуды и с ожесточением начал рассекать воздух. Жжиг! Жжиг! Опьяневшая Камилла безудержно хохотала, но мужчины отодвинулись подальше от Брони, так как в старину считали: если рассечь жилы заржавевшим лезвием, можно не только умереть, но даже получить заражение крови. Позволить дойти до кровопролития в своем доме Бертул не мог. В тумбочке своей комнаты он сварганил воистину действенный препарат и теперь сам взгромоздился посреди матрасов: — Сеньоры! Сеньоры! К порядку! Что за рубежом применяют в подобных случаях? — Дроги! — Броня опустил серп. Все поняли переносное значение этого слова. — А самое последнее достижение в этой области науки? — спросил Бертул. Теоретик модернизма Скродерен, подпиравший рядом с Байбой спицы колес, тотчас крикнул: — ДЛК, диэтиламид лицергкислоты! Я читал… Его перебил Броня: — Наши эту дрогу теперь употребляют во всем мире, потому что она безвредна и к ней совсем не привыкаешь. Ее употребляют даже в путешествиях по горам, пустыням и джунглям, и все видится в красках. Человек… становится похожим на птицу! Он начинает свободно парить в пространстве. И ощущает секс. В Америке некто профессор Тимотей даже основал общество… как его звать… Да: "Интернациональное объединение внутренней свободы", в нем состоит много художников. Бертул важно сел на стул. — Это можно получить не только от моряков. Страупе знаете? — Туда съезжаются алкоголики-добровольцы. У них есть даже своя церковь, — вспомнил Пакулис. — Я там слушал орган. — Съезжаются не только пьяницы, потому что вообще это наркологическое заведение. Некоторые по пути заворачивали к нам в Гауяскалнсский санаторий. На вино я выменял… — И Бертул задрал штанину до колена. К тонкой голени лейкопластырем был приклеен пакетик. Все теперь глядели в оба на ногу Бертула. — Ищут обычно в карманах, а сюда заглянуть никто не додумается, — сказал Бертул. — Гонконгский прием. — И стал отдирать лейкопластырь вместе с прилипшими к нему волосками. Когда развернули пакетик, в нем обнаружилась цветная коробочка медикаментов. Бертул вытряхнул из нее крохотные коричневые шарики. Он поднял один шарик для всеобщего обозрения: — Сахарные крупинки с половиной минимальной дозы ДЛК. Так что — совершенно безвредно… Лучше всего сядьте спокойно, поудобнее, расслабьтесь, чтобы лучше мечталось, чтобы не давило на бока, не опирайтесь на локти! Все стали рассаживаться, готовясь к продолжительному сеансу. Азанда, все с тем же котелком на голове, села в коляску и, слегка утомленная, прильнула к Нарбуту, который этим вечером был настроен меланхолически. Он необычайно нежно обнял ее за плечи. Возле ног Нарбута на краю коляски примостился Скродерен. Опьянение и глубокое раздумье клонили долу его повязанный лоб, и он ладонями уперся в колени. Биннии легли возле колес один за другим, Байба в изгибе Брони. Неожиданно тоном пророка Нарбут пробормотал: — Человек встал на ноги, чтобы дальше видеть. И что увидел… опять опустился на четвереньки… — и притянул к себе Азанду. Ванде было плохо. Она подтянула конец матраса под передок коляски и прилегла там. Камилла стащила на пол Пакулиса и своей спиной оперлась о его спину. Отлично, в таком положении он не сможет фотографировать первое пиршество наркоманов в Бирзгале, а всего лишь рессорную коляску с округлой тыловой стороной Ванды под ней. — В Калифорнии и в Непале — групповой секс… — лопотал Броня. Кипену не нужна была группа, а Инта не возвращалась… Он уже стал искать костыли. Нельзя было выпускать свидетеля до окончания сеанса. — Обожди! Я провожу тебя по лестнице. Ты не знаешь, где выключатель, — удержал его на шезлонге Бертул. — Прими это, улучшится настроение, тогда и кости быстрее заживут. Наступила минута довольно благоговейной тишины; большинство по газетам и журналам знало, что вскоре они "отдадут концы" и уплывут в лучший мир. Бертул в стаканчики налил немного вина, чтобы запить. Затем на стерильно белой финской писчей бумаге предложил каждому коричневатые крупинки. И чудо — брали все. Биннии, доказывая, что для них это в порядке вещей и ДЛК привычна, как аспирин от простуды, взяли каждый по два шарика. Разве не читали они, сколько новых ощущений дают наркотики! Но читали и про то, что наркоманы взламывают даже шкафчики амбулаторий и вместо йода воруют таблетки от кашля, становясь преступниками. Но сильная воля удержит от этого. Те, которые не были еще пьяны, знали, что сила воли у них есть. А тем, которые были умеренно пьяны, тем уже было все равно. Все во главе с Бертулом съели крупинки. Только Пакулис схитрил — упустил свою за воротничок рубашки. Бедняга, не доверяет своей силе воли, усмехнулся Бертул. Все запили сладковато-терпким пойлом и с полуприкрытыми глазами, вслушиваясь в свой внутренний мир, ждали появления снегов Килиманджаро, негритянских танцев живота и убранных цветами туземок из Самоа, а Кипен надеялся на европейском ралли промчаться через Францию на Монте-Карло сквозь шпалеры француженок. Бертул же, словно завзятый психолог, ждал, как будут вести себя подопытные, так как сам он от крупинки сахара, приправленной "Рижским бальзамом", ничего не ждал. Первой среагировала Ванда, — высунув рыжую голову из-под коляски, она сказала: — Я, наверное, вылезу в окно, меня тошнит… — Нельзя! — строго прошептал Бертул. — Мы на пятом этаже! Можно упасть и сломать каблук у сапога! Напуганная такой перспективой, Ванда заползла обратно. Скродерен, сидя на коляске в ногах у Нарбута, стал тискать свои колени. Начинается? Биннии уж никак не должны были отставать. Потряхивая космами и бородкой, спотыкаясь, как исколотый на арене бык, Броня поднялся на ноги и задрал руки. Искренне воображая, что не видит ничего, он основательно наступил Пакулису на ногу, и тот отдернул ее без проклятий и стона. — Зеленые облака… Зеленые облака! — выкрикивал Броня и ухватился за серую ткань потолочных декораций. Та не оборвалась. — Она же голая… Теплый дождь… — продолжал бредить Броня, двигаясь к окну. У Бертула возникли подозрения, что Броня собирается за декорациями облегчиться в окно. Но удерживать нельзя было, потому что Бертул тоже считался в состоянии транса. Байба вспомнила, что за рубежом в подобных случаях обязательно бывают галлюцинации зрения. Она вяло поползла к дверям и лопотала: — Розовый слон… Розовый слон… Смотрите, в дверях розовый слон с пестрым хоботом. Слон во всей комнате! Все тайком устремили взоры к дверям и мгновенно, словно по команде, вскочили на ноги. В дверях стояло нечто более опасное, чем слон, — участковый уполномоченный Липлант, и вовсе не с пестрым хоботом, а со Шпоре в зеленом брючном костюме и дружинником Мараускисом в зеленом пиджаке. Первая часть наркотического сеанса окончилась.
Липлант накануне получил письмо, в котором между прочим было написано: "Вышеупомянутый Бертул Сунеп был уволен из Гауяскалисского санатория за моральное разложение, так как он путался в клубе с больными женского иола. Сейчас одна больная, родом из Бирзгале, поставила меня в известность, что подобный образ жизни он ведет и в Бирзгале, в его квартире живут непрописанные лица и там все уже подготовлено для аморального образа жизни, чтобы принимать такой же породы гостей". И так далее. Подписалась Алма Путниня. Это походило бы на клевету, если бы не был упомянут "аморальный образ жизни". Кабы там было написано, что Бертул собирается украсть свинью, Липлант спокойно спал бы до утра, но упомянутое в письме обвинение было куда тяжелее. Свинья затрагивает отдельного индивидуума, а вышеупомянутый образ жизни — все общество. Для чего он втащил в комнату рессорную коляску? Ясно, для разврата. Именно. И в самом деле: тот долговязый бородач действительно не был прописан! А вдруг оргия уже началась и там голые женщины? Тут при проверке необходимо присутствие женщины. Липлант позвонил Шпоре, Мараускису; они дождались темноты и отправились на Речную улицу, ибо при дневном свете разгулов не устраивают. Брошенная Бертулом в Гауяскалнсе повариха Алма действительно узнала от одной больной, что Бертул поливает огурцы в саду буфетчицы Анни. Алма не преминула немедленно поступить по принципу: если не мне, так никому. В прежние времена, когда проще было достать ружье, подобных изменников застреливали, теперь оставалось писать жалобы. Экспедиция подошла к двухэтажному дому по Речной улице. Во дворе возле стены сарайчика скакали белые точки — проснулись белые кролики Скродеренов и искали что поесть. Стеклянный торец второго этажа казался подозрительным" К стенке была прислонена лестница. Окна местами занавешены темной материей. Между занавесок струился розовый свет. Правда, музыка лилась какая-то вроде бы грустная и совсем не подобающая развратному сборищу. И вдруг выкрик: — Зеленые облака! Зеленые облака! Смотри, вот жирафа с радужным хвостом! Со звоном разбилась какая-то посудина. И все трое помчались наверх. Стучали. Никто не отвечал."Открыли дверь и застыли на пороге. Опрокинутые бутылки, растоптанный винегрет. На полу валялись распутные фигуры с голыми животами. Шпоре вспомнила оперу "Тангейзер" и констатировала: — Гора Венус… Навстречу комиссии ползла девчонка, волосы торчат во все стороны, одежда сорвана, и кричала: — Розовый слон! Розовый слон во, всей комнате! — Проверка квартиры! Все остаются на месте! — скомандовал Липлант. Бертул первым нарушил приказ, подошел к комиссии и приветливо протянул руку: — Добрый вечер, будьте гостями… Тут пахло очень аморальной жизнью, и Липлант не желал обмениваться рукопожатием: — Гражданин Сунеп, почему эта девушка раздета? Теперь стало ясно всем и даже Байбе, что она ошиблась и вместо розового слона вошел милиционер. Что делают за границей, если на конференцию наркоманов нагрянет полиция? Удирают. Байба поднялась, схватила рубашки и, пошатываясь, пошла за декорации, где Броня искал жирафу. Занавески теперь оказались очень кстати: Липлант не заметил, что оба Биннии вышли, как пришли, — через окно. Шпоре увидела Азанду в красивых шортах, сидящую в коляске прижавшись к Нарбуту. Главное гнездо разврата — это коляска, решила Шпоре. Возбужденно сверля блестящими глазами этих уличенных в разврате, она воскликнула: — Матуле! Азанда Матуле в аморальном виде сидит рядом… с мужчиной! — Ну, ты попала в точку: да, сижу! — Азанда еще не понимала серьезности положения, только чувствовала, что в черных шортах и в котелке она хорошо выглядит. Нарбут сообразил, что необходимо произвести маневр отступления, и воспользовался своими познаниями по части местонахождения выключателя. — Итак, гражданин Сунеп… — повторил Липлант. В это время погас свет. — Гражданин Сунеп, включите свет! — Пропал выключатель! Кто взял выключатель, товарищи, кто взял выключатель? — спрашивал Сунеп. Забренчал школьный звонок, и в ночных сумерках началось переселение народов. Наконец Мараускис зажег спичку — и Бертул нашел свой выключатель. С колеса пряхи полился желтоватый свет. Свернутые клубком матрасы прикрыты одеялами, чурбаки из-под экспонатов разбросаны, как на дровяном складе, где подгулявшие пильщики побросали и пустые бутылки. Декоративные занавески были сорваны, и взору открылось распахнутое окно: в нем торчали два конца прислоненной с улицы лестницы. — Они вылезли в окно! — в один голос крикнула комиссия. — Разве тут кто-нибудь был? — дивился Бертул. — Вы что тут делаете? — Теперь все заметили Кипена, рубашка которого была такой же белой, как и его загипсованная нога. На Кипена нельзя было кричать, потому что он — гордость Бирзгале. — Я… искал резервные части для мотоцикла, — ответил Кипен, держа костыли под мышкой. В глазах Шпоре мотогонки были хулиганством низшей степени. — В вашем больничном листе, должно быть, записан "домашний режим"? — Так точно… — Значит, нарушение режима. Пьянка. Я поинтере-суюсь на месте вашей работы, подлежит ли оплате такой бюллетень. — Если у меня не будет денег, я не смогу участвовать в соревнованиях, — ответил угрозой Кипен. Мужчинам такая мера наказания показалась слишком суровой. Мараускис почесал лысеющую макушку. — Мне кажется, что он шел… в поликлинику… подправить гипс и по дороге зашел передохнуть. — Только и всего! — И Кипен исчез на лестнице. Оказалось, что еще один наркоман, погрузившись в транс, не смог убежать. — Женская нога! — воскликнул Липлант, заметив черную голяшку Ванды. — Вылезайте! Нога и не шелохнулась. Пришлось толкать коляску, она заехала в салат, и теперь можно было подойти к жертве разгула, которая лежала, выкинув руки вперед. Шпоре стала прощупывать пульс: — Живая! Ванда приоткрыла глаза, увидела яркую эмблему на фуражке Липланта и испугалась: — В окно… я не лазила, потому что мы… на пятом этаже. — Бессвязная речь. Средняя степень опьянения: Вставайте и пойдемте с нами в штаб для выяснения личности! — обратился Липлант, он надеялся от Ванды узнать подробности попойки. Ванда подошла к окну и увидела, что находится всего лишь на втором этаже: — Зачем же вы обманывали! Я давно была бы дома. Все покинули помещение по официальной лестнице. На свежем воздухе Ванда пришла в себя: — Я пошла домой. Вместе с Вандой исчез бы единственный свидетель обвинения. Шпоре взяла ее под руку: — Нет, сначала зайдемте к нам! Прошу вас. — Не трогай! Орать буду! — закричала Ванда. Комиссия струхнула. Силой нельзя было вести, потому что, в конце концов, — до чего ж несовершенен закон — за то, что пьяная девица спит в чужой квартире под рессорной коляской, с голыми ляжками, а рядом с ней не обнаружен мужчина, нельзя применять к ней даже административные санкции. …— Юридически я чист, — сказал Бертул, пробудившись в понедельник и как следует умывшись. — Не надо было приглашать Бинниев. Они же как… поросята, с ногами в корыто, — сердился Алнис, таская ведра с водой вверх и вниз и с досадой соскабливая с пола присохшую закуску. Особенно обидно было то, что сегодня впервые у дверей отсутствовало козье молоко. — Допустим… но зато они выдумали розового слона. Пол отмоем, но Анни еще вчера надо было вернуть деньги… — вздохнул Бертул. Выпив у киоска бутылку пива, с послепраздничным выражением на лице он открыл двери дирекции дома культуры. Там уже находились трое мужчин: Касперьюст при своем модном галстуке, Бока и инспектор из районного отдела культуры, который недавно обмолвился о вакантном месте заведующего отделом. Жалоба о "Варфоломеевской ночи" 1 еще не могла дойти до района. Неужели подошла долгожданная минута повышения Касперьюста? Бертул сердечно заглянул инспектору в глаза, но тот поднял обе руки, будто он опять дирижировал духовым оркестром, и пошел в атаку на Бертула: — Товарищ Сунеп! Вы занимаетесь… клеветой. По-другому это не сформулируешь. За последние недели в отдел культуры" и в редакцию газеты поступило одиннадцать писем! И во всех письмах товарища Касперьюста, как бы это сформулировать… бесчеловечно восхваляют. За внедрение новых традиций, за песенные поздравления именинника в день его рождения, за экспериментальные вечера отдыха, за биологические занятия, то есть систематизацию собачьих голосов, за создание галереи художественных портретов передовиков и так далее и тому подобное. Это настораживало, потому что подобных прецедентов в культурной жизни республики нет и не было. И во всех письмах примерно один вывод: "Тов. Касперьюст способен занять более ответственный пост, даже стать заведующим отделом культуры, ибо он подготовил достойную себе замену". Проделав графологический и текстологический анализ, мы пришли к заключению, что эти восхваляющие письма дутого характера с клеветнической целью писали вы! Касперьюст вскочил с директорского кресла: — Как-то так… исключительно — он хотел меня выжить, чтобы меня перевели на высокое место, а у меня здесь дом и сад! — И цветная капуста, как ни у кого… — вздохнул Бертул. Попался, да из-за чего? Перестарался! Редкостное несчастье. — В письме в качестве положительного примера вы привели также и осуждение, вернее, оправдание товарищеским судом бирзгальского крупнейшего мелкого вора Магкуса Шепского. Товарищ Сунеп, вы щуку в назидание потомству выпустили в воду. — О вашем определении "крупнейший мелкий вор", высказанном в присутствии свидетелей, я любезно извещу товарища Шепского. Его юрисконсульт, возможно, посоветует ему возбудить дело о лишении чести человека, — заметил Бертул. — Я… мне так пояснил товарищ Касперьюст, — растерялся инспектор. — Я… как-то так… исключительно, все бабы говорят, — пробормотал Касперьюст. Сдаваться совсем без борьбы было бы не по-мужски. Бертул вынул из роскошного опоясанного ремнями портфеля, о каком Касперьюст и мечтать не мог, папку, достойную министра иностранных дел. — Ладно, надеюсь, что Шепский воздержится от подачи заявления в суд. У меня тут планы… Когда участники самодеятельности вернутся с жатвы… танцевальный кружок для среднего поколения, курсы сексологии, день первой зарплаты, когда под наблюдением старших молодые не напиваются… И я хотел бы организовать Народный театр. Тогда Бирзгале будет походить по крайней мере на Алуксне и Смилтене, у которых такие театры уже имеются. — Товарищ Сунеп незаконно устроил "огни сюрприза" без продажи билетов. Куда подевалась выручка? Этими огнями он показывал публично, как пьяницы за деревом… Мне стыдно даже рассказывать. — Касперьюст опять выпрямился, опершись руками о поручни кресла. Бертул понял, что дело проиграно. — Возможно, что в чем-то я ошибался… — вздохнув, он закрыл папку. Жаль папки, она заслуживала более высокого поста. — Вашей ошибкой была клевета! — сипел Касперьюст. — Давняя, довольно обычная ошибка, — согласился инспектор. — Допустим… Оригинальные ошибки в наше время редкость, — философствовал Бертул. Впервые заговорил Бока: — Мне про товарища Сунепа дурного слова говорить не хочется, особенно если вспомнить, что сказал якобы сам Сократ: я не понимаю, почему человек, зная, что такое хорошо, делает то, что плохо… Раз уж Сократ не понимал, разве мы вправе… требовать этого от товарища Сунепа? Но Бертул уже решил отступить с честью: — Обдумав все, я подаю заявление об уходе, то есть ухожу по собственному желанию, потому что у меня нет доверия к директору Касперьюсту. В трудовом законодательстве есть такой пункт. Касперьюст опять усиленно глотал воздух: — Как-то так… исключительно… Я первым хотел сказать, что у меня нет доверия к вам! Я должен был… говорить первым, потому что я директор! Бертул встал и взял роскошный портфель: — Вы всегда хотели сказать то, что другие уже сказали. — И выкинул последний, джентльменский козырь: — В газете за свой счет помещу объявление, что Бирзгальский дом культуры ищет нового художественного руководителя. И в этом объявлении не будет сказано, что директором является товарищ Касперьюст. Прощайте! Бросив унылый взгляд на несписанный национальный костюм, висевший на стене, и на непроданные гитары в витрине, Бертул вышел. Там оставались замороженные средства, столь необходимые для благосостояния общего народного хозяйства… Проходя через пустой зал, он еще подумал, что зря раскупорил высокие окна и на чердаке открыл вентиляцию. Экономя тепло, Касперьюст опять все законопатит, способствуя распространению микробов туберкулеза. Когда Бертул раскрывал тяжелую дубовую дверь с сохранившейся медной ручкой, его догнал Бока: — Что же это вы — не подали мне руки? Мы же остаемся здесь и будем жить… дружно. Я всегда был на стороне павших львов, и жизнь учит, что большинство из них снова встают на ноги… — И они обменялись сердечным рукопожатием. У киоска, попивая вторую бутылку пива, Бертул написал письмо, адресованное Зислакам. А теперь куда? Совесть должника повела его в "Белую лилию". Анни, занятая беседой с продавщицей из магазина культтоваров, делала вид, будто не замечает его. Продавщица подала Анни продолговатый, круглый сверток. Туалетная бумага. Редкость. Дефицит. За это Анни в случае необходимости оставит для продавщицы свежие булочки. Теперь Анни взглянула на него. — Вы сегодня хорошо выглядите. Наверное, хорошо выспались? И на работе все в порядке. Говорят, что два дня вы очень тяжело работали. Значит, она уже все знала. А что ж тут необычного? В маленьком городке всегда знают даже то, что еще и не произошло. — Чистая совесть — крипкий сон. Могу ли навестить вас? Мне надо вам что-то передать. На лице Анни появилась озабоченность. Неужели Бертул наскреб деньги, хотя Зислак и надул его? Как грустно… без должников! — Конечно, конечно. Буду ждать! — Она болезненно улыбнулась.
Когда проснулись воробьи, Нарбут проводил Азанду домой с сеновала в свикенском сарайчике и еще спал в подвальных апартаментах дома культуры. Разбудил его торжественный стук в его скромную дверь. — Дверь открыта! — рявкнул художник. Твердым шагом вошел Касперьюст и еще один гражданин в костюме — инспектор отдела культуры. Оба остановились как вкопанные, потому что в комнате находилась голая женщина: опустившись на колени, с ненакрашенными глазами и губами, счастливо и печально улыбаясь глядела на них Азанда… Алая, прозрачная цвета маков шаль, накинутая на волосы, спадала с плеча, охватывая талию, и, как ручей, стекала вниз на разостланный темно-красный плюш, на котором сидела девушка. Стан ее отражал солнце, а над ней склонялся куст сирени… — Теперь вы видите… как он тут живет! — сипел Касперьюст. — Такую можно держать только на частной квартире, а у меня официальное помещение. Кричащий беспорядок! На самом деле в комнате было довольно прибрано. На изрезанном, пятнистом столе находилась молочная бутылка, на подоконнике стояли накрытые бумагой консервные банки и краюха хлеба. Даже плита была чистой. Инспектор рассматривал оклеенные винными этикетками стены: — Половину из этих марок я и не пробовал… — Итак, в присутствии свидетелей я вам отказываю в жилплощади, то есть тут вы не имеете права жить. Нарбут закурил,кашлянул, обнял накрытые одеялом колени и стал тоненько смеяться: — А я уж подумал, что вы принесли мне премию за хорошую работу… Будьте спокойны, сегодня вечером отчаливаю. По собственному желанию. Пожалуйста, не заслоняйте солнце, я встаю и — имейте в виду — я голый. Раз уж вы испугались голой девушки, то от моей наготы вас может хватить паралич. Касперьюст вышел огорченный, что не удалось никого уволить. Стоит ли после этого работать директором? Нарбут встал, прибил к раме большой картины куски пробок от винных бутылок, в которых, слава богу, недостатка не было, настлал на них лист картона, все тщательно упаковал и отнес на квартиру Боки. В Риге он договорится насчет машины с другими художниками и отвезет "Азанду", охраняемую и воспетую, как Мону Лизу. Может, это и была его Мона Лиза.
Азанда задвинула стеклянное окошечко киоска вывеской с надписью "Санитарный день". Затем они вместе с Нарбутом, босые, двинулись вдоль берега реки вон из города. — Ты уезжаешь… — Я уезжаю… — Я остаюсь… — Ты остаешься… — ответил Нарбут. Их глаза были так близко, что любая ложь была бы видна. — Зимой пойду продавщицей в галантерейный отдел. Третьего января мне будет уже двадцать лет… — Глаза Азанды наполнились слезами. — Там меня, может быть, быстрее заметит какой-нибудь принц… Нарбут молчал и пальцем вытер слезы с уголков ее глаз. Азанда, возможно, ждала, чтобы он сказал: "Я и есть тот принц!" Но ему было на тринадцать лет больше, лицо его походило скорее на Кенциса с иллюстраций Бренцена, чем на журнального принца, к тому же была у него и разведенная жена, которая когда-то сказала ему: "Пиши большие картины, и денег получишь больше!" Азанда не сомневаясь доверила ему все, даже свою наготу, и он не мог ей лгать. — Я зимой приеду и куплю у тебя белую-белую рубашку.. — Ты… Ты знаешь меня… и не высмеивай меня… — Азанда прижалась своей щекой к его щеке. И обе щеки сделались мокрыми. — Милый белый зайчик… — Нарбут, вздохнув, бережно целовал девушку. Всю. В сумерках Нарбут отправился на последний рижский автобус. Через плечо на ремне — ящик с красками, в руке угловатый узел с летними работами. Азанда несла его ручную сумку. Багаж шофер поместил в брюхо "Икаруса". Картины Нарбут положил на сиденье и вышел проститься. Они зашли за автобусную будку Азанда накинула на волосы длинную прозрачную макового цвета шаль, как тогда во дворе Свикене под сиреневым кустом, когда, голая, с печальной улыбкой, предвидя скорое расставание, послушно опустилась на колени на красную бархатную скатерть Свикене и долго смотрела на Нарбута. Целых три дня, пока он как одержимый размахивал рукой в воздухе, бегал три шага вперед и назад и с кистью, как с рапирой, нападал на холст. Азанда опустила глаза. — Дарлинг, возьми от меня на память. Только, пожалуйста, прошу тебя, не смейся… — И положила что-то ему в карман. — Я буду плакать, — отшучивался Нарбут. — Не плачь, раз я не плачу… Помня о тебе, я боль-ше никому никогда не скажу — "дарлинг". Если нужно будет… то скажу другое слово, а последнее "Дарлинг"… тебе. И прошу тебя, очень прошу, не продавай меня, ту картину не продавай никому. Если тебе очень понадобятся деньги, напиши, но не продавай. — И музею тоже нет? — Разве что музею… если купят. Но лучше все же не надо, потому что говорят, будто они хранят картины в подвалах.. — И выставляют только после смерти, на выставке в память… Ты права: в подвалах музеев упрятано много славных девушек. — Посадка! — окликнул их шофер. У автобуса Азанда еще раз поцеловала Нарбута в щеку, хотя знала, что завтра об этом будет говорить весь город. — Чао! — сказала она. — Чао, белый зайчик… Окно автобуса по дороге сюда было забрызгано дождем, и каждый из них помахал рукой, слабо видя друг друга. — Как сквозь время… — вздохнул Нарбут и вытащил из кармана жетон "Jamaic Aeres" с надписью "Вы можете получить от меня почти все", который положила туда Азанда. И Донат Нарбут стал думать, что на свете, может быть, все же существует любовь. Хотя бы до тех пор, пока свеча горит, и все же в тот миг — настоящая.
Пока Бертул в доме культуры подписывал акт капитуляции на бумаге, агент его художественного салона Алнис Мелкаис свою капитуляцию осуществлял ножницами и бритвой. Он схватил левой рукой бороду, которая, перепутавшись как в ручье струи воды, лилась со щек на грудь, и — стриг правой… Через полчаса эта жатва была завершена. Нельзя сказать, что он благодаря этому стал моложе, но зато определенно сделался мрачнее. Покрытые бородой впадины на лице теперь выглядели как болезненно белые пятна: Скорее на солнце! Мать Скродерена звала кур. Алнис поздоровался. С кислым выражением на лице она лишь кивнула головой и протянула руку с письмом. Даже не удивилась, что у Алниса нет бороды. Наверное, думает, что повыдергали в драке. Отказ в жилье? По заслугам, нечего и спорить. — Знаю… виноват… Завтра уеду. Мать Скродерена не ответила ни слова. Алнис разглядывал конверт. Почерк матери! Так-то и так. Отец, мол, вообще-то не против волос и бороды, только против крайностей… У отца завтра день рождения. Алнис понимал, что старому Мелкаису жилось не сладко, если жена за завтраком и за ужином, наливая кофе, жужжала в ухо: "Так вот со своей старомодностью ты и сына прогнал… Сейчас же попроси прощения!" А что теперь? Бертул, конечно, будет делиться с ним последней горбушкой хлеба, но скоро и той не будет. После обеда Бертул вернулся, слегка попахивая пивом, и прилег на тахту. Алнис присел рядом с ним. Комнаты после вчерашнего ночного шквала опять были чистыми, и дорожка из конских попон уютно соединяла оба помещения. — Не надо было вчера впускать учительницу по истории и этого коновала, — начал Алнис. — В следующий раз, лет через десять, обязательно не пустим, — согласился Бертул. — Самое обидное то, что я тебя обманул, — ни шиша не заработали. — Да не ТЫ, крестный, виноват: Зислаки нас крепко околпачили. Сегодня вечером еду домой. У отца завтра день рождения. Бертул присел и вытащил шикарный, достойный более зажиточного человека кошелек: — У меня еще есть… выдали остаток зарплаты… и остатки после вчерашнего кутежа. Пятьдесят шесть. Возьми двадцать восемь. — Мне же… только на дорогу. В Риге мне обещано место в реставраторах гипсовых амурчиков. — Бери, когда дают! Бедному легко быть честным. Было бы у меня пять сотен, я дал бы только пятерку. Пиво помогло Бертулу преодолеть тяжелые переживания, и он вскоре погрузился в привычный со времен туберкулеза послеобеденный сон. В полусне он вспомнил слова Хемингуэя: "Во сне он видел львов…" Алнис потихонечку сложил манатки в старомодный кожаный чемодан, надел котелок и на цыпочках вышел. Киоскерша заметила, что у него сегодня не хватает бороды. Наверное, правда, что ночью над Скродеренами дрались, пока не явился Липлант и всех дубинкой не выгнал в окно. Алнис дошел до знакомой копны на обочине дороги. Там его ждала Инта. На сей раз они спрятались за копной. Инта сияла от гордости — Алнис послушался ее, сбрил бороду! Ах, прекрасное чувство женской власти, начало и конец любви… — Сядь, теперь я могу прильнуть к тебе щекой… Они сели, и спины шурша погрузились в сено. — Знаешь, я тебя не буду звать по имени, а по фамилии, потому что твоя фамилия звучит как-то так… исключительно, как говаривал Касперьюст. Зилите! — Знаешь, когда ты первый раз приехал в Пентес и в пруду мыл цыплят, я сразу поняла… что ты не такой, как другие… — Да, другие цыплят не моют, — согласился Алнис. — Но если… меня забреют в армию и волосы тоже снимут? Тогда я уже не мог бы показываться тебе на глаза. — Мне? Мне ты можешь показываться… всегда. Алнис прикоснулся губами к ее волосам, затем взглянул на часы: — Эх, черт, сейчас подойдет автобус… Теперь надо бы поцеловаться — но вдруг кроха скажет, что в людном месте нельзя? Зилите сама взяла в руки его голову и пригнула пониже. Так… Закончив прощание, они побежали обратно на дорогу, где на столбике висела большая буква "А". Алнис вынул из рюкзака подаренный Интой лоскут потрепанного одеяла и гордым жестом мексиканца перекинул его через плечо, как пончо, в которое были вплетены цвета ромашек, еловой хвои и ржаного поля. С ревом остановился красный "Икарус". Садясь в автобус, Алнис прощался, поднимая черный котелок, как банковский служащий в лондонском Сити. Инта на это рассмеялась и хлопнула в ладошки. — Я на вашем месте поехал бы в Ригу на рессорной коляске, она очень подошла бы к котелку и к чемодану, — раздался знакомый голос. Нарбут. — Лошадь прошлой ночью ногу сломала… — вздохнул Алнис. Дома его встретил отец, слабо скрывая радость от того, что сын, потеряв бороду, приобрел ум. До чего же правящее поколение упрощает педагогику, психологию и жизнь 1973 года…
Когда часовых дел мастер и исследователь собачьего языка Мараускис возвращался домой с работы, при его приближении все собаки сразу умолкали. Неужто от него пахло волком или тигром, от которых собаки якобы удирают, поджав хвосты? Вдруг за одним забором он расслышал приглушенный голос: — Цыц, Зузе. Цыц! Сейчас же в будку! Идет Мараускис, ты еще проболтаешься… На, возьми колбасу! Значит, его исследования собачьего языка вызвали совершенно непредвиденные результаты: бирзгальцы боялись, как бы собаки, знающие так много о личной жизни каждого и каждой, не вылаяли домашние секреты.
Вечером Зислаки красили бетонные столбики забора. Зислаки следовали широко распространенной привычке: красить по возможности все и каждый год. Почтальон, проезжая на велосипеде, кинул им письмо. Почтовый штамп бирзгальский. Странно: у кого это были столь веские причины, чтобы тратить четыре копейки на почтовую марку, если есть возможность все сказать с глазу на глаз? "Настоящим довожу до вашего сведения, что слухи о туберкулезе художника Доната Нарбута не соответствуют истине. Ни в одном диспансере на учете он не состоит. Кашель был инсценирован специально для Вас, чтобы облегчить Вам приобретение ценных произведений искусства. Истинно оценивающий Вас, Б. Сунеп". — Какие люди пошли… играют даже на любви к искусству другого человека! — Зислака устало села на край кровати. — Семьдесят пять рублей бросили на ветер… — И врачи эти тоже хороши: участвуют даже в аферах! Наверняка Нарбут заплатил ей. Может быть, даже третью часть отдал, — Зислак скрежетал зубами. — Может быть, Симсоне на мои кровные двадцать пять рублей уже купила новые туфли. И жалобу нельзя написать.. — Ничего, все равно когда-нибудь этот Нарбут умрет! — радостно воскликнула сама хозяйка. — И тогда эти картинки, назло мошенникам, будут стоить денег! — Он моложе нас. Бог знает, дождемся ли… — вздохнул Зислак. — Вот если бы он начал сильно кутить или… нарвался бы в Риге на сифилис… Значит, шансы на повышение цен на картины Нарбута еще не были потеряны. Согласно "Новой книге о браке", это были те наиприятнейшие мысли, которые предваряли их предстоящую ночь.
Бинниям на следующее утро было плохо. Не помогали даже превосходнейшие шедевры по девятнадцатой волне из Лондона. Возле спального места на веранде неприятно пахли кильки, которые Байба, практикуясь в домоводстве, удирая в окно, прихватила с собой. Не мешало бы закусить, но не было хлеба. Неожиданно Байба умылась и добровольно взялась на оставшиеся пятьдесят шесть копеек купить провиант. Броня во дворе голый на солнышке с распятием на шее, разлегшись на матрасе, ждал Байбу с закусками. В городе Байба сперва свернула в поликлинику к врачу Симсоне. Из кабинета Симсоне она вышла сгорбленная, растрепанная, с отвалившейся нижней губой, как после промывания желудка. Даже веснушки на носу умножились за эти два десятка минут. Блеклыми глазами она поглядела на плакаты, на которых была показана поднятая попка младенца и материнские руки, которые правильными приемами пеленали малыша. От этой картины Байбе снова стало плохо, и она юркнула в туалет. — Дай хлеба! Тут еще есть кильки. — Броня повернулся на бок, когда Байба вошла во двор. Байба молча выгрузила кирпичик хлеба и пачку маргарина. Первый раз в жизни на хлебе маргарин… — Машинное масло, — шевеля бородкой, бормотал Броня. — За рубежом больше едят маргарин, — слабо возразила Байба, вылила рассол килек на хлеб, с аппетитом съела, затем легла на матрас. Броня надел туфлю на платформе, встал и ударом футболиста запустил пустую банку из-под килек в сирень, затем, израсходовав силу, упал рядом с Байбой и стал теребить ее бикини. Но Байба присела, подтянула коленки к подбородку и стала всхлипывать: — Мне Симсоне сказала… что у меня будет… Броня, разинув рот, глупо уставился на нее, как некстати вызванный к доске школьник, затем отскочил от матраса и спрятался в сирени. — Не может быть… — прошептал испуганно он. — Симсоне сказала, что есть… — хныкала Байба. — Теперь мы должны побыстрее пожениться, тогда мама будет нянчить ребенка… Слово "жениться" совершенно потрясло Броню. Кое-как они прикончили маргарин, хлеб и початую бутылку вина. Затем, немножко успокоившись, решили использовать каждый солнечный день до приезда Свикене, чтобы загорать и плавать. На том берегу под спасательной станцией, подобно буддистам, сидели оба матроса, закрыв глаза, обратив лица к солнцу, испытывая гармонию между полным желудком и праздностью. — Они должны мне рубль за то, что я тонул! — вспомнил Броня. Это были бы хлеб и маргарин на два дня. — Я возьму… возьму ленты и тогда побредем на ту сторону! Байба прилегла на травку, а Броня быстрее, чем обычно, помчался обратно на веранду. Подергивая бородку, он бегал из веранды в комнату, на кухню, где повсюду как-то нехорошо пахло. И противной кошкой, и гниющим творогом, может быть, и старым сыром… Что делают за границей в подобных случаях? Броня придумал. В рюкзак быстро покидал все, что принадлежало лично ему. В замызганные полотенца Свикене завернул магнитофон, транзистор и опустил в рюкзак, потому что в ближайшие часы руки должны быть свободными. Туфли на платформе — в мешок, в теннисках полегче ногам. И наконец снял со стены Мика Джеггера с волосатой, потной грудью, который свирепыми глазами видел все, что они делали на постели. За эту картину он уплатил десять рублей. И без оглядки мимо издерганного картофельного поля пустился наутек в город. За рубежом в таких случаях тоже отдают концы… За городим он, совершенно запыхавшись, оперся о бетонный дорожный столбик, который больно вонзался в тощее тело. В ответ на его поднятую руку остановилась первая же машина. Шофер вылез, разминая кости, обошел кругом машину, стукнул ногой по колесам, а заодно обошел кругом и Броню, который в поношенных теннисках и потрепанных штанах походил на бедного кругосветного путешественника. — В Ригу? Куришь? Это хорошо, а то спать хочется. Залезай! Когда Броня вскарабкался в кабину, он повернулся к Бирзгале и к Байбе задним местом, с которого с одной стороны щелкали зубы тигра, а на другой половине была нашита надпись "Kiss me" и красные губы под этим. — Ишь ты, новая мода — ордена носят на заднице, — одобрительно отозвался шофер. Общество не воспитывало их сексуально. Потому ответственность и последствия за это должно взять на себя общество. Таково было твердое убеждение Брони, равноценное чистой совести.
Уладив с Бокой все бумаги, опустив на почте письмо сыну с бирзгальским адресом, а также отправив ему последние двадцать рублей, Бертул не спеша, как настоящий безработный, через парк направился домой. У музея, в котором возникла губительная идея создания салона, он заметил двух полных женщин, которые гнали впереди себя тучного мужчину в сандалиях и в синей рубашке с короткими рукавами, на с соломенной шляпой на голове. Касперьюст, идя с женой и дочкой, толкал детскую коляску. Временами он прикладывал к животу ручку коляски, втягивал живот и затем резко выпячивал его. Коляска откатывалась на несколько шагов вперед, и малыш смеялся. Сильная диафрагма. Такая необходима певцам, а директору дома культуры она ни к чему. "Кати, волчок, со слезами, зачем съел лошадочку", — Бертулу пришли на ум правдивые слова народной песни. Сегодня ты чувствуешь себя приподнято, но радость пройдет, дома ты не директор, и эти две женщины будут заедать твою жизнь, мстя за меня. Как и договорились, в вечерних сумерках Скродерен отвез его на пикапе к Анни, потому что у Бертула с собой был большой узел и портфель. — Ты, Андрис, пожалуйста, не сердись на меня, — по дороге сказал Бертул. — И не думаю даже! — будто привлекая свидетеля, Андрис ухватился за повешенного на шее гимнаста. — Алнис был во парень! Нарбут тоже. В следующий раз… этих Бинниев больше не будет. — Тогда, может быть, и меня больше не будет;— вздохнул Бертул. — Почему? Предки успокоятся. Завтра опять будет молоко. Не надо бежать… — От трудностей, не так ли? — Бертул развел усики в грустной улыбке. — Я уж не бегу, а иду сейчас навстречу им… В желтом пиджаке, в нейлоновой рубашке пепельного цвета с бабочкой под подбородком — в общем, молодец. Только дешевые вытертые замшевые туфли характеризовали истинное душевное и материальное состояние Бертула. С узлом в одной руке, с портфелем в другой, Бертул постучался в белую парадную дверь, у которой по обе стороны цвели высокие далии. — Я уже опасалась, что вы передумали, — сердечно зазвучал глубокий голос Анни. Этим вечером она была такой же, какой Бертул увидел ее, когда въезжал в Бирзгале: в синей блузке с брошью у выреза, в бежевой юбке, с половиной левого глаза, прикрытой белокурой волной волос Мерилии Монро. — Разрешите… я вам все объясню. В комнате Бертул тут же засуетился. Поднял узел на стул. Развернул черствую, шуршащую бумагу. Открылся музыкальный ящик. Бертул поставил одну дырявую жестяную пластинку, завел и отпустил пружину. Послышались звуки мандолины, исполнялся "Marche du Prince Leopold de Dessau". — Марш Десавского принца Леопольда, — пояснил Бертул, то поглядывая на Анни, то уделяя поддельное внимание техническому состоянию аппарата. — В этом инструменте заморожены две сотни, и я прошу временно оставить его в качестве залога моих честных намерений вернуть вам деньги, как только переговоры с музеем консерватории будут закончены. Мне только необходимо добраться до Риги… Только до Риги? Красивая ложь вообще не заслуживает порицания. Лучше бумажные цветы возле щеки, чем колючая проволока из настоящего железа. Но если Бертул думает про Ригу… В таком большом городе могут пропасть и Бертул, и ее две сотни. — Не говорите про залог, верю и так. Вы же еще не успели поужинать? — Мой принцип — после шести часов ничего серьезного.. — А в гостях? — И Анни усадила Бертула рядом с принесенным им же музейным экспонатом. Пока Бертул разглядывал цветную фотографию с пальмами и белым кораблем в Черном море, круглый обеденный стол был накрыт не только льняной скатертью, появились и рюмочки, и тарелки, и салатницы, и, аппетитно благоухая, из кухни явился даже жареный бекон с яичницей. Коньячной бутылке было доверено художественно завершить этот натюрморт. Бертул открыл портфель, в котором еще утром хранились планы культурной жизни Бирзгале на зимний сезон 1973/74 года. Планы разбила жизнь, но бутылка вина в портфеле была цела. — Я чувствую… и запах кофе. Может быть, коньяк и кофе, а теперь… — Бертул выставил на стол бутылку с золотой головкой, которую покрывали роскошные этикетки. — Ого! Мозельское вино! "Liebfrauenmilch", атомарна! — воскликнула Анни. Пока они ужинали и пробовали вино, в комнате стемнело. Анни зажгла торшер у телевизора. Они пересели в удобные кресла, позволили Норе Бумбиере показать им свой новый брючный костюм и что-нибудь спеть. Поджаренные хлебцы с сыром были безбожно вкусными, крепкий кофе просил, чтобы его разбавили коньяком. Бертул чувствовал, что ему ужасно хочется говорить. Если он не уйдет сразу, то через свою словоохотливость попадет в беду. Но коньяк в бутылке еще не снизился и до этикетки. Если он уйдет, Анни от одиночества может выпить оставшееся и отравиться. — Знаете, Анни, моя жизнь… мы, по сути дела, еще жертвы войны. Может быть, последние… Картошка и хлеб для растущего юноши… Ослабленные легкие… Белокурые женщины были моей судьбой. После войны на Звиргздусалской толкучке торговало много белокурых женщин, потому что другой краски для волос в то время не было. У тех женщин были… разорены семьи, и поэтому они что-нибудь продавали. Я работал электриком. Электричества еще было мало, а свободного времени много, и я им помогал продавать и… — Бертул осекся, чуть не сказав: "Иногда им хотелось от грусти и одиночества выпить и помиловаться…" — И тогда я заболел послевоенным… то есть на самом деле у меня объявился туберкулез военного времени… Я потерял семь лет и два ребра… — Вы много пережили… Вам теперь нужна гораздо более спокойная жизнь. Касперьюст ужасно упрямый, вам будет трудно работать с ним. — Невозможно! Как только я что-нибудь придумаю новое, хотя бы экспериментальный вечер, так ему становится завидно и он вызывает инспекторов. Сегодня я подал заявление об уходе. Буду искать место в районе. — Настолько у Бертула еще хватило ума, чтобы мягко пригрозить. — Зачем в районе? У нас в райпотребсоюзе нужен руководитель клуба. Кружок танцев, кружок новуса, записать желающих съездить в" рижские театры, да и все! Ну, выпьем за новое место! С экрана через плечо на них бросил взгляд дирижер рижского эстрадного оркестра и, заметив поднятые рюмочки, начал быструю вещь. — Вам жарко. Снимите пиджак, чувствуйте себя как дома. — Анни взяла пиджак Бертула. — Я повешу на плечики… Мне тоже жарко… — Анни вышла и вернулась в домашнем халате, который украшали японские журавли. Настолько Бертул разбирался в женских туалетах, чтобы понимать, что под домашним халатом шубу не носят. — И в туфлях неудобно. Пожалуйста! — Анни положила перед ним тапки из оленьей шкуры. Бертул поменял обувь и только тут спохватился, что бежать в тапочках почти невозможно. — Я вам еще принес… так сказать, в качестве процентов. Прямо для дверей спальни! — Бертул вынул из портфеля дверную ручку с головкой ангела и примерил ее к дверям под портьерами. Анни же не узнает, что раньше этот ангел оберегал покойников пентесских баронов. — Подходит! — воскликнула Анни и открыла дверь. — Только с какой стороны: изнутри или снаружи? Бертул вошел и сразу почувствовал себя как в клеткк… Розовый свет от лампочки величиной с футбольный мяч лился в комнату. Широкая тахта, доступная с обеих сторон, с блестящим атласным покрывалом. — Так, я ручку… оставлю в залог, — пробормотал он и положил ее на туалетный столик. Ступни погрузились в бахромчатый, гарусный коврик. Ах, мечты, мечты: въезжая в Бирзгале, ему мерещилась на полу шкура леопарда… Анни плотно придвинулась к нему, и Бертул почувствовал пьянящий запах духов. Духами можно наполнить целую кружку — и ничего, но, если только капля их упадет на женскую грудь или за мочку уха, ты теряешь сознание… Анни нежно оперлась о его грудь. Бертул упирался на свою хилую ногу, но не мог удержать ее. Оба упали на атласное покрывало. Бертул оказался внизу. Прощай, Азанда, я больше, не буду покупать мороженое.. Анни оперлась на ладони, изогнулась в талии, как питон, осматривая задушенную жертву перед тем, как ее проглотить. Фиолетовый наряд приоткрылся, и над павшим Бертулом угрожающе поднялись две круглые, крепкие груди. Даже в горькую минуту Бертул не терял образованности. В каком-то журнале он читал, что в древние времена на носу деревянных кораблей тоже была такая вот фигура — полуженщина, груди которой рассекали волны и ураганы. Как ее звали?.. Галеон! — Галеон… — пробормотал Бертул и после короткой борьбы сдался. Кто знает, может быть, вечное подчинение судьбе и было задачей его жизни?.. Лежа рядом с Анни под атласным одеялом, он глядел, как за окном занимался новый трудовой день. Возможно, что ему, хотя он и старый туберкулезник, предназначена долгая жизнь: лев в клетке живет дольше, потому что в джунглях-то никто не готовит для беззубых котлет из молотого мяса.
Рассказы

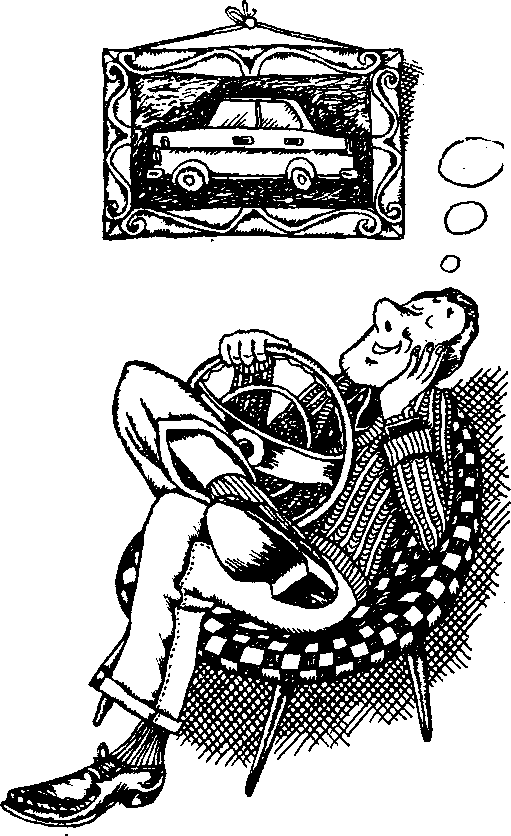
Врезали (Криминальный рассказ)
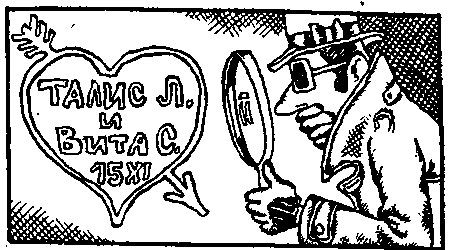 Истинной причиной этого происшествия были плохо сшитые женские платья, у которых обычно подол оказывался сзади на три сантиметра короче: в комбинате бытовых услуг шили долго и неумело, так как знали: клиентура никуда не денется, другой мастерской в городе нет. Платья приходилось перешивать. Чтобы обойтись без услуг комбината, дом культуры организовал курсы кройки и шитья. Курсы окончило сорок семь женщин. Потом они шили себе, родственникам и знакомым. Комбинат больше не шил, а выявлял незарегистрированных швей. Некоторым пришлось при посредничестве фининспектора Талиса Лукьяниса взять патенты. В результате чего… Но это обстоятельство, между прочим, выяснилось только в конце, как и положено во всяком криминальном деле.
Городская милиция получила следующее письмо: "В прошлую пятницу, 15 ноября, фининспектор райфо Талис Лукьянис посетил село Ресгали и вместе с посторонней женщиной шел через реку Дзирнупе. Движимый хулиганскими и романтическими мотивами, он ножом повредил мост. Прошу это дело расследовать, упомянутого гражданина Лукьяниса наказать за хулиганство, а его моральный облик разобрать на общем собрании всего производственного управления. Граж. Н."
— Анонимка, — сказал начальник милиции, — в общем-то можно бы ею растопить печь, но у нас центральное отопление. Ножом мост не перережешь. Чепуха какая-то. Хотя, — сообразил он, — это может пригодиться дружинникам, пусть займутся, поучатся.
Таким образом дело попало в штаб дружины по охране общественного порядка и начало свое неудержимое движение. Прежде всего один дружинник съездил километров за десять в село Ресгали и обследовал перила моста.
Действительно, был обнаружен свежий, еще желтый вырез: "Талис Л. и Вита С. 15.XI". Надпись сфотографировали, чтобы в случае наводнения, пожара или другого стихийного бедствия даже после разрушения моста оставалось бы неоспоримое доказательство преступления.
Затем общественный следователь Дирбис, по профессии учитель чистописания, сделал первую экспертизу и в заключении записал: "Обследуя края зарубки через увеличительное стекло, установил, что резали острым, твердым, предметом, возможно перочинным ножом. Графическое исполнение букв свидетельствует об интеллигентности человека. Это же подтверждают и познания его в грамматике, ибо слово Талис написано со знаком долготы над буквой "а". Вся надпись вырезана одной и той же рукой, ибо буква "и" в обоих словах совершенно идентична".
Потом Дирбис посетил финансовый отдел и осведомился, был ли Талис Лукьянис 15 ноября в Ресгалях.
— Был, по делам, — ответил Лукьянис, молодой светловолосый человек. Он говорил тихо и вежливо, и Дирбис пока не обнаружил в нем ничего криминального. "Именно то, что он старается выглядеть спокойным, вызывает подозрение. Почему он так аккуратно побрился? Почему галстук завязал безупречно? Так называемым узлом Эйзенхауэра… Ведь он же женат!" Тут Дирбис как бы мимоходом спросил:
— С моста через Дзирнупе красивый вид, не так ли?
— Я не обратил внимания, мостом пользуюсь только для сообщения.
— Значит, вы пятнадцатого ноября находились на мосту?
— Не находился, а шел по мосту.
Покамест все в порядке. На мосту был, сам признался. Дирбис обрадовался и надел темные очки, чтобы Лукьяпис не заметил радости на лице следователи.
— У вас в тот день был с собой и нож?
— Был. Каждый мужчина, даже непьющий, носит с собой нож. Странно, что вы об этом спрашиваете?
Дирбис решил, что доказательств достаточно и Лукьянису остается только признаться.
— В милицию поступили сведения, что вы пятнадцатого ноября на перилах Ресгальского моста вырезали эту надпись. Советую признаться, тогда этот проступок, возможно, будет рассматриваться только на товарищеском суде, а может быть, его и вовсе не будут рассматривать, — и Дирбис показал снимок перил моста.
Лукьянис посмотрел на снимок, покраснел и сказал еще более тихим голосом:
— Я к этому не имею никакого отношения.
Дирбис, не теряя терпения, расставил ловушки.
— Ну, а если Вита С. уже сказала, что вы это сделали в ее присутствии?
Теперь Лукьянис зарделся, как индюшачий гребешок, и уже прошептал:
— Не может она этого сказать…
— Ну, не скажите, женщины иногда бывают болтливы.
— Нет и еще раз нет! Потому что такой Виты С. вовсе не существует. А если она есть, то я ее не знаю, не знал и не буду знать, к тому же я женат.
— Вот в том-то и дело, что этот относительно пустяковый проступок приобретает более серьезное моральное значение и становится глубже и весомее, — сказал Дирбис. — Для того чтобы он не приобрел излишне шумный общественный резонанс, я советую вам признаться, тогда мы сможем дело прекратить.
— Вам вовсе не надо было его начинать. Я не могу признаться, так как я ничего не вырезал и никакой Виты С. или Виты А., Б., В., Г., Д. не знаю.
Дирбиса не убедило это упорное отрицание вины, ибо доказательств обратного было слишком много. Был на мосту, дата, нож — все совпадало.
Днем позже он просмотрел все послевоенные записи районного паспортного стола и нашел двух Вит. Хотя и была одна из них незамужней, они вряд ли могли быть с Лукьянисом — первой было семь, а второй шестьдесят семь лет. Значит, Вита С. приезжая. Дирбис внес предложение, чтобы республиканские дружины, по охране общественного порядка начали регистрацию всех проживающих в Латвии Вит, но начальник милиции сказал, что овчинка выделки не стоит.
Дирбис не мог допустить, чтобы самый первый проступок, который ему поручили расследовать, остался бы нераскрытым и недоказанным. В таком случае и собрание сотрудников финансового отдела было бы невозможно созвать и выступить с задуманной речью "Дружины охраны общественного порядка в борьбе за прочность семьи".
Дирбис во время одной встречи с нарушителем, записывая что-то в свой блокнот, сломал карандаш. Это был заранее продуманный ход.
— Не одолжите ли вы мне свой нож карандаш очинить?
— Я на той неделе ходил по грибы и обронил нож, — ответил Талис Лукьянис.
— По грибы? Даже свинухи уже не растут, — заметил Дирбис.
— Значит, просто потерял где-то.
Если бы Дирбис очинил тем ножом карандаш, на карандаше остались бы следы ножа. Судебная экспертиза легко доказала бы тогда, что преступление на перилах моста совершено тем же орудием. Значит, опасаясь разоблачения, Лукьянис нож спрятал. Жаль.
"У дружинников тысяча помощников — все общество", — вспомнил Дирбис ходячее изречение. Он обратился к наиболее близкой Лукьянису части общества — к его жене.
Черноволосая Вероника помешивала большой ложкой манную кашу, когда прибыл Дирбис.
— Забудьте на мгновение о симпатиях к своему мужу и, выполняя гражданский долг перед обществом, помогите органам следствия установить истину, — начал он, показывая снимок перил моста, потом пересказал уже известные нам факты и спросил, не знает ли она что-нибудь о Вите С.
— Мне ничего не известно, но я узнаю все и даже кое-что побольше, — Вероника помахала большой деревянной ложкой так энергично, что Дирбис испугался — не создал ли он ситуацию, чреватую новым преступлением.
— Я ему покажу, как шататься с бабами! Теперь я припоминаю. В ту пятницу вечером он вернулся поздно, сказал, что на работе устал, не ужинал, и тут же уснул. Перетрудился, бедняжка!
Вероника очень любила правду, кроме того, она от бабушки-католички унаследовала упорство. Когда в тот вечер Талис Лукьянис подсел к манной каше, Вероника тут же отодвинула в сторону его тарелку.
— Сначала расскажи, что это за Вита, с которой ты пятнадцатого ноября любезничал на мосту?
— Этот сумасшедший и тебе задурил голову. Никакой Виты я не знаю и ничего не вырезал.
— Докажи!
— В советском праве записано нечто обратное: если и совершено преступление, то надо доказать, что я виновен, а я не обязан доказывать свою невиновность. Дай поесть!
— Семейные права мне важнее всех прочих. Бесстыдник, тебе нет еще и тридцати лет, а ты уже шляешься по округе, как собака! Расскажи все! Мы не можем жить во лжи.
— Я ж тебе говорю, что мне нечего рассказывать!
— Тогда ты эту ночь будешь спать на кухне, — и жена тут же захлопнула за собой дверь в комнату.
Лукьянис тоже любил правду и только ради того, чтобы наступил мир в семье, не хотел выдумывать. Лежа на кухне, он сквозь сон будто слышал, как что-то капает. Поначалу он думал, что из крана в раковину капает вода, однако, окончательно проснувшись, понял, что в комнате плачет Вероника и слезы капают на пол.
— Вероника, милая, пусти меня!.. — стучался он в дверь.
Дверь открылась. Его обняли теплые руки, лицо накрыли тяжелые черные волосы, темные как ночь, и ласковый голос страстно шептал:
— Расскажи и тогда оставайся со мной…
Лукьянис оцепенел. Чувство справедливости было сильнее жалости.
— Но мне нечего рассказывать!
— Тогда уходи. Пусть тебя крысы едят! — воскликнула Вероника и вытолкнула полуголого мужа обратно на кухню.
Лукьянис до самого утра, лежа на составленных стульях и глядя на связки лука, думал, что любовь, и ненависть очень схожие чувства. Может быть, любовь — это ненависть… Может быть, ненависть — это любовь…
Брак Лукьяниса на пятом году своего существования грозил рухнуть. Дирбис, прячась за темными очками, добыл доказательства, что Талис Лукьянис виновен. Вероника требовала доказательств, что Талис невиновен. Обоим недоставало только одного: признания самого Лукьяниса. А тот упрямо упорствовал в этом. Жена в борьбе за правду — вовлекла еще одну важную часть общества — трехлетнего сынишку Лукьяниса, которого она научила спрашивать: "Папа, кто такая Вита?"
Лукьянис оставался голодным, потому что, когда сынишка за столом спрашивал про Виту, отец вставал и уходил. И все же не отдал он Дирбису перочинный нож и жене не признался.
Когда ночи стали прохладнее, Талис, ночуя на кухне, был вынужден всю ночь топить плиту. Наверное, и жене одной тоже было не тепло, и она предложила компромисс:
— Ты меня обманул. Мне стыдно перед людьми. Настоящей совместной жизни у нас быть уже не может, но, если бы мы переехали в какой-нибудь другой город, может быть, мы еще смогли хотя бы на время пожить вместе, пока не подрастет мальчишка.
Изнуренный от недосыпания и недоедания, бледный Лукьянис согласился. От нервного перенапряжения белые как лен волосы его начали выпадать, еще не успев поседеть, а лоб становился вдвое обширнее, хотя ничего путного владелец этакого лба придумать не мог. Соседи все были на стороне жены, так как стоял-то на мосту Лукьянис, а не жена его. Некоторые организации даже послали экскурсии, чтобы осмотреть перила моста. Засняли, изготовили диапозитивы и показывали их на лекциях о моральном облике.
В тот день, когда Лукьянис писал заявление с просьбой о переводе его в другой район, почтальон принес письмо, судя по штампу, опущенное здесь же в городе.
В письме было написано: "Ну, схлопотал мину замедленного действия? Надпись на перилах вырезали мы в память о налогах, которыми нас обложили по вашей милости. Если еще раз сунетесь, мы добьемся, чтобы вас признали морально разложившимся, и тогда жена окончательно уйдет от вас. Сделать это не так уж трудно. X, У, Z".
Лукьянис долго сидел молча, думал. Все ясно: это было делом женских рук, одна женщина прекрасно знает повадки другой женщины. Должно быть, кто-то из тех швей с курсов кройки и шитья из дома культуры, которых обложили налогом.
Лукьянис показал письмо Веронике и рассказал всю историю с налогами. Она обрадовалась спасенному брачному союзу даже больше самого Лукьяниса.
Вечером они растопили плиту тем заявлением, в котором Лукьянис просил перевести его на такой участок, где нет реки, нет мостов и не проживает ни одной женщины по имени Вита. На огне Вероника испекла оладьи.
— Как хорошо, что ты снова стал порядочным человеком! — вечером теплыми руками она обняла мужа и накрыла его лицо волосами, темными как ночь.
"Я никогда и не был непорядочным", — хотел возразить Лукьянис, но, подумав, решил о случившемся лучше больше не упоминать. Все хорошо, что хорошо кончается. А если начнет он много рассуждать да еще радоваться, жена может подумать: не сам ли он написал это письмо? И тогда доказать обратное не смог бы ни он, ни общественный следователь Дирбис, надев даже самые темные очки.
Истинной причиной этого происшествия были плохо сшитые женские платья, у которых обычно подол оказывался сзади на три сантиметра короче: в комбинате бытовых услуг шили долго и неумело, так как знали: клиентура никуда не денется, другой мастерской в городе нет. Платья приходилось перешивать. Чтобы обойтись без услуг комбината, дом культуры организовал курсы кройки и шитья. Курсы окончило сорок семь женщин. Потом они шили себе, родственникам и знакомым. Комбинат больше не шил, а выявлял незарегистрированных швей. Некоторым пришлось при посредничестве фининспектора Талиса Лукьяниса взять патенты. В результате чего… Но это обстоятельство, между прочим, выяснилось только в конце, как и положено во всяком криминальном деле.
Городская милиция получила следующее письмо: "В прошлую пятницу, 15 ноября, фининспектор райфо Талис Лукьянис посетил село Ресгали и вместе с посторонней женщиной шел через реку Дзирнупе. Движимый хулиганскими и романтическими мотивами, он ножом повредил мост. Прошу это дело расследовать, упомянутого гражданина Лукьяниса наказать за хулиганство, а его моральный облик разобрать на общем собрании всего производственного управления. Граж. Н."
— Анонимка, — сказал начальник милиции, — в общем-то можно бы ею растопить печь, но у нас центральное отопление. Ножом мост не перережешь. Чепуха какая-то. Хотя, — сообразил он, — это может пригодиться дружинникам, пусть займутся, поучатся.
Таким образом дело попало в штаб дружины по охране общественного порядка и начало свое неудержимое движение. Прежде всего один дружинник съездил километров за десять в село Ресгали и обследовал перила моста.
Действительно, был обнаружен свежий, еще желтый вырез: "Талис Л. и Вита С. 15.XI". Надпись сфотографировали, чтобы в случае наводнения, пожара или другого стихийного бедствия даже после разрушения моста оставалось бы неоспоримое доказательство преступления.
Затем общественный следователь Дирбис, по профессии учитель чистописания, сделал первую экспертизу и в заключении записал: "Обследуя края зарубки через увеличительное стекло, установил, что резали острым, твердым, предметом, возможно перочинным ножом. Графическое исполнение букв свидетельствует об интеллигентности человека. Это же подтверждают и познания его в грамматике, ибо слово Талис написано со знаком долготы над буквой "а". Вся надпись вырезана одной и той же рукой, ибо буква "и" в обоих словах совершенно идентична".
Потом Дирбис посетил финансовый отдел и осведомился, был ли Талис Лукьянис 15 ноября в Ресгалях.
— Был, по делам, — ответил Лукьянис, молодой светловолосый человек. Он говорил тихо и вежливо, и Дирбис пока не обнаружил в нем ничего криминального. "Именно то, что он старается выглядеть спокойным, вызывает подозрение. Почему он так аккуратно побрился? Почему галстук завязал безупречно? Так называемым узлом Эйзенхауэра… Ведь он же женат!" Тут Дирбис как бы мимоходом спросил:
— С моста через Дзирнупе красивый вид, не так ли?
— Я не обратил внимания, мостом пользуюсь только для сообщения.
— Значит, вы пятнадцатого ноября находились на мосту?
— Не находился, а шел по мосту.
Покамест все в порядке. На мосту был, сам признался. Дирбис обрадовался и надел темные очки, чтобы Лукьяпис не заметил радости на лице следователи.
— У вас в тот день был с собой и нож?
— Был. Каждый мужчина, даже непьющий, носит с собой нож. Странно, что вы об этом спрашиваете?
Дирбис решил, что доказательств достаточно и Лукьянису остается только признаться.
— В милицию поступили сведения, что вы пятнадцатого ноября на перилах Ресгальского моста вырезали эту надпись. Советую признаться, тогда этот проступок, возможно, будет рассматриваться только на товарищеском суде, а может быть, его и вовсе не будут рассматривать, — и Дирбис показал снимок перил моста.
Лукьянис посмотрел на снимок, покраснел и сказал еще более тихим голосом:
— Я к этому не имею никакого отношения.
Дирбис, не теряя терпения, расставил ловушки.
— Ну, а если Вита С. уже сказала, что вы это сделали в ее присутствии?
Теперь Лукьянис зарделся, как индюшачий гребешок, и уже прошептал:
— Не может она этого сказать…
— Ну, не скажите, женщины иногда бывают болтливы.
— Нет и еще раз нет! Потому что такой Виты С. вовсе не существует. А если она есть, то я ее не знаю, не знал и не буду знать, к тому же я женат.
— Вот в том-то и дело, что этот относительно пустяковый проступок приобретает более серьезное моральное значение и становится глубже и весомее, — сказал Дирбис. — Для того чтобы он не приобрел излишне шумный общественный резонанс, я советую вам признаться, тогда мы сможем дело прекратить.
— Вам вовсе не надо было его начинать. Я не могу признаться, так как я ничего не вырезал и никакой Виты С. или Виты А., Б., В., Г., Д. не знаю.
Дирбиса не убедило это упорное отрицание вины, ибо доказательств обратного было слишком много. Был на мосту, дата, нож — все совпадало.
Днем позже он просмотрел все послевоенные записи районного паспортного стола и нашел двух Вит. Хотя и была одна из них незамужней, они вряд ли могли быть с Лукьянисом — первой было семь, а второй шестьдесят семь лет. Значит, Вита С. приезжая. Дирбис внес предложение, чтобы республиканские дружины, по охране общественного порядка начали регистрацию всех проживающих в Латвии Вит, но начальник милиции сказал, что овчинка выделки не стоит.
Дирбис не мог допустить, чтобы самый первый проступок, который ему поручили расследовать, остался бы нераскрытым и недоказанным. В таком случае и собрание сотрудников финансового отдела было бы невозможно созвать и выступить с задуманной речью "Дружины охраны общественного порядка в борьбе за прочность семьи".
Дирбис во время одной встречи с нарушителем, записывая что-то в свой блокнот, сломал карандаш. Это был заранее продуманный ход.
— Не одолжите ли вы мне свой нож карандаш очинить?
— Я на той неделе ходил по грибы и обронил нож, — ответил Талис Лукьянис.
— По грибы? Даже свинухи уже не растут, — заметил Дирбис.
— Значит, просто потерял где-то.
Если бы Дирбис очинил тем ножом карандаш, на карандаше остались бы следы ножа. Судебная экспертиза легко доказала бы тогда, что преступление на перилах моста совершено тем же орудием. Значит, опасаясь разоблачения, Лукьянис нож спрятал. Жаль.
"У дружинников тысяча помощников — все общество", — вспомнил Дирбис ходячее изречение. Он обратился к наиболее близкой Лукьянису части общества — к его жене.
Черноволосая Вероника помешивала большой ложкой манную кашу, когда прибыл Дирбис.
— Забудьте на мгновение о симпатиях к своему мужу и, выполняя гражданский долг перед обществом, помогите органам следствия установить истину, — начал он, показывая снимок перил моста, потом пересказал уже известные нам факты и спросил, не знает ли она что-нибудь о Вите С.
— Мне ничего не известно, но я узнаю все и даже кое-что побольше, — Вероника помахала большой деревянной ложкой так энергично, что Дирбис испугался — не создал ли он ситуацию, чреватую новым преступлением.
— Я ему покажу, как шататься с бабами! Теперь я припоминаю. В ту пятницу вечером он вернулся поздно, сказал, что на работе устал, не ужинал, и тут же уснул. Перетрудился, бедняжка!
Вероника очень любила правду, кроме того, она от бабушки-католички унаследовала упорство. Когда в тот вечер Талис Лукьянис подсел к манной каше, Вероника тут же отодвинула в сторону его тарелку.
— Сначала расскажи, что это за Вита, с которой ты пятнадцатого ноября любезничал на мосту?
— Этот сумасшедший и тебе задурил голову. Никакой Виты я не знаю и ничего не вырезал.
— Докажи!
— В советском праве записано нечто обратное: если и совершено преступление, то надо доказать, что я виновен, а я не обязан доказывать свою невиновность. Дай поесть!
— Семейные права мне важнее всех прочих. Бесстыдник, тебе нет еще и тридцати лет, а ты уже шляешься по округе, как собака! Расскажи все! Мы не можем жить во лжи.
— Я ж тебе говорю, что мне нечего рассказывать!
— Тогда ты эту ночь будешь спать на кухне, — и жена тут же захлопнула за собой дверь в комнату.
Лукьянис тоже любил правду и только ради того, чтобы наступил мир в семье, не хотел выдумывать. Лежа на кухне, он сквозь сон будто слышал, как что-то капает. Поначалу он думал, что из крана в раковину капает вода, однако, окончательно проснувшись, понял, что в комнате плачет Вероника и слезы капают на пол.
— Вероника, милая, пусти меня!.. — стучался он в дверь.
Дверь открылась. Его обняли теплые руки, лицо накрыли тяжелые черные волосы, темные как ночь, и ласковый голос страстно шептал:
— Расскажи и тогда оставайся со мной…
Лукьянис оцепенел. Чувство справедливости было сильнее жалости.
— Но мне нечего рассказывать!
— Тогда уходи. Пусть тебя крысы едят! — воскликнула Вероника и вытолкнула полуголого мужа обратно на кухню.
Лукьянис до самого утра, лежа на составленных стульях и глядя на связки лука, думал, что любовь, и ненависть очень схожие чувства. Может быть, любовь — это ненависть… Может быть, ненависть — это любовь…
Брак Лукьяниса на пятом году своего существования грозил рухнуть. Дирбис, прячась за темными очками, добыл доказательства, что Талис Лукьянис виновен. Вероника требовала доказательств, что Талис невиновен. Обоим недоставало только одного: признания самого Лукьяниса. А тот упрямо упорствовал в этом. Жена в борьбе за правду — вовлекла еще одну важную часть общества — трехлетнего сынишку Лукьяниса, которого она научила спрашивать: "Папа, кто такая Вита?"
Лукьянис оставался голодным, потому что, когда сынишка за столом спрашивал про Виту, отец вставал и уходил. И все же не отдал он Дирбису перочинный нож и жене не признался.
Когда ночи стали прохладнее, Талис, ночуя на кухне, был вынужден всю ночь топить плиту. Наверное, и жене одной тоже было не тепло, и она предложила компромисс:
— Ты меня обманул. Мне стыдно перед людьми. Настоящей совместной жизни у нас быть уже не может, но, если бы мы переехали в какой-нибудь другой город, может быть, мы еще смогли хотя бы на время пожить вместе, пока не подрастет мальчишка.
Изнуренный от недосыпания и недоедания, бледный Лукьянис согласился. От нервного перенапряжения белые как лен волосы его начали выпадать, еще не успев поседеть, а лоб становился вдвое обширнее, хотя ничего путного владелец этакого лба придумать не мог. Соседи все были на стороне жены, так как стоял-то на мосту Лукьянис, а не жена его. Некоторые организации даже послали экскурсии, чтобы осмотреть перила моста. Засняли, изготовили диапозитивы и показывали их на лекциях о моральном облике.
В тот день, когда Лукьянис писал заявление с просьбой о переводе его в другой район, почтальон принес письмо, судя по штампу, опущенное здесь же в городе.
В письме было написано: "Ну, схлопотал мину замедленного действия? Надпись на перилах вырезали мы в память о налогах, которыми нас обложили по вашей милости. Если еще раз сунетесь, мы добьемся, чтобы вас признали морально разложившимся, и тогда жена окончательно уйдет от вас. Сделать это не так уж трудно. X, У, Z".
Лукьянис долго сидел молча, думал. Все ясно: это было делом женских рук, одна женщина прекрасно знает повадки другой женщины. Должно быть, кто-то из тех швей с курсов кройки и шитья из дома культуры, которых обложили налогом.
Лукьянис показал письмо Веронике и рассказал всю историю с налогами. Она обрадовалась спасенному брачному союзу даже больше самого Лукьяниса.
Вечером они растопили плиту тем заявлением, в котором Лукьянис просил перевести его на такой участок, где нет реки, нет мостов и не проживает ни одной женщины по имени Вита. На огне Вероника испекла оладьи.
— Как хорошо, что ты снова стал порядочным человеком! — вечером теплыми руками она обняла мужа и накрыла его лицо волосами, темными как ночь.
"Я никогда и не был непорядочным", — хотел возразить Лукьянис, но, подумав, решил о случившемся лучше больше не упоминать. Все хорошо, что хорошо кончается. А если начнет он много рассуждать да еще радоваться, жена может подумать: не сам ли он написал это письмо? И тогда доказать обратное не смог бы ни он, ни общественный следователь Дирбис, надев даже самые темные очки.
1963
Колониальные войны (Из жизни приморских жителей)
 Сотрудникам научно-исследовательского института производства высших орудий выделили в саулкрастских соснах земельный участок для строительства летних домиков. Согласно уставу, домики возвели из стандартных панелей, и все чувствовали себя равноправными, как граждане Франции в первый день после Великой французской революции. Но равенство под силу только добродетели.
Домики, разумеется, выглядели одинаковыми. Когда однажды ночью молодого ученого обнаружили на чужой даче, в которой спала жена другого ученого, то он оправдывался, что в темноте не разобрал схожие жилища и был убежден, что поднял одеяло своей постели, а не чужой. Несколькими тумаками по прикрытым частям тела ему доказали, что ученый тоже может ошибаться. Однако в наиболее разумных головах, то есть в женских, родилась мысль, что на домиках нужны знаки отличия, хотя бы для того, чтобы сохранить здоровую советскую семью. Сами ученые в принципе присоединились к этому. "Поскольку мы производим не стандартные, а оригинальные высшие орудия, домики наши тоже не должны быть лишенными своеобразия", — рассуждали они и покрасили жилища в разные цвета, другими словами, в те цвета, какие можно было достать в магазине, а в магазине в тот момент продавались синяя и лимонно-желтая краски. "Теперь и ночью легко найти свой дом", — рассуждали ученые в наивном восторге, забывая, что в темноте все кошки серы.
Наряду с покраской, начался стремительный процесс придания разнообразия дачам. Чтобы проследить за этим процессом, достаточно проанализировать события в двух соседних домиках. В одном домике жил Алмант Клауник с женой Гудритс, в другом — Састрид Калкав с женой Вивианой. Сами ученые отличались тем, что Клауник, как стоящий рангом выше, растил волосы и бороду, а у Калкава были только заурядные волнистые волосы. Работы по разнообразию земельных участков начала Гудрите Клауник. Она купила два ведра чернозема и посадила перед верандой розу "королева елизавета". Вивиана Калкав купила четыре ведра земли и посадила карманного формата пальму "феникс". Через педелю, несмотря на общеизвестный тезис, что пальмы зеленеют вечно, пальма завяла.
— Нет в Латвии садовников, есть только зоотехники, — вздохнула Вивиана. — У нас есть латышская бурая корова, но пальм под открытым небом нет…
Гудрите ответила тем, что достала десять ведер земли и посадила цветущую японскую вишню, которая завяла только спустя две недели, как раз когда Вивиана сажала агаву, про которую продавец ей сказал, что агава будет цвести уже через пятьдесят лет.
— Калкав только аспирант, а ты — старший научный сотрудник, — мрачно сообщила Гудрите Клаупик мужу, который, правда, и сам это знал. — Наш дом должен соответствовать твоей научной квалификации. — И она приказала мужу расширить дом" пристроив ватерклозет. — Клозет характеризует бытовую культуру не только народа, но и каждого гражданина в отдельности, — обосновала она свое распоряжение.
В Саулкрастах уже начался период стремительной застройки, и местные халтурщики быстро сорганизовали доски. На крыше водрузили бензиновую бочку для воды. Разумеется, пустую.
Калкавы вовремя догадались, для каких надобностей предназначается пристройка.
— Это не может так оставаться и не останется! — поклялась Вивиана словами Райниса. — Докажем, что в культуре быта мы их превосходим!
И другие халтурщики привезли Калкавам тоже доски да еще не одну, а две бочки из-под бензина. Когда строительство было завершено, оказалось, что Калкавы даже вдвое превзошли Клауников: у них намечалось два туалета. Одну дверцу украшал петух, нарисованный в полный рост, другую — недвусмысленная леггориская несушка, и, чтобы недоразумения не возникали даже ночью, обе птицы были сотворены из светящихся красок.
Роковую и весьма существенную ошибку обе семьи обнаружили только тогда, когда подошел торжественный момент открытия заведений, то есть права первый раз дернуть белую ручку: вот тут и обнаружилось, что в колонии покамест отсутствовал не токмо что водопровод, но и канализация… Таким образом, солидные пристройки и бензиновые бочки на крыше сохранились как первые памятники архитектурным излишествам новой колонии. Клаупики потом хранили в своем шкафчике банки с вареньем; Вивиана Калкава же свои благоустройства приспособила под первый вытрезвитель колонии. Если муж являлся домой под мухой, она на виду у него ставила туда бутылку вина. Когда же муж потом прокрадывался, чтобы тайком выпить вино, Вивиана попросту запирала дверь снаружи. Калкав попадался в ловушку несколько раз, пока не наловчился вынимать доски в перегородке, которая отделяла "петушиную" комнатку от "курочкиной", а "курочкина" комнатка не запиралась.
И вот Гудрите опять обратилась к своему мужу:
— Ты же кандидат наук, а Калкав только аспирант. В его доме комнат столько же, сколько и в нашем. Думаешь, это справедливо?
— Все мы не только смертны, но и равноправны, — миролюбиво ответил бородатый муж.
— По-твоему, значит, и академик должен жить в общежитии, как студент! Так ты понимаешь равноправие? Это вульгаризация.
— Да нет же, нет, но… стены ведь не резиновые — куда мы втиснем эти новые комнаты?
— Кто тебе запрещает построить подвал? В каждом приличном доме теперь в подвале оборудуют если не финскую баню, то, во всяком случае, камин! Так чтобы был подвал!
И работа закипела. Знакомый психоневролог, который жил в соседней колонии и вместе с ними играл в волейбол, измерил кровяное давление Клаупика и нашел, что оно по меньшей мере на атмосферу превышает нормальное. В научном институте кровяного давления Клаупику выписали голубойбольничный лист с отметкой "домашний режим". Прикрепив голубой лист на стене, Клаупик взломал дощатый пол и взялся за лопату. Работал по ночам, когда были опущены оконные шторы. Вырытую землю насыпали в хозяйственные сумки. С этими сумками Клаупики всей семьей — трое детей да двое взрослых — раз двадцать за ночь ходили на море купаться, потому что вырытый песок топили в морской пучине, где он исчезал бесследно. Кирпичи для камина тоже таскали в хозяйственных сумках, по одному в сумке. Но трое детей да двое родителей — вместе пять кирпичей. Поскольку в продуктовых магазинах в Саулкрастах кирпичей не продают, они выбирали их из груд побитых кирпичей во дворах общественных построек. Опасаясь, как бы у детей со временем не выработалась привычка воровать кирпичи, Клаупик пояснил им:
— Эти кирпичи больше не считаются кирпичами, а строительным мусором, они сняты с государственного бюджета. В строительстве есть такое правило: из всех кирпичей положено расколошматить двадцать процентов, чтобы отобрать самые крепкие. Разбитые кирпичи списывают как запланированные убытки.
Дымоход сложили за одну ночь, чтобы ошарашенные Калкавы не успели бы тоже в темпе соорудить каминный подвал.
Калкавы не успели. Когда они увидели, как у соседей радостно вылетали в трубу сосновые шишки, превращенные в дым, Калкав печально склонил голову над тарелкой, ибо взгляд его супруги Вивианы, пылающий красным огнем, как и ее крашеные волосы, недвусмысленно говорил, что по сравнению с Клаупиком ее муж является не просто всего лишь аспирантом, но и невеждой, лентяем, идиотом и евнухом, да, идиотским евнухом.
— Это не может так… оставаться и… не останется… — печально вздохнув, пообещал Калкав и уехал в неизвестном направлении.
Он вернулся ночью на грузовике, из которого вылезло двенадцать мужчин. В старой пиратской песенке сказано, что двенадцать человек сидят на сундуке с мертвецом и пьют бутылку рома. Эти двенадцать обходились ромом без сундука с мертвецом, поскольку пили стоя. Оказалось, что зять Калкава, колхозный бригадир, уговорил свою бригаду строителей поехать на добровольную толоку и вдобавок выпросил колхозную машину на одну ночь. Всю ночь они рыли, возили и клали.
На следующее утро Клаупик осторожно бил ладонью по спине своей Гудрите, потому что она поперхнулась сваренным всмятку бескалорийным яйцом. Да и как тут не поперхнуться: над домиком Калкавов возвышалась труба, и дым валил в два потока!
— Двойная труба… Аспирантик сложил еще и садовый камин тоже, чтобы колбаски жарить… — давилась Гудрите. — Да ты старший научный сотрудник или нет? — крикнула она, проглотив наконец пол-яйца.
— Пока еще да, но… ничто не вечно в этом мире. — вздохнул Алмант Клаупик, нервно дергая бороду.
— Безответственный! Неужели ты оставишь науку только потому, что какая-то Вивиана придумаладымоход с двумя проходами?
В связи с накоплением научных и технических возможностей, изобретения зачастую возникают одновременно в нескольких частях света, даже в отдельных семьях параллельно. И так на сей раз под начесанными волосиками Гудрите и Вивианы идея о том, что надо идти вглубь, возникла одновременно, и обе они, независимо друг от друга, однажды вечером всунули своим мужьям в руки рукоятки лопат.
Алмант Клаупик как раз в этот момент надел только что купленные полосатые пляжные трусики, которые вместе с постриженной "а-ля генерал Скобелев" бородой хотел продемонстрировать саулкрастскому пляжу, поэтому он пытался отшучиваться.
— Зачем мне держать лопату, пойдем на море, буду держать тебя.
— Заработай сперва право держать меня. Рой. Под каминной — еще одну комнату.
— Тогда и мебель надо привозить из Риги…
— Зачем мебель? Натаскаем еловых ветвей, застелем их мохом, к стене прибьем полированные деревянные оленьи рога, и у нас будет очень романтическая зимняя квартирка. Ну да, для зимы, чем глубже в землю, тем теплее, это мы учили еще в третьем классе. Приедем с гостями встречать Новый год. Тут можно петь как хочешь и что хочешь. И пусть тогда эти Калкавы посвистят. Тут можно будет устраивать также и занятия по системе йогов. Давай копать!
В это же время в соседнем доме Састрид Калкав, склонив украшенное естественно-искусственными кудрями чело ученого над лезвием лопаты, прежде всего недоуменно осведомился:
— Что?.. Эту лопату надо наточить?
— Да, наточить, а потом надо рыть. Рой, старичок, новую маленькую комнатку под каминной. Мне очень хочется таскать песок, иначе… — жена в купальнике соблазнительно потягивалась, — иначе я начинаю полнеть.
— Но что мы там устроим?
— Баню, финскую баню! С крыши направим дождевые воды, электричеством обогреем стены, и у нас получится такая баня! Будем жить в абсолютной чистоте. В Финляндии вообще, говорят, бани общие…
Чтобы жена не полнела, Састрид Калкав начал рыть.
Независимо друг от друга, для укрепления стен соседи избрали одинаковый метод.
Клаупик, шлепая по речке, порезал палец ноги. Вынув из раны осколок "Плиски", он воскликнул:
— Эврика!
Когда его сосед Састрид Калкав вытащил из одного дымохода бутылку. "Стрелецкой", которая не давала дыму вырываться в пространство, он не побежал жаловаться к Клаупикам, что их мальчики при помощи удочки запустили ему в трубу бутылку, а, счастливо вздохнув, сказал про себя:
— Эврика…
С этого дня дети обоих семейств, как во времена барщины, от темна и до темна сновали по дюнам и по кустам окрестных колоний оперных певцов, академиков, радиостроителей и других трудящихся, разыскивая пустые бутылки, не пренебрегая даже бутылками с отбитыми или откусанными горлышками. Тут, между прочим, была открыта еще никем не описанная закономерность: количество бутылок возле дома определялось характером домовладельца: особенно много пустых бутылок находили возле жилища горделивых натур. Те считали ниже своего достоинства обменивать пустые бутылки на полные и просто запускали их в кусты.
Родители же промышлявших детей деревянными молотками с мягкими набивками загоняли эти бутылки в стены подземных казематов, видными оставались лишь разноцветные и разного качества донышки бутылок. Укрепленные бутылками стены казались несокрушимыми.
— Надо будет потребовать еще вынесения благодарности за то, что улучшаю санитарно-гигиеническое состояние окрестностей, — теперь уже смеялся про себя, загоревшись подземным строительством, аспирант Калкав.
— Неужели ты не замечаешь, что я стала стройнее? — щебетала Вивиана, периодически исчезая с сумкой, наполненной песком, в направлении Рижского залива.
Как известно, в строительстве имеют место также и несчастные случаи и даже катастрофы, причины коих следует искать в экономии средств на геологическое исследование.
Косвенной причиной на сей раз была и первая стадия империализма, в данном случае колониальная жадность; Клаупики и Калкавы старались свою надземную территорию незаконно увеличить под землей и копали больше в сторону, чем в направлении центра земли.
В ту ночь Клаупик уже выполнил свою ночную норму — вырыл полкубометра. Вытряхнув песок из бороды и из волос, он принялся вбивать в стены бутылки, чтобы укрепить их от сейсмических сотрясений и всяких прочих, вызванных приливом и отливом. В одних плавках, сверкая потной, загорелой, как у негра, спиной, при свете голой лампочки, он походил на низкооплачиваемого старателя золотых приисков в южноафриканских штольнях; какими их показывают в научно-популярных журналах.
Вдруг Клаупик оцепенел с бутылкой, украшенной пятью звездочками, в руке. Впереди откуда-то из глубин земли он расслышал таинственный голос:
— Когда мы голыми будем париться в бане, эта бородатая обезьяна будет томиться в собственной грязи!
Голос принадлежал калкавской Вивиане.
— Отмщение! — заорал Клаупик, хотя до сих пор он мстил только письменно и вовсе не знал, как это делают с лопатой в руках. Все же он ударил в стену, примерно на уровне собственной головы. И открыл, что Калкавы тоже расширяли свою территорию, так как очная ставка обоих соседей произошла под корнями сосен прямо на границе земельных участков.
Стена рассыпалась, песок растекся во все стороны, и Клаупик увидел полуголого аспиранта Калкава, на коленях которого сидела полуголая Вивиана. Она принесла мужу ночной полдник и в этот момент губами давала ему сладкое блюдо.
— Бесстыдник!.. Лезет в чужую спальню… — застонала Вивиана и свалилась наземь, чтобы прикрыть места, которые позволено обозревать лишь в музеях изобразительного искусства. А мужчины, глядя друг на друга, медленно поднимали лопаты, как это проделывали рыцари с десятифунтовыми мечами в руках, отчаянно соображая, что же предпринять, когда лопаты будут подняты до потолка. Вивиана, представив себе, что муж собирается рассечь шлем противника только из-за того, что тот без разрешения поглядел на нее, застонала примирительно:
— Пусть смотрит… мне не больно… Бежим!
Мужчины вздохнули с облегчением и мгновенно опустили лопаты. И тут-то они заметили, что со стены начинает сочиться вода, растворяя песок, и ручеек, как змея, вьется вокруг их ног.
— Море, нас проглотит море! — воскликнула Вивиана и, видя в своем воображении морские волны, из которых возвышается только ресторан "Русалка" и крыша их дома, вокруг которой планируют одинокие чайки, бросилась на верхний этаж.
Но мужья доказали, что они действительно ученые, хладнокровно нагнулись, почерпнули и попробовали воду.
— Не соленая… пахнет машинным маслом…
— Видать, мы подкопались под речку Инчупе.
Признав, что не только с морем, но и с Инчупе бороться бесполезно, ученые тоже поднялись этажом выше, оставив археологам будущих цивилизаций загадку о необычных коллекциях бутылок. Они и не подумали о том, что тем самым они бросают тень на наше общество: ведь через тысячу лет могут возникнуть превратные суждения, будто бы у нас в наше время было неистовое потребление алкоголя, раз возле одного только жилья можно найти остатки такого количества дивной посуды.
Целую неделю ученые только и делали, что отдыхали, купались, загорали и стояли в очередях за огурцами, кефиром и консервами.
До конца отпуска оставалась неделя. И она тоже прошла бы под плеск морской волны, если бы Гудрите не заметила на крыше одного домика деревянный ящик, из которого прорастали вниз настурции. Тут она вспомнила, что муж говорит в таких случаях.
— Эврика! — возликовала она и поспешила домой.
— Ал мант, у нас же есть крыша! Воздушный сад! Устроим на крыше сад с цветочными клумбами, с площадками для загорания и с надувным бассейном для детей. И собака сможет там побегать… Тогда мы на этих Калкавов и вправду будем смотреть свысока.
Клаупик обеими руками вцепился в свою бороду викинга. Когда полбороды было выдрано, он безмолвно подчинился пожеланиям жены, надеясь про себя, что за неделю ни черта не сделает и что не хватит денег.
— Про воздушные сады не сказано ни в одном справочнике, — пробормотал он.
— Тогда я буду твоим справочником, — отрезала Гудрите. — Ты что, не знаешь, что такое сад? Сад — это земля! Таскай наверх землю, а там посмотрим.
Чтобы оттянуть время, Клаупик прежде всего соорудил трехступенчатую систему для транспортировки земли. Ведро с прибрежной грязью Инчупе сама Гудрите подавала первому ребенку, который стоял на старой радиоле. Первый ребенок передавал ведро второму ребенку, который стоял уже на бензиновой бочке. Второй ребенок, посыпав естественную утруску земли на голову первого ребенка, отдавал ведро отцу. Отец рассыпал землю на толе крыши.
Когда это занятие заметила калкавская Вивиана, ей стало ясно, что Клаупики посягают подняться по общественным ступенькам выше их…
— Милый Састрид, как прекрасно было бы, если 6 на крыше у нас росли свои яблоки… — начала она окольным путем.
— Ага, яблоки можно бы стряхивать в водосточную трубу и скатывать прямо на стол, — ворчал Калкан.
Наверное, Вивиана смогла бы недозволенными приемами за ночь уговорить мужа соорудить даже двухэтажный воздушный сад, кабы не случилось… непредвиденное.
Гудрите, не желая терять драгоценное летнее времечко, уже на следующий день привезла из Риги рассаду анютиных глазок.
— Анютины глазки быстро принимаются, долго цветут, сами рассеиваются и на будущий год цветут опять, — говорила она, с корзиной рассады взбираясь по трехступенчатой транспортной системе на крышу.
Клаупик в этот момент печально глядел вдаль и вздохнул:
— Увидеть бы море…
— Не вздыхай, я твое море и твои бури, смотри сюда, — одернула мужа Гудрите, обеими ногами став на крышу.
Пока она стояла на краю крыши, все было в порядке: так же светило солнце, долбил дятел, про эпоху НТР пел хор транзисторов. Но когда Гудрите направилась на середину крыши к мужу, их отпуск внезапно оборвался…
Крыша сдалась без борьбы. Вместе с черноземом супруги угодили прямо в кровать, то есть — на тахту.
Какое-то время они сидели, пока не пришли к твердому убеждению, что остались в живых, затем грязными пальцами растерянно протерли глаза, чтобы лучше разглядеть запачканную кровать и правду жизни.
— Ты… ты все же для крыши слишком тяжела, — вздохнул Клаупик.
— Не может быть, мне ж в прошлом году вырезали слепую кишку… — Гудрите ощупывала поцарапанные бока. Потом, отдавая себе отчет в том, что в семье по крайней мере один должен беречь фамильную честь, повторила могущественную формулу. — Ты старший научный сотрудник или нет?
— Больше — нет… Когда ты приказала устроить сад на крыше, я подал заявление об уходе… — Клаупик медленно поднялся со своего спального места и, прихрамывая, заковылял на улицу, чтобы до вечера при помощи трехступенчатой транспортной системы спустить обратно речную грязь.
— Несчастный трус, из-за какой-то крыши ты предал науку! — в последний путь сопровождали его слова благое лощения жены.
Подъехали пожарники, которых с искренним сочувствием и радостью вызвали Калкавы. Те составили акт на хозяев за самовольно и без проекта оборудованную систему освещения.
Сотрудникам научно-исследовательского института производства высших орудий выделили в саулкрастских соснах земельный участок для строительства летних домиков. Согласно уставу, домики возвели из стандартных панелей, и все чувствовали себя равноправными, как граждане Франции в первый день после Великой французской революции. Но равенство под силу только добродетели.
Домики, разумеется, выглядели одинаковыми. Когда однажды ночью молодого ученого обнаружили на чужой даче, в которой спала жена другого ученого, то он оправдывался, что в темноте не разобрал схожие жилища и был убежден, что поднял одеяло своей постели, а не чужой. Несколькими тумаками по прикрытым частям тела ему доказали, что ученый тоже может ошибаться. Однако в наиболее разумных головах, то есть в женских, родилась мысль, что на домиках нужны знаки отличия, хотя бы для того, чтобы сохранить здоровую советскую семью. Сами ученые в принципе присоединились к этому. "Поскольку мы производим не стандартные, а оригинальные высшие орудия, домики наши тоже не должны быть лишенными своеобразия", — рассуждали они и покрасили жилища в разные цвета, другими словами, в те цвета, какие можно было достать в магазине, а в магазине в тот момент продавались синяя и лимонно-желтая краски. "Теперь и ночью легко найти свой дом", — рассуждали ученые в наивном восторге, забывая, что в темноте все кошки серы.
Наряду с покраской, начался стремительный процесс придания разнообразия дачам. Чтобы проследить за этим процессом, достаточно проанализировать события в двух соседних домиках. В одном домике жил Алмант Клауник с женой Гудритс, в другом — Састрид Калкав с женой Вивианой. Сами ученые отличались тем, что Клауник, как стоящий рангом выше, растил волосы и бороду, а у Калкава были только заурядные волнистые волосы. Работы по разнообразию земельных участков начала Гудрите Клауник. Она купила два ведра чернозема и посадила перед верандой розу "королева елизавета". Вивиана Калкав купила четыре ведра земли и посадила карманного формата пальму "феникс". Через педелю, несмотря на общеизвестный тезис, что пальмы зеленеют вечно, пальма завяла.
— Нет в Латвии садовников, есть только зоотехники, — вздохнула Вивиана. — У нас есть латышская бурая корова, но пальм под открытым небом нет…
Гудрите ответила тем, что достала десять ведер земли и посадила цветущую японскую вишню, которая завяла только спустя две недели, как раз когда Вивиана сажала агаву, про которую продавец ей сказал, что агава будет цвести уже через пятьдесят лет.
— Калкав только аспирант, а ты — старший научный сотрудник, — мрачно сообщила Гудрите Клаупик мужу, который, правда, и сам это знал. — Наш дом должен соответствовать твоей научной квалификации. — И она приказала мужу расширить дом" пристроив ватерклозет. — Клозет характеризует бытовую культуру не только народа, но и каждого гражданина в отдельности, — обосновала она свое распоряжение.
В Саулкрастах уже начался период стремительной застройки, и местные халтурщики быстро сорганизовали доски. На крыше водрузили бензиновую бочку для воды. Разумеется, пустую.
Калкавы вовремя догадались, для каких надобностей предназначается пристройка.
— Это не может так оставаться и не останется! — поклялась Вивиана словами Райниса. — Докажем, что в культуре быта мы их превосходим!
И другие халтурщики привезли Калкавам тоже доски да еще не одну, а две бочки из-под бензина. Когда строительство было завершено, оказалось, что Калкавы даже вдвое превзошли Клауников: у них намечалось два туалета. Одну дверцу украшал петух, нарисованный в полный рост, другую — недвусмысленная леггориская несушка, и, чтобы недоразумения не возникали даже ночью, обе птицы были сотворены из светящихся красок.
Роковую и весьма существенную ошибку обе семьи обнаружили только тогда, когда подошел торжественный момент открытия заведений, то есть права первый раз дернуть белую ручку: вот тут и обнаружилось, что в колонии покамест отсутствовал не токмо что водопровод, но и канализация… Таким образом, солидные пристройки и бензиновые бочки на крыше сохранились как первые памятники архитектурным излишествам новой колонии. Клаупики потом хранили в своем шкафчике банки с вареньем; Вивиана Калкава же свои благоустройства приспособила под первый вытрезвитель колонии. Если муж являлся домой под мухой, она на виду у него ставила туда бутылку вина. Когда же муж потом прокрадывался, чтобы тайком выпить вино, Вивиана попросту запирала дверь снаружи. Калкав попадался в ловушку несколько раз, пока не наловчился вынимать доски в перегородке, которая отделяла "петушиную" комнатку от "курочкиной", а "курочкина" комнатка не запиралась.
И вот Гудрите опять обратилась к своему мужу:
— Ты же кандидат наук, а Калкав только аспирант. В его доме комнат столько же, сколько и в нашем. Думаешь, это справедливо?
— Все мы не только смертны, но и равноправны, — миролюбиво ответил бородатый муж.
— По-твоему, значит, и академик должен жить в общежитии, как студент! Так ты понимаешь равноправие? Это вульгаризация.
— Да нет же, нет, но… стены ведь не резиновые — куда мы втиснем эти новые комнаты?
— Кто тебе запрещает построить подвал? В каждом приличном доме теперь в подвале оборудуют если не финскую баню, то, во всяком случае, камин! Так чтобы был подвал!
И работа закипела. Знакомый психоневролог, который жил в соседней колонии и вместе с ними играл в волейбол, измерил кровяное давление Клаупика и нашел, что оно по меньшей мере на атмосферу превышает нормальное. В научном институте кровяного давления Клаупику выписали голубойбольничный лист с отметкой "домашний режим". Прикрепив голубой лист на стене, Клаупик взломал дощатый пол и взялся за лопату. Работал по ночам, когда были опущены оконные шторы. Вырытую землю насыпали в хозяйственные сумки. С этими сумками Клаупики всей семьей — трое детей да двое взрослых — раз двадцать за ночь ходили на море купаться, потому что вырытый песок топили в морской пучине, где он исчезал бесследно. Кирпичи для камина тоже таскали в хозяйственных сумках, по одному в сумке. Но трое детей да двое родителей — вместе пять кирпичей. Поскольку в продуктовых магазинах в Саулкрастах кирпичей не продают, они выбирали их из груд побитых кирпичей во дворах общественных построек. Опасаясь, как бы у детей со временем не выработалась привычка воровать кирпичи, Клаупик пояснил им:
— Эти кирпичи больше не считаются кирпичами, а строительным мусором, они сняты с государственного бюджета. В строительстве есть такое правило: из всех кирпичей положено расколошматить двадцать процентов, чтобы отобрать самые крепкие. Разбитые кирпичи списывают как запланированные убытки.
Дымоход сложили за одну ночь, чтобы ошарашенные Калкавы не успели бы тоже в темпе соорудить каминный подвал.
Калкавы не успели. Когда они увидели, как у соседей радостно вылетали в трубу сосновые шишки, превращенные в дым, Калкав печально склонил голову над тарелкой, ибо взгляд его супруги Вивианы, пылающий красным огнем, как и ее крашеные волосы, недвусмысленно говорил, что по сравнению с Клаупиком ее муж является не просто всего лишь аспирантом, но и невеждой, лентяем, идиотом и евнухом, да, идиотским евнухом.
— Это не может так… оставаться и… не останется… — печально вздохнув, пообещал Калкав и уехал в неизвестном направлении.
Он вернулся ночью на грузовике, из которого вылезло двенадцать мужчин. В старой пиратской песенке сказано, что двенадцать человек сидят на сундуке с мертвецом и пьют бутылку рома. Эти двенадцать обходились ромом без сундука с мертвецом, поскольку пили стоя. Оказалось, что зять Калкава, колхозный бригадир, уговорил свою бригаду строителей поехать на добровольную толоку и вдобавок выпросил колхозную машину на одну ночь. Всю ночь они рыли, возили и клали.
На следующее утро Клаупик осторожно бил ладонью по спине своей Гудрите, потому что она поперхнулась сваренным всмятку бескалорийным яйцом. Да и как тут не поперхнуться: над домиком Калкавов возвышалась труба, и дым валил в два потока!
— Двойная труба… Аспирантик сложил еще и садовый камин тоже, чтобы колбаски жарить… — давилась Гудрите. — Да ты старший научный сотрудник или нет? — крикнула она, проглотив наконец пол-яйца.
— Пока еще да, но… ничто не вечно в этом мире. — вздохнул Алмант Клаупик, нервно дергая бороду.
— Безответственный! Неужели ты оставишь науку только потому, что какая-то Вивиана придумаладымоход с двумя проходами?
В связи с накоплением научных и технических возможностей, изобретения зачастую возникают одновременно в нескольких частях света, даже в отдельных семьях параллельно. И так на сей раз под начесанными волосиками Гудрите и Вивианы идея о том, что надо идти вглубь, возникла одновременно, и обе они, независимо друг от друга, однажды вечером всунули своим мужьям в руки рукоятки лопат.
Алмант Клаупик как раз в этот момент надел только что купленные полосатые пляжные трусики, которые вместе с постриженной "а-ля генерал Скобелев" бородой хотел продемонстрировать саулкрастскому пляжу, поэтому он пытался отшучиваться.
— Зачем мне держать лопату, пойдем на море, буду держать тебя.
— Заработай сперва право держать меня. Рой. Под каминной — еще одну комнату.
— Тогда и мебель надо привозить из Риги…
— Зачем мебель? Натаскаем еловых ветвей, застелем их мохом, к стене прибьем полированные деревянные оленьи рога, и у нас будет очень романтическая зимняя квартирка. Ну да, для зимы, чем глубже в землю, тем теплее, это мы учили еще в третьем классе. Приедем с гостями встречать Новый год. Тут можно петь как хочешь и что хочешь. И пусть тогда эти Калкавы посвистят. Тут можно будет устраивать также и занятия по системе йогов. Давай копать!
В это же время в соседнем доме Састрид Калкав, склонив украшенное естественно-искусственными кудрями чело ученого над лезвием лопаты, прежде всего недоуменно осведомился:
— Что?.. Эту лопату надо наточить?
— Да, наточить, а потом надо рыть. Рой, старичок, новую маленькую комнатку под каминной. Мне очень хочется таскать песок, иначе… — жена в купальнике соблазнительно потягивалась, — иначе я начинаю полнеть.
— Но что мы там устроим?
— Баню, финскую баню! С крыши направим дождевые воды, электричеством обогреем стены, и у нас получится такая баня! Будем жить в абсолютной чистоте. В Финляндии вообще, говорят, бани общие…
Чтобы жена не полнела, Састрид Калкав начал рыть.
Независимо друг от друга, для укрепления стен соседи избрали одинаковый метод.
Клаупик, шлепая по речке, порезал палец ноги. Вынув из раны осколок "Плиски", он воскликнул:
— Эврика!
Когда его сосед Састрид Калкав вытащил из одного дымохода бутылку. "Стрелецкой", которая не давала дыму вырываться в пространство, он не побежал жаловаться к Клаупикам, что их мальчики при помощи удочки запустили ему в трубу бутылку, а, счастливо вздохнув, сказал про себя:
— Эврика…
С этого дня дети обоих семейств, как во времена барщины, от темна и до темна сновали по дюнам и по кустам окрестных колоний оперных певцов, академиков, радиостроителей и других трудящихся, разыскивая пустые бутылки, не пренебрегая даже бутылками с отбитыми или откусанными горлышками. Тут, между прочим, была открыта еще никем не описанная закономерность: количество бутылок возле дома определялось характером домовладельца: особенно много пустых бутылок находили возле жилища горделивых натур. Те считали ниже своего достоинства обменивать пустые бутылки на полные и просто запускали их в кусты.
Родители же промышлявших детей деревянными молотками с мягкими набивками загоняли эти бутылки в стены подземных казематов, видными оставались лишь разноцветные и разного качества донышки бутылок. Укрепленные бутылками стены казались несокрушимыми.
— Надо будет потребовать еще вынесения благодарности за то, что улучшаю санитарно-гигиеническое состояние окрестностей, — теперь уже смеялся про себя, загоревшись подземным строительством, аспирант Калкав.
— Неужели ты не замечаешь, что я стала стройнее? — щебетала Вивиана, периодически исчезая с сумкой, наполненной песком, в направлении Рижского залива.
Как известно, в строительстве имеют место также и несчастные случаи и даже катастрофы, причины коих следует искать в экономии средств на геологическое исследование.
Косвенной причиной на сей раз была и первая стадия империализма, в данном случае колониальная жадность; Клаупики и Калкавы старались свою надземную территорию незаконно увеличить под землей и копали больше в сторону, чем в направлении центра земли.
В ту ночь Клаупик уже выполнил свою ночную норму — вырыл полкубометра. Вытряхнув песок из бороды и из волос, он принялся вбивать в стены бутылки, чтобы укрепить их от сейсмических сотрясений и всяких прочих, вызванных приливом и отливом. В одних плавках, сверкая потной, загорелой, как у негра, спиной, при свете голой лампочки, он походил на низкооплачиваемого старателя золотых приисков в южноафриканских штольнях; какими их показывают в научно-популярных журналах.
Вдруг Клаупик оцепенел с бутылкой, украшенной пятью звездочками, в руке. Впереди откуда-то из глубин земли он расслышал таинственный голос:
— Когда мы голыми будем париться в бане, эта бородатая обезьяна будет томиться в собственной грязи!
Голос принадлежал калкавской Вивиане.
— Отмщение! — заорал Клаупик, хотя до сих пор он мстил только письменно и вовсе не знал, как это делают с лопатой в руках. Все же он ударил в стену, примерно на уровне собственной головы. И открыл, что Калкавы тоже расширяли свою территорию, так как очная ставка обоих соседей произошла под корнями сосен прямо на границе земельных участков.
Стена рассыпалась, песок растекся во все стороны, и Клаупик увидел полуголого аспиранта Калкава, на коленях которого сидела полуголая Вивиана. Она принесла мужу ночной полдник и в этот момент губами давала ему сладкое блюдо.
— Бесстыдник!.. Лезет в чужую спальню… — застонала Вивиана и свалилась наземь, чтобы прикрыть места, которые позволено обозревать лишь в музеях изобразительного искусства. А мужчины, глядя друг на друга, медленно поднимали лопаты, как это проделывали рыцари с десятифунтовыми мечами в руках, отчаянно соображая, что же предпринять, когда лопаты будут подняты до потолка. Вивиана, представив себе, что муж собирается рассечь шлем противника только из-за того, что тот без разрешения поглядел на нее, застонала примирительно:
— Пусть смотрит… мне не больно… Бежим!
Мужчины вздохнули с облегчением и мгновенно опустили лопаты. И тут-то они заметили, что со стены начинает сочиться вода, растворяя песок, и ручеек, как змея, вьется вокруг их ног.
— Море, нас проглотит море! — воскликнула Вивиана и, видя в своем воображении морские волны, из которых возвышается только ресторан "Русалка" и крыша их дома, вокруг которой планируют одинокие чайки, бросилась на верхний этаж.
Но мужья доказали, что они действительно ученые, хладнокровно нагнулись, почерпнули и попробовали воду.
— Не соленая… пахнет машинным маслом…
— Видать, мы подкопались под речку Инчупе.
Признав, что не только с морем, но и с Инчупе бороться бесполезно, ученые тоже поднялись этажом выше, оставив археологам будущих цивилизаций загадку о необычных коллекциях бутылок. Они и не подумали о том, что тем самым они бросают тень на наше общество: ведь через тысячу лет могут возникнуть превратные суждения, будто бы у нас в наше время было неистовое потребление алкоголя, раз возле одного только жилья можно найти остатки такого количества дивной посуды.
Целую неделю ученые только и делали, что отдыхали, купались, загорали и стояли в очередях за огурцами, кефиром и консервами.
До конца отпуска оставалась неделя. И она тоже прошла бы под плеск морской волны, если бы Гудрите не заметила на крыше одного домика деревянный ящик, из которого прорастали вниз настурции. Тут она вспомнила, что муж говорит в таких случаях.
— Эврика! — возликовала она и поспешила домой.
— Ал мант, у нас же есть крыша! Воздушный сад! Устроим на крыше сад с цветочными клумбами, с площадками для загорания и с надувным бассейном для детей. И собака сможет там побегать… Тогда мы на этих Калкавов и вправду будем смотреть свысока.
Клаупик обеими руками вцепился в свою бороду викинга. Когда полбороды было выдрано, он безмолвно подчинился пожеланиям жены, надеясь про себя, что за неделю ни черта не сделает и что не хватит денег.
— Про воздушные сады не сказано ни в одном справочнике, — пробормотал он.
— Тогда я буду твоим справочником, — отрезала Гудрите. — Ты что, не знаешь, что такое сад? Сад — это земля! Таскай наверх землю, а там посмотрим.
Чтобы оттянуть время, Клаупик прежде всего соорудил трехступенчатую систему для транспортировки земли. Ведро с прибрежной грязью Инчупе сама Гудрите подавала первому ребенку, который стоял на старой радиоле. Первый ребенок передавал ведро второму ребенку, который стоял уже на бензиновой бочке. Второй ребенок, посыпав естественную утруску земли на голову первого ребенка, отдавал ведро отцу. Отец рассыпал землю на толе крыши.
Когда это занятие заметила калкавская Вивиана, ей стало ясно, что Клаупики посягают подняться по общественным ступенькам выше их…
— Милый Састрид, как прекрасно было бы, если 6 на крыше у нас росли свои яблоки… — начала она окольным путем.
— Ага, яблоки можно бы стряхивать в водосточную трубу и скатывать прямо на стол, — ворчал Калкан.
Наверное, Вивиана смогла бы недозволенными приемами за ночь уговорить мужа соорудить даже двухэтажный воздушный сад, кабы не случилось… непредвиденное.
Гудрите, не желая терять драгоценное летнее времечко, уже на следующий день привезла из Риги рассаду анютиных глазок.
— Анютины глазки быстро принимаются, долго цветут, сами рассеиваются и на будущий год цветут опять, — говорила она, с корзиной рассады взбираясь по трехступенчатой транспортной системе на крышу.
Клаупик в этот момент печально глядел вдаль и вздохнул:
— Увидеть бы море…
— Не вздыхай, я твое море и твои бури, смотри сюда, — одернула мужа Гудрите, обеими ногами став на крышу.
Пока она стояла на краю крыши, все было в порядке: так же светило солнце, долбил дятел, про эпоху НТР пел хор транзисторов. Но когда Гудрите направилась на середину крыши к мужу, их отпуск внезапно оборвался…
Крыша сдалась без борьбы. Вместе с черноземом супруги угодили прямо в кровать, то есть — на тахту.
Какое-то время они сидели, пока не пришли к твердому убеждению, что остались в живых, затем грязными пальцами растерянно протерли глаза, чтобы лучше разглядеть запачканную кровать и правду жизни.
— Ты… ты все же для крыши слишком тяжела, — вздохнул Клаупик.
— Не может быть, мне ж в прошлом году вырезали слепую кишку… — Гудрите ощупывала поцарапанные бока. Потом, отдавая себе отчет в том, что в семье по крайней мере один должен беречь фамильную честь, повторила могущественную формулу. — Ты старший научный сотрудник или нет?
— Больше — нет… Когда ты приказала устроить сад на крыше, я подал заявление об уходе… — Клаупик медленно поднялся со своего спального места и, прихрамывая, заковылял на улицу, чтобы до вечера при помощи трехступенчатой транспортной системы спустить обратно речную грязь.
— Несчастный трус, из-за какой-то крыши ты предал науку! — в последний путь сопровождали его слова благое лощения жены.
Подъехали пожарники, которых с искренним сочувствием и радостью вызвали Калкавы. Те составили акт на хозяев за самовольно и без проекта оборудованную систему освещения.
Скверное стечение обстоятельств (Литературные воспоминания)
 Описывая исторические события в художественных произведениях, подлинные фамилии иной раз приводят лишь в том случае, если носители этих фамилий уже умерли. Поскольку женщина, которая превратила меня в "галочку", еще не достигла опасного возраста, ее фамилию и адрес не упомяну.
Несколько лет назад письмо позвало меня "встретиться с читателями" в одном сельском доме культуры, километрах в шестидесяти от Цесиса. Я только что переболел гриппом, ослаб и, опасаясь схватить еще и корь, от встречи отказался. Будто зная мой честолюбивый характер, заведующая домом культуры написала второе письмо, не преминув упомянуть, что "широкие круги читателей" села все же надеются видеть "любимого писателя" у себя. Получив такое письмо, я сдался. По телефону мы условились, что от Цесиса до села Н. я поеду на автобусе, там меня встретит машина, чтобы преодолеть последние десять километров.
В воскресенье пополудни я трясся эти оплаченные мною пятьдесят километров; сейчас, в начале марта, началась распутица, и шофер, как бы ни старался, не мор ровно проехать по выбоинам на дороге, промытым вешними водами. Зато ноги оставались сухими.
Но, сойдя с автобуса, я с первых же шагов почуял холод и влагу в ботинках, — увы, я позабыл, что такое оттепель на проселочной дороге, на мне были выходные туфли, как и полагается, когда идешь в гости. Ничего, подумал я, пересяду в другую машину, по дороге промокшие ноги обсохнут, а по приезде мне останется только навести блеск перчаткой.
Однако у автобусной остановки никто меня не ждал и машины было. На скамье сидел какой-то усталый человек. Голову он втянул в черный барашковый воротник так глубоко, что возникали сомнения, есть ли у него вообще таковая. Вероятно, все же была, так как, несмотря на овчинный фильтр, ясно был слышен храп, который ритмично раздавался ровно шестнадцать раз в минуту и в строго выдержанной тональности. Непохоже было, чтоб у спящего было задание встречать меня. Ничего, подумал я, распутица есть распутица, запоздать можно и неумышленно.
С полчаса я успокаивал себя таким образом, пока от промокших носков по спине не пробежали первые мурашки; не предвидя столь длительное пребывание на свежем воздухе, я надел легкое пальто. Одновременно с ознобом улетучился мой интерес к развалинам замка на другой стороне дороги; их охраняли голые ветви лип. Я сосчитал, что на макушках лип сидело тридцать семь галок и что навес автобусной остановки имеет ровно четыре шага в ширину. Смеркалось. Вместо галок я считал теперь ворон, потому что они крупнее и в сумерках легче различимы. Я поднял воротник и принялся стучать ногами об пол, отнюдь не от восторга, навеянного весенней погодой, а потому, что мерзли ноги.
Храп оборвался. Из воротника показалось лицо примерно сорокалетнего человека, обрамленное сверху ушанкой, а ниже черной щетиной.
— Я тоже мерзну. Пойдем обратно туда, где потеплее, — строго сказал мужчина.
Я не знал, откуда он пришел, поэтому ответил:
— За мной… придет машина.
— За мной тоже. В окно увидим.
Я так жаждал тепла, что согласился. К тому же выяснилось, что намочить ноги сильнее уже нельзя: внезапный морозец схватил лужицы, и под ногами заскрипел снег.
Я как-то не приметил, что напротив развалин замка под еловыми ветвями находился небольшой домик с приятной вывеской "Столовая". Ясно как божий день: там, где готовят, тепло, поэтому я радостно переступил порог вслед за незнакомцем.
Буфетная стойка, полки с бутербродами, бутылки с вином, четыре столика на металлических ножках с синей пластмассовой поверхностью, круглая жестяная печка и — теплынь. Голова не задевала пятирогую люстру, света хватало, чтобы сосчитать деньги…
— Петер, иди домой, на сегодня тебе достаточно, — ответила высокая буфетчица на мое приветствие.
— Нет, недостаточно, — уверенно ответив мой проводник. — Дай бутерброд с… серебристым хеком, — с трудом прочел он на ценнике.
— Гм… это можно, — протянула буфетчица.
— Возьми мне стакан вина, — шепотом, но строго приказал Петер и сунул мне в карман рубль.
По запаху, который окутывал Петера, нельзя было определить, какой марки вина ему больше по душе, поэтому, чтоб не ошибиться, я взял то, что покрепче. Мы сидели за одним столиком и потягивали вино. Спина от жестяной печки согрелась, но в душе лед возмущения не таял. Так одурачить меня! Я спросил у буфетчицы, во сколько часов идет следующий автобус на Цесис.
— Раньше один ходил еще вечером, но теперь, на время распутицы, его отменили.
— Но сейчас же дорогу подморозило! — воскликнул я, будто буфетчица могла отменять или назначать автобусы.
И гостиницы в селе нет. Тогда я спросил, где тут живет милиционер. В крайнем случае можно отрекомендоваться пьяным, надеясь, что тогда-то меня определенно не оставят без ночлега. Быть может, вызовут даже из Цесиса дежурную машину, чтобы везти меня в вытрезвитель… Такая перспектива меня слегка успокоила.
В этот момент зазвонил телефон. После короткого разговора буфетчица спросила:
— Есть тут Бирзе? Звонили из дома культуры, велели передать, что сломалась машина, просили подождать, транспорт, мол, уже в дороге.
Пятирогая люстра стала светлее, долговязая и тощая буфетчица красивее. Ведь обо мне беспокоятся и читатели меня ждут…
Спустя час, несмотря на второй выпитый от нечего делать стакан вина, негодование опять помаленьку стало охватывать меня, однако отсутствие ночлега сдерживало. И тут в дверях показался пожилой мужик в ватнике и валенках, с кнутом в руке — водитель моего транспорта. Когда я выходил, Петер опять захрапел в размеренном ритме — шестнадцать раз в минуту.
На улице темнота превратила развалины в сказочный замок и меня приветствовал хор галок.
— Поехали! — сказал старик и указал на сани с кошевкой, с мешком, набитым сеном для сидения. Сани с овчиной для ног, разумеется, были бы удобнее, но в юности я достаточно наездился и эдак, попросту. Лошадь взяла с ходу мелкой рысью, пахнуло запахами сена и конюшни, и я почувствовал себя как в юности, когда при езде сам держал вожжи, разворачивая свиток длинных-предлинных раздумий зимней дороги.
— Так у вас машина сломалась? — начал разговор я.
— Не машина, а шофер, — прокряхтел старик. — Я-то говорил, что добром это не кончится, если закусывать только соленым огурцом.
Стоп. Раз уж этот мужик видел, что шофер закусывал только солеными огурцами, не надломлен ли, так сказать, и он сам? Будто услышав мои подозрения, старик заговорил:
— В этом смысле лучше лошади ничего еще не изобретено: на эдакой скорости костей не поломаешь. И водительские права никто не отымет — без прав ездим. Гей! Да выпусти ты ноги из шерсти! — хлестнул он лошадь концом вожжей, потому что та, прислушиваясь к нашему разговору, перешла с рыси на шаг.
— Тут же и подтвердилось, что на этом "транспорте" действительно костей поломать нельзя. Оскорбленная лошадь метнулась на обочину. Левый полоз саней соскользнул с утрамбованного снега в рыхлый. Сани несколько мгновений тащились косо, как крыло самолета в стремительном повороте, затем я с мешком свалился в снег. Считая, что таким образом она нас проучила, лошадь остановилась. Я выкарабкался из сугроба, вытряхнул снег из рукавов и штанин.
— Как же вы так… — укоризненно покачал головой старик. — Никогда не надо отпускать вожжи. — Он забыл, что единственные вожжи держал он сам.
Дрожа от озноба, я положил в сани мешок с соломой.
— И одеваться надо по-зимнему, если уж хотите съездить в деревню, — поучал он.
Я промолчал, что не я вызвался ехать на лошади.
— В ватнике да в валенках никогда не замерзнешь.
От этого нравоучения тепла не прибавилось, и, когда лошадь остановилась наконец, я вылез из саней с окоченевшими ногами и надеждой, что попаду сейчас в комнату, где уж непременно будет потеплее, чем в санях.
На балконе старого фольварка меня ждала полная девица с черными, по-мальчишечьи подстриженными волосами. В этом доме тепла, наверное, было в избытке, потому что руки у нее были до локтей голые, если не считать ремешка от ручных часов.
— Заведующая домом культуры, — представилась она. — В деревне всякое бывает, всего предвидеть невозможно., Сломается машина, где ты ночью другую возьмешь. Хорошо, что у нас здесь лошади. Зимой я и сама охотнее езжу на лошадях, тулуп только нужен, — и как бы с упреком оглядела мое демисезонное пальто. — Выпьем чаю, — великодушно предложила она.
Я взглянул на часы:
— Но уже восемь, пора начинать…
— А что же вы будете там делать, если зал пустой?
Я упал духом: неужто понапрасну я морозил ноги?..
— Это вам не город, — пояснила она. — Вы же, как писатель, должны понимать это. Вообще-то люди у нас приходят довольно точно. Если назначено на восемь, то в девять уж непременно начинаем. Если хотите ездить в деревню, то надо привыкать к этому.
От столь решительного тона я растерялся и извинился, что прибыл слишком рано.
— Ничего, выпьем пока чаю. — И повела меня на второй этаж.
Освещенная керосиновой восьмилинейной лампой винтообразная лестница, уютные деревянные балки казались декорацией из пьесы о деятелях культуры эпохи национального пробуждения, которые, распространяя просвещение, не боялись никаких трудностей, особенно если их за это еще и душистым малиновым чаем угощают.
— Электричество в принципе у нас есть, только месяц тому назад сломался трансформатор, — заметила заведующая.
На кухне в квартире заведующей, где старомодная плита с вмурованным в нее огромным котлом распространяла уютное тепло зимнего вечера, за столиком сидел еще какой-то молодой человек в тренировочном костюме и мрачно нарезал большие ломти ветчины.
— Наш шофер, у него сломалась машина, и с горя он, кажется, немножко выпил, — пояснила румяная черноглазка. — Он вас тут займет. Когда можно будет начинать, я вас позову.
Шофер не сказал ни слова, только ел ветчину, таким образом развлекая меня. А я, попивая чай, действительно отогрелся и уже начинал с юморком оценивать давешние невзгоды, потому что теперь, по крайней мере, я был спокоен за ночлег. И может быть, шофер притомится, и какой-нибудь кусочек ветчины перепадет и мне. Хотя бы вон та довольно толстая шкурка с жиром, которую он аккуратно отделял ножом от мяса. Если бы вокруг керосиновой лампы по стене ползало еще и несколько коричневых тараканов, это была бы уже идиллия деревенской жизни, как в мои детские годы. Но тараканов в деревне больше нет. Химия.
Около половины десятого, когда я уже выкурил последние папиросы, появилась заведующая.
— Ну, дольше ждать нет смысла. Я так и чуяла: не придут. Сегодня вечером по телевизору хоккей, сидят дома как пни. Разве их затащишь в дом культуры? В Риге этого никто не поймет.
— Но… тогда меня надо бы на другой вечер… — бормотал я, убитый ее честной откровенностью.
— А план мероприятий? Чтобы мне потом мылили голову? Ну нет. Пошли!
Сокрушенный логикой и планом мероприятий, я спускался вниз по винтовой лестнице, ступеньки которой скрипели и трещали, как сверчки. Наверное, полностью скрыть свои чувства от этой девушки я не смог, она приветливо схватила мой локоть и сказала:
— И не говорите! Специально для вас мы добыли электричество!
Что же я тут мог еще сказать?.. Я вошел в довольно большой зал, потолок которого тоже украшали мощные деревянные балки, покрытые потрескавшейся известкой. Я наскоро сосчитал: "любимого писателя", как меня в письме величала заведующая, ждали "широкие круги читателей села" в составе тринадцати человек.
Я прочел где-то, бывало, мол, что целая театральная труппа, человек в десять, выступала перед двумя-тремя зрителями. У меня же на сей раз было тринадцать на одного! Чуть ли не в пятьдесят раз больше! Этот подсчет меня успокоил, и я пошел на трибуну.
Одновременно с моими первыми словами за окном раздалось мощное тарахтенье какого-то дизеля, и в зало зажглось несколько электрических лампочек. Итак, за окном была электрическая машина. Для того чтобы "широкие круги читателей" слышали бы не только трактор, но и меня, я повысил голос. Однако вскоре я почувствовал, что у меня значительно меньше лошадиных сил, чем у трактора. Еще я успел заметить, что эти тринадцать там, в зале, — люди молодые, что один юноша ущипнул зеленое платье и что я нахожусь действительно в центре внимания, так как они старались разговаривать между собой тихо, чтобы не мешать ни мне, ни трактору. Но тут мой перенапряженный голос пресекся. Я слабо прошептал, что новейшая латышская проза мощна, и, убитый стечением обстоятельств, сошел с трибуны. Оказалось, я выдержал пятнадцать минут…
— Хорошо! — тут же похвалила меня заведующая. — Дольше нашу публику еще никто не выдерживал, да и нет в этом необходимости. Ах да! Один пенсионер говорил дольше, но он-то сам был туг на ухо… А теперь пусть себе танцуют… Очистить помещение! — приказала она тем тринадцати. — Надо купить билеты! — и таким макаром были выдворены из зала все "широкие круги читателей".
В вестибюле тем временем набралось вдвое больше народу, чем в зале слушали меня. Утратив иллюзии насчет любви читателей, я последовал за заведующей в теплую кухню, где тарахтение трактора было слышно меньше и где можно было хотя бы вдыхать запах копченого окорока.
Оказалось, что сегодня обо мне заботились непрерывно.
— Столовая уже закрыта, ужинать вам негде, вот мы и подумали, что вы можете поесть у нас, — заведующая вежливо посадила меня опять рядом с вышедшим из строя шофером, а сама спустилась вниз продавать билеты тем, кто пришел потанцевать.
Оказалось, что и шофер думал обо мне. Он заговорил впервые:
— Мы… очень за вас боялись, поэтому, э… мне не позволили ехать, чтобы не угодить с вами в столб. Правильно я говорю, а? Пейте. Это магазинная водка, нашу домашнюю вам бы не переварить, правильно я говорю, а?
В самом деле, теперь на столе находилась принесенная из магазина "маленькая". Замерзший, уставший, с уязвленным самолюбием, я немедленно помог шоферу опустошить бутылочку и прибрать последние ломти ветчины. Опять появилась добродушная заведующая домом культуры.
— У вас, наверное, тут никаких родственников нет? Мы так и знали. Вы сможете переночевать в школе! В учительской!
В ответ на столь великую честь я, видимо, должен был закричать: "Ура! Да здравствует!" — но я слишком устал.
— Арвид, проводи писателя, а я должна следить за танцующими!
Так мы и расстались в тот вечер. Арвид взял фонарь "летучая мышь", и я последовал за ним. Трактор еще гудел, но теперь шум, производимый им, нейтрализовала музыка, которую усилитель выбрасывал в зал. В окно я видел, как там разными стилями весело танцуют "широкие круги читателей".
Со двора фольварка мы вышли в поле, на занесенную снегом дорогу.
— Как это вы, выезжая в деревню, не надеваете сапог? — дивился Арвид, бредя без дороги напрямик по снегу.
Я ставил ноги в его следы. На мое счастье, туфли были тесноваты, и снегу в них набилось немного, К тому же пришлось брести по снегу недалеко — всего километра два.
Кирпичное здание школы встретило нас в полной тишине. Лишь редкие звездочки отсвечивали в темных окнах. Арвид поднял сонную уборщицу.
— Для этого писателя обговорен ночлег в учительской.
— Пусть спит, если выдержит, жаль, что ли, — ворчала тетка, впуская меня в пустое и ночью такое гулкое здание.
Почему это я здесь не смогу выдержать? Привидений я не боялся. Но может быть, крысы?
— Крыс нет, клопов тоже нет, — бубнила старая, открыла учительскую и зажгла свечу. — Керосиновую лампу не трогайте, может, вы и обращаться-то не умеете с ней, еще беды натворите. Одеяло на тахте. — Потом ее шаги долго звучали, удаляясь по коридору.
В окно я видел, как далеко в поле покачивается фонарь в руке Арвида, Затем он исчез за еловой аллеей, и тут я почувствовал себя одиноким, совершенно одиноким, без крыс и без клопов. Свеча была с палец длиной, так что для долгих размышлений времени не оставалось или пришлось бы шарить в темноте. Я постелил на тахту простыню, рванул с себя верхнюю одежду и влез под одеяло. Интересно, как выглядят учителя, которые на переменах тут сидят. Поскольку известно, что большинство учителей учительницы, то… Думая о красивых учительницах, я задремал.
Но ненадолго. Через полчаса я проснулся, скрюченный, как цыпленок в яйце. Меня разбудил лязг собственных зубов: итак, уборщица сомневалась, выдержу ли я холод!
Печь сверкала белым кафелем даже во мраке, но дрова в ней последний раз горели два дня тому назад, в субботу утром; а ведь на улице стоял мороз; когда я шел сюда, чувствительно пощипывало нос.
По порядку я надел на себя брюки, носки, пиджак. Туфли и галстук оставил в качестве последнего резерва. Пальто я накинул на серое фланелевое одеяльце. К трем часам ночи это уже не помогало. Тогда я сгрузил на пол чернильницы, "Учительские газеты", классные журналы. Завернувшись в высвобожденную таким образом бархатную скатерть, я снова полез под одеяло. Часа в четыре, при свете, огарочка свечи, я, начал вырабатывать план, как снять оконные занавески, но тут, к счастью, заметил на подоконнике "Календарь природы". В нем я нашел сведения, что восход солнца следует ожидать уже через два часа и семнадцать минут. Я решил выдержать. В одном приоткрытом ящике стола я заметил несколько начатых пачек папирос и две колоды очень замызганных карт. Судя по отпечаткам пальцев, карты долгое время находились в детских руках. Значит, это был ящик конфискованных сокровищ. Наверно, виноват в этом был мой промороженный мозг, потому что я стал искать в этом ящике и те исполненные нежных слов письма, которые отобрали у меня лет двадцать пять тому назад. Лишь спустя час я спохватился, что их отобрали у меня в Валмиере, а не в этой школе. Ну что ж, по крайней мере время шло. Конечно, солидным такое занятие не назовешь, но зато в это время я не так страдал от холода.
К утру я выкурил чужие папиросы и чужими картами сам с собой сыграл в настоящее "очко", причем ставка шла на довольно внушительные суммы, ибо рисковал я отчаянно.
Когда алое солнце всходило над рощами и над синеватым снегом, мороз стал просто невыносим. Я уже прикидывал, что учителя вряд ли станут перечитывать старые газеты и не бросить ли их в печь, но тут зазвонил телефон. Я взял трубку, ведь все равно больше нечем было заняться: Может, ежели полаюсь с кем-нибудь, то, если и не теплее, по крайней мере легче будет.
— Это заведующая домом культуры. Приходите побыстрее сюда, мы поможем вам добраться до автобуса. — И положила трубку.
Я так рванул из школы, что даже скатерть оставил на тахте.
В просторном, окруженном тяжелыми черепичными крышами дворе дома культуры меня уже ждала заведующая, бодрая и румяная, в шубе на собачьем меху, в берете, игриво надетом чуть набекрень.
— Как красиво у нас всходит солнце, не правда ли? Если вам нужен утюг, могу одолжить, — деликатно обмолвилась она, приметив мои мятые брюки.
Не успел я ей объяснить, что они помялись отнюдь не из-за моей неряшливости, как она снова зачирикала:
— Ну так я пойду теперь — председатель колхоза пообещал прихватить меня с собой, мне нужно в Ригу за нотами. Подождите тут. Арвид поищет кого-нибудь, кто подбросит вас до автобуса. — И была такова.
Солнце пока только светило, но не грело, поэтому я сразу принялся изучать двор. В одном конце большого здания находился молочный пункт. На помосте ставили в ряд молочные бидоны, а в дверях клубился белый теплый пар. На молочный пункт меня не пустили. Спросили: чего мне надо?
— Тепла! — крикнул я.
— Теплова? Такой тут не работает.
Но я не уходил. У дверей, хоть и снаружи, все же было потеплее, чем в учительской, хотя там было поуютнее. Я созерцал скворцов, которые, прилетев не ко времени, торчали на трубах…
Подъехала желтая молочная цистерна. Вылез Арвид, самоуверенный, свежий и отдохнувший.
— У меня еще один рейс, а то я сам одним махом домчал бы вас.
Мне было все равно, сам или не сам, лишь бы оказаться поближе к Цесису.
Подъехал еще один грузовик с молочными бидонами. Арвид подошел к шоферу, и я, сам того не желая, услышал такой разговор:
— Антон, тут оставили какого-то писателя, не мог бы ты его прихватить попутно до автобуса?
— Писатель? Пусть сидит дома и пишет.
— Да забери ты его. Я вчера немного того… мясо коптили, понял? А то еще напишет про меня в газету. Убрался бы побыстрее отсюда…
— Это другой оборот. Где он?
Через полчаса я опять сидел под знакомым навесом напротив развалин Н-ского замка. Галки с макушек лип улетели в поисках завтрака. Солнце уже грело вовсю, на дороге появились первые ручейки, и, повернув лицо к дружелюбным и теплым лучам, я чувствовал себя так, словно сбежал из тюремного подземелья: Но тюрьмы-то ведь не было, состоялась только "встреча с широкими кругами читателей", как об этом свидетельствовала поставленная энергичной заведующей домом культуры в плане мероприятий "галочка".
Я сел на цесисский автобус, в тепле сразу уснул и слышал во сие, как кто-то звал: "Галочка! Галочка!" На самом деле кассирша объявляла: "Цесис! Цесис!"
С тех пор я, если какой-нибудь дом культуры приглашает меня встретиться с "широкими кругами читателей", прежде всего обращаюсь с этим письмом к графологу, чтобы тот определил по подписи натуру заведующего. А то во имя новой "галочки" я могу и вправду замерзнуть. Ведь не каждый раз дело может обойтись двумя потерянными днями, двумя истраченными на дорогу рублями и насморком, для избавления от которого пошло два пол-литра магазинной водки.
Описывая исторические события в художественных произведениях, подлинные фамилии иной раз приводят лишь в том случае, если носители этих фамилий уже умерли. Поскольку женщина, которая превратила меня в "галочку", еще не достигла опасного возраста, ее фамилию и адрес не упомяну.
Несколько лет назад письмо позвало меня "встретиться с читателями" в одном сельском доме культуры, километрах в шестидесяти от Цесиса. Я только что переболел гриппом, ослаб и, опасаясь схватить еще и корь, от встречи отказался. Будто зная мой честолюбивый характер, заведующая домом культуры написала второе письмо, не преминув упомянуть, что "широкие круги читателей" села все же надеются видеть "любимого писателя" у себя. Получив такое письмо, я сдался. По телефону мы условились, что от Цесиса до села Н. я поеду на автобусе, там меня встретит машина, чтобы преодолеть последние десять километров.
В воскресенье пополудни я трясся эти оплаченные мною пятьдесят километров; сейчас, в начале марта, началась распутица, и шофер, как бы ни старался, не мор ровно проехать по выбоинам на дороге, промытым вешними водами. Зато ноги оставались сухими.
Но, сойдя с автобуса, я с первых же шагов почуял холод и влагу в ботинках, — увы, я позабыл, что такое оттепель на проселочной дороге, на мне были выходные туфли, как и полагается, когда идешь в гости. Ничего, подумал я, пересяду в другую машину, по дороге промокшие ноги обсохнут, а по приезде мне останется только навести блеск перчаткой.
Однако у автобусной остановки никто меня не ждал и машины было. На скамье сидел какой-то усталый человек. Голову он втянул в черный барашковый воротник так глубоко, что возникали сомнения, есть ли у него вообще таковая. Вероятно, все же была, так как, несмотря на овчинный фильтр, ясно был слышен храп, который ритмично раздавался ровно шестнадцать раз в минуту и в строго выдержанной тональности. Непохоже было, чтоб у спящего было задание встречать меня. Ничего, подумал я, распутица есть распутица, запоздать можно и неумышленно.
С полчаса я успокаивал себя таким образом, пока от промокших носков по спине не пробежали первые мурашки; не предвидя столь длительное пребывание на свежем воздухе, я надел легкое пальто. Одновременно с ознобом улетучился мой интерес к развалинам замка на другой стороне дороги; их охраняли голые ветви лип. Я сосчитал, что на макушках лип сидело тридцать семь галок и что навес автобусной остановки имеет ровно четыре шага в ширину. Смеркалось. Вместо галок я считал теперь ворон, потому что они крупнее и в сумерках легче различимы. Я поднял воротник и принялся стучать ногами об пол, отнюдь не от восторга, навеянного весенней погодой, а потому, что мерзли ноги.
Храп оборвался. Из воротника показалось лицо примерно сорокалетнего человека, обрамленное сверху ушанкой, а ниже черной щетиной.
— Я тоже мерзну. Пойдем обратно туда, где потеплее, — строго сказал мужчина.
Я не знал, откуда он пришел, поэтому ответил:
— За мной… придет машина.
— За мной тоже. В окно увидим.
Я так жаждал тепла, что согласился. К тому же выяснилось, что намочить ноги сильнее уже нельзя: внезапный морозец схватил лужицы, и под ногами заскрипел снег.
Я как-то не приметил, что напротив развалин замка под еловыми ветвями находился небольшой домик с приятной вывеской "Столовая". Ясно как божий день: там, где готовят, тепло, поэтому я радостно переступил порог вслед за незнакомцем.
Буфетная стойка, полки с бутербродами, бутылки с вином, четыре столика на металлических ножках с синей пластмассовой поверхностью, круглая жестяная печка и — теплынь. Голова не задевала пятирогую люстру, света хватало, чтобы сосчитать деньги…
— Петер, иди домой, на сегодня тебе достаточно, — ответила высокая буфетчица на мое приветствие.
— Нет, недостаточно, — уверенно ответив мой проводник. — Дай бутерброд с… серебристым хеком, — с трудом прочел он на ценнике.
— Гм… это можно, — протянула буфетчица.
— Возьми мне стакан вина, — шепотом, но строго приказал Петер и сунул мне в карман рубль.
По запаху, который окутывал Петера, нельзя было определить, какой марки вина ему больше по душе, поэтому, чтоб не ошибиться, я взял то, что покрепче. Мы сидели за одним столиком и потягивали вино. Спина от жестяной печки согрелась, но в душе лед возмущения не таял. Так одурачить меня! Я спросил у буфетчицы, во сколько часов идет следующий автобус на Цесис.
— Раньше один ходил еще вечером, но теперь, на время распутицы, его отменили.
— Но сейчас же дорогу подморозило! — воскликнул я, будто буфетчица могла отменять или назначать автобусы.
И гостиницы в селе нет. Тогда я спросил, где тут живет милиционер. В крайнем случае можно отрекомендоваться пьяным, надеясь, что тогда-то меня определенно не оставят без ночлега. Быть может, вызовут даже из Цесиса дежурную машину, чтобы везти меня в вытрезвитель… Такая перспектива меня слегка успокоила.
В этот момент зазвонил телефон. После короткого разговора буфетчица спросила:
— Есть тут Бирзе? Звонили из дома культуры, велели передать, что сломалась машина, просили подождать, транспорт, мол, уже в дороге.
Пятирогая люстра стала светлее, долговязая и тощая буфетчица красивее. Ведь обо мне беспокоятся и читатели меня ждут…
Спустя час, несмотря на второй выпитый от нечего делать стакан вина, негодование опять помаленьку стало охватывать меня, однако отсутствие ночлега сдерживало. И тут в дверях показался пожилой мужик в ватнике и валенках, с кнутом в руке — водитель моего транспорта. Когда я выходил, Петер опять захрапел в размеренном ритме — шестнадцать раз в минуту.
На улице темнота превратила развалины в сказочный замок и меня приветствовал хор галок.
— Поехали! — сказал старик и указал на сани с кошевкой, с мешком, набитым сеном для сидения. Сани с овчиной для ног, разумеется, были бы удобнее, но в юности я достаточно наездился и эдак, попросту. Лошадь взяла с ходу мелкой рысью, пахнуло запахами сена и конюшни, и я почувствовал себя как в юности, когда при езде сам держал вожжи, разворачивая свиток длинных-предлинных раздумий зимней дороги.
— Так у вас машина сломалась? — начал разговор я.
— Не машина, а шофер, — прокряхтел старик. — Я-то говорил, что добром это не кончится, если закусывать только соленым огурцом.
Стоп. Раз уж этот мужик видел, что шофер закусывал только солеными огурцами, не надломлен ли, так сказать, и он сам? Будто услышав мои подозрения, старик заговорил:
— В этом смысле лучше лошади ничего еще не изобретено: на эдакой скорости костей не поломаешь. И водительские права никто не отымет — без прав ездим. Гей! Да выпусти ты ноги из шерсти! — хлестнул он лошадь концом вожжей, потому что та, прислушиваясь к нашему разговору, перешла с рыси на шаг.
— Тут же и подтвердилось, что на этом "транспорте" действительно костей поломать нельзя. Оскорбленная лошадь метнулась на обочину. Левый полоз саней соскользнул с утрамбованного снега в рыхлый. Сани несколько мгновений тащились косо, как крыло самолета в стремительном повороте, затем я с мешком свалился в снег. Считая, что таким образом она нас проучила, лошадь остановилась. Я выкарабкался из сугроба, вытряхнул снег из рукавов и штанин.
— Как же вы так… — укоризненно покачал головой старик. — Никогда не надо отпускать вожжи. — Он забыл, что единственные вожжи держал он сам.
Дрожа от озноба, я положил в сани мешок с соломой.
— И одеваться надо по-зимнему, если уж хотите съездить в деревню, — поучал он.
Я промолчал, что не я вызвался ехать на лошади.
— В ватнике да в валенках никогда не замерзнешь.
От этого нравоучения тепла не прибавилось, и, когда лошадь остановилась наконец, я вылез из саней с окоченевшими ногами и надеждой, что попаду сейчас в комнату, где уж непременно будет потеплее, чем в санях.
На балконе старого фольварка меня ждала полная девица с черными, по-мальчишечьи подстриженными волосами. В этом доме тепла, наверное, было в избытке, потому что руки у нее были до локтей голые, если не считать ремешка от ручных часов.
— Заведующая домом культуры, — представилась она. — В деревне всякое бывает, всего предвидеть невозможно., Сломается машина, где ты ночью другую возьмешь. Хорошо, что у нас здесь лошади. Зимой я и сама охотнее езжу на лошадях, тулуп только нужен, — и как бы с упреком оглядела мое демисезонное пальто. — Выпьем чаю, — великодушно предложила она.
Я взглянул на часы:
— Но уже восемь, пора начинать…
— А что же вы будете там делать, если зал пустой?
Я упал духом: неужто понапрасну я морозил ноги?..
— Это вам не город, — пояснила она. — Вы же, как писатель, должны понимать это. Вообще-то люди у нас приходят довольно точно. Если назначено на восемь, то в девять уж непременно начинаем. Если хотите ездить в деревню, то надо привыкать к этому.
От столь решительного тона я растерялся и извинился, что прибыл слишком рано.
— Ничего, выпьем пока чаю. — И повела меня на второй этаж.
Освещенная керосиновой восьмилинейной лампой винтообразная лестница, уютные деревянные балки казались декорацией из пьесы о деятелях культуры эпохи национального пробуждения, которые, распространяя просвещение, не боялись никаких трудностей, особенно если их за это еще и душистым малиновым чаем угощают.
— Электричество в принципе у нас есть, только месяц тому назад сломался трансформатор, — заметила заведующая.
На кухне в квартире заведующей, где старомодная плита с вмурованным в нее огромным котлом распространяла уютное тепло зимнего вечера, за столиком сидел еще какой-то молодой человек в тренировочном костюме и мрачно нарезал большие ломти ветчины.
— Наш шофер, у него сломалась машина, и с горя он, кажется, немножко выпил, — пояснила румяная черноглазка. — Он вас тут займет. Когда можно будет начинать, я вас позову.
Шофер не сказал ни слова, только ел ветчину, таким образом развлекая меня. А я, попивая чай, действительно отогрелся и уже начинал с юморком оценивать давешние невзгоды, потому что теперь, по крайней мере, я был спокоен за ночлег. И может быть, шофер притомится, и какой-нибудь кусочек ветчины перепадет и мне. Хотя бы вон та довольно толстая шкурка с жиром, которую он аккуратно отделял ножом от мяса. Если бы вокруг керосиновой лампы по стене ползало еще и несколько коричневых тараканов, это была бы уже идиллия деревенской жизни, как в мои детские годы. Но тараканов в деревне больше нет. Химия.
Около половины десятого, когда я уже выкурил последние папиросы, появилась заведующая.
— Ну, дольше ждать нет смысла. Я так и чуяла: не придут. Сегодня вечером по телевизору хоккей, сидят дома как пни. Разве их затащишь в дом культуры? В Риге этого никто не поймет.
— Но… тогда меня надо бы на другой вечер… — бормотал я, убитый ее честной откровенностью.
— А план мероприятий? Чтобы мне потом мылили голову? Ну нет. Пошли!
Сокрушенный логикой и планом мероприятий, я спускался вниз по винтовой лестнице, ступеньки которой скрипели и трещали, как сверчки. Наверное, полностью скрыть свои чувства от этой девушки я не смог, она приветливо схватила мой локоть и сказала:
— И не говорите! Специально для вас мы добыли электричество!
Что же я тут мог еще сказать?.. Я вошел в довольно большой зал, потолок которого тоже украшали мощные деревянные балки, покрытые потрескавшейся известкой. Я наскоро сосчитал: "любимого писателя", как меня в письме величала заведующая, ждали "широкие круги читателей села" в составе тринадцати человек.
Я прочел где-то, бывало, мол, что целая театральная труппа, человек в десять, выступала перед двумя-тремя зрителями. У меня же на сей раз было тринадцать на одного! Чуть ли не в пятьдесят раз больше! Этот подсчет меня успокоил, и я пошел на трибуну.
Одновременно с моими первыми словами за окном раздалось мощное тарахтенье какого-то дизеля, и в зало зажглось несколько электрических лампочек. Итак, за окном была электрическая машина. Для того чтобы "широкие круги читателей" слышали бы не только трактор, но и меня, я повысил голос. Однако вскоре я почувствовал, что у меня значительно меньше лошадиных сил, чем у трактора. Еще я успел заметить, что эти тринадцать там, в зале, — люди молодые, что один юноша ущипнул зеленое платье и что я нахожусь действительно в центре внимания, так как они старались разговаривать между собой тихо, чтобы не мешать ни мне, ни трактору. Но тут мой перенапряженный голос пресекся. Я слабо прошептал, что новейшая латышская проза мощна, и, убитый стечением обстоятельств, сошел с трибуны. Оказалось, я выдержал пятнадцать минут…
— Хорошо! — тут же похвалила меня заведующая. — Дольше нашу публику еще никто не выдерживал, да и нет в этом необходимости. Ах да! Один пенсионер говорил дольше, но он-то сам был туг на ухо… А теперь пусть себе танцуют… Очистить помещение! — приказала она тем тринадцати. — Надо купить билеты! — и таким макаром были выдворены из зала все "широкие круги читателей".
В вестибюле тем временем набралось вдвое больше народу, чем в зале слушали меня. Утратив иллюзии насчет любви читателей, я последовал за заведующей в теплую кухню, где тарахтение трактора было слышно меньше и где можно было хотя бы вдыхать запах копченого окорока.
Оказалось, что сегодня обо мне заботились непрерывно.
— Столовая уже закрыта, ужинать вам негде, вот мы и подумали, что вы можете поесть у нас, — заведующая вежливо посадила меня опять рядом с вышедшим из строя шофером, а сама спустилась вниз продавать билеты тем, кто пришел потанцевать.
Оказалось, что и шофер думал обо мне. Он заговорил впервые:
— Мы… очень за вас боялись, поэтому, э… мне не позволили ехать, чтобы не угодить с вами в столб. Правильно я говорю, а? Пейте. Это магазинная водка, нашу домашнюю вам бы не переварить, правильно я говорю, а?
В самом деле, теперь на столе находилась принесенная из магазина "маленькая". Замерзший, уставший, с уязвленным самолюбием, я немедленно помог шоферу опустошить бутылочку и прибрать последние ломти ветчины. Опять появилась добродушная заведующая домом культуры.
— У вас, наверное, тут никаких родственников нет? Мы так и знали. Вы сможете переночевать в школе! В учительской!
В ответ на столь великую честь я, видимо, должен был закричать: "Ура! Да здравствует!" — но я слишком устал.
— Арвид, проводи писателя, а я должна следить за танцующими!
Так мы и расстались в тот вечер. Арвид взял фонарь "летучая мышь", и я последовал за ним. Трактор еще гудел, но теперь шум, производимый им, нейтрализовала музыка, которую усилитель выбрасывал в зал. В окно я видел, как там разными стилями весело танцуют "широкие круги читателей".
Со двора фольварка мы вышли в поле, на занесенную снегом дорогу.
— Как это вы, выезжая в деревню, не надеваете сапог? — дивился Арвид, бредя без дороги напрямик по снегу.
Я ставил ноги в его следы. На мое счастье, туфли были тесноваты, и снегу в них набилось немного, К тому же пришлось брести по снегу недалеко — всего километра два.
Кирпичное здание школы встретило нас в полной тишине. Лишь редкие звездочки отсвечивали в темных окнах. Арвид поднял сонную уборщицу.
— Для этого писателя обговорен ночлег в учительской.
— Пусть спит, если выдержит, жаль, что ли, — ворчала тетка, впуская меня в пустое и ночью такое гулкое здание.
Почему это я здесь не смогу выдержать? Привидений я не боялся. Но может быть, крысы?
— Крыс нет, клопов тоже нет, — бубнила старая, открыла учительскую и зажгла свечу. — Керосиновую лампу не трогайте, может, вы и обращаться-то не умеете с ней, еще беды натворите. Одеяло на тахте. — Потом ее шаги долго звучали, удаляясь по коридору.
В окно я видел, как далеко в поле покачивается фонарь в руке Арвида, Затем он исчез за еловой аллеей, и тут я почувствовал себя одиноким, совершенно одиноким, без крыс и без клопов. Свеча была с палец длиной, так что для долгих размышлений времени не оставалось или пришлось бы шарить в темноте. Я постелил на тахту простыню, рванул с себя верхнюю одежду и влез под одеяло. Интересно, как выглядят учителя, которые на переменах тут сидят. Поскольку известно, что большинство учителей учительницы, то… Думая о красивых учительницах, я задремал.
Но ненадолго. Через полчаса я проснулся, скрюченный, как цыпленок в яйце. Меня разбудил лязг собственных зубов: итак, уборщица сомневалась, выдержу ли я холод!
Печь сверкала белым кафелем даже во мраке, но дрова в ней последний раз горели два дня тому назад, в субботу утром; а ведь на улице стоял мороз; когда я шел сюда, чувствительно пощипывало нос.
По порядку я надел на себя брюки, носки, пиджак. Туфли и галстук оставил в качестве последнего резерва. Пальто я накинул на серое фланелевое одеяльце. К трем часам ночи это уже не помогало. Тогда я сгрузил на пол чернильницы, "Учительские газеты", классные журналы. Завернувшись в высвобожденную таким образом бархатную скатерть, я снова полез под одеяло. Часа в четыре, при свете, огарочка свечи, я, начал вырабатывать план, как снять оконные занавески, но тут, к счастью, заметил на подоконнике "Календарь природы". В нем я нашел сведения, что восход солнца следует ожидать уже через два часа и семнадцать минут. Я решил выдержать. В одном приоткрытом ящике стола я заметил несколько начатых пачек папирос и две колоды очень замызганных карт. Судя по отпечаткам пальцев, карты долгое время находились в детских руках. Значит, это был ящик конфискованных сокровищ. Наверно, виноват в этом был мой промороженный мозг, потому что я стал искать в этом ящике и те исполненные нежных слов письма, которые отобрали у меня лет двадцать пять тому назад. Лишь спустя час я спохватился, что их отобрали у меня в Валмиере, а не в этой школе. Ну что ж, по крайней мере время шло. Конечно, солидным такое занятие не назовешь, но зато в это время я не так страдал от холода.
К утру я выкурил чужие папиросы и чужими картами сам с собой сыграл в настоящее "очко", причем ставка шла на довольно внушительные суммы, ибо рисковал я отчаянно.
Когда алое солнце всходило над рощами и над синеватым снегом, мороз стал просто невыносим. Я уже прикидывал, что учителя вряд ли станут перечитывать старые газеты и не бросить ли их в печь, но тут зазвонил телефон. Я взял трубку, ведь все равно больше нечем было заняться: Может, ежели полаюсь с кем-нибудь, то, если и не теплее, по крайней мере легче будет.
— Это заведующая домом культуры. Приходите побыстрее сюда, мы поможем вам добраться до автобуса. — И положила трубку.
Я так рванул из школы, что даже скатерть оставил на тахте.
В просторном, окруженном тяжелыми черепичными крышами дворе дома культуры меня уже ждала заведующая, бодрая и румяная, в шубе на собачьем меху, в берете, игриво надетом чуть набекрень.
— Как красиво у нас всходит солнце, не правда ли? Если вам нужен утюг, могу одолжить, — деликатно обмолвилась она, приметив мои мятые брюки.
Не успел я ей объяснить, что они помялись отнюдь не из-за моей неряшливости, как она снова зачирикала:
— Ну так я пойду теперь — председатель колхоза пообещал прихватить меня с собой, мне нужно в Ригу за нотами. Подождите тут. Арвид поищет кого-нибудь, кто подбросит вас до автобуса. — И была такова.
Солнце пока только светило, но не грело, поэтому я сразу принялся изучать двор. В одном конце большого здания находился молочный пункт. На помосте ставили в ряд молочные бидоны, а в дверях клубился белый теплый пар. На молочный пункт меня не пустили. Спросили: чего мне надо?
— Тепла! — крикнул я.
— Теплова? Такой тут не работает.
Но я не уходил. У дверей, хоть и снаружи, все же было потеплее, чем в учительской, хотя там было поуютнее. Я созерцал скворцов, которые, прилетев не ко времени, торчали на трубах…
Подъехала желтая молочная цистерна. Вылез Арвид, самоуверенный, свежий и отдохнувший.
— У меня еще один рейс, а то я сам одним махом домчал бы вас.
Мне было все равно, сам или не сам, лишь бы оказаться поближе к Цесису.
Подъехал еще один грузовик с молочными бидонами. Арвид подошел к шоферу, и я, сам того не желая, услышал такой разговор:
— Антон, тут оставили какого-то писателя, не мог бы ты его прихватить попутно до автобуса?
— Писатель? Пусть сидит дома и пишет.
— Да забери ты его. Я вчера немного того… мясо коптили, понял? А то еще напишет про меня в газету. Убрался бы побыстрее отсюда…
— Это другой оборот. Где он?
Через полчаса я опять сидел под знакомым навесом напротив развалин Н-ского замка. Галки с макушек лип улетели в поисках завтрака. Солнце уже грело вовсю, на дороге появились первые ручейки, и, повернув лицо к дружелюбным и теплым лучам, я чувствовал себя так, словно сбежал из тюремного подземелья: Но тюрьмы-то ведь не было, состоялась только "встреча с широкими кругами читателей", как об этом свидетельствовала поставленная энергичной заведующей домом культуры в плане мероприятий "галочка".
Я сел на цесисский автобус, в тепле сразу уснул и слышал во сие, как кто-то звал: "Галочка! Галочка!" На самом деле кассирша объявляла: "Цесис! Цесис!"
С тех пор я, если какой-нибудь дом культуры приглашает меня встретиться с "широкими кругами читателей", прежде всего обращаюсь с этим письмом к графологу, чтобы тот определил по подписи натуру заведующего. А то во имя новой "галочки" я могу и вправду замерзнуть. Ведь не каждый раз дело может обойтись двумя потерянными днями, двумя истраченными на дорогу рублями и насморком, для избавления от которого пошло два пол-литра магазинной водки.
Прелестные маленькие карликовые яблоньки (Рассказик об одном садике)
 Только в фольклоре сохранились туманные поверья и наставления о том, как можно обрести друзей. Например, двух человек следует в парной хлестать одним веником, и они тогда якобы становятся друзьями. Зато еще издавна известен по крайней мерс один совершенно надежный способ, как приобрести врага: дать кому-то взаймы денег. Способ этот старый, такой же старый, как и деньги, потому что вместе с изобретением денег возникла и нехватка их.
Но однажды мне посчастливилось, одалживая деньги, приобрести сердечного друга. Его дружелюбие проявлялось в гостеприимстве, и оно было столь колоссальным, что чуть было не погубило меня.
Прошлой весной, когда сажали карточку, ко мне обратился пианист нашего заведения. (Мы оба работаем в санатории типа дома отдыха для сердечников.) Маэстро Янэлсинь умиленно поглядел на меня своими темными блошиного цвета глазами, которые так шли к черной полоске усиков, и сказал:
— Я не хочу внушать тебе, что у моей бабушки в Адеркашах вчера парализовало левую руку и пальцы ноги и что поэтому мне срочно нужны деньги, чтобы привезти для нее с Украины медицинские пиявки и апельсины. Это было бы нечестно. Также не стану лгать, что моя жена, вылезая из ванны, шумно шлепнулась, возникло воспаление ишиаса и поэтому нужны деньги, чтобы отвезти ее на Кемеровские грязи. Раньше или позже ты все равно узнаешь, что это неправда. Зачем, к примеру, нести вздор, что старая зазноба требует с меня алименты и убийственно нужны деньги, чтобы спасти ее честь и свою жизнь! Ну зачем я буду тебе, своему другу и товарищу по работе, лгать! Нет! Мы все должны бороться за этику. Скажу честно, как мужчине, знающему женщин: в магазин привезли шубы из искусственной овцы, и одна из них пришлась в самый раз моей жене.
Последняя фраза заставила меня радостно покраснеть, и от восторга, что человек так по-рыцарски честен и даже не пытается лгать, я одолжил Янэлсиню пятьдесят рублей.
Я не ошибся в нем. Из-за своего долга он не бросил работу, как об этом порою пишут в книгах. В местном ресторане за выпитое пиво Янэлсинь постоянно позволял платить мне, чтобы не показалось, будто он хочет из-за долга как-то подольститься, и, выпив, неизменно хлопал меня по плечу:
— Насчет денег не беспокойся, зарплату мы всегда получаем вовремя, четвертого и девятнадцатого.
Летом он сложил посвященную мне песню, женский хор самодеятельности исполнил ее на вечере отдыха, который выпал именно на мои именины — в день Августа. Песня начиналась со слов: "Не скажу, как звать тебя, ведь слова так часто лгут". Мелодия была немножко похожа на популярную в юности моей бабушки песню "Если б меня с Яковом настигла ночь".
Но вот когда убирали картошку, настал момент, когда я сам захотел подарить одной женщине шубу из искусственного леопарда, и у меня недоставало ровно пятидесяти рублей.
— Я должен тебе что-то сказать… я хотел бы купить… — сказал я Янэлсиню в один прекрасный день бабьего лета.
Он не стал уклоняться, нет, но сердечно потряс мне руку и несколько таинственно изрек:
— Понимаю, знаю. Приходи ко мне. Как раз цветут далии. Сто пятьдесят сортов.
Я готов был осматривать хоть цветущую сахарную свеклу, лишь бы получить свои пятьдесят рублей; под вечер я остановился у калитки садика Янэлсиня.
Под свисавшими с калитки усиками хмеля меня ожидали разлетевшиеся в улыбке усики Янэлсння, крепкое рукопожатие трижды окольцованной серебряными браслетами руки его жены и два книксена, которыми меня приветствовали девочки Янэлсиня.
— Наконец-то ты увидишь мой сад! — заметно взволнованный, воскликнул сам маэстро, схватил меня под руку и начал водить по саду.
Возможно, что под другой локоть меня подхватила оголенная рука в серебряных обручах, и я стал продвигаться по зеленому ковчегу Ноя, площадью в тысячу двести квадратных метров, в котором, судя по информации гидов, от каждого вида растений был воткнут корнями в землю по меньшей мере один образец. Я извиняюсь перед уважаемым читателем, что при дальнейшем изложении событий сорта цветов, овощей и фруктов, возможно, будут названы неправильно и даже перепутаны. В этом повинна супружеская чета Янэлсиней, так как в тот день они без злого умысла так все смешали у меня в голове, что теперь, говоря о садоводстве, я тоже все путаю.
Прежде всего они показывали три грядки георгинов, которые почему-то называли далиями. Многие названия были очень забавные, и у меня возникли опасения, не тяпнул ли малость Янэлсинь с горя, что надо возвращать деньги. Как, к примеру, можно назвать георгин "Федором Шаляпиным", если певец сам в своих мемуарах признавался, что пил вино? А цветы вроде бы поят водой? Затем жена Янэлсння заставила меня опустошить баночку с чем-то похожим на салат из тыквы.
— Корни далий, вернее, клубни, — пояснила она. — Сорок процентов полисахаридов. В будущем году мы посадим еще триста кустов и сахара не будем больше покупать.
Где-то на сто тринадцатом сорте и названия у меня началось небольшое головокружение, и я опустил очи долу.
Это сразу заметила жена Янэлсиня, и, чтобы освежить меня (а еще — дать отдохнуть Янэлсиню от затяжной беседы), она по-дружески сказала мне на ухо, так приблизившись, что я даже почувствовал ее дыхание, которое отдавало белой сиренью:
— Я как хозяйка дома должна больше заботиться о ваших желудках. Между далий я посадила огурцы. Вот эти — длинные, эти — толстые, эти — сладкие, эти — кислые! — И одна из девчушек тут же подала тарелочку с разными огурцами. Чтобы не обидеть воспитанных детей, которые непрерывно делали книксен, я съел и кислый, и сладкий, и толстый огурец. После чего я стал по меньшей мере на два килограмма тяжелее.
— Может, оставим сад до следующего раза… а теперь надо бы поговорить о других делах, — попытался возразить я.
— Нет! Ты так редко к нам приходишь! Теперь к фруктовым деревьям. — И Янэлсинь перенял меня из рук своей жены. — Фруктовые деревья — это честь, радость и гордость садовника. Лучших садовников награждают дипломами и медалями, им платят большие пенсии.
— Вы окажете нам честь, если хотя бы осмотрите деревья, — жена Янэлсиня обдала меня ароматом сирени.
Сил у меня осталось гораздо меньше, чем было час тому назад, но вежливость пока что еще сохранилась, и, немножко надломленный, я продолжал обход, поддерживаемый супругами.
— Я перешел на карликовые яблоньки, — пояснял Янэлсинь, зажав мой локоть, как в тисках. Поэтому я никак не мог повернуть в сторону веранды, чтобы под навесом приступить к серьезному разговору стоимостью в пятьдесят рублей.
— Вообще-то нам надо бы поговорить… о денежных делах, — попытался я напомнить еще раз.
— Не понимаю,как можно среди этих благоухающих цветов говорить о чем-то материальном… Не понимаю.. — вроде бы опечаленная, заговорила жена Янэлсиня, и я почти пожалел, о своем корыстолюбии.
— Успеется. Итак, карликовые деревья. На месте одной обычной яблони их можно воткнуть в землю целую дюжину, — значит, яблок будет тоже в двенадцать раз больше. Расстояние между ними — два на три метра. Кустарниковидные короткоствольные. Естественные пирамиды. — И Янэлсинь указал на дерево, похожее на молодую пышную березку, на ветках которой висели яблоки. — Ревельская грушовка.
Он протянул мне яблоко, которое надо было съесть, потому что оба взрослых и обе несовершеннолетние Янэлсини остановились и строго смотрели, чтобы яблоко не было отброшено прочь, а съедено до самого корешка. Так как было неудобно что-нибудь бросить на чистую дорожку, то я съел и корешок.
За четверть часа меня заставили съесть требу-сеянец, сахарок, серинку и суйслепа. После этого меня стала мучить изжога. Тут я вспомнил, что старые пьяницы не советуют смешивать сорта.
— Должен сказать, что сегодня я пришел к вам… — начал было опять, но меня прервала жена Янэлсиня:
— Это прекрасно, что пришли. Мы вас очень, очень ждали. Вы разве не чувствуете этого? Между яблок у нас посажены бобы. — Она нагнулась и пошевелила ботву конских бобов.
Янэлсинь поманил пальцем, и одна девочка тут же стала передо мной с тарелочкой, на которой лежали вареные стручки конских бобов. Другая протянула стакан и бутылку пива.
— Если вы не съедите, я обижусь, — сказала жена. — Это подлинно национальное блюдо. Его будто бы ели древние курши перед морскими сражениями в Ирбенском проливе.
Я съел соленые бобы, радуясь поначалу, что больше не надо есть кисло-сладкие яблоки, и выпил бутылку пива.
— А теперь прошу: сладкое блюдо, натуральное, не засахаренное. Витамины, минералы… Я где-то читал, что в сливах имеются даже надпочечные гормоны.
Янэлсинь схватил меня за руку и подвел к сливовому ряду. Девочки делали книксен, рвали с деревьев сливы и подавали их мне:
— Пожалуйста, попробуйте!
— Не порть, пожалуйста, детей! Если ты теперь не будешь есть, то и они начнут капризничать за столом, — попросил Янэлсинь, а потом пояснил, как звать каждую из слив, которые отбывали из рук хорошо обученных девчушек прямо к корням далий, яблокам и конским бобам. Кажется, я съел яичную сливу центральной Видземе, ренкуль или ренкшар, мирабель и несколько эдинбургских герцогов. Последних герцогов уже не было сил разжевать, и я проглотил их целиком.
— Я очень люблю разнообразие. Продолговатые и сладкие сливы напоминают мне ноты в красивой песне…
Однако огурцы, яблоки, сливы тем временем делали свое дело. В торсе что-то начало давить, я изогнулся, как складной нож. Мой взгляд остановился на чисто прополотой площадке, в которой я заметил мелкие дырочки.
— Ты, наверное, тут выращиваешь и дождевых червей, — промолвил я, потому что из сельскохозяйственных премудростей я овладел только этой темой.
— Да, да! — отозвался Янэлсинь, и в широкой улыбке концы усиков поднялись до самого носа. Наверное, он даже и не заметил мое бледное, удрученное тошнотой лицо. — Черви есть. Трех сортов: маленькие красные с желтыми колечками, обычные бледные и длинные проворные. Маленькие вон там, в углу, под конским навозом. Сходим, я покажу.
По аромату белой сирени я догадался, что это жена Янэлсиня положила мне в рот что-то круглое.
— Доморощенный персик! — победно воскликнула она.
Я машинально раскусил его, проглотил и тогда начал медленно терять сознание, потому что в животе стали набухать политые пивом конские бобы. Они действовали подобно бомбе замедленного действия, и, лишаясь чувств, я потащился в сторону калитки.
Я был согласен забыть про эти пятьдесят рублей, может быть, даже еще и доплатить пятерку, лишь бы кончилось такое состояние, будто я целую неделю на маленькой лодочке ездил по штормовому морю от Лиепаи до Риги и обратно.
— Жаль, что сейчас не весна, я показал бы тебе тюльпаны, — провожая меня, ворковал Янэлсинь. — Тебе-то как мужчине я мог бы показать, а то ведь тюльпаны очень… очень бесстыжие цветы. Когда цветок распускается, так и кажется, что он хочет целоваться. Одни тюльпаны у меня, знаешь, как ночник из женской спальни…
Минутку спустя по моему требованию вызвали врача. Когда я садился в машину врача, чтобы поехать в аптеку за английской солью, у калитки прелестного садика, обвитой плетями хмеля, стояла вся гостеприимная семья Янэлсиней. Жена с посеребренной рукой радостно помахала мне и воскликнула:
— Останьтесь! Я приготовлю вам салат из лепестков далий.
Славные кучерявые девчушки делали книксен. Янэлсинь пригладил усики и, когда автомобиль тронулся, вспомнил:
— Как жаль, что так получилось, я хотел отдать тебе деньги… А завтра у меня их уже не будет, я покупаю мотороллер.
Если теперь кто-нибудь приглашает меня в гости, я прежде всего осведомляюсь, нет ли у него возле дома маленького выращенного своими руками садика, в котором растут карликовые деревца. Если есть, то в гостя не хожу. В связи с этим я приобрел славу человека, не любящего природу, и члены местного общества садоводов и пчеловодов приняли решение отпустить мне цветы только по случаю моих похорон.
Только в фольклоре сохранились туманные поверья и наставления о том, как можно обрести друзей. Например, двух человек следует в парной хлестать одним веником, и они тогда якобы становятся друзьями. Зато еще издавна известен по крайней мерс один совершенно надежный способ, как приобрести врага: дать кому-то взаймы денег. Способ этот старый, такой же старый, как и деньги, потому что вместе с изобретением денег возникла и нехватка их.
Но однажды мне посчастливилось, одалживая деньги, приобрести сердечного друга. Его дружелюбие проявлялось в гостеприимстве, и оно было столь колоссальным, что чуть было не погубило меня.
Прошлой весной, когда сажали карточку, ко мне обратился пианист нашего заведения. (Мы оба работаем в санатории типа дома отдыха для сердечников.) Маэстро Янэлсинь умиленно поглядел на меня своими темными блошиного цвета глазами, которые так шли к черной полоске усиков, и сказал:
— Я не хочу внушать тебе, что у моей бабушки в Адеркашах вчера парализовало левую руку и пальцы ноги и что поэтому мне срочно нужны деньги, чтобы привезти для нее с Украины медицинские пиявки и апельсины. Это было бы нечестно. Также не стану лгать, что моя жена, вылезая из ванны, шумно шлепнулась, возникло воспаление ишиаса и поэтому нужны деньги, чтобы отвезти ее на Кемеровские грязи. Раньше или позже ты все равно узнаешь, что это неправда. Зачем, к примеру, нести вздор, что старая зазноба требует с меня алименты и убийственно нужны деньги, чтобы спасти ее честь и свою жизнь! Ну зачем я буду тебе, своему другу и товарищу по работе, лгать! Нет! Мы все должны бороться за этику. Скажу честно, как мужчине, знающему женщин: в магазин привезли шубы из искусственной овцы, и одна из них пришлась в самый раз моей жене.
Последняя фраза заставила меня радостно покраснеть, и от восторга, что человек так по-рыцарски честен и даже не пытается лгать, я одолжил Янэлсиню пятьдесят рублей.
Я не ошибся в нем. Из-за своего долга он не бросил работу, как об этом порою пишут в книгах. В местном ресторане за выпитое пиво Янэлсинь постоянно позволял платить мне, чтобы не показалось, будто он хочет из-за долга как-то подольститься, и, выпив, неизменно хлопал меня по плечу:
— Насчет денег не беспокойся, зарплату мы всегда получаем вовремя, четвертого и девятнадцатого.
Летом он сложил посвященную мне песню, женский хор самодеятельности исполнил ее на вечере отдыха, который выпал именно на мои именины — в день Августа. Песня начиналась со слов: "Не скажу, как звать тебя, ведь слова так часто лгут". Мелодия была немножко похожа на популярную в юности моей бабушки песню "Если б меня с Яковом настигла ночь".
Но вот когда убирали картошку, настал момент, когда я сам захотел подарить одной женщине шубу из искусственного леопарда, и у меня недоставало ровно пятидесяти рублей.
— Я должен тебе что-то сказать… я хотел бы купить… — сказал я Янэлсиню в один прекрасный день бабьего лета.
Он не стал уклоняться, нет, но сердечно потряс мне руку и несколько таинственно изрек:
— Понимаю, знаю. Приходи ко мне. Как раз цветут далии. Сто пятьдесят сортов.
Я готов был осматривать хоть цветущую сахарную свеклу, лишь бы получить свои пятьдесят рублей; под вечер я остановился у калитки садика Янэлсиня.
Под свисавшими с калитки усиками хмеля меня ожидали разлетевшиеся в улыбке усики Янэлсння, крепкое рукопожатие трижды окольцованной серебряными браслетами руки его жены и два книксена, которыми меня приветствовали девочки Янэлсиня.
— Наконец-то ты увидишь мой сад! — заметно взволнованный, воскликнул сам маэстро, схватил меня под руку и начал водить по саду.
Возможно, что под другой локоть меня подхватила оголенная рука в серебряных обручах, и я стал продвигаться по зеленому ковчегу Ноя, площадью в тысячу двести квадратных метров, в котором, судя по информации гидов, от каждого вида растений был воткнут корнями в землю по меньшей мере один образец. Я извиняюсь перед уважаемым читателем, что при дальнейшем изложении событий сорта цветов, овощей и фруктов, возможно, будут названы неправильно и даже перепутаны. В этом повинна супружеская чета Янэлсиней, так как в тот день они без злого умысла так все смешали у меня в голове, что теперь, говоря о садоводстве, я тоже все путаю.
Прежде всего они показывали три грядки георгинов, которые почему-то называли далиями. Многие названия были очень забавные, и у меня возникли опасения, не тяпнул ли малость Янэлсинь с горя, что надо возвращать деньги. Как, к примеру, можно назвать георгин "Федором Шаляпиным", если певец сам в своих мемуарах признавался, что пил вино? А цветы вроде бы поят водой? Затем жена Янэлсння заставила меня опустошить баночку с чем-то похожим на салат из тыквы.
— Корни далий, вернее, клубни, — пояснила она. — Сорок процентов полисахаридов. В будущем году мы посадим еще триста кустов и сахара не будем больше покупать.
Где-то на сто тринадцатом сорте и названия у меня началось небольшое головокружение, и я опустил очи долу.
Это сразу заметила жена Янэлсиня, и, чтобы освежить меня (а еще — дать отдохнуть Янэлсиню от затяжной беседы), она по-дружески сказала мне на ухо, так приблизившись, что я даже почувствовал ее дыхание, которое отдавало белой сиренью:
— Я как хозяйка дома должна больше заботиться о ваших желудках. Между далий я посадила огурцы. Вот эти — длинные, эти — толстые, эти — сладкие, эти — кислые! — И одна из девчушек тут же подала тарелочку с разными огурцами. Чтобы не обидеть воспитанных детей, которые непрерывно делали книксен, я съел и кислый, и сладкий, и толстый огурец. После чего я стал по меньшей мере на два килограмма тяжелее.
— Может, оставим сад до следующего раза… а теперь надо бы поговорить о других делах, — попытался возразить я.
— Нет! Ты так редко к нам приходишь! Теперь к фруктовым деревьям. — И Янэлсинь перенял меня из рук своей жены. — Фруктовые деревья — это честь, радость и гордость садовника. Лучших садовников награждают дипломами и медалями, им платят большие пенсии.
— Вы окажете нам честь, если хотя бы осмотрите деревья, — жена Янэлсиня обдала меня ароматом сирени.
Сил у меня осталось гораздо меньше, чем было час тому назад, но вежливость пока что еще сохранилась, и, немножко надломленный, я продолжал обход, поддерживаемый супругами.
— Я перешел на карликовые яблоньки, — пояснял Янэлсинь, зажав мой локоть, как в тисках. Поэтому я никак не мог повернуть в сторону веранды, чтобы под навесом приступить к серьезному разговору стоимостью в пятьдесят рублей.
— Вообще-то нам надо бы поговорить… о денежных делах, — попытался я напомнить еще раз.
— Не понимаю,как можно среди этих благоухающих цветов говорить о чем-то материальном… Не понимаю.. — вроде бы опечаленная, заговорила жена Янэлсиня, и я почти пожалел, о своем корыстолюбии.
— Успеется. Итак, карликовые деревья. На месте одной обычной яблони их можно воткнуть в землю целую дюжину, — значит, яблок будет тоже в двенадцать раз больше. Расстояние между ними — два на три метра. Кустарниковидные короткоствольные. Естественные пирамиды. — И Янэлсинь указал на дерево, похожее на молодую пышную березку, на ветках которой висели яблоки. — Ревельская грушовка.
Он протянул мне яблоко, которое надо было съесть, потому что оба взрослых и обе несовершеннолетние Янэлсини остановились и строго смотрели, чтобы яблоко не было отброшено прочь, а съедено до самого корешка. Так как было неудобно что-нибудь бросить на чистую дорожку, то я съел и корешок.
За четверть часа меня заставили съесть требу-сеянец, сахарок, серинку и суйслепа. После этого меня стала мучить изжога. Тут я вспомнил, что старые пьяницы не советуют смешивать сорта.
— Должен сказать, что сегодня я пришел к вам… — начал было опять, но меня прервала жена Янэлсиня:
— Это прекрасно, что пришли. Мы вас очень, очень ждали. Вы разве не чувствуете этого? Между яблок у нас посажены бобы. — Она нагнулась и пошевелила ботву конских бобов.
Янэлсинь поманил пальцем, и одна девочка тут же стала передо мной с тарелочкой, на которой лежали вареные стручки конских бобов. Другая протянула стакан и бутылку пива.
— Если вы не съедите, я обижусь, — сказала жена. — Это подлинно национальное блюдо. Его будто бы ели древние курши перед морскими сражениями в Ирбенском проливе.
Я съел соленые бобы, радуясь поначалу, что больше не надо есть кисло-сладкие яблоки, и выпил бутылку пива.
— А теперь прошу: сладкое блюдо, натуральное, не засахаренное. Витамины, минералы… Я где-то читал, что в сливах имеются даже надпочечные гормоны.
Янэлсинь схватил меня за руку и подвел к сливовому ряду. Девочки делали книксен, рвали с деревьев сливы и подавали их мне:
— Пожалуйста, попробуйте!
— Не порть, пожалуйста, детей! Если ты теперь не будешь есть, то и они начнут капризничать за столом, — попросил Янэлсинь, а потом пояснил, как звать каждую из слив, которые отбывали из рук хорошо обученных девчушек прямо к корням далий, яблокам и конским бобам. Кажется, я съел яичную сливу центральной Видземе, ренкуль или ренкшар, мирабель и несколько эдинбургских герцогов. Последних герцогов уже не было сил разжевать, и я проглотил их целиком.
— Я очень люблю разнообразие. Продолговатые и сладкие сливы напоминают мне ноты в красивой песне…
Однако огурцы, яблоки, сливы тем временем делали свое дело. В торсе что-то начало давить, я изогнулся, как складной нож. Мой взгляд остановился на чисто прополотой площадке, в которой я заметил мелкие дырочки.
— Ты, наверное, тут выращиваешь и дождевых червей, — промолвил я, потому что из сельскохозяйственных премудростей я овладел только этой темой.
— Да, да! — отозвался Янэлсинь, и в широкой улыбке концы усиков поднялись до самого носа. Наверное, он даже и не заметил мое бледное, удрученное тошнотой лицо. — Черви есть. Трех сортов: маленькие красные с желтыми колечками, обычные бледные и длинные проворные. Маленькие вон там, в углу, под конским навозом. Сходим, я покажу.
По аромату белой сирени я догадался, что это жена Янэлсиня положила мне в рот что-то круглое.
— Доморощенный персик! — победно воскликнула она.
Я машинально раскусил его, проглотил и тогда начал медленно терять сознание, потому что в животе стали набухать политые пивом конские бобы. Они действовали подобно бомбе замедленного действия, и, лишаясь чувств, я потащился в сторону калитки.
Я был согласен забыть про эти пятьдесят рублей, может быть, даже еще и доплатить пятерку, лишь бы кончилось такое состояние, будто я целую неделю на маленькой лодочке ездил по штормовому морю от Лиепаи до Риги и обратно.
— Жаль, что сейчас не весна, я показал бы тебе тюльпаны, — провожая меня, ворковал Янэлсинь. — Тебе-то как мужчине я мог бы показать, а то ведь тюльпаны очень… очень бесстыжие цветы. Когда цветок распускается, так и кажется, что он хочет целоваться. Одни тюльпаны у меня, знаешь, как ночник из женской спальни…
Минутку спустя по моему требованию вызвали врача. Когда я садился в машину врача, чтобы поехать в аптеку за английской солью, у калитки прелестного садика, обвитой плетями хмеля, стояла вся гостеприимная семья Янэлсиней. Жена с посеребренной рукой радостно помахала мне и воскликнула:
— Останьтесь! Я приготовлю вам салат из лепестков далий.
Славные кучерявые девчушки делали книксен. Янэлсинь пригладил усики и, когда автомобиль тронулся, вспомнил:
— Как жаль, что так получилось, я хотел отдать тебе деньги… А завтра у меня их уже не будет, я покупаю мотороллер.
Если теперь кто-нибудь приглашает меня в гости, я прежде всего осведомляюсь, нет ли у него возле дома маленького выращенного своими руками садика, в котором растут карликовые деревца. Если есть, то в гостя не хожу. В связи с этим я приобрел славу человека, не любящего природу, и члены местного общества садоводов и пчеловодов приняли решение отпустить мне цветы только по случаю моих похорон.
1964
Неправильный диагноз (Описание одной операции)
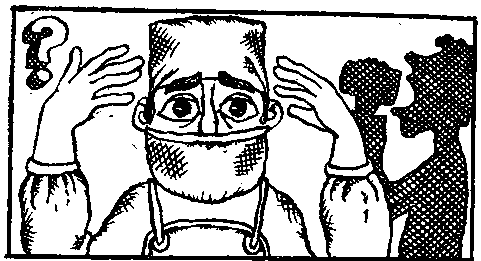 Врач, который пересказал мне этот случай, просил его имя не называть.
— Я буду рассказывать очень откровенно, — оправдывался он, — а откровенность, как известно, иной раз вызывает недоразумения.
За правильность этого высказывания пусть отвечает он сам, я привожу только его рассказ.
"Перед операцией я, как всегда, был уверен, что все закончится хорошо, потому что я отношусь к тем, кто не рискует. Газовую педаль машины я всегда нажимаю так осторожно, будто под ней мозоли дорогого мне человека, и, какие бы красавицы ни посылали меня за водяными лилиями, в озеро я заплываю только до тех пор, пока могу еще достать ногами до дна. На рентгеновском снимке больного видны были спайки, которые прикрепляли легкое к грудной клетке, не позволяя сомкнуться легкому, стало быть, и каверне — дыре в верхушке легкого. А свежая каверна — пренеприятная штука, в ней, как цыплята в инкубаторе, выводятся туберкулезные бациллы, отсюда они высеиваются по всему легкому. Словом, мне нужно было прижечь спайки.
Я начал процедуру мытья рук. Она необходима и скучна. Пока моешь руки, ты вспоминаешь и медицину, и ее побочные ответвления. Мои родственники старшего поколения — лютеране. Представителей других вероисповеданий они называют нехристями, поэтому и некритически высказываюсь только о католиках и православных. Изредка заглядывая в какую-нибудь церковь, чтобы полюбоваться стремительными готическими арками или посмотреть скульптуры прелестных ангелов, я обращал внимание на методические и весьма сложные церемонии служителей культа: то они произносят определенные трудно понимаемые изречении, то в заданный момент кланяются алтарю, затем, пропев соответствующую фразу, на некоторое время опускаются на колени. Я непременно бы запутался во всем этом, и вполне возможно, что, молясь и прося небесного садовника ниспослать теплый дождик, я своими превратными действиями вызвал бы град или снег. Священники, бедняжки, годами учатся этому премудрому ремеслу. Вот о чем думал я, пока соответствующее количество минут мыл руки под проточной водой и тщательно тер концы пальцев стерильными щеточками. Затем я опустил ладони в раствор нашатырного спирта. Пары его здорово щекотали нос и бодрили дух. Может быть, следовало бы подавать нашатырный спирт как обязательную добавку к питьевому, скажем — рядом с рюмочкой водки класть тампончик смоченной в нашатыре ваты. И если на званом вечере, к примеру, с возгласом "Поехали!" все подносили бы к носу и этот тампончик, то головы невольно откидывались бы назад, как от удара боксера по челюсти. И как знать, вдруг это стало бы новым способом в борьбе с пьянством.
— Камфару! — крикнул я, и сестра, коварно спрятав длинную иглу под марлей, поспешно удалилась, чтобы ввести в мягкое место оперируемого, камфарное масло для подкрепления сердца. Сам я тем временем три раза по три минуты натирал пальцы очень чистым спиртом, пока кожа не стала морщинистой, будто я целую неделю возился в мыльной пене с заношенными воротничками. Я повязал марлевую маску, как японец во время гриппа, и, высоко подмяв чистые руки, направился в операционный зал. Это довольно торжественный момент, когда руки врача считаются как бы священными и никто не имеет права прикоснуться к ним, чтобы не прилепить какой-нибудь ядовитый микроб.
Я проверил, приготовлена ли игла для анестезии, острый ли нож, и сказал:
— Больного!
Вошел больной, парень лет двадцати, назовем его Кирмушкой. Вошел и остановился у дверей. Теперь он выглядел еще меньше, чем был на самом деле. Кирмушка из-под черных бровей бросал вокруг пугливые взоры, будто хотел удостовериться, не спрятался ли кто-нибудь с палкой за дверью, казалось, он вот-вот пустится наутек обратно в свою согретую постель. Впрочем, в длинных белых кальсонах еще ни один мужчина не выглядел героем, подумал я и приветливо кивнул:
— Ложитесь так, чтобы левая рука была бы под левым ухом, хорошо… — и сразу же мне подумалось, что тут что-то не в порядке.
Маленький Кирмушка, смелый тракторист с торфоразработок, еще вчера был рассудительным парнем и посмеивался над пустяковой операцией, а теперь, пугливо оглядываясь по сторонам и выпятив толстую нижнюю губу, мелкими шажками приближался к операционному столу, как несчастный жених к алтарю, а стол был застлан белым, как брачная постель. Тут сестра схватила парня за руку, и Кирмушка, наверное постеснявшись, как и весь многострадальный род мужской, сопротивляться женщине, тяжело вздохнув, лёг на левый бок.
Однако ко мне Кирмушка отнесся как к мужчине. Он еще терпел, пока я протирал ему спиртом бок, лишь время от времени опускал поднятый локоть, будто отмахиваясь от мух, но, когда я взял шприц и приблизил к его ребрам, Кирмушка заорал:
— Нет! — и намеревался рвануть в сторону.
— Не волнуйтесь, эта игла тонкая, — успокаивал я.
Не помогло. Мы начали диспут. Поначалу я спокойным голосом повторил уже давно известную песенку:
— Операция удлинит вашу жизнь по меньшей мере лет на пятьдесят. При этой операции процент смертности за последние пятьдесят лет составляет круглый ноль. После обезболивания вы не ощутите боли сильнее, чем укус блохи. (В наше время, когда имеются хорошие порошки от блох, многие даже и не знают, что такое укус блохи, поэтому надо будет придумать что-нибудь другое.) Крови потеряете столько, сколько может высосать один комар. Через неделю сможете уже танцевать. Если не верите мне, спросите у кого-нибудь, кто уже перенес эту операцию, — психологически правильно закончил я.
Тот сразу вскинул голову:
— Я уже спрашивал. Именно поэтому и не хочу.
— У кого спрашивали?
— У Долгого Леона.
Долгий Леон был туберкулезник с пятнадцатилетним стажем, с тех недавних, но печальных времен, когда не было еще ни стрептомицина, ни фтивазида; он испытал на своей шкуре и газирование легких, и торакокаустику — операцию, которую я собирался сделать Кирмушке; ел собачий жир, ел и мед, запивая спиртом, — словом, применил всю современную и средневековую медицину.
— Ну, вот видите, Леон сказал вам, что это сущий пустяк, раз чихнуть, и все.
— Вовсе нет! — прошипел Кирмушка, пытаясь увернуться от иглы, которую я снова приблизил к смазанному йодом месту. — Леон сказал, что в бока втыкают такую штуку, дюймовую трубку. В прошлом месяце, мол, вся больница содрогалась, как один орал. Санитарка, говорит, вынесла две кровавых простыни, которые можно было отжимать. Да еще ребра ломают долотом…
Ах эта святая ложь! Долгий Леон за эти россказни с дикого Запада получит свое: прикажу запереть его штаны на целый месяц в шкаф, пусть тогда полежит и подумает, хорошо ли пугать других. Но что делать с Кир мушкой, который теперь пялится во все стороны и ждет — когда же принесут эти орудия пытки. Печально, конечно, что молодые и неуравновешенные люди порою больше верят старому пустомеле, чем ученому доктору.
Я еще сдерживался, потому что знал, что торакокаустика Кирмушке необходима. По очереди я перебрал все инструменты, которые применяют при этой операции, чтобы больной убедился, что тут ни одна штуковина не толще карандаша, и все время повторял:
— Больно не будет, совсем не будет больно. — В промежутках я не забывал и попугать: — Если спайки не прижечь, то я не ручаюсь…
Все же анестезийную иглу мне так и не удалось ввести между ребер Кирмушки. Наконец я потерял терпение и сквозь свою марлевую маску рявкнул:
— Довольно шутить! Или вы будете лежать спокойно и начнем операцию, или — марш отсюда! Трус… Боится укола иглы. Надо посмотреть, нет ли лужи под столом.
Разумеется, если бы больной сообщил куда следует, мне бы влетело за грубость; но это помогло, Кирмушка нервно подергал черными бровями и, совсем упав духом, сказал:
— Колите, — и больше он не барахтался.
Через длинную иглу я ввел в грудную клетку и вокруг реберных нервов чайный стакан новокаиновой жидкости, делал я это медленно и методически, совершенно восстановив необходимое спокойствие, и был уверен, что Кирмушка вовсе не почувствует боли. Я накинул на умолкшего Кирмушку операционную простыню и затем спокойной рукой взял скальпель, в двух местах надсек кожу — совсем немного, длиной примерно в сантиметр. Про себя я подумал, что, наверное, из-за небольшого разреза настоящие хирурги торакокаустику не относят к серьезным операциям. Ясно, что всякий разумный человек будет ставить операцию ну хотя бы слепой кишки, при которой разрез по меньшей мере раз в пять длиннее, чем при теракокаустике, раз в пять выше. Скрипнула грудная плевра, и я вонзил под мышкой между ребрами больного два шила толщиной с карандаш. Больной даже и не охнул — анестезия была безупречной. Затем в одну дыру я сунул эдакую длинную трубку, в конце которой была электрическая лампочка и система зеркал, так что я смог, передвигая инструмент вверх и вниз, обследовать всю грудную полость, в которую заранее между грудной клеткой и легкими накачали слой воздуха толщиной с ладонь. В операционном зале погасили свет, так лучше видна внутренняя сторона грудной полости. Это такая странная операция, которую производят в темноте и где все, что надо делать, видит только сам оперирующий. Я осматривал сероваторозовую поверхность легких:
— Видать, Кирмушка некурящий, у курильщиков цвет легкого от дыма серый, а местами даже черный.
— Некурящий и непьющий, — сонным голосом подтвердил Кирмушка.
Непьющий ли он, этого я не мог определить по поверхности легкого.
Я взглянул вниз, где картина напоминала туннель. Туннель опирался на блеклые, покрытые плеврой ребра, ребра в буквальном смысле слова. Я отыскал первую спайку, которая, как белая бечевка, тянулась от легкого к грудной клетке и при дыхании дергала легкое. Через другую дырку я всунул длинную железную штукенцию, в конце которой имелась платиновая петелька. В эту петельку я поймал спайку и ногой нажал на выключатель. Петелька красно запылала, поднялся дымок, и спайка стала медленно таять. В этом деле поспешность не годится. Потихоньку я теребил пылающей петелькой спайку, и в какой-то момент мне пришла на ум статья в стенной газете. Там один тип писал, что, несмотря на хороший голос, я не участвую в хоре санатория. Жизнь — пестрая штука, подумал я; как бы этому писаке тоже не пришлось лежать на операционном столе. Я-то буду работать так, что боли он не почувствует, но все же ему будет не по себе. Если бы я, к примеру, был писателем, то непременно выучился бы и на врача, чтобы пугать критиков, дескать, встретимся как-нибудь в кабинете, ты будешь голым, а у меня будет в руке тупая игла.
Спайка разорвалась, и я снял ногу с выключателя; платиновая петелька стала остывать. Я повернул Кирмушку и — черт побери! — увидел еще одну спайку у самой верхушки. Если я ее не прижгу, то дыра в легком не закроется. Обязательно надо и ее прижечь. Однако… под ало-белой спайкой пульсировал синеватый бугорок. Я хорошо знал его: там под тонкой грудной плеврой скрывалась большая артерия. В глазах оперирующего врача это — табу, более святое, чем любая икона, на нее можно только посмотреть, но ни в коем случае нельзя прикасаться чем-то острым или горячим, потому что тогда… лучше и не говорить об этом. Но спайку необходимо прижечь! Можно, конечно, сказать, что все возможное сделано, и пусть себе Кирмушка уходит спать, но надо бы все же попытаться.
Холодной петлей каутера я дотронулся до спайки. Ее удалось отвести в сторону от синеватой артерии, с кровеносным сосудом она, к счастью, не срослась. Если я теперь рассеку спайку, вытянутая верхушка легкого сомкнется и очага чахотки в нем больше не будет. Уже вначале я сказал, что за быструю езду на машине меня еще ни разу не штрафовали, рисковать не в моем характере. Ну, а если теперь, скажем, у Кирмушки опять ум за разум зайдет и он подтолкнет мою руку, то пылающая петля вонзится в большую артерию… не будем всуе поминать черта. Эх, кабы было так, то не было бы иначе и так далее. Я тяжело вздохнул сквозь свою марлевую маску, оттянул эластичную плевру как можно дальше от большого кровеносного сосуда и затем тихим, кротким голосом стал поучать Кирмушку:
— Теперь не кашляйте, не шевелитесь, не смейтесь и лежите спокойно, иначе вы угодите в морг, а я в тюрьму, — или что-то в этом роде.
— Куда?.. — осторожно осведомился Кирмушка под операционной простыней, затем утих и даже не шелохнулся.
Оттого, что я попал бы в тюрьму, ему, надо полагать, ни жарко, ни холодно не стало. И тут моя правая ступня нажала на выключатель. Петля запылала, и на странной сцене в грудной клетке, которую видел один я и только одним глазом, начался последний акт представления. Я тоже боялся дышать, готовый при первом движении сорвать ногу с выключателя и отдернуть петлю с опасного места.
Черт бы побрал эту кропотливую работу часовых дел мастера, при которой нельзя промахнуться и на два миллиметра. Лучше уж идти канавы рыть. Спина от пота мокрая как в одном, так и в другом случае, и сейчас у меня тоже соленая, как слеза, капля скатилась со лба вдоль носа. Напуганный Кирмушка дышал так тихо, что я внутри едва замечал движение освещенного крохотной лампочкой легкого.
Спайка разорвалась, верхушка легкого сомкнулась. Я перевел дыхание, выпрямил согнутую спину, в окружающей темноте дал отдохнуть уставшим глазам и потом снова нагнулся к оптике, чтобы еще лишний раз убедиться, что внутри все в порядке. Причудливый, покрытый жилистой, алой плеврой туннель из ребер, в котором удары сердца сотрясали легкое, был таким же, как давеча. Но вдруг: на легкое что-то капнуло с грудной клетки.
Темная капля крови…
Откуда? Я повернул свою лампочку в сторону грудной клетки. Нашел нервно пульсирующую артерию" возле которой только что сжигал белесую спайку.
Врач не должен выказывать волнения" так же как и, к примеру, актер, узнавший на сцене во время представления, что его милейший друг только что увел его дражайшую подругу. Сердце у меня странно сжалось, грудь сразу как бы опустела. В голове осталась еще одна-единственная мысль: чем можно помочь… ибо кровь сочилась оттуда, где рядом с большой артерией чернел обгорелый обрубок спайки. Неужто я задел этой горячей кочергой и самое артерию? Тогда конец…
И зачем я не был суеверным, когда Кир мушка так упирался, прежде чем позволил себя резать? Напрасно я винил Долгого Леона и его устрашающие россказни — Кирмушка сам все предчувствовал… Я подло воспользовался доверием больного к врачу.
Дверь открылась, и луч света на мгновение осветил простыню, под которой лежал и, возможно, смертельно истекал кровью Кирмушка. Вошел мой коллега Янис, который тоже знал эту операцию. Несмотря на опасность, у меня еще сохранилось привитое на факультете и на работе убеждение: ничего не скрывать, все равно ничего не скроешь. А может быть, может быть… Янис будет знать то, чего не знает никто: как помочь в этот момент. С прилипающим к нёбу языком я проскрипел:
— Посмотри! — и прислонился к стене.
Янис схватил оптику.
— Ну что ж, — через долгое мгновение откуда-то издалека я расслышал его медлительный голос.
— Но когда прижигал, спайку от артерии оттягивал как можно дальше, — лепетал я, будто это могло еще что-то изменить. — Что делать… — Машинально оберегая чистоту рук, я поднял их вверх, напоминая, наверное, в глубоких сумерках комнаты прижатого к стене преступника.
— Чего ж там еще делать? Зашивай.
— Значит, делать нечего…
— Ну конечно, спайки прижег.
— А сангвинация… — я употребил латинское обозначение кровотечения.
— Где?
— Из больших…
— Ты что, за дурака меня принимаешь? Там всего какая-то капелька и капнула, когда прижигал, а теперь полный порядок.
— Что? — я оттолкнул Яниса и сам приник к оптике.
Ну конечно же: я не коснулся артерии, а те несколько капелек просочились из прижигаемой спайки, как это нередко бывает. Исключительно опасное место, и несколько капелек крови вывели меня из равновесия. Значит, я был чересчур осторожным, это то же самое, что и трусливым, или же был слишком трусливым, что означает то же самое, что и сверхосторожность.
— Представление окончено! Свет! — теперь гордо крикнул я.
Сестра включила свет. Зашивая ранки, я беспощадно вонзал кривые, остистые иглы в кожу Кирмушки, так как знал, что ему не больно. Правда, получилось всего два шва. "Если так мало швов, то никто, конечно, не поверит, что тут была серьезная операция", — еще подумал я. Затем перевязал и, как обычно, велел больному идти в свою постель. Правда, я не произнес фразы, которую в свое время якобы изрек небезызвестный иудейский психотерапевт и чудотворец: "Бери свою кровать и гуляй", но чувствовал себя таким же гордым, ибо я тоже вернул к жизни больного, считавшегося уже, пусть и по недоразумению, безнадежным.
Кирмушка накинул на плечи зеленый санаторный халат. На голове его еще оставалась белая шапочка, и когда он, этот чернявый парень в белых кальсонах, уходил в сопровождении нянечки, то напоминал не то члена партии Индийский Национальный Конгресс, не то арабского шейха. Я заметил, что Кирмушка необычно бледен. Под густыми бровями вяло поднимались и опускались усталые веки. От недавнего воинственного настроения не осталось и следа. Наверное, испугался крови вроде меня, подумал я, забывая, что пациенты, к счастью, свою кровь не видят и поэтому столь отважны на операционном столе.
Я вошел в ординаторскую, как подкошенный упал на стул и прилип к сиденью, потому что мои брюки от пота стали неприлично влажными. Но старая операционная сестра знала, что в такие моменты необходимо: на столе уже дымилась чашечка черного кофе. Чашечка кофе для врача ни в какие списки медикаментов не входит, поэтому зерна я приносил с собой из дома. Сестра наливала в чашечку какую-то бесцветную, похожую на спирт жидкость. Но, по всей вероятности, это был не спирт, так как ни один контроль никогда не выявлял у нас недостачу спирта.
Горячий напиток освежил меня настолько, что я стал жаловаться:
— Больше не буду оперировать. Какого черта я должен губить свои нервы? Нервы доктора ни в один прейскурант не включены, новых не купишь. Не буду оперировать — и все тут. Нет такого закона, по которому я обязан оперировать.
— Доктор, вы говорите это уже в который раз, — спокойно заметила сестра и налила еще кофе.
Я, как и многие другие, не люблю, когда мне говорят правду, поэтому приказал:
— Не раздражайте меня! — И, уже заметно приободренный кофе, я пытался вообразить себе, как будет выглядеть на рентгене легкое Кирмушки, когда в нем зарубцуется разъеденная бациллами чахотки дырка.
Но полное счастье, наверное, не суждено испытать смертным: приоткрылась дверь, и санитарка тревожно доложила:
— Кирмушке совсем плохо: бледный и весь в поту…
Одним прыжком я очутился в палате: голова больного безжизненно соскользнула с высокого изголовья, глаза полуприкрыты и неподвижны, лицо и губы желтовато-бледные как сыр, на лбу мелкие капельки пота. Я схватил вялую, очень тяжелую руку. Пульс едва прослушивался. Ясно: к сожалению, прав был я, а не Янис — большая артерия кровоточит, грудная клетка больного наполняется кровью. К счастью, другие больные из палаты вышли.
— В операционную! Лаборантку, группу крови… — заплетающимся языком командовал я, но, чтобы помочь унести больного, сил больше не было.
Пока звонили в районную больницу, в кабинет переливания крови, я еще впрыснул лекарства, откупорил мешок с кислородом и вколол иглу в бок Кирмушки, пытаясь втянуть шприцем кровь, чтобы убедиться, что все же случилось то, о чем и говорить не хочется. Однако крови не было, в шприц вошел только воздух. Странно: состояние Кирмушки продолжало ухудшаться.
Когда за несколько минут ожидания крови для переливания и прихода второго хирурга мое внутреннее отчаяние достигло высшей степени, Кирмушка начал икать. Еще один зловещий симптом…
В полном смятении я уже подумывал о самоубийстве после смерти Кирмушки и о прощальной записке, в которой напишу о том, что виновным себя не чувствую, но не могу пережить тяжесть стыда и подозрений… Вдруг голова умирающего пациента соскользнула со стола, и его начало отвратительно рвать.
Это еще что за новый и странный симптом?
Я нагнулся и почуял неприятный запах водки; тут мне стало ясно, что этот симптом вовсе не новый, а ему по меньшей мере уже несколько столетий.
После рвоты умирающий Кирмушка раскраснелся, сам втащил голову на подушку и сразу уснул. Вошла санитарка и сообщила:
— Доктор, Долгий Леон только что хвастал в коридоре, как он напугал Кирмушку и тот перед операцией одним махом пропустил целую четвертинку. Посмотрим, говорит, что из этого получится, Кирмушка-то полный трезвенник, его сразу развезет.
Я-то видел, что получилось. Одним духом я выпил три особых кофе.
С тех пор я терпеть не могу пьяниц, и горе тому, кто в санатории балуется с бутылкой!"
Врач, который пересказал мне этот случай, просил его имя не называть.
— Я буду рассказывать очень откровенно, — оправдывался он, — а откровенность, как известно, иной раз вызывает недоразумения.
За правильность этого высказывания пусть отвечает он сам, я привожу только его рассказ.
"Перед операцией я, как всегда, был уверен, что все закончится хорошо, потому что я отношусь к тем, кто не рискует. Газовую педаль машины я всегда нажимаю так осторожно, будто под ней мозоли дорогого мне человека, и, какие бы красавицы ни посылали меня за водяными лилиями, в озеро я заплываю только до тех пор, пока могу еще достать ногами до дна. На рентгеновском снимке больного видны были спайки, которые прикрепляли легкое к грудной клетке, не позволяя сомкнуться легкому, стало быть, и каверне — дыре в верхушке легкого. А свежая каверна — пренеприятная штука, в ней, как цыплята в инкубаторе, выводятся туберкулезные бациллы, отсюда они высеиваются по всему легкому. Словом, мне нужно было прижечь спайки.
Я начал процедуру мытья рук. Она необходима и скучна. Пока моешь руки, ты вспоминаешь и медицину, и ее побочные ответвления. Мои родственники старшего поколения — лютеране. Представителей других вероисповеданий они называют нехристями, поэтому и некритически высказываюсь только о католиках и православных. Изредка заглядывая в какую-нибудь церковь, чтобы полюбоваться стремительными готическими арками или посмотреть скульптуры прелестных ангелов, я обращал внимание на методические и весьма сложные церемонии служителей культа: то они произносят определенные трудно понимаемые изречении, то в заданный момент кланяются алтарю, затем, пропев соответствующую фразу, на некоторое время опускаются на колени. Я непременно бы запутался во всем этом, и вполне возможно, что, молясь и прося небесного садовника ниспослать теплый дождик, я своими превратными действиями вызвал бы град или снег. Священники, бедняжки, годами учатся этому премудрому ремеслу. Вот о чем думал я, пока соответствующее количество минут мыл руки под проточной водой и тщательно тер концы пальцев стерильными щеточками. Затем я опустил ладони в раствор нашатырного спирта. Пары его здорово щекотали нос и бодрили дух. Может быть, следовало бы подавать нашатырный спирт как обязательную добавку к питьевому, скажем — рядом с рюмочкой водки класть тампончик смоченной в нашатыре ваты. И если на званом вечере, к примеру, с возгласом "Поехали!" все подносили бы к носу и этот тампончик, то головы невольно откидывались бы назад, как от удара боксера по челюсти. И как знать, вдруг это стало бы новым способом в борьбе с пьянством.
— Камфару! — крикнул я, и сестра, коварно спрятав длинную иглу под марлей, поспешно удалилась, чтобы ввести в мягкое место оперируемого, камфарное масло для подкрепления сердца. Сам я тем временем три раза по три минуты натирал пальцы очень чистым спиртом, пока кожа не стала морщинистой, будто я целую неделю возился в мыльной пене с заношенными воротничками. Я повязал марлевую маску, как японец во время гриппа, и, высоко подмяв чистые руки, направился в операционный зал. Это довольно торжественный момент, когда руки врача считаются как бы священными и никто не имеет права прикоснуться к ним, чтобы не прилепить какой-нибудь ядовитый микроб.
Я проверил, приготовлена ли игла для анестезии, острый ли нож, и сказал:
— Больного!
Вошел больной, парень лет двадцати, назовем его Кирмушкой. Вошел и остановился у дверей. Теперь он выглядел еще меньше, чем был на самом деле. Кирмушка из-под черных бровей бросал вокруг пугливые взоры, будто хотел удостовериться, не спрятался ли кто-нибудь с палкой за дверью, казалось, он вот-вот пустится наутек обратно в свою согретую постель. Впрочем, в длинных белых кальсонах еще ни один мужчина не выглядел героем, подумал я и приветливо кивнул:
— Ложитесь так, чтобы левая рука была бы под левым ухом, хорошо… — и сразу же мне подумалось, что тут что-то не в порядке.
Маленький Кирмушка, смелый тракторист с торфоразработок, еще вчера был рассудительным парнем и посмеивался над пустяковой операцией, а теперь, пугливо оглядываясь по сторонам и выпятив толстую нижнюю губу, мелкими шажками приближался к операционному столу, как несчастный жених к алтарю, а стол был застлан белым, как брачная постель. Тут сестра схватила парня за руку, и Кирмушка, наверное постеснявшись, как и весь многострадальный род мужской, сопротивляться женщине, тяжело вздохнув, лёг на левый бок.
Однако ко мне Кирмушка отнесся как к мужчине. Он еще терпел, пока я протирал ему спиртом бок, лишь время от времени опускал поднятый локоть, будто отмахиваясь от мух, но, когда я взял шприц и приблизил к его ребрам, Кирмушка заорал:
— Нет! — и намеревался рвануть в сторону.
— Не волнуйтесь, эта игла тонкая, — успокаивал я.
Не помогло. Мы начали диспут. Поначалу я спокойным голосом повторил уже давно известную песенку:
— Операция удлинит вашу жизнь по меньшей мере лет на пятьдесят. При этой операции процент смертности за последние пятьдесят лет составляет круглый ноль. После обезболивания вы не ощутите боли сильнее, чем укус блохи. (В наше время, когда имеются хорошие порошки от блох, многие даже и не знают, что такое укус блохи, поэтому надо будет придумать что-нибудь другое.) Крови потеряете столько, сколько может высосать один комар. Через неделю сможете уже танцевать. Если не верите мне, спросите у кого-нибудь, кто уже перенес эту операцию, — психологически правильно закончил я.
Тот сразу вскинул голову:
— Я уже спрашивал. Именно поэтому и не хочу.
— У кого спрашивали?
— У Долгого Леона.
Долгий Леон был туберкулезник с пятнадцатилетним стажем, с тех недавних, но печальных времен, когда не было еще ни стрептомицина, ни фтивазида; он испытал на своей шкуре и газирование легких, и торакокаустику — операцию, которую я собирался сделать Кирмушке; ел собачий жир, ел и мед, запивая спиртом, — словом, применил всю современную и средневековую медицину.
— Ну, вот видите, Леон сказал вам, что это сущий пустяк, раз чихнуть, и все.
— Вовсе нет! — прошипел Кирмушка, пытаясь увернуться от иглы, которую я снова приблизил к смазанному йодом месту. — Леон сказал, что в бока втыкают такую штуку, дюймовую трубку. В прошлом месяце, мол, вся больница содрогалась, как один орал. Санитарка, говорит, вынесла две кровавых простыни, которые можно было отжимать. Да еще ребра ломают долотом…
Ах эта святая ложь! Долгий Леон за эти россказни с дикого Запада получит свое: прикажу запереть его штаны на целый месяц в шкаф, пусть тогда полежит и подумает, хорошо ли пугать других. Но что делать с Кир мушкой, который теперь пялится во все стороны и ждет — когда же принесут эти орудия пытки. Печально, конечно, что молодые и неуравновешенные люди порою больше верят старому пустомеле, чем ученому доктору.
Я еще сдерживался, потому что знал, что торакокаустика Кирмушке необходима. По очереди я перебрал все инструменты, которые применяют при этой операции, чтобы больной убедился, что тут ни одна штуковина не толще карандаша, и все время повторял:
— Больно не будет, совсем не будет больно. — В промежутках я не забывал и попугать: — Если спайки не прижечь, то я не ручаюсь…
Все же анестезийную иглу мне так и не удалось ввести между ребер Кирмушки. Наконец я потерял терпение и сквозь свою марлевую маску рявкнул:
— Довольно шутить! Или вы будете лежать спокойно и начнем операцию, или — марш отсюда! Трус… Боится укола иглы. Надо посмотреть, нет ли лужи под столом.
Разумеется, если бы больной сообщил куда следует, мне бы влетело за грубость; но это помогло, Кирмушка нервно подергал черными бровями и, совсем упав духом, сказал:
— Колите, — и больше он не барахтался.
Через длинную иглу я ввел в грудную клетку и вокруг реберных нервов чайный стакан новокаиновой жидкости, делал я это медленно и методически, совершенно восстановив необходимое спокойствие, и был уверен, что Кирмушка вовсе не почувствует боли. Я накинул на умолкшего Кирмушку операционную простыню и затем спокойной рукой взял скальпель, в двух местах надсек кожу — совсем немного, длиной примерно в сантиметр. Про себя я подумал, что, наверное, из-за небольшого разреза настоящие хирурги торакокаустику не относят к серьезным операциям. Ясно, что всякий разумный человек будет ставить операцию ну хотя бы слепой кишки, при которой разрез по меньшей мере раз в пять длиннее, чем при теракокаустике, раз в пять выше. Скрипнула грудная плевра, и я вонзил под мышкой между ребрами больного два шила толщиной с карандаш. Больной даже и не охнул — анестезия была безупречной. Затем в одну дыру я сунул эдакую длинную трубку, в конце которой была электрическая лампочка и система зеркал, так что я смог, передвигая инструмент вверх и вниз, обследовать всю грудную полость, в которую заранее между грудной клеткой и легкими накачали слой воздуха толщиной с ладонь. В операционном зале погасили свет, так лучше видна внутренняя сторона грудной полости. Это такая странная операция, которую производят в темноте и где все, что надо делать, видит только сам оперирующий. Я осматривал сероваторозовую поверхность легких:
— Видать, Кирмушка некурящий, у курильщиков цвет легкого от дыма серый, а местами даже черный.
— Некурящий и непьющий, — сонным голосом подтвердил Кирмушка.
Непьющий ли он, этого я не мог определить по поверхности легкого.
Я взглянул вниз, где картина напоминала туннель. Туннель опирался на блеклые, покрытые плеврой ребра, ребра в буквальном смысле слова. Я отыскал первую спайку, которая, как белая бечевка, тянулась от легкого к грудной клетке и при дыхании дергала легкое. Через другую дырку я всунул длинную железную штукенцию, в конце которой имелась платиновая петелька. В эту петельку я поймал спайку и ногой нажал на выключатель. Петелька красно запылала, поднялся дымок, и спайка стала медленно таять. В этом деле поспешность не годится. Потихоньку я теребил пылающей петелькой спайку, и в какой-то момент мне пришла на ум статья в стенной газете. Там один тип писал, что, несмотря на хороший голос, я не участвую в хоре санатория. Жизнь — пестрая штука, подумал я; как бы этому писаке тоже не пришлось лежать на операционном столе. Я-то буду работать так, что боли он не почувствует, но все же ему будет не по себе. Если бы я, к примеру, был писателем, то непременно выучился бы и на врача, чтобы пугать критиков, дескать, встретимся как-нибудь в кабинете, ты будешь голым, а у меня будет в руке тупая игла.
Спайка разорвалась, и я снял ногу с выключателя; платиновая петелька стала остывать. Я повернул Кирмушку и — черт побери! — увидел еще одну спайку у самой верхушки. Если я ее не прижгу, то дыра в легком не закроется. Обязательно надо и ее прижечь. Однако… под ало-белой спайкой пульсировал синеватый бугорок. Я хорошо знал его: там под тонкой грудной плеврой скрывалась большая артерия. В глазах оперирующего врача это — табу, более святое, чем любая икона, на нее можно только посмотреть, но ни в коем случае нельзя прикасаться чем-то острым или горячим, потому что тогда… лучше и не говорить об этом. Но спайку необходимо прижечь! Можно, конечно, сказать, что все возможное сделано, и пусть себе Кирмушка уходит спать, но надо бы все же попытаться.
Холодной петлей каутера я дотронулся до спайки. Ее удалось отвести в сторону от синеватой артерии, с кровеносным сосудом она, к счастью, не срослась. Если я теперь рассеку спайку, вытянутая верхушка легкого сомкнется и очага чахотки в нем больше не будет. Уже вначале я сказал, что за быструю езду на машине меня еще ни разу не штрафовали, рисковать не в моем характере. Ну, а если теперь, скажем, у Кирмушки опять ум за разум зайдет и он подтолкнет мою руку, то пылающая петля вонзится в большую артерию… не будем всуе поминать черта. Эх, кабы было так, то не было бы иначе и так далее. Я тяжело вздохнул сквозь свою марлевую маску, оттянул эластичную плевру как можно дальше от большого кровеносного сосуда и затем тихим, кротким голосом стал поучать Кирмушку:
— Теперь не кашляйте, не шевелитесь, не смейтесь и лежите спокойно, иначе вы угодите в морг, а я в тюрьму, — или что-то в этом роде.
— Куда?.. — осторожно осведомился Кирмушка под операционной простыней, затем утих и даже не шелохнулся.
Оттого, что я попал бы в тюрьму, ему, надо полагать, ни жарко, ни холодно не стало. И тут моя правая ступня нажала на выключатель. Петля запылала, и на странной сцене в грудной клетке, которую видел один я и только одним глазом, начался последний акт представления. Я тоже боялся дышать, готовый при первом движении сорвать ногу с выключателя и отдернуть петлю с опасного места.
Черт бы побрал эту кропотливую работу часовых дел мастера, при которой нельзя промахнуться и на два миллиметра. Лучше уж идти канавы рыть. Спина от пота мокрая как в одном, так и в другом случае, и сейчас у меня тоже соленая, как слеза, капля скатилась со лба вдоль носа. Напуганный Кирмушка дышал так тихо, что я внутри едва замечал движение освещенного крохотной лампочкой легкого.
Спайка разорвалась, верхушка легкого сомкнулась. Я перевел дыхание, выпрямил согнутую спину, в окружающей темноте дал отдохнуть уставшим глазам и потом снова нагнулся к оптике, чтобы еще лишний раз убедиться, что внутри все в порядке. Причудливый, покрытый жилистой, алой плеврой туннель из ребер, в котором удары сердца сотрясали легкое, был таким же, как давеча. Но вдруг: на легкое что-то капнуло с грудной клетки.
Темная капля крови…
Откуда? Я повернул свою лампочку в сторону грудной клетки. Нашел нервно пульсирующую артерию" возле которой только что сжигал белесую спайку.
Врач не должен выказывать волнения" так же как и, к примеру, актер, узнавший на сцене во время представления, что его милейший друг только что увел его дражайшую подругу. Сердце у меня странно сжалось, грудь сразу как бы опустела. В голове осталась еще одна-единственная мысль: чем можно помочь… ибо кровь сочилась оттуда, где рядом с большой артерией чернел обгорелый обрубок спайки. Неужто я задел этой горячей кочергой и самое артерию? Тогда конец…
И зачем я не был суеверным, когда Кир мушка так упирался, прежде чем позволил себя резать? Напрасно я винил Долгого Леона и его устрашающие россказни — Кирмушка сам все предчувствовал… Я подло воспользовался доверием больного к врачу.
Дверь открылась, и луч света на мгновение осветил простыню, под которой лежал и, возможно, смертельно истекал кровью Кирмушка. Вошел мой коллега Янис, который тоже знал эту операцию. Несмотря на опасность, у меня еще сохранилось привитое на факультете и на работе убеждение: ничего не скрывать, все равно ничего не скроешь. А может быть, может быть… Янис будет знать то, чего не знает никто: как помочь в этот момент. С прилипающим к нёбу языком я проскрипел:
— Посмотри! — и прислонился к стене.
Янис схватил оптику.
— Ну что ж, — через долгое мгновение откуда-то издалека я расслышал его медлительный голос.
— Но когда прижигал, спайку от артерии оттягивал как можно дальше, — лепетал я, будто это могло еще что-то изменить. — Что делать… — Машинально оберегая чистоту рук, я поднял их вверх, напоминая, наверное, в глубоких сумерках комнаты прижатого к стене преступника.
— Чего ж там еще делать? Зашивай.
— Значит, делать нечего…
— Ну конечно, спайки прижег.
— А сангвинация… — я употребил латинское обозначение кровотечения.
— Где?
— Из больших…
— Ты что, за дурака меня принимаешь? Там всего какая-то капелька и капнула, когда прижигал, а теперь полный порядок.
— Что? — я оттолкнул Яниса и сам приник к оптике.
Ну конечно же: я не коснулся артерии, а те несколько капелек просочились из прижигаемой спайки, как это нередко бывает. Исключительно опасное место, и несколько капелек крови вывели меня из равновесия. Значит, я был чересчур осторожным, это то же самое, что и трусливым, или же был слишком трусливым, что означает то же самое, что и сверхосторожность.
— Представление окончено! Свет! — теперь гордо крикнул я.
Сестра включила свет. Зашивая ранки, я беспощадно вонзал кривые, остистые иглы в кожу Кирмушки, так как знал, что ему не больно. Правда, получилось всего два шва. "Если так мало швов, то никто, конечно, не поверит, что тут была серьезная операция", — еще подумал я. Затем перевязал и, как обычно, велел больному идти в свою постель. Правда, я не произнес фразы, которую в свое время якобы изрек небезызвестный иудейский психотерапевт и чудотворец: "Бери свою кровать и гуляй", но чувствовал себя таким же гордым, ибо я тоже вернул к жизни больного, считавшегося уже, пусть и по недоразумению, безнадежным.
Кирмушка накинул на плечи зеленый санаторный халат. На голове его еще оставалась белая шапочка, и когда он, этот чернявый парень в белых кальсонах, уходил в сопровождении нянечки, то напоминал не то члена партии Индийский Национальный Конгресс, не то арабского шейха. Я заметил, что Кирмушка необычно бледен. Под густыми бровями вяло поднимались и опускались усталые веки. От недавнего воинственного настроения не осталось и следа. Наверное, испугался крови вроде меня, подумал я, забывая, что пациенты, к счастью, свою кровь не видят и поэтому столь отважны на операционном столе.
Я вошел в ординаторскую, как подкошенный упал на стул и прилип к сиденью, потому что мои брюки от пота стали неприлично влажными. Но старая операционная сестра знала, что в такие моменты необходимо: на столе уже дымилась чашечка черного кофе. Чашечка кофе для врача ни в какие списки медикаментов не входит, поэтому зерна я приносил с собой из дома. Сестра наливала в чашечку какую-то бесцветную, похожую на спирт жидкость. Но, по всей вероятности, это был не спирт, так как ни один контроль никогда не выявлял у нас недостачу спирта.
Горячий напиток освежил меня настолько, что я стал жаловаться:
— Больше не буду оперировать. Какого черта я должен губить свои нервы? Нервы доктора ни в один прейскурант не включены, новых не купишь. Не буду оперировать — и все тут. Нет такого закона, по которому я обязан оперировать.
— Доктор, вы говорите это уже в который раз, — спокойно заметила сестра и налила еще кофе.
Я, как и многие другие, не люблю, когда мне говорят правду, поэтому приказал:
— Не раздражайте меня! — И, уже заметно приободренный кофе, я пытался вообразить себе, как будет выглядеть на рентгене легкое Кирмушки, когда в нем зарубцуется разъеденная бациллами чахотки дырка.
Но полное счастье, наверное, не суждено испытать смертным: приоткрылась дверь, и санитарка тревожно доложила:
— Кирмушке совсем плохо: бледный и весь в поту…
Одним прыжком я очутился в палате: голова больного безжизненно соскользнула с высокого изголовья, глаза полуприкрыты и неподвижны, лицо и губы желтовато-бледные как сыр, на лбу мелкие капельки пота. Я схватил вялую, очень тяжелую руку. Пульс едва прослушивался. Ясно: к сожалению, прав был я, а не Янис — большая артерия кровоточит, грудная клетка больного наполняется кровью. К счастью, другие больные из палаты вышли.
— В операционную! Лаборантку, группу крови… — заплетающимся языком командовал я, но, чтобы помочь унести больного, сил больше не было.
Пока звонили в районную больницу, в кабинет переливания крови, я еще впрыснул лекарства, откупорил мешок с кислородом и вколол иглу в бок Кирмушки, пытаясь втянуть шприцем кровь, чтобы убедиться, что все же случилось то, о чем и говорить не хочется. Однако крови не было, в шприц вошел только воздух. Странно: состояние Кирмушки продолжало ухудшаться.
Когда за несколько минут ожидания крови для переливания и прихода второго хирурга мое внутреннее отчаяние достигло высшей степени, Кирмушка начал икать. Еще один зловещий симптом…
В полном смятении я уже подумывал о самоубийстве после смерти Кирмушки и о прощальной записке, в которой напишу о том, что виновным себя не чувствую, но не могу пережить тяжесть стыда и подозрений… Вдруг голова умирающего пациента соскользнула со стола, и его начало отвратительно рвать.
Это еще что за новый и странный симптом?
Я нагнулся и почуял неприятный запах водки; тут мне стало ясно, что этот симптом вовсе не новый, а ему по меньшей мере уже несколько столетий.
После рвоты умирающий Кирмушка раскраснелся, сам втащил голову на подушку и сразу уснул. Вошла санитарка и сообщила:
— Доктор, Долгий Леон только что хвастал в коридоре, как он напугал Кирмушку и тот перед операцией одним махом пропустил целую четвертинку. Посмотрим, говорит, что из этого получится, Кирмушка-то полный трезвенник, его сразу развезет.
Я-то видел, что получилось. Одним духом я выпил три особых кофе.
С тех пор я терпеть не могу пьяниц, и горе тому, кто в санатории балуется с бутылкой!"
1961
От кофе они не умрут
 Накануне молодому терапевту Асарису поставили на вид, что он недостаточно прислушивается "к жалобам трудящихся на здоровье". Дело в том, что Асарис спросил какую-то посетительницу, что у нее болит. "У меня болит сердце, — ответила та, — потому что сбежал муж, хоть он и пьяница, но все же муж". Ну, тут Асарис попросил сердечницу закрыть дверь с наружной стороны. "Может быть, у нее болели еще и почки или селезенка. Вы этого не выяснили?" — сделал замечание заведующий поликлиникой. Асарис решил с этого дня относиться к посетителям более чутко и выслушивать абсолютно все жалобы. И когда в кабинет вошла энергичная женщина с глазами как черника, терапевт Асарис попросил ее рассказать все, что относится к здоровью, начиная с молочных зубов, кори и зарождения первой любви, от которой, бывает, мол, возникают душевные заболевания.
— Я Стрейпа, Леонтина Стрейпа. Мне пятьдесят лет. По врачам хожу редко, потому что работаю, — гладко рассказывала она, — но, когда уйду на пенсию, буду заходить чаще, пока не удастся полностью восстановить здоровье, иначе не смогу полноценно отдыхать. Сейчас у меня такой недуг, который не описан еще ни в женском календаре, ни в журнале "Здоровье", а то не стала бы я торчать в очереди перед кабинетом врача. На меня два раза в день нападает страх! В половине девятого утром и в половине шестого вечером. — Стрейпа нагнулась над столом и сверкающими черными глазами впилась в доктора.
Асарису показалось, что во взоре ее можно было прочесть нечто вроде гордости тем, что она болеет недугом, который не описан даже в журнале "Здоровье". "Эдакое замысловатое хвастовство характерно для шизофреников", — промелькнуло в сознании Асариса, и он сказал:
— Вам надо бы обратиться к невропатологу.
— Нет, к терапевту, — твердо ответила Стрейпа, — потому что у меня в такие минуты бывает сердцебиение, дрожат руки и кружится голова.
"При судорогах артерии сердечного венца, стенокардии тоже бывает чувство страха, и именно страх смерти".
— В такие минуты вы боитесь смерти? — спросил Асарис.
— Нет, тюрьмы. Притом самое ужасное, что я довольно долго не могу сообразить, за что меня могли бы посадить. Я тогда стараюсь вспомнить всю биографию, и скажите на милость — у кого в жизни не случалось что-нибудь такое, за что при желании нельзя было бы посадить в тюрьму, хотя бы на несколько дней.
Асарис про себя подумал, что его самого-то не смогли бы посадить в тюрьму даже при большом желании, но Стрейпа продолжала:
— Я тогда вспоминаю, что после войны, когда был лимит на электричество, я два года по ночам заставляла счетчик вертеться в обратную сторону. И в половине девятого мне бывает страшно, боюсь, что меня засудят за это, я дрожу и оглядываюсь по сторонам. В половине шестого я опять вспоминаю, что однажды я купила у какого-то шофера пять кубометров березовых дров, потому что на дровяной площади рынка было пусто и я совсем замерзала. Может статься, что шофер сам купил те дрова, и на меня опять нападает страх, боюсь, что меня привлекут к ответственности за скупку краденого добра. На другой день к половине девятого меня начинает трясти оттого, что зимой я посыпала тротуар солью, и сердце так и колотится — дум, дум…
— Достаточно. Значит, периодический страх и сердцебиение, — прервал ее Асарис. О недозволенных сделках он не желал больше ничего слышать, потому что вспомнил, что сам он позавчера где-то как-то купил подшипник для мотоцикла, который нельзя достать в магазине и числится он только в каталоге запчастей. "Мы, некоторая часть населения, в известной мере еще грешны, — подумал он про себя, — только не все испытывают страх из-за этого".
— Сердце колотится, и с вечера не могу уснуть, — добавила Стройпа.
— Периодически два раза в день… — размышлял Асарис, регистрируя симптомы в своей мозговой картотеке и прикидывая диагноз. — Вот ли у вас каких-нибудь периодических вредных привычек?
— Теперь нет. Вредные привычки у меня были в детстве, когда я каждый вечер грызла ногти. Тогда мне тоже было страшно, как бы не схлопотать от отца по уху. Но ногти я грызла в последний раз тридцать… тридцать семь лет тому назад.
— А все же не совершаете ли вы какое-либо действие повторно дважды в день? — продолжал допытываться Асарис.
— Два раза умываюсь.
— Вряд ли от этого. Чистая кожа как раз способствует сну. Подумайте еще.
— Дважды переодеваюсь. Когда иду на работу и когда возвращаюсь. Но белье я не снимаю, так что это не должно бы вызывать страх, что кто-нибудь увидит меня… ну, голой. Еще дважды… Я дважды пью кофе. В восемь часов и в четыре, но кофе…
Асарис навострился:
— Покупаете в зернах или просите помолоть?
— Покупаю в зернах, так что домашнего помола. Две чайных ложки на чашку кипятка. Уж пить, так пить.
— И давно так пьете?
— Пятый год.
"Это получается по меньшей мере 0,1 кофеина в одной чашке. Четыре раза — примерно 0,5 в день. Страх, сердцебиение возникают через полчаса после приема кофе, когда начинается действие кофеина. Пять лет…"
Персональная электронно-вычислительная машина терапевта Асариса выбросила диагноз: хроническое отравление кофеином, то есть кофе. Но так как диагноз был найден слишком быстро и без усилий, а у пациента и связи с этим могли бы возникнуть сомнения в его качестве, Асарис решил еще побеседовать, чтобы больной остался уверенным, что выяснено все до последних мелочей. И так, выслушивая сердце и измеряя кровяное давление, Асарис продолжал разговор:
— Удары сильные. Давление повышенное. Значит, пьете уже пять лет?
— Да. С тех пор, как умерла моя мать и я начала ходить к Ингелевиц на чашку кофе.
— К Ингелевиц на кофе? Нельзя ли подробнее?
— Ну, к той, которая торгует в киоске у вокзала. Она на одиннадцать лет старше меня.
"Если женщина без причины упоминает возраст другой женщины, то это верный признак того, что она стареет", — отметил психологическую деталь Асарис.
— А раньше моя мать пила с ней кофе лет тридцать, — продолжала Стрейпа.
— Как это: ваша мать тридцать, а вы пять лет просто так, за здорово живешь, пьете кофе у Ингелевиц?
— Нельзя сказать, чтобы просто так. Мы за это доставляем ей удовольствие.
— Удовольствие?
— Мы ее хвалим. Вы разве не знали? В городе это давно все знают. Правда, теперь уже об этом особенно не говорят. Из старшего поколения мало кого осталось, а у молодых женщин только крашеные волосы да колготки на уме. Кто же, кроме меня, скажет, что у нее очень хороший кофе. Когда иду на вязальную фабрику, на работу, забегаю и выпиваю две чашки. Я уже так привыкла, что впрямь чего-то не хватает, если не выпью кофе. Как будто где-то пуговицы не застегнуты. Когда возвращаюсь с работы, опять забегаю. В это время она еще сидит в киоске, но кофе у нее с собой, в термосе, и такой же ароматный. В нашем городе больше нигде такого кофе нет. Сын как-то раз повел меня в ресторан. Там? Там было нечто коричневое в чайном стакане. Выпила я только потому, что за это было уплачено. Но у Ингелевиц — это кофе!..
— Значит, она вам выдает кофе потому, что вы этот кофе хвалите? — с некоторым сомнением спросил Асарис, потому что был еще в том возрасте, когда не уверены даже в том, могут или нет появиться дети от пользования общим банным веником.
— Еще я ей льщу. Например, что ей идет новая прическа. А вообще-то ей следовало бы снимать шапку, только когда ложится спать. Рассказываю, что у меня справлялись о ней два пятидесятилетних вдовца.
— Вдовцы? — недоумевал Асарис.
— Ну да, слава богу, у нее еще хватает ума на то, что из-за шестидесятилетней старухи, каковой она является, восемнадцатилетние парни стреляться не будут…
— Значит, вы все это выдумываете, чтобы получить кофе?
— Не просто кофе, а хороший кофе. Какой аромат!.. Пью его и чувствую себя, как на дне рождения, когда торт едят. Моя мать в свое время получала к кофе и торт. Теперь-то Ингелевиц и самой приходится туго. Но я не жалуюсь, с меня хватит и одного кофе. Спасибо ей и за мою мать. Кабы не Ингелевиц, мать никогда бы в жизни не ела пирожных.
Терапевт Асарис, полный юношеского энтузиазма, решил использовать этот случай для того, чтобы на страницах журнала "Здоровье" бороться против чрезмерного увлечения новыми традициями и доказать, что неумеренный кофеизм среди женщин может превратиться в такое же морально-физическое зло, как алкоголизм среди мужчин, что кофеизм порождает лесть и ложь, что лежит в основе всякого преступления. И он решил выяснить все до конца. Диагноз самой пациентки Стрейпы был ясен.
— А почему же Ингелевиц давала торт вашей матери?
— Я уже говорила вам — за подхалимаж. Ну да, ведь вы же приезжий. Старый Ингелевиц имел в свое время булочную, то есть кондитерскую, и некрасивую дочь. То есть эту Ингелевиц. Моя мать мыла полы у них. Однажды мать сказала ей: "Какие у вас красивые волосы!" На самом-то деле волосы у нее были как у немытого пуделя. А мать получила пирожное. Когда же этой Ингелевиц было уже под тридцать и никто не хотел на ней жениться — она ждала принца из Риги, а наших парней обзывала недотепами и деревенщиной, — тогда моя мать, увидев ее в спальне, сказала, что у нее такая же фигура, как у той дамы в книге по истории, у Венеры то есть, у которой отбиты руки. Мать тут же получила кофе и пирожное. Так это помаленьку и началось. Под конец она вышла замуж за подручного старого Ингелевица, который хотел унаследовать кондитерскую и особняк. Но подмастерье не выдержал, потому что она и от него требовала, чтобы он говорил ей три раза в день, что она красива и что он ее страшно любит. Зять Ингелевица не захотел лгать и в сорок первом году в военной суматохе смылся от жены в Цибльскую волость, а теперь, говорили, живет в Акнисте. Но Ингелевиц же не станет терять форс из-за бедности. Мать после войны вроде бы стеснялась пить кофе, но тут старый Ингелевиц начал работать кондитером, хорошо зарабатывал, и вот мою мать стали снова приглашать на кофе с пирожным. Тогда-то мать и сказала: "Вы совсем не стареете! Но за первого встречного не выходите, у вас же такое свежее лицо, как цветок жасмина". И опять все началось. После смерти моей матери я однажды сказала Ингелевиц: "Такой кофе умеет варить только интеллигентный человек". С той поры наступил мой черед. То кофе, то печенье, а там прическа и вдовцы, пока не загубила сердца и нервов. — Стрейпа прикладывала руку к груди, а всевидящими глазами следила за врачом, который, узнав все необходимое, теперь записывал это в историю болезни, затем выдал ей рецепт.
— Вот вам успокоительные лекарства. Употребляйте перед сном, запивайте теплой водой. Главный виновник — кофе. Сразу отказаться от него трудно, но ограничьте дозу. Пейте поначалу только две чашки в день, это будет ноль целых две десятых грамма кофеина, через две недели только одну, по утрам. Тогда вы за день получите только ноль целых двенадцать сотых грамма кофеина, и неприятные ощущения непременно прекратятся.
Упоминание точных цифр, очевидно, подействовало впечатляюще на энергичную Стрейпу. Она смиренно взяла рецепт и простилась.
— А может быть, мне стало плохо еще и потому, что в последние месяцы мы, то есть Ингелевиц, перешли на новый сорт кофе, который, кажется, очень крепкий. — В дверях она еще обернулась. — Доктор, прошу вас, осмотрите и ее тоже. Раз уж у меня за пять лет сердце и нервы сдали, что ж тогда с ней творится! В некотором смысле она, конечно, тронутая, а так у нее довольно хороший характер. Если у меня поправится здоровье, то, может быть, мы сможем с Ингелевнц хотя бы пить чай?..
Да. Раз уж у Стрейпы сердце превратилось в пульсирующий вулкан, из которого вырывается пламя страха по поводу краденых дров, то не превратилось ли в таком случае сердце Ингелевиц в бесформенный комок ужаса? К тому же Ингелевнц проживала на ого участке. Асарис понимал также и то, что случай с Пигелевиц обогатил бы задуманную нм статью о кофеизме.
Через час он уже стоял у станционного киоска. Чтобы иметь время разглядеть внешность Ингелевиц, он попросил видовые открытки и стал перебирать их. Свои наблюдения он начал снизу. Прежде всего руки. Пальцы костлявые. Кожа вялая, как изношенные и сморщенные перчатки из свиной кожи. Ногти не только покрыты лаком, они чистые. На пальцах целых четыре перстня под золото с большими зелеными, фиолетовыми, красными камнями, видимо стеклами. Сиреневого цвета жакет. Под воротничком блузки в черную крапинку мужского типа бабочка, А лицо? Будет ли оно под стать кольцам и бабочке? Да. Раз увиденное, оно впечатляло и запечатлялось в памяти.
Слой пудры превращал это лицо в осыпанный мукой пергамент, на котором отразилась история всей Римской империи. Мелкокурчавые, скатавшиеся в комочки волосы, которых явно не хватало, чтобы прикрыть кожу головы, могли бы рассказать о том, что в Древний Рим завозили из Африки негров. Права Стрейпа: шапку с такой головы можно снимать только на сон грядущий, да и то лишь в теплой комнате. Нос, большой как серп, свидетельствовал, что во времена великих переселений народов в Риме появились тевтонские племена. А тонкие, теперь подкрашенные фиолетовой помадой губы, с опущенными в презрительной мине римского сенатора уголками, посмеивались над окружением, которому явно непривычен такой комплект деталей лица.
"Если бы у нее был хороший характер и добрая улыбка, то не так бросались бы в глаза ее нос и волосы, — подумал Асарис. — Но, по рассказам Стрейпы, она была капризной и деспотичной по отношению к мужу. Однако ж это, в сущности, не связано с кофе".
Выдержка и холодная внешность делали Ингелевиц похожей на деловую секретаршу крупного директора, и это обстоятельство побудило Асариса говорить прямо. Отложив открытки, из которых он по рассеянности отобрал десять совершенно одинаковых фотоснимков скверика перед Оперой с дородной бронзовой дамой в центре, Асарис сказал:
— Я из поликлиники, терапевт Асарис. Вы живете на вверенном мне участке. Только что ко мне обращалась Стрейпа. У нее оказались больное сердце и нервы. В этой связи меня интересует состояние вашего здоровья, так как вы, по ее словам, уже продолжительное время пьете вместе кофе.
— Не просто кофе, а мой кофе, — приглушенным, но мужественным голосом заметила Ингелевиц и строго вдоль носа посмотрела на Асариса, которого несколько удивило то, что Ингелевиц не выказывала никакого интереса к своему здоровью.
— Простите, — ваш кофе. Эту привычку…
— Кофе не привычка, это стиль жизни, который я соблюдаю еще с юных дней.
— Простите, но нельзя ли кофе… то есть, хочу сказать, изменить этот стиль, к примеру… вечером вы сходили бы в кино.
— Кино я и так посещаю, несколько фильмов снято не без моего участия, — в голосе Ингелевиц прозвучало такое превосходство, что Асарис растерялся.
— Простите. Я как-то не запомнил вашу фамилию. Кого вы играли?
— Не я играю, а моя собственность.
— У вас… есть дрессированная собака?
— Нет. Когда-то был не очень дрессированный муж. В фильмах играет наследство отца моего: я сдаю киностудии напрокат старые фраки, гетры, складной цилиндр, восемнадцатилинейную висячую лампу и тому подобные вещи. Потом я смотрю в фильме, как жил мой отец в юности. Кофе же стоит денег, как известно. На зарплату киоскерши не много выпьешь кофе, — с мрачной иронией пояснила Ингелевиц.
— Старинные висячие керосиновые лампы очень красивы, но, прошу вас, расскажите, сколько вы за день выливаете кофе?
— Шесть чашек. Марки "Колумбия", потому что она ароматнее и крепче других.
— Это же примерно грамм чистого кофеина!.. И после этого вы еще можете спать? На Стрейпу находит чувство страха.
— Кофе только улучшает сон. К тому же мне нечего бояться. Отцу принадлежала кондитерская, но она уже давно национализирована, и отец тоже давно помер. Чего ж мне бояться? За свою жизнь я подняла руку только на мужа, но это по законодательству считается внутренним семейным делом. — Ингелевиц, будто упражняясь в силе, сжимала и разжимала пальцы, — Стрейпу, возможно, и мучает страх, потому что она по крайней мерс лет пять живет в сплошной лжи. — Ингелевиц мужским жестом оправила свой галстук-бабочку в крапинку.
— Мне официально это не известно… — возразил Асарис.
— Полгорода, то есть все женщины города знают, что она бегает ко мне, глядит прямо вглаза и лжет, что у меня миловидная физия и что в меня втюрились два вдовца. Глаза у самой блестят, как у крысы, при одном запахе кофе. Скажите: разве это не нахальство — еще жаловаться, что у нее от моего кофе барахлит сердце? — строго спросила Ингелевиц, ворочая перед глазами Асариса огромные фиолетово искрящиеся камни перстней, так что у терапевта даже возникли подозрения, не владеет ли дама каким-то приемом гипноза.
Известие, что Ингелевиц сама знает о раздвоенном змеином языке Стрейпы, крайне удивило Асариса, Стрейпа лжет, и тем не менее Ингелевиц угощает ее за это кофе, сваренным из свежемолотого кофе марки "Колумбия"! Он осмелился взглянуть Ингелевиц в глаза, чтобы выяснить, нет ли в выражении ее глаз какой-нибудь нелепо хитрой усмешки или же немотивированных слез, что могло бы свидетельствовать о душевной нестабильности Ингелевиц. Но казалось, Ингелевиц этого только и ждала. Она сама своими маленькими карими глазками твердо и насмешливо глядела на Асариса. Так как верхняя линия век была прямой, то глаза приобрели строгое выражение, как у орла на старых немецких почтовых марках.
Побежденный этим острым взглядом, Асарис отвел глаза и опять принялся за открытки.
— Я же вижу, что вы удивляетесь. Вы еще многому будете удивляться, живя на свете. Да, я знала, что Стрейпа мелет вздор, но мне хотелось доказать, что я умнее ее, и хороший кофе давала просто так.
— Давно ли… вы догадались?
— Вот уже несколько лет. Молодая Стрейпа не умеет так врать, как старая. Старая ворковала: "Мне все кажется, что у вас на этой неделе сон получше, — лицо посвежело". А молодая с ходу чепуху несет: "Чудеса господни! За один день у вас исчезли со лба все морщины!" Она забывает, что у меня с каждым годом взор становится трезвее. Особенно после того, как я узнала, что мой сбежавший трус женился на другой. У меня пропали надежды, но открылись глаза.
Асарис все же не мог понять, зачем нужна была Ингелевиц эта комедия? Зачем приветливо подавать кофе, да еще четыре ложечки сахару класть дважды в день, если человек, которого угощаешь, оговаривает тебя.
— Но зачем вообще?.. — начал было Асарис, но Ингелевиц предвосхитила вопрос. Она, как коршун, изучающий окрестность с макушки дерева, повертела и наклонила серп носа то в одну, то в другую сторону, затем гордо, с достоинством откинула голову:
— Вам, как врачу, я могу это сказать, ибо медицинские тайны вы имеете право поведать только прокурору, я прокурор не станет интересоваться мной. Вы еще не женаты, так что и самый верховный прокурор тоже не Сможет дознаваться у вас. Ответ, знаете, очень простой: к всегда была истинной женщиной. Нет такой женщины, которой не хотелось бы слышать, что она красива! Так как мужчины зачастую слепы и замечают только некоторые признаки стандартной красоты, то в юности я красивых слов от них не слыхала. Но я тосковала по комплиментам. Это почуяла старая Стрейпа, а моему отцу и в то время принадлежала кондитерская, в которой пекли десять сортов пирожных.
— Но теперь-то? — Асарис все еще не мог постичь последний этап биографии Ингелевиц.
— Теперь это привычка, приятная, как и сам кофе. Да и сознание, что я умнее той, которая каждую неделю должна придумывать что-то новое про мой нос и про иные части тела, чтобы даром получить кофе, доставляет мне удовольствие. С врачом можно говорить откровенно, во всяком случае так было в моей юности: ну, скажите честно, вы дали кому-нибудь пощечину, когда вам говорили, что вы опытный доктор, хотя вы работаете первый год?
— Врач не имеет права драться, мы только оказываем медицинскую помощь драчунам, — попытался отшутиться Асарис и опять принялся перебирать открытки.
— Ну признайтесь, много ли таких, кому не нравится, если про него говорят приятную неправду? Раньше императоры держали специальных стихотворцев, которые слагали им похвалы и гимны. Надо полистать литературу, может быть, и в двадцатом столетии найдешь нечто похожее. Лесть то же самое, что преждевременно врученный орден. Он обязывает стараться. Пастух поступает учиться на зоотехника. Гадкий утенок стремится превратиться в лебедя. Так что лесть порой имеет и положительное значение. И если все это я могу купить за чашку кофе! Я в этом городе прожила всю жизнь и не слыхала ни до войны, ни после, чтобы кого-либо отдали под суд за лесть. За лишение чести — бывало. Так что повнимательней приглядывайтесь к жизни.
Асарис внимательнее заглянул в себя, и ему нечего было ответить. Но тут он вспомнил главную причину своего прихода: загубленное кофепитием сердце Ингелевиц — и попытался еще раз построже посмотреть, минуя нос Ингелевиц, прямо в глаза ей!
— Простите, но оставим мотивы угощения кофе, для меня в данный момент важнее последствия его. Необходимо проверить ваше сердце, у меня есть основания полагать, что…
— Нет никакого основания, поверьте мне. Мое сердце соответствует моему возрасту, и больше ничего.
— И все же, прошу вас, зайдите завтра ко мне.
— Завтра я торгую.
— Здоровье важнее оборота и денег. Раз уж у Стрейпы…
— Неужели вы еще не поняли, что я не так глупа, как Стрейпа! Поэтому и сердце у меня здоровое.
— Простите, но перед кофеином все равны. Мы пришлем за вами машину.
С красным крестом? Будто я собираюсь помирать? Ну нет! Тогда я вам вот что скажу, только как врачу! — Ингелевиц опять посмотрела по сторонам, а затем приблизила свой породистый нос к уху Асариса: — Кофейные зерна марки "Колумбия" стоят четыре пятьдесят за килограмм. Вы что думаете, что при моей зарплате киоскерши можно пить по десять чашек "Колумбии" в день: шесть чашек сама и четыре Стрейпа? Не тут-то было. Да в мои годы надо подумать и о здоровье. "Колумбию" пьет только Стрейпа. Кофе по чашечкам я разливаю на кухне. Там у меня два кофейника. Сама я пью цикорий… Не будем называть это бедностью, такова судьба… — Ингелевиц вздохнула. — А может, так оно и лучше: сердце у меня в порядке, стиль жизни соблюден, а Стрейпу наказал бог. Только, — теперь в самом деле взволнованная, Ингелевиц без повода быстро крутила вокруг пальцев четыре перстня и шептала, — только прошу вас: пусть это непременно останется между нами. Это самый большой секрет моей теперешней жизни.
— Никому не скажу! Честное слово! — с жаром уверял ее Асарис. Он снова обрел самоуверенность, чувствуя, что в этот миг пациентка зависит от него, как это и положено в медицине.
Он заплатил за десять цветных открыток, на которых был изображен скверик перед Оперным театром с дородной бронзовой девицей в центре. "Плоть у этой фигуры цвета кофе, — уходя, подумал он, но это не от кофе. Кофе портит только сердце, рассудок и нервы; на кожу он не оказывает влияния. У пьющих кофе обычная белая индоевропейская кожа".
Накануне молодому терапевту Асарису поставили на вид, что он недостаточно прислушивается "к жалобам трудящихся на здоровье". Дело в том, что Асарис спросил какую-то посетительницу, что у нее болит. "У меня болит сердце, — ответила та, — потому что сбежал муж, хоть он и пьяница, но все же муж". Ну, тут Асарис попросил сердечницу закрыть дверь с наружной стороны. "Может быть, у нее болели еще и почки или селезенка. Вы этого не выяснили?" — сделал замечание заведующий поликлиникой. Асарис решил с этого дня относиться к посетителям более чутко и выслушивать абсолютно все жалобы. И когда в кабинет вошла энергичная женщина с глазами как черника, терапевт Асарис попросил ее рассказать все, что относится к здоровью, начиная с молочных зубов, кори и зарождения первой любви, от которой, бывает, мол, возникают душевные заболевания.
— Я Стрейпа, Леонтина Стрейпа. Мне пятьдесят лет. По врачам хожу редко, потому что работаю, — гладко рассказывала она, — но, когда уйду на пенсию, буду заходить чаще, пока не удастся полностью восстановить здоровье, иначе не смогу полноценно отдыхать. Сейчас у меня такой недуг, который не описан еще ни в женском календаре, ни в журнале "Здоровье", а то не стала бы я торчать в очереди перед кабинетом врача. На меня два раза в день нападает страх! В половине девятого утром и в половине шестого вечером. — Стрейпа нагнулась над столом и сверкающими черными глазами впилась в доктора.
Асарису показалось, что во взоре ее можно было прочесть нечто вроде гордости тем, что она болеет недугом, который не описан даже в журнале "Здоровье". "Эдакое замысловатое хвастовство характерно для шизофреников", — промелькнуло в сознании Асариса, и он сказал:
— Вам надо бы обратиться к невропатологу.
— Нет, к терапевту, — твердо ответила Стрейпа, — потому что у меня в такие минуты бывает сердцебиение, дрожат руки и кружится голова.
"При судорогах артерии сердечного венца, стенокардии тоже бывает чувство страха, и именно страх смерти".
— В такие минуты вы боитесь смерти? — спросил Асарис.
— Нет, тюрьмы. Притом самое ужасное, что я довольно долго не могу сообразить, за что меня могли бы посадить. Я тогда стараюсь вспомнить всю биографию, и скажите на милость — у кого в жизни не случалось что-нибудь такое, за что при желании нельзя было бы посадить в тюрьму, хотя бы на несколько дней.
Асарис про себя подумал, что его самого-то не смогли бы посадить в тюрьму даже при большом желании, но Стрейпа продолжала:
— Я тогда вспоминаю, что после войны, когда был лимит на электричество, я два года по ночам заставляла счетчик вертеться в обратную сторону. И в половине девятого мне бывает страшно, боюсь, что меня засудят за это, я дрожу и оглядываюсь по сторонам. В половине шестого я опять вспоминаю, что однажды я купила у какого-то шофера пять кубометров березовых дров, потому что на дровяной площади рынка было пусто и я совсем замерзала. Может статься, что шофер сам купил те дрова, и на меня опять нападает страх, боюсь, что меня привлекут к ответственности за скупку краденого добра. На другой день к половине девятого меня начинает трясти оттого, что зимой я посыпала тротуар солью, и сердце так и колотится — дум, дум…
— Достаточно. Значит, периодический страх и сердцебиение, — прервал ее Асарис. О недозволенных сделках он не желал больше ничего слышать, потому что вспомнил, что сам он позавчера где-то как-то купил подшипник для мотоцикла, который нельзя достать в магазине и числится он только в каталоге запчастей. "Мы, некоторая часть населения, в известной мере еще грешны, — подумал он про себя, — только не все испытывают страх из-за этого".
— Сердце колотится, и с вечера не могу уснуть, — добавила Стройпа.
— Периодически два раза в день… — размышлял Асарис, регистрируя симптомы в своей мозговой картотеке и прикидывая диагноз. — Вот ли у вас каких-нибудь периодических вредных привычек?
— Теперь нет. Вредные привычки у меня были в детстве, когда я каждый вечер грызла ногти. Тогда мне тоже было страшно, как бы не схлопотать от отца по уху. Но ногти я грызла в последний раз тридцать… тридцать семь лет тому назад.
— А все же не совершаете ли вы какое-либо действие повторно дважды в день? — продолжал допытываться Асарис.
— Два раза умываюсь.
— Вряд ли от этого. Чистая кожа как раз способствует сну. Подумайте еще.
— Дважды переодеваюсь. Когда иду на работу и когда возвращаюсь. Но белье я не снимаю, так что это не должно бы вызывать страх, что кто-нибудь увидит меня… ну, голой. Еще дважды… Я дважды пью кофе. В восемь часов и в четыре, но кофе…
Асарис навострился:
— Покупаете в зернах или просите помолоть?
— Покупаю в зернах, так что домашнего помола. Две чайных ложки на чашку кипятка. Уж пить, так пить.
— И давно так пьете?
— Пятый год.
"Это получается по меньшей мере 0,1 кофеина в одной чашке. Четыре раза — примерно 0,5 в день. Страх, сердцебиение возникают через полчаса после приема кофе, когда начинается действие кофеина. Пять лет…"
Персональная электронно-вычислительная машина терапевта Асариса выбросила диагноз: хроническое отравление кофеином, то есть кофе. Но так как диагноз был найден слишком быстро и без усилий, а у пациента и связи с этим могли бы возникнуть сомнения в его качестве, Асарис решил еще побеседовать, чтобы больной остался уверенным, что выяснено все до последних мелочей. И так, выслушивая сердце и измеряя кровяное давление, Асарис продолжал разговор:
— Удары сильные. Давление повышенное. Значит, пьете уже пять лет?
— Да. С тех пор, как умерла моя мать и я начала ходить к Ингелевиц на чашку кофе.
— К Ингелевиц на кофе? Нельзя ли подробнее?
— Ну, к той, которая торгует в киоске у вокзала. Она на одиннадцать лет старше меня.
"Если женщина без причины упоминает возраст другой женщины, то это верный признак того, что она стареет", — отметил психологическую деталь Асарис.
— А раньше моя мать пила с ней кофе лет тридцать, — продолжала Стрейпа.
— Как это: ваша мать тридцать, а вы пять лет просто так, за здорово живешь, пьете кофе у Ингелевиц?
— Нельзя сказать, чтобы просто так. Мы за это доставляем ей удовольствие.
— Удовольствие?
— Мы ее хвалим. Вы разве не знали? В городе это давно все знают. Правда, теперь уже об этом особенно не говорят. Из старшего поколения мало кого осталось, а у молодых женщин только крашеные волосы да колготки на уме. Кто же, кроме меня, скажет, что у нее очень хороший кофе. Когда иду на вязальную фабрику, на работу, забегаю и выпиваю две чашки. Я уже так привыкла, что впрямь чего-то не хватает, если не выпью кофе. Как будто где-то пуговицы не застегнуты. Когда возвращаюсь с работы, опять забегаю. В это время она еще сидит в киоске, но кофе у нее с собой, в термосе, и такой же ароматный. В нашем городе больше нигде такого кофе нет. Сын как-то раз повел меня в ресторан. Там? Там было нечто коричневое в чайном стакане. Выпила я только потому, что за это было уплачено. Но у Ингелевиц — это кофе!..
— Значит, она вам выдает кофе потому, что вы этот кофе хвалите? — с некоторым сомнением спросил Асарис, потому что был еще в том возрасте, когда не уверены даже в том, могут или нет появиться дети от пользования общим банным веником.
— Еще я ей льщу. Например, что ей идет новая прическа. А вообще-то ей следовало бы снимать шапку, только когда ложится спать. Рассказываю, что у меня справлялись о ней два пятидесятилетних вдовца.
— Вдовцы? — недоумевал Асарис.
— Ну да, слава богу, у нее еще хватает ума на то, что из-за шестидесятилетней старухи, каковой она является, восемнадцатилетние парни стреляться не будут…
— Значит, вы все это выдумываете, чтобы получить кофе?
— Не просто кофе, а хороший кофе. Какой аромат!.. Пью его и чувствую себя, как на дне рождения, когда торт едят. Моя мать в свое время получала к кофе и торт. Теперь-то Ингелевиц и самой приходится туго. Но я не жалуюсь, с меня хватит и одного кофе. Спасибо ей и за мою мать. Кабы не Ингелевиц, мать никогда бы в жизни не ела пирожных.
Терапевт Асарис, полный юношеского энтузиазма, решил использовать этот случай для того, чтобы на страницах журнала "Здоровье" бороться против чрезмерного увлечения новыми традициями и доказать, что неумеренный кофеизм среди женщин может превратиться в такое же морально-физическое зло, как алкоголизм среди мужчин, что кофеизм порождает лесть и ложь, что лежит в основе всякого преступления. И он решил выяснить все до конца. Диагноз самой пациентки Стрейпы был ясен.
— А почему же Ингелевиц давала торт вашей матери?
— Я уже говорила вам — за подхалимаж. Ну да, ведь вы же приезжий. Старый Ингелевиц имел в свое время булочную, то есть кондитерскую, и некрасивую дочь. То есть эту Ингелевиц. Моя мать мыла полы у них. Однажды мать сказала ей: "Какие у вас красивые волосы!" На самом-то деле волосы у нее были как у немытого пуделя. А мать получила пирожное. Когда же этой Ингелевиц было уже под тридцать и никто не хотел на ней жениться — она ждала принца из Риги, а наших парней обзывала недотепами и деревенщиной, — тогда моя мать, увидев ее в спальне, сказала, что у нее такая же фигура, как у той дамы в книге по истории, у Венеры то есть, у которой отбиты руки. Мать тут же получила кофе и пирожное. Так это помаленьку и началось. Под конец она вышла замуж за подручного старого Ингелевица, который хотел унаследовать кондитерскую и особняк. Но подмастерье не выдержал, потому что она и от него требовала, чтобы он говорил ей три раза в день, что она красива и что он ее страшно любит. Зять Ингелевица не захотел лгать и в сорок первом году в военной суматохе смылся от жены в Цибльскую волость, а теперь, говорили, живет в Акнисте. Но Ингелевиц же не станет терять форс из-за бедности. Мать после войны вроде бы стеснялась пить кофе, но тут старый Ингелевиц начал работать кондитером, хорошо зарабатывал, и вот мою мать стали снова приглашать на кофе с пирожным. Тогда-то мать и сказала: "Вы совсем не стареете! Но за первого встречного не выходите, у вас же такое свежее лицо, как цветок жасмина". И опять все началось. После смерти моей матери я однажды сказала Ингелевиц: "Такой кофе умеет варить только интеллигентный человек". С той поры наступил мой черед. То кофе, то печенье, а там прическа и вдовцы, пока не загубила сердца и нервов. — Стрейпа прикладывала руку к груди, а всевидящими глазами следила за врачом, который, узнав все необходимое, теперь записывал это в историю болезни, затем выдал ей рецепт.
— Вот вам успокоительные лекарства. Употребляйте перед сном, запивайте теплой водой. Главный виновник — кофе. Сразу отказаться от него трудно, но ограничьте дозу. Пейте поначалу только две чашки в день, это будет ноль целых две десятых грамма кофеина, через две недели только одну, по утрам. Тогда вы за день получите только ноль целых двенадцать сотых грамма кофеина, и неприятные ощущения непременно прекратятся.
Упоминание точных цифр, очевидно, подействовало впечатляюще на энергичную Стрейпу. Она смиренно взяла рецепт и простилась.
— А может быть, мне стало плохо еще и потому, что в последние месяцы мы, то есть Ингелевиц, перешли на новый сорт кофе, который, кажется, очень крепкий. — В дверях она еще обернулась. — Доктор, прошу вас, осмотрите и ее тоже. Раз уж у меня за пять лет сердце и нервы сдали, что ж тогда с ней творится! В некотором смысле она, конечно, тронутая, а так у нее довольно хороший характер. Если у меня поправится здоровье, то, может быть, мы сможем с Ингелевнц хотя бы пить чай?..
Да. Раз уж у Стрейпы сердце превратилось в пульсирующий вулкан, из которого вырывается пламя страха по поводу краденых дров, то не превратилось ли в таком случае сердце Ингелевиц в бесформенный комок ужаса? К тому же Ингелевнц проживала на ого участке. Асарис понимал также и то, что случай с Пигелевиц обогатил бы задуманную нм статью о кофеизме.
Через час он уже стоял у станционного киоска. Чтобы иметь время разглядеть внешность Ингелевиц, он попросил видовые открытки и стал перебирать их. Свои наблюдения он начал снизу. Прежде всего руки. Пальцы костлявые. Кожа вялая, как изношенные и сморщенные перчатки из свиной кожи. Ногти не только покрыты лаком, они чистые. На пальцах целых четыре перстня под золото с большими зелеными, фиолетовыми, красными камнями, видимо стеклами. Сиреневого цвета жакет. Под воротничком блузки в черную крапинку мужского типа бабочка, А лицо? Будет ли оно под стать кольцам и бабочке? Да. Раз увиденное, оно впечатляло и запечатлялось в памяти.
Слой пудры превращал это лицо в осыпанный мукой пергамент, на котором отразилась история всей Римской империи. Мелкокурчавые, скатавшиеся в комочки волосы, которых явно не хватало, чтобы прикрыть кожу головы, могли бы рассказать о том, что в Древний Рим завозили из Африки негров. Права Стрейпа: шапку с такой головы можно снимать только на сон грядущий, да и то лишь в теплой комнате. Нос, большой как серп, свидетельствовал, что во времена великих переселений народов в Риме появились тевтонские племена. А тонкие, теперь подкрашенные фиолетовой помадой губы, с опущенными в презрительной мине римского сенатора уголками, посмеивались над окружением, которому явно непривычен такой комплект деталей лица.
"Если бы у нее был хороший характер и добрая улыбка, то не так бросались бы в глаза ее нос и волосы, — подумал Асарис. — Но, по рассказам Стрейпы, она была капризной и деспотичной по отношению к мужу. Однако ж это, в сущности, не связано с кофе".
Выдержка и холодная внешность делали Ингелевиц похожей на деловую секретаршу крупного директора, и это обстоятельство побудило Асариса говорить прямо. Отложив открытки, из которых он по рассеянности отобрал десять совершенно одинаковых фотоснимков скверика перед Оперой с дородной бронзовой дамой в центре, Асарис сказал:
— Я из поликлиники, терапевт Асарис. Вы живете на вверенном мне участке. Только что ко мне обращалась Стрейпа. У нее оказались больное сердце и нервы. В этой связи меня интересует состояние вашего здоровья, так как вы, по ее словам, уже продолжительное время пьете вместе кофе.
— Не просто кофе, а мой кофе, — приглушенным, но мужественным голосом заметила Ингелевиц и строго вдоль носа посмотрела на Асариса, которого несколько удивило то, что Ингелевиц не выказывала никакого интереса к своему здоровью.
— Простите, — ваш кофе. Эту привычку…
— Кофе не привычка, это стиль жизни, который я соблюдаю еще с юных дней.
— Простите, но нельзя ли кофе… то есть, хочу сказать, изменить этот стиль, к примеру… вечером вы сходили бы в кино.
— Кино я и так посещаю, несколько фильмов снято не без моего участия, — в голосе Ингелевиц прозвучало такое превосходство, что Асарис растерялся.
— Простите. Я как-то не запомнил вашу фамилию. Кого вы играли?
— Не я играю, а моя собственность.
— У вас… есть дрессированная собака?
— Нет. Когда-то был не очень дрессированный муж. В фильмах играет наследство отца моего: я сдаю киностудии напрокат старые фраки, гетры, складной цилиндр, восемнадцатилинейную висячую лампу и тому подобные вещи. Потом я смотрю в фильме, как жил мой отец в юности. Кофе же стоит денег, как известно. На зарплату киоскерши не много выпьешь кофе, — с мрачной иронией пояснила Ингелевиц.
— Старинные висячие керосиновые лампы очень красивы, но, прошу вас, расскажите, сколько вы за день выливаете кофе?
— Шесть чашек. Марки "Колумбия", потому что она ароматнее и крепче других.
— Это же примерно грамм чистого кофеина!.. И после этого вы еще можете спать? На Стрейпу находит чувство страха.
— Кофе только улучшает сон. К тому же мне нечего бояться. Отцу принадлежала кондитерская, но она уже давно национализирована, и отец тоже давно помер. Чего ж мне бояться? За свою жизнь я подняла руку только на мужа, но это по законодательству считается внутренним семейным делом. — Ингелевиц, будто упражняясь в силе, сжимала и разжимала пальцы, — Стрейпу, возможно, и мучает страх, потому что она по крайней мерс лет пять живет в сплошной лжи. — Ингелевиц мужским жестом оправила свой галстук-бабочку в крапинку.
— Мне официально это не известно… — возразил Асарис.
— Полгорода, то есть все женщины города знают, что она бегает ко мне, глядит прямо вглаза и лжет, что у меня миловидная физия и что в меня втюрились два вдовца. Глаза у самой блестят, как у крысы, при одном запахе кофе. Скажите: разве это не нахальство — еще жаловаться, что у нее от моего кофе барахлит сердце? — строго спросила Ингелевиц, ворочая перед глазами Асариса огромные фиолетово искрящиеся камни перстней, так что у терапевта даже возникли подозрения, не владеет ли дама каким-то приемом гипноза.
Известие, что Ингелевиц сама знает о раздвоенном змеином языке Стрейпы, крайне удивило Асариса, Стрейпа лжет, и тем не менее Ингелевиц угощает ее за это кофе, сваренным из свежемолотого кофе марки "Колумбия"! Он осмелился взглянуть Ингелевиц в глаза, чтобы выяснить, нет ли в выражении ее глаз какой-нибудь нелепо хитрой усмешки или же немотивированных слез, что могло бы свидетельствовать о душевной нестабильности Ингелевиц. Но казалось, Ингелевиц этого только и ждала. Она сама своими маленькими карими глазками твердо и насмешливо глядела на Асариса. Так как верхняя линия век была прямой, то глаза приобрели строгое выражение, как у орла на старых немецких почтовых марках.
Побежденный этим острым взглядом, Асарис отвел глаза и опять принялся за открытки.
— Я же вижу, что вы удивляетесь. Вы еще многому будете удивляться, живя на свете. Да, я знала, что Стрейпа мелет вздор, но мне хотелось доказать, что я умнее ее, и хороший кофе давала просто так.
— Давно ли… вы догадались?
— Вот уже несколько лет. Молодая Стрейпа не умеет так врать, как старая. Старая ворковала: "Мне все кажется, что у вас на этой неделе сон получше, — лицо посвежело". А молодая с ходу чепуху несет: "Чудеса господни! За один день у вас исчезли со лба все морщины!" Она забывает, что у меня с каждым годом взор становится трезвее. Особенно после того, как я узнала, что мой сбежавший трус женился на другой. У меня пропали надежды, но открылись глаза.
Асарис все же не мог понять, зачем нужна была Ингелевиц эта комедия? Зачем приветливо подавать кофе, да еще четыре ложечки сахару класть дважды в день, если человек, которого угощаешь, оговаривает тебя.
— Но зачем вообще?.. — начал было Асарис, но Ингелевиц предвосхитила вопрос. Она, как коршун, изучающий окрестность с макушки дерева, повертела и наклонила серп носа то в одну, то в другую сторону, затем гордо, с достоинством откинула голову:
— Вам, как врачу, я могу это сказать, ибо медицинские тайны вы имеете право поведать только прокурору, я прокурор не станет интересоваться мной. Вы еще не женаты, так что и самый верховный прокурор тоже не Сможет дознаваться у вас. Ответ, знаете, очень простой: к всегда была истинной женщиной. Нет такой женщины, которой не хотелось бы слышать, что она красива! Так как мужчины зачастую слепы и замечают только некоторые признаки стандартной красоты, то в юности я красивых слов от них не слыхала. Но я тосковала по комплиментам. Это почуяла старая Стрейпа, а моему отцу и в то время принадлежала кондитерская, в которой пекли десять сортов пирожных.
— Но теперь-то? — Асарис все еще не мог постичь последний этап биографии Ингелевиц.
— Теперь это привычка, приятная, как и сам кофе. Да и сознание, что я умнее той, которая каждую неделю должна придумывать что-то новое про мой нос и про иные части тела, чтобы даром получить кофе, доставляет мне удовольствие. С врачом можно говорить откровенно, во всяком случае так было в моей юности: ну, скажите честно, вы дали кому-нибудь пощечину, когда вам говорили, что вы опытный доктор, хотя вы работаете первый год?
— Врач не имеет права драться, мы только оказываем медицинскую помощь драчунам, — попытался отшутиться Асарис и опять принялся перебирать открытки.
— Ну признайтесь, много ли таких, кому не нравится, если про него говорят приятную неправду? Раньше императоры держали специальных стихотворцев, которые слагали им похвалы и гимны. Надо полистать литературу, может быть, и в двадцатом столетии найдешь нечто похожее. Лесть то же самое, что преждевременно врученный орден. Он обязывает стараться. Пастух поступает учиться на зоотехника. Гадкий утенок стремится превратиться в лебедя. Так что лесть порой имеет и положительное значение. И если все это я могу купить за чашку кофе! Я в этом городе прожила всю жизнь и не слыхала ни до войны, ни после, чтобы кого-либо отдали под суд за лесть. За лишение чести — бывало. Так что повнимательней приглядывайтесь к жизни.
Асарис внимательнее заглянул в себя, и ему нечего было ответить. Но тут он вспомнил главную причину своего прихода: загубленное кофепитием сердце Ингелевиц — и попытался еще раз построже посмотреть, минуя нос Ингелевиц, прямо в глаза ей!
— Простите, но оставим мотивы угощения кофе, для меня в данный момент важнее последствия его. Необходимо проверить ваше сердце, у меня есть основания полагать, что…
— Нет никакого основания, поверьте мне. Мое сердце соответствует моему возрасту, и больше ничего.
— И все же, прошу вас, зайдите завтра ко мне.
— Завтра я торгую.
— Здоровье важнее оборота и денег. Раз уж у Стрейпы…
— Неужели вы еще не поняли, что я не так глупа, как Стрейпа! Поэтому и сердце у меня здоровое.
— Простите, но перед кофеином все равны. Мы пришлем за вами машину.
С красным крестом? Будто я собираюсь помирать? Ну нет! Тогда я вам вот что скажу, только как врачу! — Ингелевиц опять посмотрела по сторонам, а затем приблизила свой породистый нос к уху Асариса: — Кофейные зерна марки "Колумбия" стоят четыре пятьдесят за килограмм. Вы что думаете, что при моей зарплате киоскерши можно пить по десять чашек "Колумбии" в день: шесть чашек сама и четыре Стрейпа? Не тут-то было. Да в мои годы надо подумать и о здоровье. "Колумбию" пьет только Стрейпа. Кофе по чашечкам я разливаю на кухне. Там у меня два кофейника. Сама я пью цикорий… Не будем называть это бедностью, такова судьба… — Ингелевиц вздохнула. — А может, так оно и лучше: сердце у меня в порядке, стиль жизни соблюден, а Стрейпу наказал бог. Только, — теперь в самом деле взволнованная, Ингелевиц без повода быстро крутила вокруг пальцев четыре перстня и шептала, — только прошу вас: пусть это непременно останется между нами. Это самый большой секрет моей теперешней жизни.
— Никому не скажу! Честное слово! — с жаром уверял ее Асарис. Он снова обрел самоуверенность, чувствуя, что в этот миг пациентка зависит от него, как это и положено в медицине.
Он заплатил за десять цветных открыток, на которых был изображен скверик перед Оперным театром с дородной бронзовой девицей в центре. "Плоть у этой фигуры цвета кофе, — уходя, подумал он, но это не от кофе. Кофе портит только сердце, рассудок и нервы; на кожу он не оказывает влияния. У пьющих кофе обычная белая индоевропейская кожа".
О человеке, который всем угождал (История с привидением)
 Этой весной я познакомился с настоящим привидением. Сомневаюсь, найдется ли другое такое во всей Латвии, поэтому, думаю, мой долг пересказать данный случай подробнее, как это делают при открытии нового подвида лягушек, бегемотов или дикой сахарной свеклы.
Вышеупомянутое привидение, соблюдая вековые и международные традиции, жило (и еще проживает) на кладбище нашего села. Возвращаясь из города, я прохожу мимо него. Кладбище расположено, как водится, на горе, шагах в тридцати от дороги, с зубчатой выкрошившейся каменной оградой. Сквозь побеленную часовню ведет сводчатая арка. Налево от нее — помещение, где отпевают, направо — комната для кладбищенского сторожа, а над воротами башенка с чудом уцелевшим во время войны колоколом.
Однажды вечером, дискутируя в объединении молодых авторов на тему "Оптимальное количество стихов за неделю", я задержался в городе до полуночи и тихой лунной ночью пешком возвращался домой. Тут-то и началось: прохожу мимо кладбища, слышу — кто-то кашляет. Приглушенно, будто прикрыв рот кулаком. Я ни с места, как в землю врос. Опять кто-то кашляет.
И прямо в мертвецком отделении часовни.
По ходу дискуссии я выпил несколько бутылок крепкого пива, поэтому не растерялся; держа в кармане, как рукоятку револьвера, длинный фонарь, я стал осторожно приближаться к часовне. Было не холодно, снег не скрипел, только что упавшие пушистые снежинки даже приглушали мои шаги. Калитка рядом с аркой оказалась незапертой. Я протиснулся в нее и обошел вокруг Часовни. Тишина. Лишь из квартиры кладбищенского сторожа Ремикиса доносился мелодичный храп. (Ремикиса когда-то корова лягнула в нос, поэтому он дышал по преимуществу ртом, то есть храпел.). Значит, ничего особенного. Я вышел обратно на дорогу, и пальцы в кармане уже отпустили фонарь. Но вдруг кто-то опять закашлял в часовне.
Уже не по кладбищенской дороге, а вдоль забора я подкрался к окну часовни и внезапно посветил туда фонарем. В углу я разглядел гроб, крышка которого съехала в сторону, подобно шапке пьяницы. Бумажные фестоны или складки простыни сверкали сквозь черную щель, как белые зубы. А кашель? Все равно, был ли гроб пуст или занят, кашлять эта деревянная штука не могла. Я направился вокруг часовни и вдруг на свежем снегу заметил следы, которых только что не было. Это были оттиски галош, с пяток и носков которых стерся характерный клетчатый рельеф. Как известно, по следам на снегу нельзя определить, кто их оставил — человек или женщина, поэтому я допустил наиопаснейший вариант — что тут проходил человек. Все же я пошел по следу и вышел за ограду, где в кустарнике находились сарайчик кладбищенского сторожа и небезызвестный домик с отверстием в виде сердца в дверце. И… оттуда раздался все тот же неприятный кашель. И тогда меня охватило… Не будем называть это страхом, назовем потерей интереса. Я было уже направился прочь, но что-то белое промелькнуло в черном "сердечке" дверцы и послышался хриплый голос, медленный, как скрип тихо растворяемой двери:
— Уйдите с дорожки, мне надо вернуться назад!
— Кто вы?
— Я единственное в настоящее время привидение этого кладбища.
Привидение? Я растерялся, но тут же вспомнил публикацию Маргера Зариня о привидениях на рижских кладбищах. Почему бы привидения не могли приютиться и на деревенском кладбище? Почему бы и в этом смысле деревне не приблизиться к городу?
— Отойдите, я должен бежать обратно, а по правилам меня полагается видеть только издали. — В "сердечке" показались подобие носа и затемненные глазницы.
— Стоп! Если вы настоящее привидение, то вам в этом домике нечего делать! — воскликнул я, вспомнив физиологию человека.
— В общем-то так… но это привычка от прежней жизни, когда в двенадцать часов ночи я бегал покурить, потому что в комнате жена не позволяла.
От столь человечного объяснения мой испуг прошел, и я решил говорить с привидением строго.
— Я вас из этого… узилища выпущу в том случае, если вы пообещаете рассказать о себе все.
— Тогда вы должны пойти со мной в часовню, я живу в том коричневом деревянном гробу. Но только при условии, что вы напишете про меня. Когда я был жив, про меня никто не писал в газете, хотя я был во всем примерным. О хулиганах и спортсменах писали, обо мне нет. Мне очень хочется, чтобы мое имя появилось в газете.
— Это можно, — согласился я. — С настоящей или вымышленной фамилией?
— С настоящей, с настоящей! — в голосе привидения я расслышал жестокую радость мертвеца. — Пусть все знают, какая у меня жена!
Привидения мстительны. Совпадает.
— Ну, тикай! — Я взобрался на живую изгородь подстриженных туй.
"Сердечная" дверца открылась, и мимо меня, поднявшись над землей сантиметров на тридцать, пролетела странная фигура. На снегу новых следов не осталось. Мне показалось, что привидение одето в черный пиджак, из-под которого высовывалась белая рубашка, голяшки были голые и обуто оно в галоши. Двери часовни остались полуоткрытыми. Когда я вошел, шевельнулась крышка гроба, которую, подобно покрывалу, натянуло на себя привидение. Чтобы у меня не возникало никаких сомнений, что оно в самом деле находится в гробу, привидение нарочно шевелило в щели костлявыми пальцами, а луна время от времени освещала все это.
— Спрашивайте быстро: час привидений скоро кончится.
— Вы бродите в определенные часы?
— Какое там — жена-то не положила мне часов. Приходится довольствоваться черным петухом кладбищенского сторожа. Знаю, что у вас в кармане фонарь. Если включите, наш контакт мгновенно оборвется, и вы найдете тут только пустой гроб, — предупредило привидение. Голос его дрожал, будто оно было живым и, лежа в гробу в одном пиджаке и без штанов, вздрагивало от холода.
Я стал спиной к окну так, что над моим плечом синеватый луч луны все же хоть как-то проникал в обитель.
— Почему вы стали привидением?
— Из страха и злости. Но отбросьте свои привычки газетчика добывать материал, давайте говорить попросту. Хорек петуха еще не загрыз, скоро он пропоет. Я же должен рассказать свою историю, иначе вы не поймете ее финала. — Казалось, что привидение глубоко вздохнуло. — Моя мать, когда была в положении, нагнувшись за боровиком, почти схватила за голову гадюку, которая обвилась вокруг ножки гриба. Раньше росли такие огромные грибы. Поэтому я родился, хе-хе, очень осторожным. Да, осторожным, и всю свою жизнь я никогда ничего недозволенного не делал. Это проявилось уже в колыбели. Бабушка только раз шлепнула меня по попе, потому что я в пеленках… ну, вспомните сами, что вы делали в пеленках. Чтобы меня больше не шлепали, чтобы прекратить, как говорится, эти экзе… экзе…
— Экзекуции?
— …да, да, именно их, мозг ржавеет, поэтому не могу сразу вспомнить нужное слово. Так вот, в двухмесячном возрасте я сам просился на горшок. В волости я был первым, кто проявил такую сознательность уже в двухмесячном возрасте. И поэтому меня превозносили как вундер… вундер…
— Вундеркинда?
— Да, вундеркинда. И разве это не прекрасно? Хе-хе — так легко стать вундеркиндом! В то время меня каждый день пичкали кашицей, о которой мать начиталась в книгах. Тайком от матери я стал опрокидывать мисочки. Кашица на полу, но на полу и собака. Собаке манка никогда не надоедала. Собака стала моим лучшим другом и следовала за мной по пятам. Ни один мальчишка не осмеливался поколотить меня, так что в детстве меня не били. Никогда. Теперь я вот размышляю, не это ли испортило мой характер: не умею дать сдачи, даже жене. Теперь вы понимаете, почему собака лучший друг человека?
— Понимаю — из-за каши.
— Хе-хе, из-за манной каши. Продолжаю рассказ. Учитель однажды изрек, что сладости по ночам разъедают зубы. Баста! Весь шоколад, который приносили мне крестные — старые девы — на именины… Ой… я еще не представился! Филипп Варайдотс Варнав. Два раза в год весь шоколад я отдавал соседским мальчишкам. Те ели, измазавшись, и хвалили меня коричневыми ртами, называли настоящим парнем; а я, не беря сладости в рот, не стал решетчатозубым. У меня — видите!..
В щели гроба показался голый, как освещенная лунным светом перевернутая алюминиевая миска, череп, и раздалось "скрапе, скрапе": привидение Варнав, демонстрируя свои зубы, кусало гробовую доску.
— Зубы целы, но больше не нужны, — с завистью заметил я, вспомнив про свои железные зубы, в которые вогнано несколько костяных пломб.
— Хе-хе, еще понадобятся! Когда меня отроют, когда сотрудники института истории напишут диссер… диссер…
— Диссертацию?
— Ну да, ее. О том, что в двадцатом столетни в Валмиерском районе никто не ел шоколада и потому все умирали со здоровыми зубами. И еще вот что. Послушных детей, может, не следовало бы отдавать в школу, потом им трудно живется, если они хотят выполнять все то, чему их учили… Мне учитель внушил, что надо совершенствовать свое тело. Я послушался, поэтому в детстве ходил босиком и, для того чтобы развить пальцы ног, ловил ими в траве насекомых: божьих коровок, жучков и так далее, до тех пор пока не схватил по ошибке несколько ос. А насморк остался и по сей день. — Привидение аппетитно чихнуло. — Мать по утрам опускала мои руки в воду и смачивала лицо. Но так как у человека в детстве врожденная нечистоплотность, то я наловчился показывать мокрый кусок мыла в знак того, что умывался. Мать была довольна, однако до тринадцати лет вода в мои уши не попадала, поэтому всю жизнь я хорошо слышал. И разве я не умер так же, как и те, которые мылили шею и мыли уши?..
Собака, которая ела манную кашу, со временем умерла, отец принес другую. С собаками, так же как и с людьми, надо ладить. Вот я и заходил каждый день в кладовую, где хранилось мясо, и трогал его пятерней. Потом давал собаке обнюхивать пальцы. Эта собака до самой смерти жила в полной уверенности, что я беден, но у меня доброе сердце и что однажды она получит от меня какую-нибудь косточку. Она считала меня единственным другом животных во всем доме. Собаке тоже необходима надежда…
Да, в школе, между прочим, читать, писать и всему остальному я научился очень быстро, потому что это нравилось учителю. Сам об этом я как-то особенно не жалел, хотя…
Тут привидение осеклось. В часовне наступила звонкая тишина. Вдруг: тук-тук-тук — изнутри по крышке гроба, как молотком. Я схватился в кармане за фонарь.
— Хе-хе, все ж таки не уснули. Я время от времени стучу косточкой большого пальца ноги по крышке, чтобы убедиться: аз есмь. Экзистенци… экзистенци…
— Экзистенциализм?
— Он, он. Разве нельзя было ту же мысль выразить более коротким словом? Это длинное я нашел в книге о порочной философии. Значит, я читал. Но а если так задуматься, уж лучше бы я считался недоразвитым, чем научился читать. Так, однажды я прочел брошюрку, что повсюду живут микробы. Во рту, под ногтями, на соленых огурцах. Даже на дверных ручках микробы щелкают зубами, чтобы вонзить их в ладонь, а потом поплывут по крови к самому сердцу как царьки, перекроют артерии и захотят задушить меня. Когда я это прочел, у меня от страха волосы встали дыбом, и знаете, всю жизнь я носил в кармане полотенце. И прежде чем взяться за дверную ручку, я вытирал ее своим полотенцем. Хотя и правильная, но все же трудная жизнь. И вообще наиболее правильные жизни — самые трудные, поэтому редко кто живет правильно. Меня прозвали Вытиралой. Вытирала, хотя и урожденный Варнав. Ну и люди: пишут книги, учат правильно жить, но, когда ты правильно живешь, высмеивают. Хорошо, что я отдал концы. У меня и теперь еще с собой…
Из щели гроба, как белый язычок пламени, на мгновение высунулся уголок материи.
— Это носовой платочек, на который расщедрились, сунули мне в карман черного пиджака, но ведь знали, что в жизни я пользовался не носовым платком, а полотенцем. Иногда я протираю крышку гроба. Привычка" Хотя микробов во мне больше нет, но сам я присутствую в микробах… Разумеется, когда-то и я был молодым человеком, и мне хотелось делать с девицами то самое, что другие парни делают как в помещениях, так и на лоне природы. Но я, черт возьми, умел читать и опять же в каком-то журнале прочел, что, целуясь, можно, мол, перенести, как же там было… да, можно, мол, другому привить примерно тысячу микробов, дрожжевых грибков и других микроорганизмов. Вот я и прикинул: если целоваться, скажем, в течение одного часа — через неделю каюк. Ну нет! Бывали случаи, конечно, когда ко мне тянулись губы, ну точно как когда пьешь воду из-под крана; но я брал себя в руки, потому что читал брошюры о здоровье. Несколько раз меня огрели по уху и обругали слабаком, слюнтяем, библейским ослом и так далее. Одна со злости плакала и кричала, что я её обидел. А мне казалось, что она обидела меня, желая уничтожить бактериологической бомбой под названием поцелуй. В общем, из-за этой брошюры я женился только в тридцатилетием возрасте. Сделал я это быстро, без оглядки — и ошибся… Не хватало опыта, ибо я раньше не целовался.
— Значит, в тридцатилетием возрасте вы перестали бояться поцелуев?
— Хе-хе, я тогда больше ничего не боялся, так как мать ушла к моей сестре и не было никого, кто бы сварил пищу на растительном масле по рецептам книги о здоровой пище. От свинины же — рак, так ведь пишут… Да, тогда-то я и сблизился с тридцатилетней разведенной особой, хотя и прочел брошюру о том, каким путем распространяются венерические болезни, если отсутствуют прочные брачные узы.
— Вы заболели?..
— Хе-хе, вовсе не заболел, ерунда в этих брошюрах напечатана! Не заболел, а гораздо хуже — женился. Болезнь можно вылечить, брак непоправим. Я мягкотелый, всегда хочу всем угодить. И я ведь знал, что Элизе понравится, если я на ней женюсь. Словом, дал согласие, и с этого началась моя погибель, которая продолжалась двадцать лет.
— Вы… целовались и потом болели двадцать лет?
— Хе-хе, не целоваться — это была единственная привычка, которую жена позволила сохранить мне с холостяцких лет, потому что жене-то я был нужен для того, чтобы носить в дом деньги и чтобы было кого дрессировать. Дочь у нее была уже как бы в качестве приданого. Я работал на лесопилке настройщиком. Это такой мастер, который из кривой березы выпиливает прямые доски. Черт побери, знал бы, что помирать так скоро, отложил бы для гроба доски собственной распилки. Теперь смотришь в потолок — настоящий брак, доски будто зубами обгрызены, и синие края не срезаны. Просто плюнуть хочется, но нечем — я ведь привидение… Словом, я зарабатывал деньги с утра до вечера; и все же каждый день за завтраком выяснялось, что меня содержат жена со своей дочкой, так как на них лежит приготовление пищи. Готовить-то они готовили, но что! Я должен был есть даже копченое мясо, салаку в томате, даже шашлыки и чахохбили с лавровым листом, хотя хорошо знал, что все это вредно для здоровья. Но — жена любила то, что щиплет язык. И уж такой у меня характер: не мог я перечить. По утрам заставляли пить натуральный кофе, потому что он нравился жене, хотя я знал, что от кофе разрушается сердце, возникают почечные камни, слабеет память и другие органы.
Самое ужасное, что жена подталкивала меня к алкоголю, потому что директор лесопилки, бухгалтер и остальное общество любят выпить. Она сожгла все противоалкогольные брошюры, и после этого у меня уже не было уверенности, что алкоголь вреден. Сколько в нашей семье именин? У жены два раза именины: и на Роту и на Элизу. В молодости она была, мол, прелестной Ротой, теперь, в связи со своим весом, стала Элизой. У дочери, как нарочно, тоже два имени: Сармите и Цента — усердная, хотя усердно она только глаза красит. В целом это составляет четыре раза по два дня, потому что дочь надо выдать замуж. Еще дважды именины у меня. Потом наши три дня рождения, потом именины и дни рождения у директора и директорши, бухгалтера… У меня податливый характер… Директора звать Карлом. Каждый год в день Карла жена только и командует: "Идем! Одевайся! Не забудь пол-литра и бальзам!" В этом году — аминь…
Привидение Варнав на минутку умолкло.
— Во черт, показалось, будто петух уже хлопает крыльями и я должен исчезнуть. Нет еще. Да. В этом году на Карлах — аминь. Я захлебнулся аптечным спиртом, который принес ветеринар. Жена потихоньку налила мне в рюмочку. Только потом я понял, чего это она перемигивалась с другими: чтобы посмеяться надо мной! Мы чокнулись, и я, обученный женой, опрокинул рюмочку. Вот тогда и началось… Во рту был мясной салат, как и положено на всех латышских семейных торжествах, в салате горошек, а тут еще чистый спирт. Я начал давиться, ибо не работаю ни в медицине, ни на Дальнем Севере, и не привык пить спирт. Те кричат: "Рохля, выдыхай воздух!" А я не умею и весь комнатный воздух втягиваю в себя. Но сколько же легкие могут вместить! Кашляю, захлебываюсь воздухом и вместе с воздухом вдыхаю горошину! Кашляю. Не помогает. Кашляю полчаса. Как они хохотали!.. Жена прямо стонала, от смеха у ней заболело под ложечкой. "Кашляй, Варайдот, у тебя хороший голос!" Когда, кашляя, я упал под стол, директор и все остальные выпили за мое здоровье, а жена еще и добавила: "Не ходи в гости, если не умеешь пить". Будто не она привела меня. Потом стали хором петь: "Господь знает время жатвы, он ломает колос созревший…" Последняя песня на этом свете…
Под столом на званом вечере… Многие литераторы нашли бы там фон для романов из современной жизни местного общества: от ботинок до точеных каблучков женских туфель. Но об этом в другой раз. Что делать? Чувствую, что ухожу к праотцам… Кричать о помощи? Я знал, что ни жене, ни директору это не понравится — вечеринку испорчу. Раз уж всю жизнь угождал, буду последовательным до конца. Глядя, как гости топчутся, отстукивая такт в песне, я потерял сознание. Музыкальная, усеянная цветами смерть — ведь все в тот миг пели "Не один чудесный цветок бросал я в Гаую…". Когда утром, собираясь домой, жена вытащила меня из-под стола, говоря: "Иди сюда, подержи пальто, мужчина ты или нет! Пошли домой, надо дров наколоть!" — я уже изрядно пробыл в мире ином…
— Как?! Вы взяли и просто умерли и не боролись за свою жизнь? — пораженный, воскликнул я.
— Бороться? С детства я уже боролся, разумеется, своим оружием — я хотел всем угодить. Все было хорошо, пока я не встретил женщину. Против нее это оружие оказалось слабым. Требования жены растут в геометрической прог… прог…
— Прогрессии?
— Да, так-то. Если тебе говорят, чтоб купил чулки, и ты это делаешь, то тебе отвечают, что надо было купить сапожки, и так далее. Что меня ожидало в будущем? Салазки, на которых в старости отвозят в лес. В этом я точно убедился после смерти. Понимаете, меня в гробу привезли сюда. Да не в этом, это резервный гроб, которым кладбищенский сторож Ремикис спекулирует, одалживает и спекулирует. Весной и осенью трактористы любят ездить по прудам и по сплавным рекам, тонут, поэтому запас необходим. Меня привезли в персональном гробу и положили там, где сейчас стоите вы, на постаменте, где подсвечники, со свечами. Но как привезли? По грудь накрытого белым покрывалом, потому что — без штанов! Жена, наверное, надеется поймать третьего мужа. Хе-хе, для моих штанов ей долго придется искать подходящего — я был очень тощим. Пожадничала, даже туфли не надела, поэтому, как вы сами видели, брожу я в старых галошах. Привезли меня, и жена и женщины, не мною воспитанная дочь стоят, разговаривают. Жена говорит: "Какой неблагоразумный! Раз уж не хотел жить, помирал бы летом. Земля промерзла на метр, и эти четверо стариков из колхоза содрали сорок рублей только за рытье могилы. А летом вырыли бы за десятку". Это высказывание подвело последнюю черту под всеми нашими отношениями. Впервые в жизни я обозлился и решил: не удастся вам похоронить меня, пока я не сведу с вами счеты! Подамся в привидения! Так я и сделал. С постамента — из своего гроба — я перебрался в этот, резервный…
Привидение Варнав, будучи экзистенциалистом, утверждая себя, опять постучал изнутри по крышке гроба.
— Каким было ваше самочувствие потом? — поспешно спросил я, потому что лишний опыт никогда не помешает, к тому же я охотно ем горошек в салате:
— Скажу одно: после смерти я стал гораздо более самостоятельным. Даже жены больше не боюсь, не говоря уже об автоинспекторе или министре лесного хозяйства. Вы писатель, Как звать вашего начальника?
— Настоящего начальника вроде нет ни одного, но на самом деле их очень много: издатели, редакторы, читатели…
— Видите ли, я чувствую себя так, как чувствовали бы вы себя, если бы не надо было бояться редакторов, издателей и тех, которые подписываются именем "Читатель".
— И никто не хватился, когда хоронили, что в гробу — одни лишь бренные останки минус привидение?
— Нет! Все были подвыпивши и заняты земными делами. Сперва управляющий этим заведением кладбищенский сторож Ремикис продавал моей жене свечи, бывшие в употреблении уже два раза, потому что при выносе гроба сгорает совсем немного, ну, разумеется, домой никто огарки свечей не возьмет… А когда все собрались там, где сейчас стоите вы, и отпеватель в том числе, то спохватились, что двадцать человек, вместо взятых, знают всего две-три песенки, да и то светских, так как компания была навеселе. К тому же каждый помнил свою песню, такую, которую, в свою очередь, забыл сосед. А без музыки выносить тело нельзя, это они знали свято. Стали срочно искать оркестр. Но городской оркестр в тот день праздновал двадцать пятый юбилей и дул себе в усы, а не в трубы. Второпях разыскали четырех стариков, тех самых, которых возила по всем районным кладбищам. Меня записали третьим. В очередь, как к зубному врачу. Перед погребением в связи с холодной погодой эта четверка затребовала еще бутылочку спирта, чтобы влить его в свои трубы, иначе, мол, трубы замерзнут… Когда я был уже зарыт, все вошли сюда и в моем присутствии получили от жены сорок рублей. Друзья несли гроб и восхваляли бога, а не меня, за то, что гроб был такой легкий. Ну, это вроде бы и все. С тех пор я стал регулярным привидением.
— Но разве… никто вас еще не засек?
— Хе-хе — а как же! — В щели гроба показался костлявый палец, указывающий на другое крыло часовни. — Кладбищенский сторож Ремикис, подвыпивши так же как и вы, заметил меня, когда я по привычке в двенадцать ночи парил в сторону уборной будто бы покурить. "Эйдис, — сказал я тогда, — или ты резервный гроб больше не трогаешь, потому что там живу я, или же обгорелые свечи продаешь в последний раз. Твоя коза больше не будет щипать мураву на кладбище, иначе я награжу ее молочным параличом. Если ты не хочешь, чтобы у кладбищенского колокола, на котором ты зарабатываешь по трешнице, случайно отвалился язык, с резервного гроба крышки не снимай!.." Мы уживаемся.
— Но — вы прописаны? Только тот является человеком, в данном случае полноправным привидением, кто имеет прописку. В милиции знают?
— Знают. По ночам иногда сижу на крыше, особенно в такие ночи, когда мимо проходит моя вдова, ибо я обещал свести с ней счеты. Докладывали обо мне. Но сельский Совет и милиция не могут ко мне подступиться: в законах привидения не предусмотрены. Загляните в уголовный кодекс на букву "п". Все… прием окончен…
С грохотом захлопнулась крышка гроба. Теперь я четко расслышал, как на кладбище пел петух. А мне хотелось узнать от привидения еще многое… Хотя бы вот что: существуют ли привидения женского пола? А характер у этих привидений такой же, как у женщин?.. И насчет профсоюза, и еще кое-что.
Я не успел дойти до дверей, как они отворились сами, и меня ослепил свет, гораздо более яркий, чем луч луны на полу.
— Неужто вы, товарищ поэт, и есть тот самый?… — спросил кто-то крайне изумленный. Сквозь ослепительный свет я разглядел милицейские пуговицы и кокарду на шапке.
— Какой тот самый? — с тревогой спросил я.
— Тот, про которого мне доносила гражданка Варнава. Тот храбрец, который ночью в пиджаке и в рубашке без порток бегает по кладбищенской ограде; тот, который сидит на крыше часовни и сучит в воздухе босыми ногами. Этого я никак не ожидал от представителя творческой интеллигенции!
Я понял, что дело становится серьезным.
— По ночам я сплю в постели, а не на крыше. Женщины могут подтвердить… На крыше я вообще не могу сидеть кружится голову. Не могу усидеть даже на спине лошади.
— На лошади не сможете, этому я верю, потому что гонорары поэтов не такие, чтобы содержать лошадь. Однако будет лучше, если вы признаетесь сразу. Сообщим только в Союз писателей, а там, может быть, это дело замнут.
— На крыше сидит привидение, то самое, которое арендовало этот гроб!
— Неужели я должен еще доказывать, что вы несете вздор? Это же запасной гроб для трактористов и мотоциклистов. — Милиционер, не спуская с меня глаз, поднял крышку гроба. — Ну?
С интересом и с почтением я нагнулся, чтобы взглянуть на привидение, в то же время опасаясь получить костлявым кулаком в нос. Но гроб был пуст. На подушке не видно было даже вмятины от лысого затылка Варнава… Я лихорадочно соображал, стараясь осмыслить отсутствие Варнава. Да!..
Теперь я смело могу утверждать, что разговаривал с настоящим привидением, ибо только таковое может незаметно для всех исчезнуть из часовни, в неизвестном направлении.
— Гроб пуст! Значит, я имел дело с настоящим привидением! — победно воскликнул я.
Под воздействием моей уверенности милиционер медленно переспросил:
— Где же оно живет?
— Это… это такое привидение, которое заключено в каждом из нас, но только после смерти выходит на волю и перечит всем, кому еще при жизни хотелось перечить.
— Привидение законом не предусмотрено. Ему по административной линии взыскание не дашь. Зато вам можно. Ну так вот: оставим это между нами. На первый раз, так сказать. В Союз писателей не сообщу. Ступайте-ка домой, идите навстречу своей судьбе, и пусть вас накажет жена. Но если еще раз застукаю, когда вы пьяный валяете дурака в часовне или на крыше, то будем разговаривать в другом месте. Шагайте!
Идя домой по освещенной луной дороге, я не чувствовал себя ни опечаленным, ни обиженным, ибо не каждому дано увидеть настоящее привидение. Значит, я избранник, по крайней мере, в этом смысле.
Этой весной я познакомился с настоящим привидением. Сомневаюсь, найдется ли другое такое во всей Латвии, поэтому, думаю, мой долг пересказать данный случай подробнее, как это делают при открытии нового подвида лягушек, бегемотов или дикой сахарной свеклы.
Вышеупомянутое привидение, соблюдая вековые и международные традиции, жило (и еще проживает) на кладбище нашего села. Возвращаясь из города, я прохожу мимо него. Кладбище расположено, как водится, на горе, шагах в тридцати от дороги, с зубчатой выкрошившейся каменной оградой. Сквозь побеленную часовню ведет сводчатая арка. Налево от нее — помещение, где отпевают, направо — комната для кладбищенского сторожа, а над воротами башенка с чудом уцелевшим во время войны колоколом.
Однажды вечером, дискутируя в объединении молодых авторов на тему "Оптимальное количество стихов за неделю", я задержался в городе до полуночи и тихой лунной ночью пешком возвращался домой. Тут-то и началось: прохожу мимо кладбища, слышу — кто-то кашляет. Приглушенно, будто прикрыв рот кулаком. Я ни с места, как в землю врос. Опять кто-то кашляет.
И прямо в мертвецком отделении часовни.
По ходу дискуссии я выпил несколько бутылок крепкого пива, поэтому не растерялся; держа в кармане, как рукоятку револьвера, длинный фонарь, я стал осторожно приближаться к часовне. Было не холодно, снег не скрипел, только что упавшие пушистые снежинки даже приглушали мои шаги. Калитка рядом с аркой оказалась незапертой. Я протиснулся в нее и обошел вокруг Часовни. Тишина. Лишь из квартиры кладбищенского сторожа Ремикиса доносился мелодичный храп. (Ремикиса когда-то корова лягнула в нос, поэтому он дышал по преимуществу ртом, то есть храпел.). Значит, ничего особенного. Я вышел обратно на дорогу, и пальцы в кармане уже отпустили фонарь. Но вдруг кто-то опять закашлял в часовне.
Уже не по кладбищенской дороге, а вдоль забора я подкрался к окну часовни и внезапно посветил туда фонарем. В углу я разглядел гроб, крышка которого съехала в сторону, подобно шапке пьяницы. Бумажные фестоны или складки простыни сверкали сквозь черную щель, как белые зубы. А кашель? Все равно, был ли гроб пуст или занят, кашлять эта деревянная штука не могла. Я направился вокруг часовни и вдруг на свежем снегу заметил следы, которых только что не было. Это были оттиски галош, с пяток и носков которых стерся характерный клетчатый рельеф. Как известно, по следам на снегу нельзя определить, кто их оставил — человек или женщина, поэтому я допустил наиопаснейший вариант — что тут проходил человек. Все же я пошел по следу и вышел за ограду, где в кустарнике находились сарайчик кладбищенского сторожа и небезызвестный домик с отверстием в виде сердца в дверце. И… оттуда раздался все тот же неприятный кашель. И тогда меня охватило… Не будем называть это страхом, назовем потерей интереса. Я было уже направился прочь, но что-то белое промелькнуло в черном "сердечке" дверцы и послышался хриплый голос, медленный, как скрип тихо растворяемой двери:
— Уйдите с дорожки, мне надо вернуться назад!
— Кто вы?
— Я единственное в настоящее время привидение этого кладбища.
Привидение? Я растерялся, но тут же вспомнил публикацию Маргера Зариня о привидениях на рижских кладбищах. Почему бы привидения не могли приютиться и на деревенском кладбище? Почему бы и в этом смысле деревне не приблизиться к городу?
— Отойдите, я должен бежать обратно, а по правилам меня полагается видеть только издали. — В "сердечке" показались подобие носа и затемненные глазницы.
— Стоп! Если вы настоящее привидение, то вам в этом домике нечего делать! — воскликнул я, вспомнив физиологию человека.
— В общем-то так… но это привычка от прежней жизни, когда в двенадцать часов ночи я бегал покурить, потому что в комнате жена не позволяла.
От столь человечного объяснения мой испуг прошел, и я решил говорить с привидением строго.
— Я вас из этого… узилища выпущу в том случае, если вы пообещаете рассказать о себе все.
— Тогда вы должны пойти со мной в часовню, я живу в том коричневом деревянном гробу. Но только при условии, что вы напишете про меня. Когда я был жив, про меня никто не писал в газете, хотя я был во всем примерным. О хулиганах и спортсменах писали, обо мне нет. Мне очень хочется, чтобы мое имя появилось в газете.
— Это можно, — согласился я. — С настоящей или вымышленной фамилией?
— С настоящей, с настоящей! — в голосе привидения я расслышал жестокую радость мертвеца. — Пусть все знают, какая у меня жена!
Привидения мстительны. Совпадает.
— Ну, тикай! — Я взобрался на живую изгородь подстриженных туй.
"Сердечная" дверца открылась, и мимо меня, поднявшись над землей сантиметров на тридцать, пролетела странная фигура. На снегу новых следов не осталось. Мне показалось, что привидение одето в черный пиджак, из-под которого высовывалась белая рубашка, голяшки были голые и обуто оно в галоши. Двери часовни остались полуоткрытыми. Когда я вошел, шевельнулась крышка гроба, которую, подобно покрывалу, натянуло на себя привидение. Чтобы у меня не возникало никаких сомнений, что оно в самом деле находится в гробу, привидение нарочно шевелило в щели костлявыми пальцами, а луна время от времени освещала все это.
— Спрашивайте быстро: час привидений скоро кончится.
— Вы бродите в определенные часы?
— Какое там — жена-то не положила мне часов. Приходится довольствоваться черным петухом кладбищенского сторожа. Знаю, что у вас в кармане фонарь. Если включите, наш контакт мгновенно оборвется, и вы найдете тут только пустой гроб, — предупредило привидение. Голос его дрожал, будто оно было живым и, лежа в гробу в одном пиджаке и без штанов, вздрагивало от холода.
Я стал спиной к окну так, что над моим плечом синеватый луч луны все же хоть как-то проникал в обитель.
— Почему вы стали привидением?
— Из страха и злости. Но отбросьте свои привычки газетчика добывать материал, давайте говорить попросту. Хорек петуха еще не загрыз, скоро он пропоет. Я же должен рассказать свою историю, иначе вы не поймете ее финала. — Казалось, что привидение глубоко вздохнуло. — Моя мать, когда была в положении, нагнувшись за боровиком, почти схватила за голову гадюку, которая обвилась вокруг ножки гриба. Раньше росли такие огромные грибы. Поэтому я родился, хе-хе, очень осторожным. Да, осторожным, и всю свою жизнь я никогда ничего недозволенного не делал. Это проявилось уже в колыбели. Бабушка только раз шлепнула меня по попе, потому что я в пеленках… ну, вспомните сами, что вы делали в пеленках. Чтобы меня больше не шлепали, чтобы прекратить, как говорится, эти экзе… экзе…
— Экзекуции?
— …да, да, именно их, мозг ржавеет, поэтому не могу сразу вспомнить нужное слово. Так вот, в двухмесячном возрасте я сам просился на горшок. В волости я был первым, кто проявил такую сознательность уже в двухмесячном возрасте. И поэтому меня превозносили как вундер… вундер…
— Вундеркинда?
— Да, вундеркинда. И разве это не прекрасно? Хе-хе — так легко стать вундеркиндом! В то время меня каждый день пичкали кашицей, о которой мать начиталась в книгах. Тайком от матери я стал опрокидывать мисочки. Кашица на полу, но на полу и собака. Собаке манка никогда не надоедала. Собака стала моим лучшим другом и следовала за мной по пятам. Ни один мальчишка не осмеливался поколотить меня, так что в детстве меня не били. Никогда. Теперь я вот размышляю, не это ли испортило мой характер: не умею дать сдачи, даже жене. Теперь вы понимаете, почему собака лучший друг человека?
— Понимаю — из-за каши.
— Хе-хе, из-за манной каши. Продолжаю рассказ. Учитель однажды изрек, что сладости по ночам разъедают зубы. Баста! Весь шоколад, который приносили мне крестные — старые девы — на именины… Ой… я еще не представился! Филипп Варайдотс Варнав. Два раза в год весь шоколад я отдавал соседским мальчишкам. Те ели, измазавшись, и хвалили меня коричневыми ртами, называли настоящим парнем; а я, не беря сладости в рот, не стал решетчатозубым. У меня — видите!..
В щели гроба показался голый, как освещенная лунным светом перевернутая алюминиевая миска, череп, и раздалось "скрапе, скрапе": привидение Варнав, демонстрируя свои зубы, кусало гробовую доску.
— Зубы целы, но больше не нужны, — с завистью заметил я, вспомнив про свои железные зубы, в которые вогнано несколько костяных пломб.
— Хе-хе, еще понадобятся! Когда меня отроют, когда сотрудники института истории напишут диссер… диссер…
— Диссертацию?
— Ну да, ее. О том, что в двадцатом столетни в Валмиерском районе никто не ел шоколада и потому все умирали со здоровыми зубами. И еще вот что. Послушных детей, может, не следовало бы отдавать в школу, потом им трудно живется, если они хотят выполнять все то, чему их учили… Мне учитель внушил, что надо совершенствовать свое тело. Я послушался, поэтому в детстве ходил босиком и, для того чтобы развить пальцы ног, ловил ими в траве насекомых: божьих коровок, жучков и так далее, до тех пор пока не схватил по ошибке несколько ос. А насморк остался и по сей день. — Привидение аппетитно чихнуло. — Мать по утрам опускала мои руки в воду и смачивала лицо. Но так как у человека в детстве врожденная нечистоплотность, то я наловчился показывать мокрый кусок мыла в знак того, что умывался. Мать была довольна, однако до тринадцати лет вода в мои уши не попадала, поэтому всю жизнь я хорошо слышал. И разве я не умер так же, как и те, которые мылили шею и мыли уши?..
Собака, которая ела манную кашу, со временем умерла, отец принес другую. С собаками, так же как и с людьми, надо ладить. Вот я и заходил каждый день в кладовую, где хранилось мясо, и трогал его пятерней. Потом давал собаке обнюхивать пальцы. Эта собака до самой смерти жила в полной уверенности, что я беден, но у меня доброе сердце и что однажды она получит от меня какую-нибудь косточку. Она считала меня единственным другом животных во всем доме. Собаке тоже необходима надежда…
Да, в школе, между прочим, читать, писать и всему остальному я научился очень быстро, потому что это нравилось учителю. Сам об этом я как-то особенно не жалел, хотя…
Тут привидение осеклось. В часовне наступила звонкая тишина. Вдруг: тук-тук-тук — изнутри по крышке гроба, как молотком. Я схватился в кармане за фонарь.
— Хе-хе, все ж таки не уснули. Я время от времени стучу косточкой большого пальца ноги по крышке, чтобы убедиться: аз есмь. Экзистенци… экзистенци…
— Экзистенциализм?
— Он, он. Разве нельзя было ту же мысль выразить более коротким словом? Это длинное я нашел в книге о порочной философии. Значит, я читал. Но а если так задуматься, уж лучше бы я считался недоразвитым, чем научился читать. Так, однажды я прочел брошюрку, что повсюду живут микробы. Во рту, под ногтями, на соленых огурцах. Даже на дверных ручках микробы щелкают зубами, чтобы вонзить их в ладонь, а потом поплывут по крови к самому сердцу как царьки, перекроют артерии и захотят задушить меня. Когда я это прочел, у меня от страха волосы встали дыбом, и знаете, всю жизнь я носил в кармане полотенце. И прежде чем взяться за дверную ручку, я вытирал ее своим полотенцем. Хотя и правильная, но все же трудная жизнь. И вообще наиболее правильные жизни — самые трудные, поэтому редко кто живет правильно. Меня прозвали Вытиралой. Вытирала, хотя и урожденный Варнав. Ну и люди: пишут книги, учат правильно жить, но, когда ты правильно живешь, высмеивают. Хорошо, что я отдал концы. У меня и теперь еще с собой…
Из щели гроба, как белый язычок пламени, на мгновение высунулся уголок материи.
— Это носовой платочек, на который расщедрились, сунули мне в карман черного пиджака, но ведь знали, что в жизни я пользовался не носовым платком, а полотенцем. Иногда я протираю крышку гроба. Привычка" Хотя микробов во мне больше нет, но сам я присутствую в микробах… Разумеется, когда-то и я был молодым человеком, и мне хотелось делать с девицами то самое, что другие парни делают как в помещениях, так и на лоне природы. Но я, черт возьми, умел читать и опять же в каком-то журнале прочел, что, целуясь, можно, мол, перенести, как же там было… да, можно, мол, другому привить примерно тысячу микробов, дрожжевых грибков и других микроорганизмов. Вот я и прикинул: если целоваться, скажем, в течение одного часа — через неделю каюк. Ну нет! Бывали случаи, конечно, когда ко мне тянулись губы, ну точно как когда пьешь воду из-под крана; но я брал себя в руки, потому что читал брошюры о здоровье. Несколько раз меня огрели по уху и обругали слабаком, слюнтяем, библейским ослом и так далее. Одна со злости плакала и кричала, что я её обидел. А мне казалось, что она обидела меня, желая уничтожить бактериологической бомбой под названием поцелуй. В общем, из-за этой брошюры я женился только в тридцатилетием возрасте. Сделал я это быстро, без оглядки — и ошибся… Не хватало опыта, ибо я раньше не целовался.
— Значит, в тридцатилетием возрасте вы перестали бояться поцелуев?
— Хе-хе, я тогда больше ничего не боялся, так как мать ушла к моей сестре и не было никого, кто бы сварил пищу на растительном масле по рецептам книги о здоровой пище. От свинины же — рак, так ведь пишут… Да, тогда-то я и сблизился с тридцатилетней разведенной особой, хотя и прочел брошюру о том, каким путем распространяются венерические болезни, если отсутствуют прочные брачные узы.
— Вы заболели?..
— Хе-хе, вовсе не заболел, ерунда в этих брошюрах напечатана! Не заболел, а гораздо хуже — женился. Болезнь можно вылечить, брак непоправим. Я мягкотелый, всегда хочу всем угодить. И я ведь знал, что Элизе понравится, если я на ней женюсь. Словом, дал согласие, и с этого началась моя погибель, которая продолжалась двадцать лет.
— Вы… целовались и потом болели двадцать лет?
— Хе-хе, не целоваться — это была единственная привычка, которую жена позволила сохранить мне с холостяцких лет, потому что жене-то я был нужен для того, чтобы носить в дом деньги и чтобы было кого дрессировать. Дочь у нее была уже как бы в качестве приданого. Я работал на лесопилке настройщиком. Это такой мастер, который из кривой березы выпиливает прямые доски. Черт побери, знал бы, что помирать так скоро, отложил бы для гроба доски собственной распилки. Теперь смотришь в потолок — настоящий брак, доски будто зубами обгрызены, и синие края не срезаны. Просто плюнуть хочется, но нечем — я ведь привидение… Словом, я зарабатывал деньги с утра до вечера; и все же каждый день за завтраком выяснялось, что меня содержат жена со своей дочкой, так как на них лежит приготовление пищи. Готовить-то они готовили, но что! Я должен был есть даже копченое мясо, салаку в томате, даже шашлыки и чахохбили с лавровым листом, хотя хорошо знал, что все это вредно для здоровья. Но — жена любила то, что щиплет язык. И уж такой у меня характер: не мог я перечить. По утрам заставляли пить натуральный кофе, потому что он нравился жене, хотя я знал, что от кофе разрушается сердце, возникают почечные камни, слабеет память и другие органы.
Самое ужасное, что жена подталкивала меня к алкоголю, потому что директор лесопилки, бухгалтер и остальное общество любят выпить. Она сожгла все противоалкогольные брошюры, и после этого у меня уже не было уверенности, что алкоголь вреден. Сколько в нашей семье именин? У жены два раза именины: и на Роту и на Элизу. В молодости она была, мол, прелестной Ротой, теперь, в связи со своим весом, стала Элизой. У дочери, как нарочно, тоже два имени: Сармите и Цента — усердная, хотя усердно она только глаза красит. В целом это составляет четыре раза по два дня, потому что дочь надо выдать замуж. Еще дважды именины у меня. Потом наши три дня рождения, потом именины и дни рождения у директора и директорши, бухгалтера… У меня податливый характер… Директора звать Карлом. Каждый год в день Карла жена только и командует: "Идем! Одевайся! Не забудь пол-литра и бальзам!" В этом году — аминь…
Привидение Варнав на минутку умолкло.
— Во черт, показалось, будто петух уже хлопает крыльями и я должен исчезнуть. Нет еще. Да. В этом году на Карлах — аминь. Я захлебнулся аптечным спиртом, который принес ветеринар. Жена потихоньку налила мне в рюмочку. Только потом я понял, чего это она перемигивалась с другими: чтобы посмеяться надо мной! Мы чокнулись, и я, обученный женой, опрокинул рюмочку. Вот тогда и началось… Во рту был мясной салат, как и положено на всех латышских семейных торжествах, в салате горошек, а тут еще чистый спирт. Я начал давиться, ибо не работаю ни в медицине, ни на Дальнем Севере, и не привык пить спирт. Те кричат: "Рохля, выдыхай воздух!" А я не умею и весь комнатный воздух втягиваю в себя. Но сколько же легкие могут вместить! Кашляю, захлебываюсь воздухом и вместе с воздухом вдыхаю горошину! Кашляю. Не помогает. Кашляю полчаса. Как они хохотали!.. Жена прямо стонала, от смеха у ней заболело под ложечкой. "Кашляй, Варайдот, у тебя хороший голос!" Когда, кашляя, я упал под стол, директор и все остальные выпили за мое здоровье, а жена еще и добавила: "Не ходи в гости, если не умеешь пить". Будто не она привела меня. Потом стали хором петь: "Господь знает время жатвы, он ломает колос созревший…" Последняя песня на этом свете…
Под столом на званом вечере… Многие литераторы нашли бы там фон для романов из современной жизни местного общества: от ботинок до точеных каблучков женских туфель. Но об этом в другой раз. Что делать? Чувствую, что ухожу к праотцам… Кричать о помощи? Я знал, что ни жене, ни директору это не понравится — вечеринку испорчу. Раз уж всю жизнь угождал, буду последовательным до конца. Глядя, как гости топчутся, отстукивая такт в песне, я потерял сознание. Музыкальная, усеянная цветами смерть — ведь все в тот миг пели "Не один чудесный цветок бросал я в Гаую…". Когда утром, собираясь домой, жена вытащила меня из-под стола, говоря: "Иди сюда, подержи пальто, мужчина ты или нет! Пошли домой, надо дров наколоть!" — я уже изрядно пробыл в мире ином…
— Как?! Вы взяли и просто умерли и не боролись за свою жизнь? — пораженный, воскликнул я.
— Бороться? С детства я уже боролся, разумеется, своим оружием — я хотел всем угодить. Все было хорошо, пока я не встретил женщину. Против нее это оружие оказалось слабым. Требования жены растут в геометрической прог… прог…
— Прогрессии?
— Да, так-то. Если тебе говорят, чтоб купил чулки, и ты это делаешь, то тебе отвечают, что надо было купить сапожки, и так далее. Что меня ожидало в будущем? Салазки, на которых в старости отвозят в лес. В этом я точно убедился после смерти. Понимаете, меня в гробу привезли сюда. Да не в этом, это резервный гроб, которым кладбищенский сторож Ремикис спекулирует, одалживает и спекулирует. Весной и осенью трактористы любят ездить по прудам и по сплавным рекам, тонут, поэтому запас необходим. Меня привезли в персональном гробу и положили там, где сейчас стоите вы, на постаменте, где подсвечники, со свечами. Но как привезли? По грудь накрытого белым покрывалом, потому что — без штанов! Жена, наверное, надеется поймать третьего мужа. Хе-хе, для моих штанов ей долго придется искать подходящего — я был очень тощим. Пожадничала, даже туфли не надела, поэтому, как вы сами видели, брожу я в старых галошах. Привезли меня, и жена и женщины, не мною воспитанная дочь стоят, разговаривают. Жена говорит: "Какой неблагоразумный! Раз уж не хотел жить, помирал бы летом. Земля промерзла на метр, и эти четверо стариков из колхоза содрали сорок рублей только за рытье могилы. А летом вырыли бы за десятку". Это высказывание подвело последнюю черту под всеми нашими отношениями. Впервые в жизни я обозлился и решил: не удастся вам похоронить меня, пока я не сведу с вами счеты! Подамся в привидения! Так я и сделал. С постамента — из своего гроба — я перебрался в этот, резервный…
Привидение Варнав, будучи экзистенциалистом, утверждая себя, опять постучал изнутри по крышке гроба.
— Каким было ваше самочувствие потом? — поспешно спросил я, потому что лишний опыт никогда не помешает, к тому же я охотно ем горошек в салате:
— Скажу одно: после смерти я стал гораздо более самостоятельным. Даже жены больше не боюсь, не говоря уже об автоинспекторе или министре лесного хозяйства. Вы писатель, Как звать вашего начальника?
— Настоящего начальника вроде нет ни одного, но на самом деле их очень много: издатели, редакторы, читатели…
— Видите ли, я чувствую себя так, как чувствовали бы вы себя, если бы не надо было бояться редакторов, издателей и тех, которые подписываются именем "Читатель".
— И никто не хватился, когда хоронили, что в гробу — одни лишь бренные останки минус привидение?
— Нет! Все были подвыпивши и заняты земными делами. Сперва управляющий этим заведением кладбищенский сторож Ремикис продавал моей жене свечи, бывшие в употреблении уже два раза, потому что при выносе гроба сгорает совсем немного, ну, разумеется, домой никто огарки свечей не возьмет… А когда все собрались там, где сейчас стоите вы, и отпеватель в том числе, то спохватились, что двадцать человек, вместо взятых, знают всего две-три песенки, да и то светских, так как компания была навеселе. К тому же каждый помнил свою песню, такую, которую, в свою очередь, забыл сосед. А без музыки выносить тело нельзя, это они знали свято. Стали срочно искать оркестр. Но городской оркестр в тот день праздновал двадцать пятый юбилей и дул себе в усы, а не в трубы. Второпях разыскали четырех стариков, тех самых, которых возила по всем районным кладбищам. Меня записали третьим. В очередь, как к зубному врачу. Перед погребением в связи с холодной погодой эта четверка затребовала еще бутылочку спирта, чтобы влить его в свои трубы, иначе, мол, трубы замерзнут… Когда я был уже зарыт, все вошли сюда и в моем присутствии получили от жены сорок рублей. Друзья несли гроб и восхваляли бога, а не меня, за то, что гроб был такой легкий. Ну, это вроде бы и все. С тех пор я стал регулярным привидением.
— Но разве… никто вас еще не засек?
— Хе-хе — а как же! — В щели гроба показался костлявый палец, указывающий на другое крыло часовни. — Кладбищенский сторож Ремикис, подвыпивши так же как и вы, заметил меня, когда я по привычке в двенадцать ночи парил в сторону уборной будто бы покурить. "Эйдис, — сказал я тогда, — или ты резервный гроб больше не трогаешь, потому что там живу я, или же обгорелые свечи продаешь в последний раз. Твоя коза больше не будет щипать мураву на кладбище, иначе я награжу ее молочным параличом. Если ты не хочешь, чтобы у кладбищенского колокола, на котором ты зарабатываешь по трешнице, случайно отвалился язык, с резервного гроба крышки не снимай!.." Мы уживаемся.
— Но — вы прописаны? Только тот является человеком, в данном случае полноправным привидением, кто имеет прописку. В милиции знают?
— Знают. По ночам иногда сижу на крыше, особенно в такие ночи, когда мимо проходит моя вдова, ибо я обещал свести с ней счеты. Докладывали обо мне. Но сельский Совет и милиция не могут ко мне подступиться: в законах привидения не предусмотрены. Загляните в уголовный кодекс на букву "п". Все… прием окончен…
С грохотом захлопнулась крышка гроба. Теперь я четко расслышал, как на кладбище пел петух. А мне хотелось узнать от привидения еще многое… Хотя бы вот что: существуют ли привидения женского пола? А характер у этих привидений такой же, как у женщин?.. И насчет профсоюза, и еще кое-что.
Я не успел дойти до дверей, как они отворились сами, и меня ослепил свет, гораздо более яркий, чем луч луны на полу.
— Неужто вы, товарищ поэт, и есть тот самый?… — спросил кто-то крайне изумленный. Сквозь ослепительный свет я разглядел милицейские пуговицы и кокарду на шапке.
— Какой тот самый? — с тревогой спросил я.
— Тот, про которого мне доносила гражданка Варнава. Тот храбрец, который ночью в пиджаке и в рубашке без порток бегает по кладбищенской ограде; тот, который сидит на крыше часовни и сучит в воздухе босыми ногами. Этого я никак не ожидал от представителя творческой интеллигенции!
Я понял, что дело становится серьезным.
— По ночам я сплю в постели, а не на крыше. Женщины могут подтвердить… На крыше я вообще не могу сидеть кружится голову. Не могу усидеть даже на спине лошади.
— На лошади не сможете, этому я верю, потому что гонорары поэтов не такие, чтобы содержать лошадь. Однако будет лучше, если вы признаетесь сразу. Сообщим только в Союз писателей, а там, может быть, это дело замнут.
— На крыше сидит привидение, то самое, которое арендовало этот гроб!
— Неужели я должен еще доказывать, что вы несете вздор? Это же запасной гроб для трактористов и мотоциклистов. — Милиционер, не спуская с меня глаз, поднял крышку гроба. — Ну?
С интересом и с почтением я нагнулся, чтобы взглянуть на привидение, в то же время опасаясь получить костлявым кулаком в нос. Но гроб был пуст. На подушке не видно было даже вмятины от лысого затылка Варнава… Я лихорадочно соображал, стараясь осмыслить отсутствие Варнава. Да!..
Теперь я смело могу утверждать, что разговаривал с настоящим привидением, ибо только таковое может незаметно для всех исчезнуть из часовни, в неизвестном направлении.
— Гроб пуст! Значит, я имел дело с настоящим привидением! — победно воскликнул я.
Под воздействием моей уверенности милиционер медленно переспросил:
— Где же оно живет?
— Это… это такое привидение, которое заключено в каждом из нас, но только после смерти выходит на волю и перечит всем, кому еще при жизни хотелось перечить.
— Привидение законом не предусмотрено. Ему по административной линии взыскание не дашь. Зато вам можно. Ну так вот: оставим это между нами. На первый раз, так сказать. В Союз писателей не сообщу. Ступайте-ка домой, идите навстречу своей судьбе, и пусть вас накажет жена. Но если еще раз застукаю, когда вы пьяный валяете дурака в часовне или на крыше, то будем разговаривать в другом месте. Шагайте!
Идя домой по освещенной луной дороге, я не чувствовал себя ни опечаленным, ни обиженным, ибо не каждому дано увидеть настоящее привидение. Значит, я избранник, по крайней мере, в этом смысле.
Расставаясь с любимым конем (Запись одного монолога)
 Еще в народных песнях говорится, как сильно латыши, то есть мужчины, раньше любили своих коней и гордились ими.
Но сегодня у латышей, то есть мужчин, больше нет коней, которых так любили. Может, их волки съели? Нет, "не вините волков", — пишут в научной литературе: волки воровали только хромых ягнят. Лошадей извел зверь куда более хищный, чем волк, — серебристая лисица!
Так как лошадей, спасшихся от зубов серебристых лисиц и мусульман, осталось мало, а потребность любить какое-нибудь преданное и неболтливое существо осталась, латыши, то есть мужчины, вместо коней любят мотоциклы и автомобили.
Летом 1971 года я слышал монолог, который подтвердил сказанное выше, а также и то, что мы, латыши, и вправду народ поэтов, поскольку даже во второй половине двадцатого столетия способны одухотворять предметы, сотворенные из железа и электричества.
Еще в народных песнях говорится, как сильно латыши, то есть мужчины, раньше любили своих коней и гордились ими.
Но сегодня у латышей, то есть мужчин, больше нет коней, которых так любили. Может, их волки съели? Нет, "не вините волков", — пишут в научной литературе: волки воровали только хромых ягнят. Лошадей извел зверь куда более хищный, чем волк, — серебристая лисица!
Так как лошадей, спасшихся от зубов серебристых лисиц и мусульман, осталось мало, а потребность любить какое-нибудь преданное и неболтливое существо осталась, латыши, то есть мужчины, вместо коней любят мотоциклы и автомобили.
Летом 1971 года я слышал монолог, который подтвердил сказанное выше, а также и то, что мы, латыши, и вправду народ поэтов, поскольку даже во второй половине двадцатого столетия способны одухотворять предметы, сотворенные из железа и электричества.
Как-то раз я обедал в городе на террасе ресторана. За соседним столиком сидели двое мужчин, лет по тридцать пять, видать, очень разные по характеру: один, сбросив пиджак, пощипывая бакены, ожесточенно пил разбавленный водкой бальзам, а другой потягивал солодовый напиток. К тому же солодовый напиток на этот раз был вовсе не пивом. Немного погодя захмелевший спустился с террасы и остановился возле голубого "Москвича", который рядом с террасой, как привязанная лошади поджидал своего седока. Этот лохматый прежде всего нежно похлопал ладонью то там, то тут по машине, будто по загривку лошади или по спине женщины. Затем медленно, как на похоронах, шагая вокруг машины, он произнес следующий монолог: — Мой голубой ангел, нет, мой конь ретивый, прости, что я продал тебя, но иначе я не мог. Тебе нужен новый передний мост и задние рессоры, новые поршни и другие внутренности. Но, как в газетах миролюбиво пишут, порой все это нельзя достать в магазине. Твой новый хозяин сам шофер, у него на производстве списали твоего разбитого собрата — такого же голубого "Москвича", и из его бренных останков ты получишь все, что у тебя износилось. Расставаясь с тобой, раскрою тайну твоих предков: ты происходишь от велосипеда! Да, да, от велосипеда и от ранней картошки. В далекой юности я продал велосипед и купил мопед. Продал раннюю картошку, мопед и купил большую "эмку" с коляской. В коляске я возил раннюю картошку и девушек. Молодых девушек и раннюю картошку. Я кормил Ригу и Ленинград ранней картошкой. Но почетную Грамоту за выполнение плана по ранним овощам дали не мне, а огородному тресту… Я продал "эмку", раннюю картошку и купил твоего отца, старый "Москвич". А затем продал твоего отца, раннюю картошку и купил тебя. Голубой ангел, каким сверкающим ты был десять лет назад! Ни одной царапинки не было на твоих крыльях. На грязезащитных крыльях, я хотел сказать… И на тебе я опять возил обязательную картошку и одну девушку. Говорят, что ты четырехместный. Да, сегодня. Но десять лет назад ты был всего двухместным. Двухместный и все-таки большой, как спальня. На дворе не девятнадцатое столетие, нет больше сеновалов над хлевами, где можно спать молодым людям, но история цивилизации не терпит пустот — вместо сеновалов изобрели легковые машины. Да будут благословенны легковые машины с откидными сиденьями! И так началось… этой девушке очень нравилось глядеть в окно, чтобы Эрика, Рутыня, Линия, Расминя видели, как она едет на машине и что на ней розовая кофточка. В тебе, голубой ангел, пока не износились поршни, клокотало сорок пять лошадиных сил, но так как вожжи держал я, то девушка в своей фантазии вообразила, что и во мне сила в сорок пять лошадей, и… и вышла замуж за меня, хотя в моих бицепсах билось только ноль целых одна десятая лошадиной силы. В голове было побольше, но это не видно, а чего нельзя увидеть, того нельзя и вычислить. Ах, голубой ангел, эти девять лет, пролетевшие с тобой, были пахучи, как копна сена… Почему в Латвии почти не осталось раков? Да потому, что много автомашин. Где только мы с тобой не побывали… Даже в двухстах двадцати километрах от нашего дома — в Латгалии и Освее, где по утрам в болотах курлычут журавли… Ты говоришь: последние три лета нельзя было ловить раков. Запрещено? Запретов, милый, много, всех никто и не запомнит, а поэтому нельзя их соблюдать. В реке Гауе на отмели врыто пять столбов с надписями: "Купаться запрещено!" А я купался у всех пяти. Я ждал, я умолял, чтобы мне кто-нибудь сделал замечание, что тут не разрешается, упрашивал, чтобы меня наказали, — не тут-то было. Директор совхоза разрешил нам этим летом ловить раков в совхозном озере, потому что я ответственный работник и работаю в ветеринарной аптеке. В моем распоряжении витамины для поросят! Я сказал: "Для твоих поросят витамины будут!" — и он на это ответил: "Раки в моем пруду будут!" Без витаминов у поросят ноги вырастут кривыми, а кто станет есть такие ноги? Милый, прости, что однажды я твой номер замазал… Но поверь мне, грязь была чиста, потому что она состояла из желтого песка. Ну, помнишь, в тот раз, когда мы в Гауе за Таурене ловили линей. Выплыл из кустов тот сумасшедший учитель, тот долговязый, кривой, как нож садовника. Как раз тогда, когда я ставил сеть. Он стоял на другом берегу реки и трубил, как слон. Мы с тобой в кусты и гайда! Я бросил там пятнадцать метров капроновой сети… Зато твоя и моя честь осталась незапятнанной, так как номер был замазан грязью. Прости, я больше так не буду… А та охота… Помнишь, у нас было разрешение застрелить одного старого самца косули. Я выстрелил в самца, у которого по старости даже рога отвалились, по — упала самка косули. Я долго думал: как же так? Может, меня кто-то дурачит? Теперь ясно, эта косуля пожертвовала собой, оберегая самца: как услышала выстрел, так кинулась и загородила его, чтобы попали именно в нее. Видишь, какая любовь встречается в мире животных и зверей! Ты думаешь, моя жена пошла бы вместо меня отсидеть хотя бы пятнадцать суток? Ни за что! И тогда мы привязали этой косуле бывшие в употреблении рога, чтобы бумаги были чистыми. Да… но масло для тебя я никогда не жалел. Самое лучшее, какое только можно достать в гараже нашего заведения. И твои фильтры для масла всегда были чище… чище, чем мои легкие, потому что я курю, а ты не куришь, и твои фильтры я менял через каждые три тысячи километров, а легкие я не менял ни разу за тридцать пять лет, потому что для людей тоже не хватает запасных частей. Не думай, что людям лучше, чем автомобилям… Попробуй отруби хоть мизинец на ноге! В аптеке поликлиники взамен не получишь ничего. Голубой ангел… Ты лучше лучшего друга, потому что ты не болтаешь. Ты меня ни разу не подвел. Ты помнишь, как в тот раз возле Смилтенской дороги проголосовала такая девушка в шортах? Мы взяли ее рюкзак, потому что он действительно был такой большой, будто в него было засунуто два ватных одеяла. И девушка влезла вслед за рюкзаком и села совсем рядом со мной. Она благоухала, как… как весна, то есть — как жасмин. И от этого аромата у меня закружилась голова, и не доезжая до Гулбене у меня так устала рука от руля, что… что я эту руку… что эта рука от бессилия опустилась на ее ногу… Мне было стыдно, что я такой слабак, но иначе я не мор, потому что меня охватила смертельная слабость, как после бани… И машина сама, то есть ты, в тот миг машинально остановилась… Ты помнишь, потом мы остановились у Палсенского моста, и я в реке мыл губы, вода потом стала в реке алая, как утреннее небо. Милый друг, это был мой день поэзии… Но ты об этом не рассказывал никому, даже моей жене, вот она и не сказала ничего. Но, видишь, в тот раз, когда я на сиденье оставил ключ, найденный на базарной площади, она битых два часа величала меня старым козлом и султаном, хотя сама никогда султана в глаза не видала, и допрашивала, где я взял ключ, и еще по сей день не верит, что это ключ не от чужой спальни. Самой теперь трудно жить. Поверила бы, и сразу полегчало бы… Но мы ведь никто не желаем себе легкой жизни, потому что это мещанство. Дорогая моя машина с небьющимися стеклами… Не обижайся, но сегодня ты все же старше, чем десять лет тому назад. Может, ты сама этого не осознаешь, потому что ты не женщина и не проводишь полжизни перед зеркалом. Но моему глазу ты можешь поверить. Нет-нет: ты нисколечко не похожа на женщину! Женщина, выходя замуж, как правило, обманывает мужчину, ибо, хотя и обещает оставаться "вечно такой же", все же не сохраняет свою фигуру такой, какую мужчина так любил в бытность ее невестой и в момент подписания акта бракосочетания. В сущности, это надувательство. Женщина становится то тоньше, то толще, то с угловатыми лопатками, то с необъятной талией. Ты же, ангел голубой, в объемах остался таким же, как десять, лет назад. И все же… время не пощадило и тебя, мелкие морщинки накопились на твоем лице. Резиновая прокладка вокруг переднего стекла потрескалась, как верх старой туфли, и больше не сдерживает напора дождя. В дождливую погоду будто слезы капают на мою обувь… Грязезащитные крылья ржавеют изнутри, а снаружи пробивается нечто вроде фурункулов. Я их соскабливал и шпаклевал. Но ты же знаешь, что всякая шпаклевка раньше или позже отлупляется. Женщины сами снимают ее по вечерам, но у тебя она отваливается самым неожиданным образом, и обнажается голая жесть… В общем и целом мы с тобой хорошо ладили, глубину канав при твоей помощи я не измерял. В прежние времена латышские крестьяне делились на две категории: одни били лошадей, другие не били. То же самое и теперь: одни на машинах, как на танках, сокрушают деревья аллей, другие добропорядочно едут по середине дороги. У моего отца была лошадь, но не было кнута. Теперь жалею; не мешало бы иногда показать его жене, только показать, но в магазинах кнуты непродают. Я и сам не гонял тебя по канавам, а лишь по середине дороги. В худшем случае — по самому краешку дороги, И обходился без помощи автоинспектора. Насчет инспекторов у нас не все ладно — из-за них мне грозила опасность стать алкоголиком! Да, да… В трезвом виде ты приезжаешь на какое-нибудь торжество, на столе уже находятся национальный салат-рассол и богатое традициями чистое белое. Известное дело — летом пиво достать трудно, пивоварни летом гонят план, а для того, чтобы пиво варить, у них времени не остается. Итак, ты сидишь на этих торжествах, сидишь только потому, что твоя жена тоже там сидит, Около двенадцати жена спохватывается, что пора ехать домой. "Нет, говорят другие, — не надо ехать, Антон, за поворотом стоят инспектор и дружинники". Да, стоят там мужчины с известными каждому взрослому гражданину черно-белыми палочками в руке. А как палочку звать по-латыни? Я-то знаю, потому что работаю в аптеке. Ее звать "bacillus", бациллой! Значит, в толковом словаре слово "автоинспектор" можно бы объяснить следующим образом: "Мужчина с черно-белой бациллой в руке". Стоит за поворотом четыре раза в неделю: по пятницам, субботам, воскресеньям и по понедельникам утром. Поэтому ехать домой в двенадцать ни в коем случае нельзя! Приходится сидеть до двух, даже до четырех, покамест мужей с черно-белыми бациллами там больше не будет, ибо всякий человек когда-то спит. А ведь просто так не будешь сидеть, со скуки опорожняешь одну чарочку за другой. А если так каждую неделю? Так ведь недолго и до алкоголизма! Голубой мой ангел, я тебя наряжал не меньше своей жены. Даже больше! Вот здесь, на грязезащитном крылышке, я припаял тебе зеркало. На заднем стекле приклеил переводную картинку с дамой, у которой голый верх. К моей жене не припаяно ни зеркала, ни переводной картинки на заднем стекле. Голубой ангел, я тебя любил, но будем человечными: все должны когда-то расставаться, жизнь — это вереница расставаний, и я нигде не могу купить тебе запасные части…


Последние комментарии
2 дней 19 минут назад
2 дней 4 часов назад
2 дней 6 часов назад
2 дней 7 часов назад
2 дней 8 часов назад
2 дней 9 часов назад