
А.Б.СНИСАРЕНКО
РЫЦАРИ УДАЧИ. ХРОНИКИ ЕВРОПЕЙСКИХ МОРЕЙ
Как во времена Гомера, каждый был здесь купцом, и каждый - воином. Пиратом. Корабли были их летними жилищами. Далеко по островам и побережьям их разведчики собирали нужные сведения, не пренебрегая и слухами, если они казались им хоть сколько-нибудь правдоподобными и заслуживающими внимания. Мирные ладьи, да и боевые тоже, редко отваживались оторваться от берега в одиночку, каботажное плавание было здесь не более безопасным, чем в открытых водах.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток,
и с мест они не сойдут, Пока не предстанут Небо с Землей
на Страшный Господень Суд. Но нет Востока, и Запада нет
(что племя, родина, род!), Если сильный с сильным лицом к лицу
у края Земли встает.
Редьярд Киплинг
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ
Восток и Запад...
Вся история цивилизации - в этих двух словах. Египет и «народы моря». Троя и Греция. Финикия и Крит. Карфаген и Рим. Персия и Македония. Понтийское царство и Рим. Азия и Европа. Один из древнейших мифов рассказывает, как царь богов Зевс в образе быка переплыл однажды с Крита в Финикию и похитил прекрасную царевну Европу - дочь царя Агенора и Азии. С тех пор Крит стал гегемоном всех окрестных земель и вод. Европа - дочь Азии! Греческое слово «Европа» действительно произошло от ассирийского «Эреб» (запад): так греки называли все, что лежало к западу от Эгейского моря, начиная с самой Эллады. Земли к востоку от него они именовали Азией, производя это слово от ассирийского «Асу» (восток). Ex oriente lux («с Востока свет») - говорили римляне, имея в виду отнюдь не только восход солнца. С Востока (из Финикии) пришел в Грецию ее алфавит, заимствованный позднее этрусками, а от них - римлянами и ставший впоследствии всеевропейским. С Востока (из Греции) пришли в Италию поэзия, скульптура, мореходство и некоторые иные начатки цивилизации.Греция, взятая в плен, победителей диких пленила, В Лаций внеся искусства,-
писал Гораций, и он был прав. С Востока текли в город Ромула самые изысканные предметы роскоши и самые лакомые блюда. Египетские обелиски, греческие храмы, финикийские ткани - все это стало привычным и любимым в «столице мира». После завоевания Египта римские патриции стали походить на восточных сатрапов - точно так же, как двор Александра Македонского после походов в Персию и Индию за триста лет до этого. Хищные взоры римского орла постоянно были устремлены на вожделенный Восток. Восток шел к Западу морским путем: иного не было. Моряки античности - кто они? Торговцы и воины, первооткрыватели и пираты, безродные скитальцы и изгнанники-аристократы, владыки древних держав и основатели новых, искатели приключений и изобретатели лучших в мире кораблей. Их время кончилось, когда рухнула смертельно раненная античность. Но они не исчезли с исторической сцены. Семена, щедро разбросанные ими по южным морям, проросли неслыханными всходами в иных морях - северных, западных, восточных. И снова Запад и Восток противостояли друг другу по всему обитаемому миру. Рим и Византия. Византия и Русь. Русь и норманны. Норманны и арабы. Христианский мир и мир мусульманский. Европа и Азия. Новые народы на новых кораблях выступили претендентами на звание властителей новых земель и новых морей - теперь уже не античных, а тех, чьи названия в основном сохранились до наших дней. Многие из этих морей все еще оставались таинственными и пугающими, их объединяли общим и весьма красноречивым понятием - Море Мрака. Но свет, зажженный некогда на Востоке, набирал силу. Этот свет осветил в конце концов скалистые фьорды Скандинавии - и повернул вспять. Его мощные лучи проникли далеко в Море Мрака и обнаружили в нем огромные неведомые земли. Эстафета была принята. Мореплаватели Средних веков выказали себя достойными продолжателями подвигов своих античных предтеч, они пошли дальше них и завершили здание новой Ойкумены - обитаемого мира, в чьих лабиринтах заблудился бы самый опытный полководец древности. Немалая доля заслуг в освоении мира принадлежала, как и встарь, пиратам. Эта книга - о неутомимых первопроходцах неведомых морей.
 Нападение кита на судно в Море Мрака - по описанию Олауса Магнуса.
Нападение кита на судно в Море Мрака - по описанию Олауса Магнуса.
Эта книга - о вековечной борьбе за власть над морем. Эта книга - о пиратах Средних веков. С незапамятных времен на всех морях существовала ситуация, афористично выраженная Мефистофелем: «Война, торговля и пиратство - три вида сущности одной». В Средние века так уже не считают, хотя действие «Фауста» относится как раз к этому времени: есть купцы и есть пираты, первые удирают, вторые догоняют, первые отдают и приобретают, вторые только приобретают. Ну хорошо, а как же тогда быть с викингами? Ведь все они - все до единого! - были крестьянами, имевшими свой дом и свое хозяйство (зимой) и все они были пиратами, укрывателями, скупщиками и сбытчиками награбленного (летом). Только физическая немощь могла помешать викингу выйти в море. Пиратство было их образом жизни, сезонным видом их хозяйственной деятельности. И не только их. Персонажей этой книги - королей, рыцарей, бродяг, крестьян, мореходов - роднит одно немаловажное обстоятельство: все они так или иначе отдали дань морскому разбою, а многие из них вошли в энциклопедии всего мира как великие первооткрыватели, поэты, даже ученые. Примеры? Сколько угодно. Пиратами были Лейв Эйриксон и Христофор Колумб, оба в разное время открывшие Америку. Пират Фрэнсис Дрейк первым обогнул земной шар на своей «Золотой лани». Ворами, разбойниками и бродягами были писатель-рыцарь Томас Мэлори и талантливейший поэт Средневековья Франсуа Монкорбье, более известный под именем Франсуа Вийона, самокритично написавший о себе:
Я - Франсуа, чему не рад Увы, ждет смерть злодея, И сколько весит этот зад, Узнает скоро шея.
Услугами пиратов пользовались монархи всей Европы, исключений здесь не было, а кое-кто из них и сам в прошлом занимался этим ремеслом - например, Вильгельм Завоеватель или Харальд Суровый. Известны короли, добровольно отказавшиеся от короны ради романтики пиратской жизни. Таких немного, чаще бывало наоборот. А скандинавы или фризы? Ведь это же целые нации пиратов. Они были с морем на короткой ноге, и им мы обязаны самыми выдающимися географическими открытиями того времени. Пиратство Средних веков было, как и в античности, специфической формой борьбы за существование. Многие пираты бросали свое ремесло, как только обеспечивали себе надежный кусок хлеба. Этот «кусок» - не обязательно королевство, хотя случалось и так. Раз уж зашла речь о Франсуа Вийоне, можно вспомнить его обработку античной легенды о том, как на упреки Александра Македонского, адресованные захваченному им пирату, тот возразил:
А в чем повинен я? В насильи? В тяжелом ремесле пирата? Будь у меня твоя флотилья, Будь у меня твои палаты, Забыл бы ты про все улики, Не звал бы вором и пиратом, А стал бы я, как ты, Великий, И уж конечно, император.
Эти строки Вийон вполне мог бы адресовать французскому королю от своего собственного имени. Есть и другая сторона медали. Путешественники и конкистадоры, чьи имена красуются сегодня на картах мира,- почти все они были пиратами в самом полном смысле этого слова, хотя называть их так не очень-то принято. Такие, как Марко Поло или Ковильян, исключение, не о них сейчас речь. А как можно назвать варяга князя Игоря, ставшего жертвой собственной алчности и жестокости? Или португальца Васко да Гаму, затопившего кровью весь Малабарский берег Индии, а предварительно дочиста обобравшего его? Или испанца Эрнандо Кортеса, уничтожившего целую цивилизацию? Эпитет «великий» как-то мало вяжется с этими именами... Мореходство в Средние века, по крайней мере до начала Крестовых походов, мало чем отличалось от античного. Те же типы кораблей, те же районы плавания, те же навигационные навыки, тот же страх перед морем. Греческий поэт III века до н. э. Леонид Тарентский советовал:
Не подвергай себя, смертный, невзгодам скитальческой жизни, Вечно один на другой переменяя края. Не подвергайся невзгодам скитанья, хотя бы и пусто Было жилище твое, скуп на тепло твой очаг, Скуден был хлеб твой ячменный, мука не из важных, хотя бы Тесто месилось рукой в камне долбленом, хотя б К хлебу за трапезой бедной приправой единственной были Тмин, да порей у тебя, да горьковатая соль.
А вот строки, написанные французом Гаусельмом Файдитом после возвращения из Четвертого крестового похода, примерно в 1205 году:
Нет! Хватит волн морских, Докучных берегов, Подводных скал крутых, Неверных маяков! Я насмотрелся их За все свои блужданья, Судьбы превратности познав И в милый Лимузен попав, Там честь и радости стяжав,- Воздам молитвой дань я За то благодеянье, Что я вернулся, жив и здрав.
Трудно поверить, что между этими двумя стихотворениями - шестнадцать веков! А сколько еще подобных строк уместилось в этом промежутке! И - открытия Исландии, Гренландии, Америки, Шпицбергена. Контрасты Средних веков поразительны. Ученые до сих пор не могут договориться даже о том, что, собственно, считать Средними веками. Когда они начались? С Великого переселения народов? Или с раскола Римской империи на Западную и Восточную? А может быть, с момента, когда умер Великий Рим и его место заняла Византия? А где конец Средневековья? Ренессанс? Плавания Колумба и Васко да Гамы? Английская буржуазная революция XVII века? В разных странах и в разное время на эти вопросы отвечают по-разному. Сходятся все в одном: Средневековье началось сразу же, как только окончилась античность. Но где же начало того конца, которым оканчивается начало?

 Рыцарь. Средневековая гравюра.
Рыцарь. Средневековая гравюра.
Когда мы вспоминаем о Средних веках, нам приходится напрягать память, дабы припомнить те крохи, что мы сумели почерпнуть из чересчур короткого и, надо признаться, скучноватого школьного курса. Кое-что добавили к школьному учебнику Вальтер Скотт, Стивенсон, Рабле. Крестовые походы, рыцарские турниры, прекрасные дамы... Чаще вспоминается иное - монастырские оргии, «испанские сапоги», охота за ведьмами... Мрачное Средневековье, затянутое дымом костров инквизиции. Все это было. Дам действительно называли прекрасными, что не мешало, впрочем, перемалывать их прекрасные кости в «испанских сапогах». И монахи занимались делишками, какие едва ли одобрит любой современный уголовный кодекс. Все это было. Но было и другое. Средние века (а этот период охватывает свыше полутора тысячелетий) - это время ломки старого мира и становления нового, это рождение всех европейских государств, обозначенных на сегодняшней карте, это Колумб и Петрарка, это саги Севера и сказки «Тысячи и одной ночи», это Кампанелла и Альберт Великий, это Рублев и Сервантес, это Абеляр и Вийон, это Бируни и Парацельс, это вся эпоха Возрождения (недаром же она пишется с большой буквы!) с ее титанами и пигмеями, это «Божественная комедия» Данте и трагедии Шекспира. Об этом иногда забывают. Средние века - это эпоха систематизации и осмысления духовного наследия античного мира (вопреки запретам церкви), эпоха познания окружающего мира (вопреки страху перед ним) и гигантской аккумуляции всех видов знания (вопреки господству фантастических догм и идей). Все, абсолютно все подвергается сомнению.
Был ли в самом начале у мира исток? Вот загадка, которую задал нам Бог. Мудрецы толковали о ней, как хотели,- Ни один разгадать ее толком не смог.
Через пять столетий после Омара Хайяма, автора этого четверостишия, кое-что уже стало известным, но за это «кое-что» подчас расплачивались жизнью или заточением. Гвидо, житель города Ареццо, примерно в 1025 году изобретает четырехлинеечное нотное письмо - и ему долго приходится доказывать, что это и не наущение диавола (поскольку основной вид музыкального искусства - церковные гимны и прочие благостные песнопения - Господь Бог даровал своей пастве без всяких нот, все же остальные куплеты бессмертия явно не заслуживают). Медики, рискуя взойти на костер, вскрывают трупы, чтобы проверить, так ли уж правы Гален и Гиппократ, а заодно посмотреть, как выглядит вместилище души, о котором много толкуют церковники. Галилей и Джордано Бруно не оставляют камня па камне от здания Вселенной, выстроенного Птолемеем. Универсальнейший ум своего времени Леонардо да Винчи изобретает на досуге ласты с кожаным аквалангом и делает наброски геликоптера. Сам превосходный художник, он, однако, завидует славе Микеланджело, и подозревают, что не без его участия разошелся по Италии слушок, будто бы Микеланджело обманом завлекал к себе в мастерскую нищих и бродяг и распинал их, дабы предельно правдиво изваять своих «Рабов». Скульптору, занимавшемуся анатомией два десятка лет, с трудом удалось отвести от себя удар инквизиции. О Луке Синьорелли говорили, что, когда умер его сын, горячо им любимый, он содрал кожу с еще не остывшего трупа и в течение нескольких часов создал анатомический «портрет» своего ребенка, дотошно зарисовав все мышцы и сочленения. Накопление знаний неизбежно приводит к их литературному и художественному осмыслению. Широченные поля свитков с античными текстами покрываются схолиями - примечаниями и объяснениями «темных» мест, иногда словесными, иногда изобразительными. Многие из этих схолий сохранили самостоятельное значение до наших дней и издаются отдельно: таков, например, комментарий к «Аргонавтике» Аполлония Родосского. В них средневековые толкователи проявляют свою эрудицию. Миниатюры средневековых рукописей, такие неуклюжие и наивные для неподготовленного глаза, получили новую жизнь в наше время, наряду с древнерусскими иконами. Они выжили, несмотря на то, что в эпоху Возрождения (потому она так и называется) наметился всеобщий поворот к античным эстетическим канонам. Это было закономерно, хотя мало кто отдавал себе отчет в то время, что именно средневековая оптика, основанная на учении Эвклида, привела к художественной перспективе Ренессанса. Люди Средних веков были верны своим идеалам. Сервет взошел за них на костер. Рыцари (немногие, увы!) считали счастьем быть убитыми за своих дам. Ученик скульптора Вероккио Нанни Гроссо, умирая в больнице, предпочитает отправиться прямиком в Ад, нежели приложиться к зацелованному тысячами губ распятию, которое мы бы сегодня назвали ширпотребом. Он готов горячо облобызать только распятие работы Донателло, на меньшее он не согласен. Надо вспомнить, что означало в Средние века умереть нераскаявшимся грешником! Кроме монахов, знакомых нам по сочным зарисовкам Рабле, Боккаччо, Саккетти, Чосера, Эразма, были еще тысячи других - писателей, художников, летописцев, ученых, изобретателей. Многие из них далеко опередили свое время. Таков, например, итальянец Томмазо Кампанелла, написавший в темнице свой «Город Солнца». Таков англичанин Роджер Бэкон, примерно в 1280 году выводивший гусиным пером (тоже в темнице): «Можно построить приспособления для плавания без гребцов, так, чтобы самые большие корабли, морские и речные, приводились в движение силой одного человека, двигаясь притом с гораздо большей скоростью, чем если бы они были полны гребцов. Точно так же можно сделать повозки без всякой запряжки, могущие катиться с невообразимой быстротой; летательные машины, сидя в которых» человек может приводить в движение крылья, ударяющие по воздуху, подобно птичьим; аппараты, чтобы безопасно ходить по дну моря и рек... Прозрачные тела могут быть так отделаны, что отдаленные тела покажутся близкими, и наоборот. На невероятном расстоянии можно будет читать малейшие буквы и различать мельчайшие вещи, рассматривать звезды, где пожелаем... приблизить к Земле Луну и Солнце... Можно так оформить прозрачные тела, что, наоборот, большое покажется малым, высокое - низким, скрытое станет видимым...» Может быть, с этой записью был знаком флорентиец Сальвино дельи Армати, изготовивший в 1317 году первые в мире очки. Таков был и немец Бертольд Шварц из Фрейсбурга, спустя всего полсотни лет после того, как Бэкон написал эти строки, создавший огнестрельное оружие на основе пороха, хорошо известного, по некоторым данным, и Роджеру Бэкону, хранившему рецепт его изготовления в секрете, и, совершенно точно,- арабам,
 Роджер Бэкон. Гравюра на меди.
Роджер Бэкон. Гравюра на меди.
познакомившимся с порохом в Китае. Шварц не стал замалчивать свое открытие, может быть, желая сохранить свое имя для потомков,- и достиг прямо противоположного результата, его имя было предано проклятию и забвению, как когда-то имя Герострата. В одной зальцбургской хронике в его адрес сказано: «Злодей, которым была придумана столь гнусная вещь, недостоин, чтобы его имя осталось среди людей на Земле или прославило его изобретение. Он был бы достоин того, чтобы зарядить им ружье и выстрелить в башню». По крайней мере, это доказывает, что Шварц все же существовал, что он не легенда, как иногда думают. Широкое засекречивание знаний - одна из причин того, что мы так мало знаем об этой незаурядной эпохе, меньше, чем об античном мире, память о котором трудолюбиво истреблялась христианами на протяжении по крайней мере десяти веков. Знания скрывали не только от инквизиции. Вот что писал, например, итальянский математик XVI века Никколо Тарталья: «Я пришел к выводу, что это дурное и позорное дело - работать над усовершенствованием оружия, истребляющего людей. И, следуя своему размышлению, порвал в клочья и сжег все мои вычисления, и я решил никогда не возвращаться к этому занятию, несущему с собой грех и гибель души!» Но идеи носились в воздухе, движение разума нельзя было остановить. Доминиканский монах Альберт фон Больштедт, прозванный Великим, закладывает основы европейской философии, открыв миру Аристотеля. Ему, как и Роджеру Бэкону, известен секрет пороха. Наконец, именно Альберт был создателем первого в мире робота. Когда к нему однажды пришел его ученик Фома Аквинский, дверь ему отворила незнакомая служанка. В сенях было темно, и Фома не смог как следует разглядеть ее, но голос ее и движения показались ему неестественными. С криком «Дьявол! Дьявол!» он схватил подвернувшуюся под руку увесистую палку и отважно вступил в сражение с нечистым. Когда Альберт выскочил на шум, было уже поздно, от робота осталась только груда искореженного железа. Дремучее невежество и высочайший полет мысли, неутихающий разбой и нежные канцоны в честь прекрасных дам, залитые кровью моря и бесценные произведения культуры - вот что такое Средние века. Ученый рыцарь-монах Гвиберт Ножанский, один из первых мемуаристов мира, писал о городе Лане: «Над этим городом издавна тяготело такое злополучие, что в нем никто не боялся ни Бога, ни властей, а каждый, сообразуясь лишь со своими силами и со своими желаниями, производил в городе грабежи и убийства... Ни один земледелец не мог войти в город, ни один не мог даже приблизиться к нему, если только у него не было надлежащей охранной грамоты, не рискуя быть брошенным в тюрьму и вынужденным платить за себя выкуп, или же его тянули в суд без всякого действительного основания, под первым попавшимся предлогом... Сеньоры и их слуги совершали открыто грабежи и разбои; ночью прохожий не пользовался безопасностью; быть задержанным, схваченным или убитым - вот единственно, что его ожидало». «Лишь тогда, когда мы вновь достигнем высоты бессмертного XIII столетия, когда снова такой итальянец, как Фома Аквинский, сможет учить в Кёльне и Париже, когда такой немец, как Альберт Великий, будет понимаем французами, а такой англичанин, как Дуне Скот, скончается в Кёльне во время своих исследований, когда французский гений сможет учить в Стокгольме, подобно Декарту, а немецкий гений будет уметь так же писать на благородном французском языке, как Лейбниц,- лишь тогда мы будем иметь право вновь говорить об европейской культуре»,- сказал французский философ Этьенн Анри Жильсон в своей речи во Французской академии. Такие вот это были века. Средние.
ХРОНИКА ПЕРВАЯ,
повествующая о том, как над Европой разразилась гроза.
В 269 году готские орды рвались вверх и вниз по Эгеиде, опустошая цветущие острова. Готы на тропе войны были, в общем, явлением не новым, даже привычным, но их появление на водных путях вызвало у морских народов Средневековья шок. Римский флот, серьезно ослабленный в войнах политических и войнах пиратских, с новой силой вспыхнувших около 230 года, не мог оказать сколько-нибудь действенного сопротивления, и уже в третьей четверти III века готским пиратам удалось стать если не полными властителями, то, по крайней мере, определяющей силой в Черном и Эгейском морях. За какие-нибудь десять лет они заставили говорить о себе жителей всех побережий, особенно после того как их жертвами пали крупные города Никомедия (Измит), Никея (Изник) и Эфес. Более ста тысяч готских пиратов на пятистах хорошо оснащенных ладьях долго еще рыскали в районе Кипра, перерезав важнейшие торговые артерии Средиземноморья. Редкий корабль отваживался теперь показаться в Мраморном море и у берегов Египта. Цены на товары и продовольствие неимоверно подскочил и. Риму снова угрожал голод, как во времена пиратских войн Помпея. К 284 году, когда Диоклетиан отстоял свое право на императорскую корону, Рим окончательно перестал быть морской державой, а в 324 году, когда Константин Великий вновь утвердил с грехом пополам положение «столицы мира» на море, он сделал это лишь благодаря наемным флотам восточных провинций, сильно смахивавшим на разбойничьи. Европу содрогало Великое переселение народов. Говоря языком египетских фараонов, «мир вышел из своих суставов». Но Рим еще пытался огрызаться. К северу от границ империи - от Дона до Карпат и от Черного моря до Оки - раскинулось государство остготов, созданное Германарихом. Оно представляло собой наиболее грозную опасность для Вечного города. К счастью, в планы остготов не входили войны с Римом, и осенью 369 года они заключили с ним мир в Новиодуне (Тулча). Однако история распорядилась иначе. Между Азовским и Каспийским морями обитали войнолюбивые племена гуннов и аланов, методично совершавшие набеги в Армению и Персию и в конце концов разграбившие эти области до того, что делать им там стало просто нечего. Но моря на западе и востоке не давали иного пути их устремлениям, они были для них пределом мира. Мира, превращенного ими же в пустыню. Выход - в буквальном смысле этого слова - был найден случайно. Однажды, говорила легенда, два гунна, преследовавших лань, увидели, что она перешла через Киммерийский Боспор (Керченский пролив), заиленный наносами Дона. Вернувшись, они рассказали об этом соплеменникам. «Тотчас же двинулись несметные орды гуннов; встретив готов первыми, они погнали их перед собой,- пишет Шарль Монтескье.- Казалось, что эти племена хлынули друг на друга и что Азия, давя на Европу, стала еще тяжелее». Это произошло в 370 году, в самом его начале. Государство Германариха, не успев как следует распрямить плечи, пало под натиском гуннов, а сам он покончил самоубийством, то ли не вынеся позора поражения, то ли, напротив, подав пример стойкости и силы духа, как это сделала Элисса в Карфагене или Катон Утический в Риме. Однако гунны, не задерживаясь, ринулись дальше. В 374 году они впервые форсировали Волгу, а еще год спустя перешли границы Восточной Европы и устремились к Константинополю. Римский император Валент, попытавшись создать буфер на своих северо-восточных границах, предоставил места для поселения по эту сторону Дуная вестготам, также теснимым гуннами. Он сделал это после того, как высланный против готов полководец Траян, тезка прославленного императора, едва унес ноги из-за Дуная. Возможно, затея Валента принесла бы успех, если бы его магистр Юлий Лупицин не перебил, воспользовавшись удобным случаем, всех вестготских вождей, вызванных им в ставку для вручения жалования. В результате в 376 году Рим оказался лицом к лицу и с гуннами, и с вестготами. Европа не знала еще тогда, к каким последствиям это приведет. А Рим не подозревал, что доживает последние дни как единая держава. В 395 году Римская империя раскололась надвое, и с этого момента главенствующую роль стала играть ее восточная половина, ставшая позднее Византией. Флот Западного Рима практически перестал существовать. В течение последующих двух лет гунны вытеснили вестготов обратно за Дунай. Грецию и Италию захлестнули мощные волны варварского урагана. Первый его шквал вскоре сменился вторым. В 401 году вестготы избрали своим вождем Алариха, и совсем скоро его имя узнала вся Италия. Взяв в 402 году Аквилею, вестготы осадили Медиолан (Милан), но этот орешек оказался им не по зубам. Талантливый и энергичный римский полководец, вандал по происхождению, Флавий Стилихон разбил готские орды. Алариху пришлось позорно бежать. Можно лишь догадываться, какие планы вынашивал этот честолюбивый человек в своем убежище, но они так и остались бы планами, не будь Стилихон в 408 году заколот у алтаря в Равенне по приказу императора Гонория, чьим опекуном и родственником он являлся. Два года спустя вестготы, прознавшие о гибели Стилихона, отпраздновали победу своего оружия в самом Вечном городе, с лихвой скомпенсировав горечь поражения у Медиолана. Осенью этого же года Аларих умер, и его преемник Атаульф вернулся в Рим, женился на захваченной в плен сестре императора Галле Плакидии и аккуратно подобрал все крохи, оставленные Аларихом, обобрав город дочиста. Не задерживаясь долее в опустошенной ими Италии, готы с боями двинулись через Галлию в Испанию, все круша на своем пути. К ним присоединялись по пути вандалы, франки, аланы, алеманны, свевы, бургунды, уцелевшие остготы. Вся эта разношерстная и разноязыкая орда подобно туче саранчи осела в конце концов в долине Гвадалквивира, оставив за собой по всей Европе серию скороспелых государств. Когда пыль рассеялась и можно было осмотреться, оказалось, что на берегах Роны осели бургунды, франки оккупировали области Нижнего Рейна, авары появились на берегах Дуная и Тиссы, саксы - на берегах Эльбы и Эдера, гунны успели дать свое имя захваченной ими Панно-нии - Хунгария (нынешняя Венгрия), а богвары - Баварии. В 407 году римляне отозвали все свои войска из Британии: они требовались в самой Италии, истерзанной готами. На острове вспыхнули племенные междоусобицы, прибрежные селения стали кладовкой франков и бургундов, куда они по-хозяйски наведывались через пролив по мере надобности. Тогда для защиты от них, а также от воинственных северных соседей - пиктов и западных - скоттов бритты, не знавшие в то время оружия (так уверяют их предания), пригласили в начале 440-х годов из Ютландии англов во главе с их вождем Вортегирном. Самоназвание этого народа неизвестно. Свое имя он получил от римлян: латинское angulus означает «угол», как в смысле геометрическом, так и описательно-топографическом («дальний угол», «прелестный уголок»), а также «даль», «глушь». Англы обитали у основания Ютландского полуострова, образующего угол с балтийским побережьем. Англосаксонский летописец рубежа VII-VIII веков монах Беда Достопочтенный в своей «Церковной истории народа англов» так и называл Ютландию - Ангулус. Для римлян это действительно была глушь и край света. Все это как нельзя лучше подошло потом и к треугольной Британии, куда переселились англы. Тацит писал, что чуть севернее Британии, у Оркнейских островов, находится остров Туле - край света и предел обитаемого мира. С англами пришли саксы, юты и фризы. Вскоре выяснилось, что это было равносильно тому, как если бы бритты запустили хорька в собственный курятник. Саксы в 449 году образовали в Кенте свое автономное королевство, возглавляемое братьями датчанами Хен-гистом и Хорсой (или Хнефом, Хнафом), и устранились от борьбы, переваривая добычу. «Хорек» обернулся боевым конем: Хенгист и Хорса означают соответственно «конь» и «кобылица». Своим бездействием они развязали руки Вортегирну. Спасаясь от его тирании, обманутые бритты толпами устремились за море и осели в Арморике, получившей название Малой Британии, а позже - Бретани. Те, кто остался, вынуждены были покориться англскому вождю и, стиснув зубы, выжидать удобного момента. После того как Хорса пал в 455 году в битве с Ворте-гирном, после того как Хенгист уступил престол своему сыну Эску, после того как Вортегирн был изжарен живьем в осажденной башне замка, бритты избрали своим королем (этот термин все чаще употреблялся вместо слова «вождь») знатного римлянина Амброзия Аврелиана, сведущего в ратном деле. С ним связано первое упоминание хронистами короля конца V - начала VI века Артура - сына кельтско-бриттского вождя Утера Пендрагона (брата Амброзия) и его жены Иг-рейны. Объединенные отряды Аврелиана и Утера начинают отвоевывать Уэльс. Попутно им приходится отбиваться от пиратов Дании, Ирландии и чуть ли не всех окрестных островов. В битве при горе Бадон бритты, возглавляемые Артуром, после гибели дяди, а затем и отца, принявшим царский венец, разгромили англосаксов и по крайней мере на полвека утвердили независимость своего государства. Артур стал безраздельным господином земель от Ла-Манша до Каледонии (с X века - Шотландии), где правил Ангвисанс, и «Британия достигла тогда такого величия, что несметными своими богатствами, роскошью нарядов, беззаботностью своих обитателей намного превосходила все прочие государства»,- гордо утверждает хронист Гальфрид Монмутский. Если даже в этом есть преувеличение, оно весьма показательно. Вожди отдельных племен, не вошедших в конфедерацию Артура, сохранили самостоятельность, но признали себя его вассалами. По некоторым данным, он получил от римлян титул «британского союзника» - титул, мало что дававший реально, но все же упрочивший его положение, повысивший авторитет, а главное - гарантировавший неприкосновенность от римлян. Ни одно из этих племен не ставило себе задачей сокрушение ненавистного Рима. Даже смертельно раненный, лев был еще страшен. Будто алчная стая шакалов, набрасывались они на него, стремясь урвать свой кусок и вовремя убраться восвояси. Над Европой бушевала гроза, и, как положено во время грозы, внезапно возникали и столь же внезапно лопались недолговечные пузыри - варварские государственные образования. Правда, недолговечность их была довольно относительной: государство вестготов в Южной Галлии и Испании, возникшее в 415 году, просуществовало, например, без малого три столетия. В 428 году племя вандалов избрало своим вождем Гейзериха (или Гензериха), и первое, что он сделал,- начал строить флот по римскому образцу. Уже в следующем году восемьдесят тысяч вандалов, к которым примкнули также готы и аланы, погрузились на эти корабли со всем своим скарбом и скотом и через Андалусию (Вандалисию) докатились до южных берегов Европы, перебрались в Северную Африку по приглашению ее вестготского правителя Бонифация и, завладев там местными флотами, приступили к методическому грабежу всего, куда могли дотянуться их руки, в том числе и за пределами Гибралтара. Основными их пиратскими базами стали захваченные ими Корсика, Сардиния, Балеарские и другие стратегически важные острова. В 439 году Гейзерих сделал своей столицей Карфаген, после чего пиратство стало в его владениях делом государственным. Больше всего от этой кутерьмы, естественно, доставалось Италии, удобной для нападений и с запада, и с востока, и с юга. Но был еще север. В 452 году, после ряда неудачных вылазок в Галлию, в поход на Рим двинулись из Хунгарии ее новые хозяева в союзе с гепидами, герулами, остготами и турингами, присматривавшими подходящее местечко для своей будущей Тюрингии. Их вел по тайному приглашению заточенной за разврат Гонории (дочери Галлы Плакидии) Атти-ла - «Бич Божий», чье имя, ставшее нарицательным, хорошо помнят и теперь, полтора тысячелетия спустя. «При его дворе,- вспоминает Монтескье,- находились послы от восточных и западных римлян, которые получали от него законы или умоляли его о милости. Иногда он требовал, чтобы ему вернули гуннских перебежчиков или римских рабов; иногда он желал, чтобы ему выдали какого-либо министра императора. Он наложил на Восточную Римскую империю дань в 2 тысячи 100 фунтов золота. Он посылал в Константинополь тех, кого он желал вознаградить, с тем, чтобы они могли обогащаться, обращая в свою пользу страх, который он внушал римлянам. Его подданные боялись его, но, кажется, не ненавидели. Чрезвычайно гордый, но в то же время хитрый, яростный в гневе, умеющий прощать или откладывать наказание соответственно своим интересам, он никогда не объявлял войны, когда мир мог ему дать такие же выгоды. Ему верно служили даже те цари, которые от него зависели». Гейзерих заключил с Аттилой союз: он опасался мщения готов после того как женил своего сына на дочери готского вождя, а затем, приказав отрезать ей нос, отослал обратно, дав таким способом понять, что никому не позволит совать эту часть тела куда не следует. Эти двое прекрасно дополняли друг друга. Ярость и неистовства Аттилы, коим он был подвержен не только в гневе, уравновешивались хладнокровием и осмотрительностью гуннского вождя. Но жестокость была все же свойством характера обоих. За три месяца варварский смерч испепелил восемь крупнейших городов Италии и разогнал остатки их уцелевшего в невиданной резне населения. Однако до Рима эти полчища не дошли. Неожиданно вся армия повернула вспять и ретировалась с Апеннинского полуострова. В 453 году Аттила внезапно умер загадочной смертью на брачном ложе, разделенном им с красавицей-вестготкой, подсунутой любвеобильному варвару папой Львом I и послушно сыгравшей роль библейской Юдифи или Далилы. А чуть позднее столь же скоропалительно последовал за отцом в царство теней и сын Аттилы - Эллак. Мир вздохнул с облегчением: это было чудом, сравнимым разве с тем, что приводит испанский король Альфонс IV в своей «Хронике»,- о безвременной кончине вестготского короля Фавилы, «съеденного медведем» на втором году своего правления. Можно не без основания подозревать, что сей «медведь» был членом какого-нибудь тайного террористического общества, чьим тотемом было это животное (такие общества - медведей, волков, рысей - плодились тогда, как грибы). Но Рим все же получил свое: его разграбили в апреле 455 года вандалы, специально для этой цели приглашенные из Северной Африки римской императрицей Евдоксией, последовавшей примеру Гонории и пожелавшей таким образом отомстить своему мужу Петронию Максиму. Лучшего способа, пожалуй, не смог бы найти никто. Вандальские пираты грабили столицу мира в течение двух недель, чувствуя себя в полнейшей безопасности и круша все, что попадалось под руку, и наконец, пресытившись, убрались обратно в Африку, едва сумев дотащить туда свою добычу. «Гензерих,- скорбит византийский писатель Прокопий Кесарийский,- нагрузив свои корабли золотом, серебром и другими вещами из императорского имущества, вернулся в Карфаген. Он не оставил во дворце ни меди, ни какого-либо другого металла. Ограбил он и храм Юпитера Капитолийского, сняв с него половину крыши. Это была замечательная и великолепная крыша, из лучшей меди и вся густо вызолоченная». Несколько тысяч римлян, обращенных в рабство, помогали вандалам доставить награбленное в их владения. Гейзерих прихватил с собой и императрицу с двумя дочерьми. Младшую он почему-то возвратил в Рим, а старшую - тоже Евдоксию - выдал за своего сына Гуннериха, от которого ей посчастливилось сбежать в Иерусалим лишь шестнадцать лет спустя. Для Италии наступили черные дни, куда чернее, чем во времена триумфов киликийских пиратов. Снаряженная в 468 году византийским императором Львом I морская карательная экспедиция в Северную Африку не принесла сколько-нибудь ощутимых результатов, хотя корабли для нее император собирал по всему Востоку, а во главе поставил опытнейшего флотоводца Василиска - брата своей жены Верины и неизменного победителя готов во Фракии. Времена переменились. Пиратское государство Гейзериха стало достаточно сильным, чтобы двести двенадцать византийских галер с семьюдесятью тысячами воинов на них убрались не солоно хлебавши. А восемь лет спустя оно сделалось единственным и абсолютным хозяином всего западного Средиземноморья. 23 августа 476 года последний римский император Ромул Августул был сброшен с трона вождем германского племени скиров Одоакром. С этого дня понятие «Восточный Рим» стало анахронизмом, Византия осталась единственным осколком необъятной более чем тысячелетней державы. Французский поэт XVI века Жоакен Дю Белле приветствовал гибель Рима:
Как в море вздыбленном, хребтом касаясь тучи, Идет гора воды, и брызжет, и ревет, И сотни черных волн швыряет в небосвод, И разбивается о твердь скалы могучей, Как ярый аквилон, родясь на льдистой круче, И воет, и свистит, и роет бездну вод, размахом темных крыл полмира обоймет, И падает, смирясь, на грудь волны зыбучей; Как пламень, вспыхнувший десятком языков, Гудя, взметается превыше облаков И гаснет, истощась,- так, буйствуя жестоко, Шел деспотизм - как вихрь, как пламень, как вода, И, подавив ярмом весь мир, по воле рока Здесь утвердил свой трон, чтоб сгинуть навсегда.
Византийцы, или, как их теперь все чаще называли, ромеи, стали единственной мишенью для вандалов. «Вандалы,- негодует Монтескье,- утопали в роскоши, они так привыкли к изысканным кушаньям, мягким одеждам, баням, музыке, танцам, садам и театрам, что не могли без них обойтись». Казалось бы, есть исторические примеры - хотя бы судьба армии Ганнибала, погубленная роскошью жизни в Капуе. Теперь вот - вандалы. Но не тут-то было, сонет-реквием Дю Белле мог бы показаться пророческим, если бы с ним были знакомы византийские императоры. Новый Карфаген противостоял новому Риму и побеждал его на море. История повторялась. Но неожиданно Европа получила передышку. После смерти Гейзериха в 477 году в рядах варваров разгорелась борьба за власть, направляемая двумя сыновьями усопшего, и им стало не до Рима. В 488 году в Италию вторглись орды остготов во главе с опытным полководцем Теодорихом. Пять лет спустя Теодорих «сверг» Одоакра, разрубив его пополам одним ударом своего меча, и основал проримское королевство остготов с центром в Равенне. (Позднее Теодорих жил в Константинополе почетным заложником, гарантом мира. Его ввели в сословие патрициев, именовали консулом, причислили к императорскому роду Флавиев, славному именами Веспасиана, Тита и Домициана, из окон императорского дворца он мог любоваться собственной статуей, воздвигнутой на дворцовой площади. Погребен он был в равеннском мавзолее.) В следующем году англосаксонский вождь Кердих всего с пятью судами и двумя с половиной сотнями пиратов на них завоевал весь Уэссекс. Чуть позже пал в битве при Камлане легендарный Артур, с чьим именем бритты связывали все свои надежды.
На исходе V века несколько кунингов (старейшин) германской племенной группы искевонов - бруктеров, сугамбров, тенктеров, усипетов, хамавов и других народностей, обитавших к востоку от Рейна, заключили союз, чтобы успешнее отбиваться от пограничных римлян, вестготов и бургундов. Они стали называть себя франками, их коалицию возглавил вождь из племени меровингов Хлодвиг, попытавшийся создать политическое объединение по римскому образцу, считавшемуся в то время самым передовым в Европе. Своей столицей Хлодвиг избрал Париж, намереваясь превратить его во второй Рим. Однако дальше подражательства дело не пошло. Называть свои военные смотры «марсовыми (или мартовскими) полями» - этого было явно недостаточно, чтобы заложить основы тысячелетнего государства. В распоряжении выборных военных вождей - герцогов - вместо опытной регулярной армии имелось лишь крестьянское ополчение, а предводители отдельных полков - графы - вечно стремились к излишней самостоятельности. Неудивительно поэтому, что после смерти Хлодвига в 511 году Франкское государство распалось на Нейстрию (северо-западная Галлия), Австразию (северо-восточная Галлия) и Бургундию (южная Галлия). Каждой частью управлял майордом, управлял от имени короля, обладая при этом властью большей, чем его господин. Забегая на два века вперед, можно напомнить, что майордом Австразии Пипин Карл смещал и назначал королей как ему вздумается, а когда список достойных кандидатов был исчерпан, назначил королем самого себя. Это будет. Но время Пипина еще не пришло. Византийские хронисты бесстрастно фиксируют набеги арабов на страны Благодатного Полумесяца (Леванта) в 501 - 502 годах, непрерывные и уже порядком наскучившие наскоки болгар на Иллирик и Фракию, переправу гуннов в 516-517 годах через далекие Каспийские Ворота и опустошение ими Армении, Каппадокии, Галатии и Понта. Константинополь все это мало затрагивает, хотя действия гуннов вблизи имперских границ заставили его насторожиться. Византийских императоров занимало другое. Несмотря ни на что, это было время, когда закладывались основы будущей европейской государственности, хотя мало кто тогда это понимал. Видели иное. Изменялись имена племен и их столиц, перекраивались, не успев закрепиться, контуры границ, рождались новые синтетические языки. «Смешение родных языков варварских племен с языками Древнего Рима,- рассуждает позднее секретарь Флорентийской республики Никколо Макьявелли,- породило новые способы изъясняться. Кроме того, изменились названия не только областей, но также озер, рек, морей и людей. Ибо Франция, Италия, Испания полны теперь новых имен, весьма отличающихся от прежних...» Чтобы хоть как-то разобраться в этой мешанине и определить свое место под солнцем, хронисты (их пока еще нельзя назвать историками) сочиняют компилятивные генеалогии народов, причудливо смешивая мифы библейские и мифы античные,почерпнутые чаще всего у Вергилия и Овидия. В эти смутные и путаные генеалогии попадают только известные им народы, списки постоянно уточняются, исправляются, варьируются. Хронист конца VIII века Ненний, например, насчитывает около тридцати европейских народов (см таблицу), хотя, разумеется, их было несравненно больше. Достаточно указать, что в его сочинении не нашлось места гуннам, уже исчезнувшим с исторической арены, и скандинавам, еще не появившимся на ней. Византийские хроники из года в год скрупулезно отмечают все передвижения народов в Европе и Малой Азии. Отмечают стычки самой Византии с морскими и сухопутными разбойниками. Из всех их Восточный Рим неизменно выходил победителем, и его торговля страдала меньше других. Это не было чудом. Византия до поры до времени оставалась в стороне от прямых иноземных нашествий, если не считать бесконечных драчек с кочевниками на своих границах, к коим давно успела привыкнуть. Напротив, Восточный Рим все еще не оставил мечты восстановить былое величие Рима западного, поруганного и растоптанного сандалиями варварских орд. Византия стремилась к этому тем более, что всем было ясно, где теперь будет столица новой единой Римской империи. В 534 году обстановка в Средиземноморском бассейне вновь дестабилизировалась. В этом году императору Юстиниану I удалось наконец отвоевать государство вандалов в Северной Африке всего с полусотней кораблей и пятью тысячами солдат, а еще год спустя он сделал первую попытку утвердиться в Италии. Поначалу дела его шли успешно, но вступивший на трон в 541 году новый остготский вождь Тотила сделал единственно верный в той ситуации ход: он взбунтовал и принял под свои знамена рабов и свободных земледельцев, в чьих семьях от отца к сыну передавались, обрастая жуткими подробностями, предания о бесчинствах Нерона, Калигулы, Каракаллы, да и всей римской знати, а также о тяжести римских поборов. Умело используя эти настроения, Тотила, сам к тому же талантливый полководец, едва не отпраздновал окончательную победу над Византией в Италии, но гибель в одной из битв помешала ему довершить начатое. С гибелью Тотилы, собственно, закончилась история готов: уцелевшие семь тысяч человек едва ли могли именоваться даже народом. Так, племя... К тому же деморализованное. Византийцы вернули утраченные было территории и закрепились на них. Но чтобы удержать их за собой, им приходилось подавлять восстания итальянских городов, следовавшие нескончаемой чередой. И чаще всего в военных сводках мелькали Генуя, Венеция и Пиза. Юстиниан саркастически ухмылялся и высылал войска. В 553 году Византии удалось положить конец владычеству остготов в Италии и Испании, и со второй половины VI века только два крупных образования противостояли ей в Европе - вестготы на ее западной окраине и рожденное в 568 году государство лангобардов («длиннобородых») на севере Италии (оно прекратит свое существование лишь в 774 году, когда на историческую авансцену выйдет государство франков во главе с Карлом Великим). Правда, Византии приходилось, кроме всего этого, постоянно держать значительные силы на своих восточных и северо-восточных границах, чтобы отражать экспансию арабов и печенегов. Войск у нее было достаточно, но кораблей не хватало: многие из них покоились на дне у берегов Африки, Италии, Испании, другие приходилось использовать как транспортные или конвойные. В такой ситуации потомкам Ромула не оставалось ничего другого, как вспомнить старые времена и вновь ударить челом греческим корабелам, еще недавно именуемым ими варварами. На Средиземном море опять зазвучала эллинская речь, но в ней теперь куда чаще проскальзывало слово «Константинополь», нежели «Пирей» или «Коринф». С середины VII века греческий стал государственным языком Византийской империи, решительно потеснив латынь. Золотые и серебряные римско-греческие монеты стали появляться во всех концах известного тогда света, вплоть до Южной Индии. Однако сказать, что у Византии не было соперников, было бы неверным. Соперники были, менялись лишь имена претендентов на гегемонию в Средиземноморье. Постепенно из их числа выделились три самых серьезных - все те же Пиза, Генуя и Венеция. Венеты во время похода Аттилы на Рим осели в районе разрушенной Аквилеи и в 568 году на берегу прелестной лагуны, покрытой кружевом из ста восемнадцати островов, основали свою столицу. Бывало и по-иному. «В Пизе,- сообщает Макьявелли,- из-за вредных испарений в воздухе не было достаточного количества жителей, пока Генуя и ее побережье не стали подвергаться набегам сарацин. И вот из-за этих набегов в Пизу переселилось такое количество изгнанных со своей родины людей, что она стала многолюдной и могущественной». Немного наивно, а «испарения» - прямая дань теориям Гиппократа. Но в общем верно. Новым блеском засверкали Мантуя и Лукка, Флоренция и Неаполь, Сиена и Болонья. Короткое время спустя многие из них могли уже потягаться с Византией, и призом в этом состязании была независимость. Они получили ее, иначе и быть не могло: география на протяжении веков властно диктовала свои условия людям, древние портовые города сохраняли свое значение независимо от любых потрясений. Менялись их названия, менялось население, менялся язык. Оставалась торговля, оставалось пиратство, оставалась война всех против всех. Смещался лишь акцент, да и то незначительно. Хаос, царивший на суше, отражался в зеркале морей. Те, кто выходил на большие дороги континентов, неизбежно, рано или поздно, оказывались и на больших дорогах морской торговли, а все новшества, вводимые в сухопутных армиях, немедленно приспосабливались к войне на море. И все эти бедствия тысячекратно усиливались беспрерывными набегами кочевников и смешением наречий. Если киликийские или критские пираты античности говорили со своими жертвами на понятном им языке, то теперь нужно было быть незаурядным полиглотом, чтобы разобрать, что кричат с встречного корабля,- то ли спрашивают дорогу, то ли предлагают обменять жизнь на кошелек. Горцы толпами спускались в долины, чтобы грабить земледельцев; земледельцы поднимались в горы, чтобы завладеть скотом горных племен; кочевники пустынь опустошали плодородные оазисы и речные долины; жители речных долин устраивали засады на кочевников, чтобы отбить у них верблюдов. И взоры всех их постоянно были обращены к морю. Мимо пустынных берегов плыли неслыханные богатства, стоило лишь протянуть руку. Те, кто отваживался на это, побуждаемые голодом или алчностью, первым делом обзаводились флотом, если они были береговыми жителями. А если не были? Пришельцы, не знавшие моря, перенимали искусство судовождения у аборигенов, смешивались с ними, и на исторической арене появлялась новая морская нация. Иногда - ненадолго, иногда - на века. Так, например, поступали вандалы, в течение трех десятилетий грабившие на чужих кораблях побережья всех государств и островов от Испании до Греции и от Африки до Венеции и Марселя. Римский философ и сенатор Аниций Манлий Северин, больше известный под именем Боэций, долгое время подвизавшийся при дворе Теодориха на ролях первого министра, в одном из своих сочинений дал принципиально новое определение «золотому веку». Если для античных авторов «золотой век» - это время, когда не существовало рабства и все люди были равноправны, то для Боэция «золотой век» - это эпоха, когда не было морских разбойников. Во времена Боэция и даже чуть позже Византия могла еще позволить себе ухмылки: битвы громыхали на чужих территориях (например, у берегов Египта, где в 645 году ромеям удалось внезапным наскоком захватить Александрию и спалить арабские верфи вместе с кораблями). Тем неожиданнее для нее оказалась осада Константинополя арабами, начавшаяся в 673 году при Константине IV и растянувшаяся на семь лет. Она была отражена и закончилась тридцатилетним миром, но с той поры на Средиземном и Черном морях оживленно заговорили об арабском флоте, участвовавшем в нападении наряду с армией.
Собственно говоря, появление арабов в этих морях не было новостью. В 649 году они захватили Кипр, в 654-м - Родос. Родос достался арабам, можно сказать, даром, потому что византийцы не успели еще оправиться от первого и сокрушительного поражения, нанесенного их флоту, насчитывавшему до тысячи кораблей, двумястами арабскими кораблями в «битве мачт» при Александрии в 653 году. За Родосом последовали дерзкие, но неудачливые нападения мусульман на Сицилию и Мальту. Для подобных налетов нужен первоклассный флот, тут двух мнений быть не может. Для западного Рима эти захваты прозвучали бы громом среди ясного неба, для восточного они были в лучшем случае досадными и не слишком волнующими эпизодами на далекой периферии. Но ненадолго. Можно было, стиснув зубы, стерпеть захват арабами побережья Леванта, можно было как-то пережить захват ими южных берегов Малоазийского полуострова. Но покорение Смирны (Измира) и Кизика - ключевой базы в Мраморном море - трудно было «не заметить». Нападение же на столицу и ее семилетняя осада круто меняли дело. «Тридцатилетний» мир не продержался и двух десятилетий. Уже в 698 году Византия потерпела жестокое поражение от арабов на море в споре за Карфаген: в VII веке, столетие спустя после смерти Гейзериха и распада его государства, арабы пришли на североафриканские берега как хозяева. Пришли надолго. На века. Они принесли с собой кроме новой веры еще и новые обычаи, и новое восприятие мира. Новую окраску приобрел здесь и морской разбой. В значительной мере арабы перенесли в Средиземноморье пиратский опыт южных морей, с которым они познакомились во время своих торговых плаваний. Это были отнюдь не увеселительные морские прогулки. Еще Птолемеи, по примеру египетских фараонов Древнего царства, вменили в обязанность жителям Баб-эль-Мандебского пролива охранять береговую полосу от пиратов. Мавританцы, наоборот, регулярно совершали набеги на земли соседей во главе со своим царем. Точно так же поступал правитель острова Кайс в Персидском заливе, захватывавший жителей материка для продажи. Такое положение сохранялось в южных морях повсеместно. В XVI веке посол Гренады в Судане Ал-Хасан ибн Мухаммед ал-Ваззан аз-Зайяти ал-Фаси, вошедший в историю под именем Лев Африканский, без особых эмоций отмечал, что местный правитель «не располагает иным доходом, кроме как грабить и разорять их соседей». Пленниками он расплачивался с купцами, чтобы немедленно влезть к ним в новые долги - и все начиналось сызнова. В своих морских операциях африканцы и арабы использовали обычно мореходные быстрые лодки-долбленки наподобие пирог североамериканских индейцев. В VII веке такие лодки скарлатиновой сыпью усеяли всю южную часть Средиземного моря. В том же VII веке в северной части моря, где несколько веков назад бесчинствовали иллирийские пираты царицы Тевты, появилось еще одно пиратское племя. С севера, теснимые кочевниками, на этот традиционно пиратский берег пришли славянские племена сербов и кроатов. Слившись с остатками местного населения, они усвоили его обычаи и внимательно изучили основы мореходства. Из древних разбойничьих убежищ в устье Наренты они жадными взорами провожали тяжело нагруженные венецианские галеры, фланировавшие во всех направлениях по сонным водам Адриатики. Наконец терпение их лопнуло, и они сделали первый шаг... Довольно скоро Венеция оказалась в затруднительном положении. На западе в 798 году арабы захватили Балеарские острова, отрезав путь к Испании и океану. На востоке пираты, умело используя постоянство ветров и течений, терпеливо поджидали купцов, затаившись за каким-нибудь рифом между горой Кармель и Хайфой и по существу блокировав берега Египта и Благодатного Полумесяца. Генуэзские пираты превратили остров Корфу в свою главную базу. На большие дороги моря вышли пираты Тосканы. Венецианские купцы были не в состоянии оказывать сколько-нибудь действенное сопротивление морскому разбою: их корабли попросту не были для этого приспособлены. Поэтому они поступили иначе. Галеры перестали ходить в одиночку, а купеческие флоты сопровождал теперь конвой. С 827 года Венеция, вспомнив давний опыт Родоса, учредила нечто вроде морской полиции в северной части Адриатического моря, и результаты этого шага не замедлили сказаться. На рынках западного Средиземноморья отныне оживленно обсуждали цены на славянских рабов - неудачливых пиратов Далматии.
Эти рынки попытались сделать своими арабы. В 839 и 841 годах они нанесли чувствительные удары Венеции на море, но всего лишь несколько лет спустя на тех же самых рынках появились невольники, изъяснявшиеся по-арабски. Вскоре Венеция твердой ногой встала на полуострове Истрии, и ее купцы почувствовали себя в относительной безопасности у порога родного дома. Но оставалось пиратским все остальное далматское побережье. И нужно было еще суметь пройти пролив Отранто, где начиная с 860 года в течение полувека постоянно дежурили сарацинские пираты. Кроме того, разбойники всех мастей по примеру своих древних предтеч организовывались в наемные флоты и на сходных условиях предлагали свои услуги всем, кто желал ими воспользоваться. Венецианцы не рисковали связываться с этим отребьем, но Генуя и Константинополь не пренебрегали подобными услугами, и при их содействии пираты создавали новые удобные ловушки на пути венецианских галер. Столетия спустя, когда Константинополь был уже столицей Турции, бенедиктинский монах из Дубровника Мавро Ветранович с гордостью писал:
Флот дубровницкий прекрасный - Всех морей владыка властный, Всех судов и всех флотилий, Где б они ни проходили. Кто же в этом усомнится, Жизнью должен поплатиться... И в любой стране далекой Запада или Востока Дубровчан достойных знают, Короли их уважают. Нет нигде морей закрытых Для матросов знаменитых, Бороздят любые воды Корабли сынов свободы, Что прославлены без меры За защиту правой веры. На чужбине ли, в отчизне - Всюду счастливы их жизни В посрамленье чужестранцам, Паче всех - венецианцам.
И еще одна постоянная и лакомая приманка была у всех средиземноморских пиратов - набирающая силы Византия, хранительница ключа к Черному морю - великолепного Константинополя. Несмотря на то, что она до поры до времени молчаливо покровительствовала морскому разбою, чтобы ослабить таким образом собственных врагов, и те и другие отлично понимали, сколь непрочен их альянс. В 704 году она взяла блестящий реванш за Карфаген в Киликии, подвергшейся арабскому нашествию. Следующее слово было за арабами. Они сказали его в 708 году, когда разбили византийскую армию, захватили Тиану (Кемерхисар) и продвинулись до Хрисополя (азиатская часть Стамбула). Еще три года спустя арабы повторили налет на Киликию и овладели несколькими византийскими крепостями. После столь внушительной репетиции они сочли себя достаточно подготовленными для нового похода на Константинополь. Однако все попытки овладеть византийской столицей в 717, 728 и 776 годах окончились ничем. В 717 году у Босфора был частью сожжен «греческим огнем», частью разрушен объединенный арабский флот в тысячу восемьсот кораблей, присланных из Александрии и Сура. Арабы ушли из Малой Азии и лишь изредка совершали туда короткие и стремительные набеги. Появление столь грозного соперника, ни в какое сравнение не шедшего с варварскими ордами, не прошло незамеченным для византийцев. Слишком серьезен был новый претендент на талассократию - первый со времен гибели Рима. Они называли себя шаракиин - «восточные люди». В Европе их стали называть сарацинами. И еще измаилитами - по имени их легендарного прародителя. Арабами заинтересовались, их стали изучать, с ними включились в равноправную борьбу за господство в Средиземноморье, забыв на время о Генуе и Венеции. В первые три столетия новой эры арабы выступали всего лишь посредниками в торговле Рима с экзотическими странами. Основную торговлю все еще вели римские суда. Но в III веке арабы из посредников превратились в монополистов. Методами отнюдь не безупречными они сосредоточили в своих руках всю торговлю южных морей, решительно потеснив китайцев и индийцев, и основали торговые фактории в ключевых пунктах Индии, Малакки и Индонезии. Тем временем в самой Аравии зрели серьезные социально-политические перемены. 8 июня 632 года в Медине отошел в лучший мир пророк и посланник Аллаха Мухаммед. Главное его деяние на Земле - это установление новой «истинной» веры во всей Аравии. Своим преемникам - халифам - он завещал довести начатое до конца, обратить в ислам весь обитаемый мир. Халифы не мешкая взялись за дело. В 639 году Омар пронес зеленое знамя пророка из столицы халифата Дамаска по Персии и Сирии, в следующем году Амру приобщил к своей вере Египет. Каких-нибудь полсотни лет спустя ислам утвердился огнем и мечом на огромной территории до Амударьи на севере и до Инда на востоке. Византия лишилась самых лакомых своих кусков - Сирии, Палестины, Месопотамии, Карфагенской области, плодороднейших и стратегически важных островов Средиземного моря. Особенно чувствительной была потеря Крита и Кипра. К началу VIII века исламскими стали вся Северная Африка вплоть до Атлантического океана и юго-восток Испании. В 710 году арабы вторглись на Пиренейский полуостров, в течение трех лет завоевали (но не покорили) его до реки Эбро и владели им восемьсот лет. Из них полтысячелетия они были безраздельными посредниками в торговле Европы с Востоком. Что же это за чудо такое была Аравия - страна, заставившая трепетать весь мир? Для тогдашнего мира это и впрямь было чудо. Словно возродилась классическая Греция с ее философскими школами, вечными храмами и статуями, с ее торжеством духовности и красоты. Несравненный Багдад, новая столица халифата, заложенная в 762 году, концентрировал в своих библиотеках и академиях все лучшее, что было накоплено человечеством к этому времени. С ним соперничали Шираз и Басра, Куфа и Дамаск, Александрия и Фец, Марокко и Кордова. На арабском языке зазвучали сочинения Аристотеля и Платона, Гиппократа и Галена, Страбона и Птолемея. Арабские путешественники и купцы, презирая тяготы и опасности пути, безбоязненно разъезжали от Инда до Атлантики и от Нигера до Рейна под покровительством Аллаха, в чьей власти, кроме всего прочего, были и «корабли с поднятыми парусами, плавающие в море, как горы». Так утверждает Коран. В Испании коренные жители были загнаны в Пиренеи, где они живут до сих пор под именем басков.
Христианизированные к тому времени готы укрылись в горах Астурии и основали там свое королевство, оказавшееся на удивление долговечным. Вандалы, осевшие в Африке, искали спасения на вершинах Атласских гор и в пустынях, а после завоевания арабами Сахары они отступили в долины Нигера и Сенегала. В начале 700-х годов потомки Али (двоюродного брата Мухаммеда и его зятя) попытались захватить престол Дамаска, но потерпели неудачу и были вынуждены бежать из мусульманского мира. Они бежали на юг, через Красное море, и несколько десятков лет спустя их торговые колонии усеяли побережья Сокотры, Мозамбика, Восточной Африки и Малабарского берега Индии. Так образовалась мусульманская кайма на всем северном побережье Индийского океана, просуществовавшая семь столетий, пока ее не искромсали мечи Васко да Гамы и его соотечественников. При халифе Ватике в 846 году арабы разграбили Рим, в 847-м проникли в киргизские степи вплоть до Алтая, а в 1200-м ими были основаны Кипчакское и Сибирское царства, достойные соперники заложенных за полтора века до этого Крымского, Молдавского, Хорасанского и Валахского царств. Султан Махмуд в 1011 году перешел Инд и отодвинул восточную границу арабского мира до другой великой реки - Ганга. Все свои завоевания арабы делали при тесном взаимодействии армии и флота. Но поражения у Константинополя окончательно заставили их отказаться от проникновения в Черное море, а образование североафриканского и пиренейского халифатов настоятельно требовало держать у их берегов сильные флоты в то беспокойное время. В IX веке их было пять - Африканский (или Афросицилийский), Египетский, Испанский, Критский и Сирийский. Европа оставалась языческой, но с концом Великого переселения народов внутренние ее границы стабилизировались, в ней стали появляться долговечные государственные образования, называвшиеся, как и прежде, по именам наиболее многочисленных и сильных племен. Франки образовали государство Францию, даны - Данию, иры - Ирландию, англы и бритты - Англию или Британию, белги - Бельгию. Северные моря ждали своих властителей.
Схолия первая. ОГНЕНОСНЫЕ.
В отличие от народов древности, любовно и подробно описывавших свои корабли, средневековые хронисты в лучшем случае довольствовались лишь сухим перечислением их названий, да и то разнобой в их написании столь велик, что впору за голову схватиться. Из множества случайных обмолвок и скупых указаний поздних схолиастов можно, однако, попытаться воссоздать хотя бы примерную общую картину, но она будет неизбежно выполнена в технике импрессионистов - ее нужно разглядывать только на расстоянии, ибо детали расплывчаты и неуловимы. Поэтому при их воссоздании трудно, да, пожалуй, и невозможно обойтись без досадных «по-видимому», «возможно» и «может быть». Особенно это касается происхождения названий типов судов - их этимологии - и изменения этих названий в разное время и в разных странах. Многие из них на новом месте изменялись так, как это было принято в античности: подыскивалось какое-нибудь созвучное слово в родном языке - и вот вам новое значение хорошо известного старого. Поэтому, рискуя вызвать бурю гнева на свою голову, приходится выбирать из множества этимологии какую-то одну, кажущуюся наиболее достоверной, и прослеживать с ее помощью превращение одного типа судна в другой или отыскивать корни совершенно нового понятия. Момент этот очень ответственный, так как именно благодаря первоначальному названию типа судна можно почти стопроцентно определить его национальную принадлежность, хотя доля предположительности здесь все же весьма велика, и она увеличивается по мере приближения к нашему времени, по мере образования новых государств и новых языков. Естественно, что более-менее ясно обстоит дело с Византией, не слишком удаленной от античных времен. Флот Восточного Рима не возник внезапно, как «бог из машины» в греческих театрах. А его постоянное совершенствование говорит о высоком значении, придаваемом ему ромеями, и о непрерывном естественном отборе в области судостроения. Отбор этот было из чего производить. Средиземное, Мраморное и Черное моря все еще бороздили десятки типов судов, доставшихся Средневековью от античных времен. Иные явно уже исчерпали себя, другие оказались не у дел вследствие изменившихся обстоятельств и новой расстановки фигур на морских театрах. Наиболее жизнеспособными оказались, пожалуй, пиратский быстроходный парусно-весельный акатий, галльский плетеный челнок караб и ходкий кипрский керкур, чаще других упоминаемые византийскими и арабскими авторами. Из них только акатий и керкур могли служить военным целям. Это-то и подвигнуло властителей прибрежных государств и их корабелов выбирать из множества вариантов оптимальные, соответствующие духу времени, и приспосабливать их к пользованию новым оружием и к новым приемам боя.

Дромон середины IX века. Рисунок в византийском кодексе.
Именно в превосходной по тем временам организации флота и крылась сила Византийской империи. Первенство флота над армией было закреплено в титуле высшего военачальника государства - великого дуки, часто именуемого летописцами великим дукой флота. Ему подчинялись великий друнгарий, или талассокра-тор («владыка моря»), ведавший всеми морскими делами, и тагматарх, на чьем попечении находилась сухопутная армия. Флоту, как правило, отводилась и решающая роль в разного рода стычках, то и дело вспыхивавших на разных окраинах необъятной империи. Начиная с V или VI века главной ударной силой византийского военного флота становится длинный высокобортный полнопалубный дромон («бегун») - прямой потомок античной пентеконтеры, но превышавший ее вдвое по числу гребцов: на дромоне их была сотня, причем каждым веслом управлял один человек. Первыми, по-видимому, оценили боевую мощь дромона остготы: в жизнеописании Тотилы содержится самое раннее его упоминание, чересчур краткое и туманное, чтобы судить о конкретных достоинствах этой плавучей крепости. Не больше ясности внес в описание дромона и император Лев Философ в IX веке, попытавшийся набросать его беглый портрет. Поэтому даже такой, казалось бы, очевидный для современника вопрос, располагались ли гребцы дромона (дромонарии) в один или два ряда, давно уже оброс аргументами в пользу и того и другого. В первом случае длина дромона могла бы достигать пятидесяти или шестидесяти метров, во втором - сорока или даже чуть меньше. При этом дромон сохранял бы свое водоизмещение (около сотни тонн), ширину (примерно четыре с половиной метра) и осадку (чуть больше метра), но численность экипажа могла быть значительно уменьшена (обычно она составляла двести тридцать человек, включая гребцов, и шестьдесят воинов). Вполне возможно, что два эти типа мирно сосуществовали. Двухрядные дромоны с двадцатью пятью веслами в каждом ряду, действительно, упоминаются в некоторых источниках, воскрешая в памяти античные диеры, особенно либурны. Либурны были четвертым, а по большому счету - первым и главным типом античных боевых галер, передавшим эстафету славы византийской морской мощи. Однако диеры, как и триеры, входили в списки византийского флота, так сказать, отдельной строкой наряду с дромонами, и это может свидетельствовать в пользу широкой распространенности именно однорядных дромонов - монер. Не исключено, правда, что под однорядным дромо-ном скрывается другой тип монеры (это судно начиная с IX века часто и называли просто монерой) - галея, или галиада, давшая впоследствии названия некоторым другим типам судов. Это был небольшой и очень быстроходный гребной военный корабль, появившийся в период поздней античности. По описаниям, правда крайне скудным, в V-VI веках он ничем не отличался от дромона: такой же узкий, длинный и низкосидящий, имевший, как и дромон, дубовую обшивку и снабженное рукояткой-клавусом рулевое весло. Таран галеи располагался выше ватерлинии и, вероятно, мог служить абордажным мостиком, играя по существу роль корвуса. Моряки галеи, как и на дромоне, имели собственное название - галеоты. Название судна, по-видимому, произошло от греческого galee - кошка, куница. Это быстрое и увертливое суденышко средних размеров (предполагают, что количество ее гребных банок не превышало двадцати) охотно использовалось для разведки, то есть по римским меркам относилось к классу спекулаторий - наблюдательных, посыльных и разведывательных судов. Что же касается византийских диер, то гребцы на них располагались точно так же, как на палубных финикийских судах тысячелетие назад: один их ряд отделялся от другого палубным настилом. Двухрядный дромон кое-что перенял у галеи, видоизменив и приспособив к собственным задачам. Например - таран. Никогда раньше он не был таким толстым и массивным. Он устанавливался точно по ватерлинии, так что верхняя его половина выступала над водой и выполняла ту же роль, что на галее,- служила абордажным мостиком. А это значит, что ватерлиния дромона всегда должна была соответствовать своему названию, а грузоподъемность и водоизмещение - тщательно выверяться и регулироваться, ибо при облегчении судна таран оказался бы целиком над водой, а при перегрузке был бы утоплен. Так что дромон не мог брать с собою в бой ничего лишнего. Кроме того, византийцы отказались от съемных таранов, а додумались заменять только их поверхность. Таран, как и в глубокой древности, стал неотъемлемой частью форштевня, но делался не монолитным, а пластинчатым. Таранный брус обивался взаимно подогнанными металлическими пластинами - наподобие рыбьей чешуи, по образцу воинских доспехов. Башни, воздвигаемые на палубах боевых кораблей, тоже претерпели существенные изменения: их выполняли теперь не из кирпича, а из дерева, покрытого кожей,- смоченная, она хорошо предохраняла от пожара. Башни стали значительно легче, а это позволило увеличить и их количество, и их объем: они ставились отныне не только в корме, айв центре палубы, возле мачты, вооруженной большим треугольным парусом, и вмещали до полусотни воинов, впятеро больше, чем на римских кораблях. Некоторые дромоны имели боевые площадки, выступавшие за пределы штевней и огражденные легким фальшбортом, увешанным щитами. На них могли размещаться катапульты, артиллерия, лучники или пращники, отряды абордажников. Еще одним типом военного византийского корабля IX века был памфил («всеми любимый»). Эта монера длиной до двадцати метров явилась прямой наследницей галеи, видоизменившейся к тому времени в однорядный дромон. А соединив некоторые черты галеи, памфила и дромона, в том же IX веке византийские корабелы сконструировали огромный парусно-весельный двухрядный селандр («молнию»), чье имя говорит само за себя. В нем много от римской либурны, но своей быстроходностью он обязан скорее отличной выучке гребцов и отчасти наличию треугольного паруса, чем излишне сложной конструкции. Может быть, как раз поэтому во времена Крестовых походов, не столь уж отдаленные от той эпохи, селандры чаще использовали для транспортных целей, нежели для военных. Как выглядел их треугольный парус, мы не знаем: то ли он был скроен на левантийский лад по образцу римского акатия, то ли имел форму дау, заимствованную у арабов. Однако арабский парус позволял обходиться без гребцов, акатий же был составной частью двойного движителя, и это может свидетельствовать в пользу второго. Можно думать, что первоначально на селандре было столько же гребцов, сколько и на галее,- до двух десятков. Увеличение их количества к XIII веку до двадцати шести морские торговцы итальянских прибрежных городов, радушно принявшие селандры в свои флоты, ввели, скорее всего, как вынужденную меру, имея в виду не столько увеличение скорости, сколько облегчение работы гребцов, двигавших по воде эти плавучие склады товаров. Поскольку дромоны были дорогостоящими и сравнительно легко уязвимыми, более легкие диеры и даже триеры использовались для их охраны (огненосные триеры упоминает, например, византийский хронист Лев Диакон в середине X века, относя их к фортидам - судам охранения), а для конвоя всех этих типов судов в море выходили однопалубные или вовсе беспалубные юркие челны, объединяемые летописцами по примеру античных предтеч общим понятием «пиратские суда», но несомненно являвшие собой немалое разнообразие типов. Каких - можно только догадываться, припоминая аналогичные суда Древней Греции и Рима.
 Паруса дау.
Паруса дау.
Несомненно в их число входила галея. Можно было встретить среди них небольшую парусную аграрию, хотя ее название наводит скорее на мысль о транспортировке зерна или фруктов. Заметное место занимала маленькая маневренная и быстроходная элура («кошка») - гребное дозорное и курьерское суденышко, которое римляне отнесли бы к классу спекулаторий. Название ее наводит на мысль, что так могли именовать галею - тоже «кошку» - меньших размеров и не предназначенную для боя. Но и не исключено, что это была модернизированная разновидность скафы. Больше об элурах ничего не известно, разве - что их латинское название «фелис», возможно, сыграло какую-то роль в рождении фелуки. Примерно в это же время, в XI веке, возникает термин «бардинн», восходящий, скорее всего, к Геродо-товой бар-ит - грузовому судну египтян, весьма детально им описанному.
Довольно редко упоминаются авторами хроник диапрумны («суда с двумя кормами») - то ли сдвоенные корабли-катамараны, то ли реконструированные тупорылые самосские самены, доставшиеся византийцам в наследство от старого мира. Военный флот из диапрумн посылал в 559 году Юстиниан I на Дунай, чтобы помешать переправе гуннов и славян. Поход Юстиниана повторил в мае 774 года Константин, направив к Дунаю две тысячи загадочных хелан-диев. Судя по весьма скудным описаниям, это те же дромоны, но несравненно более изящные и нарядные, предназначавшиеся чаще для прогулок и торжественных случаев (хеландий, украшенный пурпуром, был императорским кораблем), чем для битв. В этом-то и заключается их загадочность: ведь дромоны относились к «длинным» - боевым кораблям, а хеландий, явно хранящий в себе греческое слово хелус («черепаха»), должен был бы, скорее, являть собой тихоходное купеческое «круглое» судно. Однако это противоречит всему тому немногому, что мы о нем знаем, например что хеландий мог иметь как один, так и два ряда весел. И тогда не остается ничего иного, как связать это название с другим греческим словом - энхелус: так называли угрей, длинных и увертливых. Значит, что же - энхеландий? По логике вещей - бесспорно, но такого слова в хрониках нет. Можно лишь предположить, что либо такова была усеченная форма названия - для греков это в общем не редкость,- либо хеландий появились тогда, когда энхеландий уже сошли со сцены. Любопытно, что chelus во французском произношении («шелус») дал впоследствии название и быстроходной «длинной» шелуке, и неповоротливой «круглой» грузовой шаланде. Еще и сегодня на реках и у побережий Франции можно встретить шалан(д)ы - небольшие баржи или весельные грузовые лодки, иногда имеющие маленькую мачту с парусом. Вполне возможно поэтому, что и ромеи различали «угрей», вмещавших, как и дро-мон, кроме сотни гребцов, двести человек экипажа и множество пассажиров, и «черепах», относившихся к классу грузовых судов, но участвовавших и в военных походах. Относительно названия хеландия имеются, впрочем, сомнения лингвистического порядка. Дело в том, что анонимный греческий автор «Перипла Эритрейского моря» (по существу - лоции Индийского океана), написанного в конце I века, упоминает, что у индийцев «есть местные суда, ходящие... вдоль берега, и другие, связанные из больших одноствольных судов, так называемые сангары; те же, которые ходят в Хрису («Золотую» Малакку. - Л. С.) и Ганг, очень велики и называются коландиями». В этом названии, скорее всего, проглядывает арабское «кил» - парус. То есть - океанские парусные корабли. Из обмолвок других авторов, например Марко Поло, можно набросать их примерный портрет. Это широкие грузовые суда грузоподъемностью до тысячи тонн, вмещавшие до ста пятидесяти человек. Киль коландия был выдолблен из одного ствола, на него наращивали доски обшивки. По-видимому, из коландия произошла и арабская многопалубная трехмачтовая шаланди, о которой речь пойдет ниже. И тот и другой тип судна вполне согласуется с греческим «хелус», ибо быстроходность была не самым главным достоинством торговых и грузовых судов. К этому же классу принадлежали парусные двухмачтовые суда для перевозки лошадей. Они мало чем отличались от традиционных греческих гиппагог или римских гиппагин. Так, константинопольский патриарх Ни-кифор, живший на рубеже VIII и IX веков, свидетельствует в своем «Бревиарии», что в 763 году император Константин V, высылая очередную карательную экспедицию к устью Дуная, погрузил на каждое из восьмисот таких судов по дюжине лошадей, что дало вполне внушительный конный отряд - почти десять тысяч всадников. На их борту всегда имелась широкая и прочная сходня, предназначенная для погрузки и выгрузки людей, скота и техники в любом месте побережья, где возникала необходимость. Торговые суда Византии строились также с крепкой сплошной палубой, под которой размещались обширные трюмы. Длина их достигала девятнадцати метров, ширина - чуть более пяти, то есть в соотношении примерно 1:3,5. По крайней мере, такие параметры имеет византийский «купец» VII века с диагональной обшивкой, чьи останки были подняты со дна Эгейского моря около островка Яссыады в 1960-х годах. На нем обнаружили фрагмент камбуза с печью, выложенной из огнеупорного кирпича с проделанными в нем круглыми отверстиями, разного рода изделия из стекла, камня, металла и терракоты, столовые принадлежности, посуду. Надпись на торговых весах - «Навклер Георгиос» - позволила установить имя владельца. Объему трюмов этого судна позавидовал бы самый алчный финикиянин.
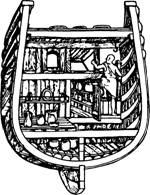 Судно из Яссыады. Реконструкция.
Судно из Яссыады. Реконструкция.
Константинопольский хронист Феофан Исповедник в своей «Хронографии», написанной в начале IX века, но охватывающей и более ранний период, именует неизвестный нам класс грузовых удов мюриагогами - «перевозящими десять тысяч грузов (или товаров)». Текст позволяет допустить, что это определение относится к скафам: как и в античности, это могли быть и большие суда, и маленькие лодки, бравшиеся на борт. В Византии скафами чаще всего называли торговые суда (как класс). Но о каких грузах идет речь? Правильнее всего предположить, что ромеи вслед за греками измеряли водоизмещение своих судов какими-то стандартными и широко распространенными предметами («грузами»). В античности такими предметами служили амфоры емкостью около сорока литров с вином или оливковым маслом, и известен класс грузовых судов - мюриамфоры («перевозящие десять тысяч амфор»). Однако другие списки «Хронографии» дают чтение «мюриоболы» («перевозящие десять тысяч оболов»). Это совершенно непонятно: у греков обол никогда не служил мерой объема, а только мерой веса (шестая часть драхмы, или 0,728 грамма) и стоимости (шестая часть драхмы).
Наиболее вероятным и не оставляющим места для сомнений представляется прочтение этих слов в их переносных значениях - «непомерно большие» или «непомерно дорогие» суда. В значении «непомерный» слово «мюриамфорос» зафиксировано, например, еще в V веке до н. э. у комедиографа Аристофана. В Европе долго измеряли водоизмещение судов «бочками»: от латинского tunna (бочка) произошла «тонна». Для испанцев, например, стотонным было судно, способное уместить в своем трюме сотню больших бочек вина - тонелад. Русская «бочка» примерно равнялась двум четвертям, то есть восьми пудам или ста тридцати одному килограмму, а тонна - 1015,56 килограмма. (Это близко к английской большой, или длинной, тонне - тысяче шестнадцати килограммам.) В августе 1806 года «Вестник Европы» отмечал возвращение из кругосветного плавания шлюпов «Нева», принимавшего четыреста тридцать бочек груза, и «Надежда» - четыреста семьдесят бочек. На этом примере легко убедиться, сколь неточна была эта мера: хорошо известно, что «Нева» имела водоизмещение триста семьдесят тонн, а «Надежда» - четыреста пятьдесят, следовательно, в первом случае «бочка» составляла 860,46 килограмма, а во втором - 957,44, то есть была близка к английской малой, или короткой, тонне - 907,18 килограмма. Водоизмещение военных судов Византии тоже должно было быть «непомерным», если вспомнить, кроме всего прочего, что для прочности они покрывались асфальтом: таковы теперь были принципы «броненосности» на флоте. Однако не надо думать, будто все типы своих кораблей ромеи использовали строго по назначению в зависимости от их класса и цели плавания. Среди «пиратских судов», например, встречались огромные трехмачтовые галеры с двумя сотнями гребцов и тремя большими спасательными лодками, волочившимися на буксире за кормой, а дромоны, случалось, хаживали в разведку или перевозили всадников. Менее всего, пожалуй, напоминала античные времена новая тактика морского боя, хотя кое-что общее все же оставалось. Когда диктовала обстановка, например наступало безветрие или предстояло сражение со значительно превосходящими силами, крупные корабли образовывали так называемую «морскую гавань»: быстро связывались друг с другом канатами или цепями в виде кольца и укрывали собою более мелкие суда. Это был усовершенствованный вариант греческой защиты от таранной атаки - диекплуса, известного по крайней мере с V века до н. э. По внешним бортам «гавани» вывешивались на канатах кожаные мешки с песком, пришедшие на смену греческим плетеным щитам - паррарумам, в которых застревали неприятельские стрелы, и ассирийским боевым щитам, вывешивавшимся по фальшборту для защиты гребцов и воинов. Маленькие челны с вооруженными воинами поднимались на палубы, среди мачт наскоро сооружались деревянные башни, если их не устанавливали заблаговременно, а оставшиеся от строительства бревна распиливали на полуметровые чурбаки и утыкивали со всех сторон острыми гвоздями: сброшенный с башни такой «еж» пробивал насквозь обшивку или днище вражеской ладьи, калечил и убивал людей и лошадей, создавал неописуемую панику. Башни эти, обитые кожей, время от времени обильно смачиваемой, укрывали в себе арбалетчиков. Для византийцев арбалет долго был «варварским» оружием, но в конце концов, наученные горьким опытом, они ввели его у себя под названием «цангра». «Натягивающий это оружие, грозное и дальнометное,- пишет на рубеже XI и XII веков византийская царевна Анна Комнина,- должен откинуться чуть ли не навзничь, упереться обеими ногами в изгиб лука, а руками изо всех сил оттягивать тетиву. К середине тетивы прикреплен желоб полуцилиндрической формы,, длиной с большую стрелу... Стрелы, которые в него вкладываются, очень коротки, но толсты и имеют тяжелые железные наконечники. Пущенная с огромной силой стрела, куда бы она ни попала, никогда не отскакивает назад, а насквозь пробивает и щит и толстый панцирь и летит дальше... Случалось, что такая стрела пробивала даже медную статую, а если она ударяется в стену большого города, то либо ее острие выходит по другую сторону, либо она целиком вонзается в толщу стены и там остается. Таким образом, кажется, что из этого лука стреляет сам дьявол. Тот, кто поражен его ударом, погибает несчастный, ничего не почувствовав и не успев понять, что его поразило». Несомненные преувеличения этого рассказа ясно говорят о том, что он написан до широкого заимствования византийцами арбалета. Не меньшие преувеличения можно обнаружить у невизантийских хронистов,едва только речь заходит о негасимом «жидком огне», который прицельно метали с верхнего яруса судовых башен или с корабельного носа на неприятельские корабли либо в гущу войск, используя ветер. Император Константин Багрянородный в «Рассуждениях о государственном управлении» - своеобразном политическом и духовном завещании своему сыну и наследнику Роману - писал, что «греческий огонь» составляет особую государственную тайну и что если варвары начнут допытываться о его составе, следует отвечать, что рецепт этой смеси лично вручил Константину ангел, строго-настрого запретив при этом передавать его другим народам. В подтверждение Константин приводил примеры, суть коих сводилась к тому, что те, кто плохо хранил тайну, были уничтожены «небесным огнем», едва только переступали порог храма. Так значит, были все же и такие, кто плохо хранил тайну? Действительно, у императора имелись веские основания для такого внушения, ибо огонь этот явно был не только «греческим». Изобрели его греки, это верно. Но не в X веке, когда жил и царствовал Константин. Традиционно считается, что его открыл в 668 году грек Калиник из сирийского города Гелиополя (нынешний Баальбек в Ливане) и передал своим соотечественникам в 673 году, когда они отбивались от осаждавших Константинополь арабов. В 678 году таким огнем была уничтожена значительная часть арабского флота у побережья Памфилии, после чего Константинополь мог вздохнуть спокойно (правда, сами арабы приписывали свое поражение не столько огню, сколько воде: разыгравшаяся тогда же буря отправила на дно много их кораблей). Византия сохраняла монополию на это оружие до XII века. Опять же - так считается. Есть рснования полагать, что «греческий огонь», может быть в несколько ином составе, был известен по крайней мере родосцам, применившим его против римлян в конце II века до н. э., а возможно, его знали даже во времена осады Трои. В первом столетии нашей эры «зажигательные снаряды», по словам историка Тацита, употребляли римляне, а в пятом или шестом их упоминают легенды об Артуре, сложившиеся, правда, много времени спустя после его гибели. Согласно преданиям, «дикий огонь» (не «греческий»!) применяли бритты против арабских пиратов при нападении их на Британию: «Случилось однажды, что неверные сарацины высадились на берег Корнуэлла вскоре после ухода саксонцев. Когда добрый принц Бодуин узнал, где они высадились, он тайно и скоро собрал в том месте своих людей. И еще до наступления дня он повелел развести дикие огни на трех своих кораблях, поднял вдруг паруса, подошел по ветру и вторгся в самую гущу сарацинского флота. И говоря коротко, с этих трех кораблей огонь перекинулся на суда сарацинов и спалил их, так что ни одного не осталось.
 Снаряды «жидкого огня». Реконструкция.
Снаряды «жидкого огня». Реконструкция.
А на рассвете доблестный принц Бодуин и его дружина с кликами и возгласами напали на неверных, перебили их всех числом сорок тысяч и ни одного не оставили в живых». Возможно, впрочем, что речь идет здесь о брандерах - судах, начиненных горючими материалами, подожженными и пущенными по ветру на неприятеля. Текст допускает и такое толкование. Но это могло быть и какое-то подобие «греческого огня», в то время уже известного многим. В 1185 году такое оружие применяли половецкие воины, метавшие его из специальных ручных приспособлений. «Для сожжения вражеских кораблей применяется горючая смесь смолы, серы, пакли, ладана и опилок смолистого дерева»,- сухо информирует Эней Тактик в сочинении «Искусство полководца», датируемом примерно 350 годом до н. э. Судя по описаниям Анны, нефть, смола, сухие поленья и камни были обычным снаряжением дромонов. В этих двух рецептах, разделенных полутора тысячами лет, общее - только смола. Но вряд ли стоит сомневаться, что Эней охотно подписался бы под словами византийской царевны, повествующими о воздействии этого оружия на «варваров»: ведь они «не привыкли к снарядам, благодаря которым можно направлять пламя, по своей природе поднимающееся вверх, куда угодно - вниз и в стороны». Снаряды эти упаковывались в глиняный шарик, чем и объясняется распространение огня «куда угодно». Шарик лопался с невообразимым грохотом либо в воздухе, либо при соприкосновении с твердой поверхностью и выделял при этом не только огонь, но и изрядную тучу смоляного дыма, способную служить укрытием целых эскадр. Византийский император Лев VI Мудрый (он же - Философ) пишет в своей «Тактике», что на носах кораблей первоначально устанавливалась выложенная медью метательная трубка, находившаяся на попечении одного из носовых гребцов, обученных обращению с нею. Позднее эти трубки монтировались в пасти драконов и химер, украшавших форштевни, а еще позднее фигуры этих созданий разъезжали по всей боевой палубе, надежно прикрывавшей гребцов, неизменно оказываясь там, где требовалось их присутствие. При неудачном «выстреле» глиняные шарики лопались в воздухе, и огонь рассеивался, не поражая цели. Пирофоры - «огненосные» суда - по-видимому, были на особом учете и составляли отдельный класс независимо от входивших в их число конкретных типов. Только тогда становится понятной фраза Льва Диакона: «Кораблей было: с жидким огнем - 2000, дромонов-1000, грузовых кораблей, имевших провиант и военное снаряжение - 307». Эта фраза попутно разрешает и спор о том, обязательно ли дромоны были огненосными. Как видим - не обязательно. Да, военный флот Византии поистине был грозной силой - самой грозной для своего времени. Он долго был единственным и безраздельным хозяином в Море Среди Земель, никто не мог противостоять талассократии ромеев, и ни с кем не желали они ею делиться. Тем неожиданнее оказалось появление в зарезервированных ими для себя водах арабов - погонщиков верблюдов, варваров, впервые, кажется, упомянутых полководцем Ксенофонтом, учеником Сократа. Впрочем, пришельцы эти вполне искренне считали варварами как раз ромеев, чья речь нисколько не была похожа на речь арабов - «отчетливо говорящих» (именно таково значение этого слова). Мало того - даже и вера у них была какая-то... неверная. Так полагали и те, и другие. И столкновение между ними не замедлило воспоследовать. В Средиземном море встретились два самых сильных и совершенных флота мира.
Схолия вторая. ЛЬВЫ МОРЯ.
Арабы вышли на морскую арену как наследники многовековой легендарной славы финикиян, не сумевших пережить завоевания Александра Македонского. Их корабли, строившиеся на верфях города Фарса, наполнили новым смыслом библейские фразы о «фарсисских кораблях»,- и точно так же, как их седые тезки, они «издалека добывали хлеб свой». Отыскали арабы и Золотую Страну царя Соломона - Офир, и в их устах он превратился в Софал (Софалу) на побережье Мозамбика и в Софир на противолежащем берегу Индии. «В стране Софала повсюду есть золото, с которым по качеству, обилию и величине самородков не может сравниться никакое другое золото»,- сообщает географ XII века ал-Идриси. Гесиодовы Острова Блаженных арабы переместили из Атлантики в Индийский океан, поближе к Офиру, и явственный отголосок санскритского имени этого Рая - Двипа Сукхатара («Счастливый остров») звучит сегодня в названии Сокотры. В начале II века их крошечные каботажные одномачтовики - беспалубные адулии родом из бахрейнского селения Адули - привычно швартовались у причалов римско-греко-египетского порта Клисма (теперь Колсум) и в гавани Соломона и Хирама Эцион-Гебере (Акабе), а в конце того же столетия арабская торговая миссия обосновалась в китайском городе Гуанчжоу - средоточии торговли и мореплавания восточных районов мира. И в этом арабы тоже напоминают финикиян: добыча жемчужных раковин и торговля двигали всеми их устремлениями вплоть до эпохи принятия ислама. У них не было военных кораблей, и даже составители Корана пользовались всеобъемлющим словом фулк, обозначающим судно вообще. В дальнейшем это название перешло на купеческие суда Европы - хольки, или хулки. Предметы роскоши, захлестнувшие арабские города, доставлялись из самых отдаленных уголков обитаемой земли - как когда-то, не столь уж давно, для самых избалованных римских императоров. За четыре года до смерти пророк Мухаммед отрядил по хорошо уже накатанному пути в Гуанчжоу своего дядю Ваххаба ибн Аби Кабшаха, и тот заложил там первую в Китае мечеть, чей минарет служил маяком. Чай и кофе, бумага и фарфор, рулоны бумаги и бочонки с крепчайшей «водой счастья» - все умещалось в ненасытных трюмах арабских кораблей. Упомянутая вода - это прежде мутный, а позднее прозрачный и еще более хмельной напиток из риса, в котором искали забвения от бед земных подданные Сына Неба. Арабские химики (само слово «химия», как и «алгебра»,- арабское) очистили его и укрепили - так была изобретена водка, не упоминаемая, естественно, Кораном, а потому разрешенная к употреблению, в отличие от запретного для мусульман вина. Индийский и Тихий океаны, Красное, Черное, Средиземное моря и особенно Персидский залив («море Фарса») буквально кишели арабскими завами (дау) - быстроходными парусниками водоизмещением до трехсот тонн, чья биография уже в эпоху императорского Рима насчитывала не одно столетие. В литературе довольно часто можно встретить другие, неправильные транскрипции этого слова - дхау или доу. Однако английское слово dhow заимствовано либо из индийского daba, либо из языка суахили, где его написание (dau) и произношение не вызывают сомнений. Дау - не тип судна, а скорее его класс: парусник, приспособленный для перевозки товаров и людей, то есть имеющий достаточно вместительные и специально оборудованные трюмы и каюты. Можно насчитать свыше двух десятков типов дау в огромном регионе от Восточной Африки до Индостана, включая Аравийское и Красное моря, Персидский залив, акватории у Южной Аравии, Андаманских, Лаккадивских и Мальдивских островов. В каждом районе и у каждого побережья преобладал свой тип: бател (бателла), па-дар, паттамар у индийцев: багла (бангла), зарук, самбук у арабов и вообще в Красном море; бедан, остроносый джалбаут с просторным трюмом и шеве характерны для Персидского залива; джахази и одам - для Восточной Африки и Лаккадивских островов; котья и тони - для Индии, Цейлона и Мальдивских островов. Подробные сведения о дау можно найти в книге новозеландского морского историка Клиффа Хоукинса «Дау», вышедшей в 1980 году. Это были килевые суда с наборным корпусом из тикового дерева, доставлявшегося с Малабарского берега Индии, или из акации (особенно после присоединения Египта к халифату). Их штевни крепились к килю, а обшивка имела достаточный запас прочности благодаря шпангоутам (если они имелись) и уплотнительно-му тросу между досками. Доски обшивки, особенно корма, обильно украшались резьбой или ярко раскрашивались, причем каждый вид дау украшался по-своему в каждом регионе. Как и у греков, корма арабского судна была самой настоящей «визитной карточкой», сразу указывающей, из каких краев его нахуда - капитан. Вместо гвоздей применялись деревянные шипы из бамбука или тросовые крепления из волокон кокосовой пальмы, ибо арабы были уверены в том, что дно Индийского океана представляет собой супермагнит, вытягивающий из кораблей все металлические части (вероятно, этим мнением они обязаны еще не состоявшемуся знакомству с компасом, известным им пока что только по слухам). Во времена Крестовых походов сходная легенда появилась в Европе, возможно, после начала контактов с арабами, и тоже до знакомства европейцев с компасом. Эпическая германская поэма «Кудруна», созданная в XIII веке, рассказывает, что в Море Мрака находится магнитная гора Гиверс, притягивающая корабли (европейские корабли кроме металлических заклепок и якорей имели на борту еще и много оружия, а их экипажи нередко были одеты в доспехи). Эта гора обитаема, в ней скрыто волшебное королевство, ее замки выстроены из серебряных слитков и золотых «кирпичей», песок у ее подножия также из серебра. Если дождаться у этой горы противоположного ветра, корабль благополучно продолжит свой путь, а его экипаж до конца жизни ни в чем не будет нуждаться. Гору Гиверс иногда отождествляют с Этной исходя из ее поэтического названия Gyber, но едва ли эту легенду можно привязать вообще к Средиземному морю: не говоря уже о том, что сама Этна обитаема, о чем все прекрасно были осведомлены, трудно объяснить ее нахождение в Море Мрака. В Средние века Морем Мрака называли Атлантический океан, это установлено совершенно точно. Где-то там и следует искать гору Гиверс. Ее название скорее вызывает ассоциации с Ирландией - Гибернией, где, кстати, разворачиваются многие эпизоды «Кудруны». Да и герои поэмы наткнулись на гору Гиверс по пути между устьем Шельды и Нормандией, то есть в Ла-Манше. В XVI веке местоположение этой горы отодвинулось к Северному полюсу. Легенда на карте Пири Рейса 1508 года гласит, что «у Северного полюса возвышается высокая скала из магнитного камня окружностью в 33 немецкие мили. Ее омывает текучее янтарное море, из которого вода там, как из сосуда, изливается вниз через отверстия. Вокруг расположено четыре острова, из коих два обитаемы. Пустынные обширные нагорья высятся вокруг этих островов на протяжении 24 дней пути, и на них совсем нет человеческих жилищ». Несомненно одно: для арабов и китайцев магнитная гора существовала где-то на юге, куда и указывали стрелки их компасов; после появления компаса в Европе эта легендарная гора закономерно перекочевала с Сицилии в район северного магнитного полюса, и стрелки европейских компасов стали указывать на север. Самое забавное, однако, в этой истории, растянувшейся на века, то, что ее виновники - арабы - еще в IX веке, после знакомства с европейскими кораблями, стали применять на верфях Басры металлические гвозди при постройке своих судов.

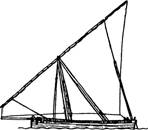 Дханги
Джахази
Дханги
Джахази
 Бум
Появившись задолго до нашей эры, дау почти сразу же потеснили более древние традиционные типы вроде адулии, хотя в некоторых чертах еще оставались с ними связанными. Конструктивные поиски арабских корабелов развивались в двух основных направлениях, в конечном счете и сформировавших силуэт дау: уменьшении длины киля (до трети длины всего судна); увеличении длины (она стала равной длине киля) и угла наклона балкоподобного форштевня и, немного меньше, ахтерштевня. Все это сводило к минимуму вероятность сноса судна при боковом ветре или течении, повышало его устойчивость на курсе и заметно уменьшало бортовую качку. Отношение длины корпуса дау по ватерлинии к его ширине по мидель-шпангоуту составило в среднем 4:1 с незначительными отклонениями в ту или другую сторону.
Более или менее внятных сведений о первых дау не сохранилось. Лишь следуя традиционным воззрениям арабских и индийских корабелов, еще и сегодня строящих на верфях всего индоокеанекого побережья от Мозамбика до Индии, включая побережья всех его морей и заливов (особенно в Дар-эс-Саламе, Занзибаре и Момбасе), некоторые типы дау, к самым ранним можно отнести с известными оговорками манхе, махайлу, машву (или мухву, машув) и мтепе. Вероятно, это простое совпадение, что все эти названия начинаются с одной и той же буквы, но зато благодаря этому их легко запомнить. Иногда к древнейшим типам относят также арабско-индийскую тони.
Машва (ал-машфийят) больше всех других напоминает адулию: это маленькая полупалубная гребная (две-три пары весел) или парусная лодка, нередко - долбленка, от пяти до девяти метров длиной. Для нее уже характерны острые обводы корпуса и широкий треугольный парус, зачастую сшитый из пальмовых листьев, со срезанным нижним углом, что превращает его, по существу, в сильно деформированную трапецию. Подобно тому как на римских акатиях специально для них использовавшийся парус получил название своего судна, так и этот арабский рейковый парус стали называть дау. Им оснащались все без исключения типы, кроме одного. Машвы более крупные - двухмачтовые, до восемнадцати метров длиной и до тридцати пяти тонн водоизмещением, бравшие на борт до полутора сотен человек,- несли точно такой же парус столетия спустя, выходя в каботажное плавание или на морской промысел в районе Бомбея (к северу от него, в заливе Кич, и к югу, в Мангалуру, были самые знаменитые верфи дау). Впрочем, к тому времени маш-вами стали называть все типы лодок, похожих на свой прообраз. Например - пятнадцатиметровую одномачтовую восьмидесятивесельную шайти (у итальянцев- саетту, или саеттию,- «стрелу»), тоже с двойным движителем, одинаково охотно использовавшуюся и алжирскими пиратами, и арабскими адмиралами.
Другой наиболее ранний тип дау - беспалубная остроконечная мтепе, чья диагональная обшивка подбиралась по древнеегипетскому способу, без шпангоутов. Лишь в более поздние времена (а мтепе и сегодня можно изредка повстречать у восточного побережья Африки) доски обшивки стали скреплять не только между собой, но и привязывать к шпангоутам. Эти мтепе имели длину до двадцати метров и грузоподъемность до тридцати тонн, а экипаж их насчитывал до двух десятков человек. На всем протяжении их истории мтепе можно было узнать издалека и с первого же взгляда благодаря одной детали, вызвавшей даже споры, следует ли причислять ее к дау: это как раз тот единственный тип судна, чья единственная прямая мачта несла на своем единственном рее парус в форме вертикально вытянутого прямоугольника, сплетенный из кокосовых волокон. Этот парус-мат, совершенно не характерный для дау, очень похож на парус судна середины 3-го тысячелетия до н. э., изображенного на рельефе гробницы египетского номарха Ти. Мтепе, как полагают, появились в VI веке, а пик их популярности пришелся на последующие четыре столетия.
Бум
Появившись задолго до нашей эры, дау почти сразу же потеснили более древние традиционные типы вроде адулии, хотя в некоторых чертах еще оставались с ними связанными. Конструктивные поиски арабских корабелов развивались в двух основных направлениях, в конечном счете и сформировавших силуэт дау: уменьшении длины киля (до трети длины всего судна); увеличении длины (она стала равной длине киля) и угла наклона балкоподобного форштевня и, немного меньше, ахтерштевня. Все это сводило к минимуму вероятность сноса судна при боковом ветре или течении, повышало его устойчивость на курсе и заметно уменьшало бортовую качку. Отношение длины корпуса дау по ватерлинии к его ширине по мидель-шпангоуту составило в среднем 4:1 с незначительными отклонениями в ту или другую сторону.
Более или менее внятных сведений о первых дау не сохранилось. Лишь следуя традиционным воззрениям арабских и индийских корабелов, еще и сегодня строящих на верфях всего индоокеанекого побережья от Мозамбика до Индии, включая побережья всех его морей и заливов (особенно в Дар-эс-Саламе, Занзибаре и Момбасе), некоторые типы дау, к самым ранним можно отнести с известными оговорками манхе, махайлу, машву (или мухву, машув) и мтепе. Вероятно, это простое совпадение, что все эти названия начинаются с одной и той же буквы, но зато благодаря этому их легко запомнить. Иногда к древнейшим типам относят также арабско-индийскую тони.
Машва (ал-машфийят) больше всех других напоминает адулию: это маленькая полупалубная гребная (две-три пары весел) или парусная лодка, нередко - долбленка, от пяти до девяти метров длиной. Для нее уже характерны острые обводы корпуса и широкий треугольный парус, зачастую сшитый из пальмовых листьев, со срезанным нижним углом, что превращает его, по существу, в сильно деформированную трапецию. Подобно тому как на римских акатиях специально для них использовавшийся парус получил название своего судна, так и этот арабский рейковый парус стали называть дау. Им оснащались все без исключения типы, кроме одного. Машвы более крупные - двухмачтовые, до восемнадцати метров длиной и до тридцати пяти тонн водоизмещением, бравшие на борт до полутора сотен человек,- несли точно такой же парус столетия спустя, выходя в каботажное плавание или на морской промысел в районе Бомбея (к северу от него, в заливе Кич, и к югу, в Мангалуру, были самые знаменитые верфи дау). Впрочем, к тому времени маш-вами стали называть все типы лодок, похожих на свой прообраз. Например - пятнадцатиметровую одномачтовую восьмидесятивесельную шайти (у итальянцев- саетту, или саеттию,- «стрелу»), тоже с двойным движителем, одинаково охотно использовавшуюся и алжирскими пиратами, и арабскими адмиралами.
Другой наиболее ранний тип дау - беспалубная остроконечная мтепе, чья диагональная обшивка подбиралась по древнеегипетскому способу, без шпангоутов. Лишь в более поздние времена (а мтепе и сегодня можно изредка повстречать у восточного побережья Африки) доски обшивки стали скреплять не только между собой, но и привязывать к шпангоутам. Эти мтепе имели длину до двадцати метров и грузоподъемность до тридцати тонн, а экипаж их насчитывал до двух десятков человек. На всем протяжении их истории мтепе можно было узнать издалека и с первого же взгляда благодаря одной детали, вызвавшей даже споры, следует ли причислять ее к дау: это как раз тот единственный тип судна, чья единственная прямая мачта несла на своем единственном рее парус в форме вертикально вытянутого прямоугольника, сплетенный из кокосовых волокон. Этот парус-мат, совершенно не характерный для дау, очень похож на парус судна середины 3-го тысячелетия до н. э., изображенного на рельефе гробницы египетского номарха Ти. Мтепе, как полагают, появились в VI веке, а пик их популярности пришелся на последующие четыре столетия.
 Крепление рулевого весла при помощи пили по правому борту.
Крепление рулевого весла при помощи пили по правому борту.
Управлял ими кормчий, стоявший на корме с веслом в руке. Лишь начиная с XV века рулевое весло стали прикреплять гибким тросом к корпусу судна, а кормчий, жестко закрепив его, мог иногда передохнуть в бамбуковой или дощатой хижине-каюте, установленной позади мачты. Кормовую каюту имела и махайла - маленький одномачтовый парусник с носовой полупалубой, еще и в наши дни совершающий каботажные рейсы вдоль берегов Красного моря и Восточной Африки. Кажется, это первое арабское судно, чья мачта с одним реем, красующаяся в носовой части, приобрела наклон вперед, как античный долон. Это стало одним из характерных признаков почти всех дау. Махайлу, впрочем, иногда путают с очень похожим на нее нурихом - настолько похожим, что различия едва уловимы. Не отсюда ли и само название махайлы - «обманщица» в вольном переводе (родственно нашему «мухлевать»)? Или это было судно пиратов и контрабандистов? Может быть, нурих вправе разделить с махайлой приоритет введения новшества в части установки мачты. Следующим шагом, по-видимому, стали быстроходные манхе, появившиеся в Индийском океане и его морях. Они имели шпангоутный каркас, но оставались беспалубными. Короткий киль, сильно развитый крутой форштевень, острая корма делали их хорошо приспособленными к открытому морю. Манхе относятся к так называемым полуторамачтовым судам: кроме грот-мачты они имели еще одну, примерно на треть ниже по высоте. Собственно, вторая мачта мыслилась как «противовес» к первой и поэтому получила имя мизан («весы»), сохранившееся в английском, а в России превратившееся через голландское bezaan в «бизань». Обе эти мачты-однодеревки были сильно наклонены вперед (до двадцати трех градусов) и несли на косом рее паруса дау соответствующих размеров, пропорциональных высоте мачт. К концу XVIII века на грот-мачте манхе добавился стаксель, а форштевень украсился бушпритом.

По сравнению с этими четырьмя типами мало нового можно усмотреть в полуторамачтовых тони (дони), родившихся в Индии, но моментально воспринятых арабами. Разве что - более высоко приподнятая балка ахтерштевня, придающая плавность линии кормы и способная служить рудерпостом для навешивания руля, да еще - пронизывающие насквозь бортовую обшивку брусья бимсов, явно введенные только для прочности судового набора, ибо сплошная палуба появилась на тони значительно позднее. В XVIII веке грот-мачта тони обзавелась стакселем и превратилась в фок-мачту, а ее прежняя роль перешла к заметно удлинившейся бизани, а еще позднее некоторые тони сделались трехмачтовыми.
Таковы были наиболее ранние типы дау. Может быть, к ним надо причислить еще западно-арабский одномачтовый парусник кхалиссу, чей район плавания ограничивался каботажем в водах, омывающих Аравийский полуостров: она имеет несомненное сходство с махайлой и нурихом, отличаясь от них лишь сплошной палубой и плоской кормой. Последняя деталь, вернее всего, пришла из Египта. Но кое в чем кхалисса напоминает и античные суда, например скафу: более крупные имели сплошную палубу и ходили самостоятельно, кхалиссы же помельче представляли собой разъездные лодки для сообщения с берегом или между кораблями и волочились на привязи за кормой больших дау. Группой таких больших дау, родственных конструктивно, были двухмачтовые бателла и самбук, одномачтовый зарук и двух-трехмачтовый паттамар. Старейшиной в этой компании, безусловно, следует признать беспалубный зарук (заврак) с затейливо рас писанной обшивкой, особенно привычный для купцов и рыбаков всех побережий Аравийского полуострова. Мачта его, наклоненная вперед на десять-пятнадцать градусов, удерживалась с бортов двумя-тремя парами вант, а спереди и сзади – мощными штагами.
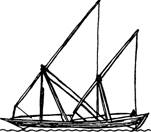


Расположенная в центре судна, она несла на своем косом рее, составленном из двух деревьев, парус дау. В конструкции зарука просматриваются некоторые древнеегипетские черты, и составной рей - хорошее подтверждение тому. Да и румпельное управление посредством двух бортовых «штуртросов» заставляет вспомнить страну фараонов. Довольно близка к заруку арабско-индийская бателла (бател). Возможно, она появилась как результат развития этого типа дау. Главная ее особенность - наличие сплошной палубы Две эти бателлы очень похожи, но различия все же есть палуба-площадка - ахтердек. На ахтердеке часто размещалась музыкальная команда, старавшаяся скрасить громом своих барабанов и пронзительным визгом раковин однообразие морской службы. Эта какофония служила также сигналом прибытия в порт или выхода в море - как у римлян. Арабская бателла разнилась от индийской тем, что ее мачты имели разный наклон вперед: грот - до двадцати градусов, бизань - до шести. У индийской же бателлы обе мачты были параллельны, и угол их наклона не превышал шести градусов. И та и другая несли паруса дау, причем у индийской бателлы рей грот-мачты был постоянно развернут к правому борту, а бизань- мачты - к левому, что позволяло ей при смене галсов делать поворот оверштаг или фордевинд по выбору (позднее так стали оснащать и другие дау, например тони).
 Паттамар.
Паттамар.
 Самбук.
Самбук.
Нечто среднее между заруком и бателлой представлял собой бирманско-индийский очень вместительный паттамар, часто использовавшийся как лесовоз. Малые паттамары были беспалубными или полупалубными, большие (грузоподъемностью в двести-триста тонн) имели полную палубу и высокий ахтердек, обе мачты были наклонены вперед не менее чем на двадцать градусов, а реи составлялись из нескольких деревьев, причем их длина была пропорциональна длине самих мачт, то есть бизань-рей был короче грота-рея ровно на треть. Особенностью паттамара было то, что его палуба состояла из отдельных хорошо пригнанных друг к другу щитов, свободно покоящихся на массивных бимсах, и была съемной. Можно только удивляться тому, что эти высокомореходные грузовики использовались лишь в малом плавании вдоль Малабарского берега! Каждый тип дау имел свои достоинства и свои недостатки. Но самым популярным типом, при всех его изъянах (где их нет!), был самбук (самбука, санбук), чей силуэт явственно напоминает сильно увеличенную кхалиссу. Эта популярность помогла самбуку не заметить течения времени, его можно повидать и в наши дни у всех побережий Индийского океана. При длине свыше двадцати метров и ширине около пяти водоизмещение самбука достигает восьмидесяти тонн, а грузоподъемность - пятидесяти (есть и маленькие самбуки, берущие на борт пятнадцать-двадцать тонн груза, и средние - от двадцати до тридцати). Острые обводы и низко сидящий корпус делают самбук одним из самых быстроходных судов этого класса, способным развивать скорость до одиннадцати узлов. Его кормовой набор, острый в подводной части, постепенно расширяется и кверху от ватерлинии становится плоским, почти транцевым, предоставляя огромное поле деятельности художникам, специализирующимся по раскраске судов. Общая палуба изящно прогибается начиная от носа и переходит незаметно в настил кормовой каюты. Грот-мачта, установленная в районе мидель-шпангоута, и бизань имеют одинаковый, примерно десятиградусный наклон вперед и несут на своих сильно скошенных составных реях паруса дау. Позднее такие паруса или похожие на них назовут латинскими. Паруса дау управлялись фалами и шкотами, сплетенными из волокон кокосовых орехов и вымоченными в воде. Корпус конопатился кокосовым волокном, пропитанным шахаму - смесью извести и китового жира или древесной смолы, а сверху часто покрывался слоем акульего жира. Дерево пропитывали растительным маслом, предохранявшим от гниения и коварного древоточца теридо. Скорость этих суденышек достигала в среднем четырех узлов, а обычным сроком их службы было одно-два столетия, в зависимости от типа и способа постройки. Дау везли в своих обширных трюмах перец, имбирь, кардамон, шелк, драгоценные камни и жемчуг - из Индии, золото и слоновую кость - из Африки и Мадагаскара, гвоздику и мускатный орех - из Индонезии, жемчуг - с Бахрейнских островов, рубины, топазы, голубые сапфиры, корицу и белых слонов - с Цейлона, золото и алмазы - с Зондского архипелага, камфору - с Борнео, пряности - с Молуккских островов. Все это вместе можно было увидеть в гаванях Басры или Сирафа. Начиная с IX века они регулярно плавали на Яву, уверенно открывая навигацию в ноябре и закрывая ее в апреле, когда приходит пора юго-западных муссонов. Арабские моряки не знали понятия долготы, зато широту определяли довольно точно путем измерения угла положения Полярной звезды с помощью особого, известного только им прибора. Птицы указывали им путь к берегу, пока в Китае они не заимствовали изобретенный, вероятно, в III веке «чи-нан» - указатель юга (так китайцы называли компас). Арабы значительно усовершенствовали его, и это дало новый толчок развитию арабского мореходства. По крайней мере с X века арабские капитаны, как полагают, пользовались картами, хотя твердых доказательств этому нет. Картографические привязки были ориентированы на «пуп Земли» - Мекку, и поэтому на арабских картах мир как бы перевернут: север у них внизу, а юг вверху (на юг были ориентированы и стрелки арабских компасов). Такими же были ранние карты испанцев и португальцев, заимствовавших этот принцип у мавров. А в VII веке арабы довольствовались образом мира в виде гигантской птицы с головой в Китае, хвостом в Алжире, сердцем в Аравии, Месопотамии и Египте, правым крылом в Индии и левым в Средней Азии. Звезды пятнадцати созвездий увлекали арабские корабли к каждому перу этой птицы, ко всем сторонам горизонта, и везде, куда они их приводили, арабы основывали свои фактории, а иногда и города. В наиболее часто посещаемых иноземных портах права мусульманских купцов отстаивал арабский кади, выступавший также и их судьей в различных спорах. В конце VIII века китаец Ду Хуань публикует пространные «Заметки о посещенных странах», вполне способные служить лоцией на трассе Гуанчжоу - Басра.

 Зеркально-симметричное изображение созвездия Ворона в книге ал-Суфи (903-986).
Зеркально-симметричное изображение созвездия Ворона в книге ал-Суфи (903-986).
Хорошо известный Синдбад из сказок «Тысячи и одной ночи» являет собой собирательный образ арабских купцов VIII века, а семь его путешествий приоткрывают завесу над маршрутами того времени. Несомненно, Синдбад бывал в Индии, на Яве, Цейлоне и Суматре, заплывал в Южно-Китайское море. Возможно, ходил он и в Африку. Цейлон (Остров Обезьян) он посетил дважды, угодил в плен к пиратам и был ими продан торговцу слоновой костью. В Острове Людоедов нетрудно узнать Суматру, эта слава сохранялась за ней еще долгие века, как и название Страна Золота (наряду с Малаккой): говорили, что правитель Суматры ежедневно бросал в дворцовый бассейн слиток этого металла. Михраджан, к которому попал Синдбад,- это искаженное индийское «махараджа», но отсюда преждевременно делать вывод, что речь идет здесь об Индии. Возможно, что Синдбад добрался гораздо дальше - до Индонезии: Островами Махараджи называли в те времена Яву и Малайский архипелаг. Оттуда он мог привезти и кокосовые плоды. Кокосовое масло и копра доставлялись с Кокосовых островов, камфора - с юга Китая и Японии или с Тайваня; перец - из муссонных областей юго-восточной Азии и Индии, корица - с Цейлона, Молуккского архипелага, из Китая, Лаоса, Вьетнама и Индонезии, алоэ - из Африки и Мадагаскара, хотя оно есть и на юге Аравийского полуострова. В сказке о Синдбаде часто употребляется выражение «мы плыли из моря в море, от суши к суше, мимо островов». Однако это вовсе не означает, что его маршруты пролегали по исхоженным вдоль и поперек современным морям южного полушария. Во времена Синдбада, да и значительно позднее, понятие «моря» было несколько иным, близким к понятию античной эпохи. Например, нынешнее Южно-Китайское море делилось арабскими географами на семь морей, самыми опасными из которых считались Кундран и Канхай, славившиеся своими тайфунами. Где-то на юго-востоке находилось еще одно море, известное по упоминаниям некоторых источников. В сказках «Тысячи и одной ночи» его называют Морем Гибели. Корабли там подхватывала и уносила куда-то, откуда они уже не возвращались, гигантская птица Рухх, или Рох («ветер»: так арабы называли внезапные тайфуны). Вот что рассказывает об этом море своему пассажиру-купцу капитан арабского судна: «Мы сбились с дороги в тот день, когда против нас поднялись ветры и ветер успокоился лишь на следующий день утром. И мы простояли два дня и заблудились в море, и с той ночи прошел уже двадцать один день, и нет для нас ветра, который бы снова пригнал нас туда, куда мы направляемся. А завтра к концу дня мы достигнем горы из черного камня, которую называют Магнитная гора (а вода насильно влечет нас к ее подножию), и наш корабль распадется на части, и все гвозди корабля полетят к этой горе и пристанут к ней, так как Аллах великий вложил в магнитный камень тайну, именно ту, что к нему стремится все железное. И в этой горе много железа, а сколько - знает только Аллах великий, и с древних времен об эту гору разбивалось много кораблей...» Все, конечно, вышло так, как он предсказывал. «И мы не заснули в эту ночь,- жалуется купец,- а когда настало утро, мы приблизились к этой горе, и воды влекли нас к ней силой. И когда корабль оказался у подножия горы, он распался, и все железо и гвозди, бывшие в нем, вылетели и устремились к магнитному камню и застряли в нем, и к концу дня мы все кружились вокруг горы, и некоторые из нас утонули, большинство потонуло, а другие спаслись, но что спаслись, не знали друг о друге, так как волны и противный ветер унесли всех в разные стороны».
 Арабский купец. Миниатюра.
Арабский купец. Миниатюра.
Видно, корабль этого капитана попал в район Зондских островов, где наблюдается сильная магнитная аномалия. Прилегающую к ним часть Южно-Китайского моря и сегодня называют Морем Дьявола, уподобляя плавание в нем плаванию в районе Бермудского треугольника. Несомненно одно: арабские моряки прокладывали свои трассы далеко от Басры, где был центральный рынок их товаров, и от Сура, где строились их корабли. И самыми рядовыми, привычными были для них рейсы в Индию. Само имя Синдбад - это искаженное «синдхупати» (властитель моря). Так индийцы, а вслед за ними и арабы, называли судовладельцев. В сказках «Тысячи и одной ночи» Синдбад Мореход действует рука об руку с Синдбадом Сухопутным: арабские корабли трудились рука об руку с сухопутными караванами, выполняя одну и ту же задачу. Великий караванный «шелковый путь» между Ближним и Дальним Востоком арабы продублировали «морским шелковым путем», связавшим Персидский залив с Южным Китаем. Путь из Сохара - крупнейшего их порта (в нынешнем Омане) до Поднебесной империи занимал три года, и примерно два из них приходились на торговые операции в промежуточных портах.
Морской труд высоко почитался в Аравии из-за великих трудностей, поджидавших моряков на их пути. Но это была их работа, их профессия. Тот же, кто не принадлежал к их числу, всегда предпочитал хорошо наезженные сухопутные дороги, хотя и они тоже не гарантировали безопасности путешественникам. В книге, написанной внуком эмира Кабуса для своего сына Гилан-шаха и представляющей собою свод житейской мудрости XI века, ее автор Кей-Кавус дает совет, как должен вести себя благоразумный мусульманин, когда обстоятельства вынудят его пуститься в дальние края: «Если в путешествии по суше заработаешь половину на десять, то не пускайся в море ради одного на десять, ибо в морском путешествии барыш по щиколотку, а убыток по горло, и не нужнр, гоняясь за малым, пускать на ветер большой капитал. Ведь если на суше случится несчастье, так что добро погибнет, то, может быть, жизнь-то останется. А на море угроза и тому и другому - добро можно снова нажить, а жизнь нет. Море сравнивали также и с царем: сразу все достается, но сразу все и теряется». Примерно так мы могли бы предостеречь завсегдатая игорного дома! Избрав основным полем своей деятельности южные моря, арабы, когда подошло время, взглянули и на север. На севере широко расстилалось многоисплытое Море Среди Земель, и жители его побережий уже отлично знали товары Востока, с ностальгической ноткой вспоминая те времена, когда эти товары можно было задешево купить в любой портовой таверне. Их доставляли торговые парусники Леванта, Египта, Архипелага. Слава древних «кораблей Библа» засияла новым притягательным блеском в алчных глазах арабских купцов, называвших эти корабли «джуди» - иудейскими. С кораблями моря соперничали корабли пустыни, столь же медлительные и нарядные: бесконечными вереницами тянулись по суше тяжко нагруженные караваны, спеша за своими сказочными прибылями. Вполне естественно, что и морские трассы, и караванные тропы ревниво оберегались от чужого глаза и тщательнейше охранялись. Чтобы завладеть ими, требовались превосходящие армии и военные флоты. У арабов боевых кораблей не было. Сколько раз эти южные гости отваживались появляться в том осином гнезде, в какое превратили Средиземное море пираты-профессионалы и пираты-любители всех мастей и калибров, сколько их кораблей осталось на его дне - этого не подсчитает никто. И никто не скажет, когда и при каких обстоятельствах вызрела у арабов мысль о том, что нужен военный флот - оберегать торговые парусники, береговые базы и места складирования товаров, а при случае и ухватить то, что плохо лежит и не очень-то надежно охраняется. Они начали строить его во второй половине VII века, когда морское могущество Византии достигло зенита. Теперь флот понадобился арабам еще и для того, чтобы принести правую веру в те места, куда не в состоянии были проникнуть всадники и пехотинцы. Кроме того, как раз в это время появилась необходимость в защите верфей Акки и Сура, Александрии и Равды, одно за другим спускавших со стапелей новые купеческие суда арабов и подлечивавших старые. Служба в военном флоте с самого начала стала чрезвычайно почетной, даже с оттенком некой святости. Ее домогались всеми мыслимыми и немыслимыми средствами, поэтому контингент арабских моряков был, что называется, «один к одному», выбор был здесь неограничен. Дело в том, что кроме всегда своевременно выплачивавшегося (за этим внимательно следил визирь) вполне достойного жалованья, равного жалованью армейских чинов, морякам причитались еще четыре пятых всей добычи - и это было узаконено в Коране! Только оружие и пленники доставлялись ко двору халифа... Когда-то римляне, не имевшие флота, никакими усилиями не могли закрепиться в Сицилии, куда карфагеняне перебрасывали морем свежие войска и припасы. История эта повторилась у осаждаемых арабами портовых городов Леванта, где они планировали строить свои корабли и основать самые богатые свои фактории. В роли карфагенян здесь выступили ромеи, и как много лет назад между римлянами и карфагенянами, так теперь между арабами и византийцами вспыхнула вековая неприязнь, требовавшая вечной войны. Исторические аналогии можно продолжить. Подобно тому как греки тогда построили боевые корабли римлянам, а потом и ромеям, так теперь арабам помогли в этом деле потомки финикийских мореходов, согнанные ими со всей мусульманской вселенной на свои верфи. По-видимому, арабы, превосходные знатоки географии, уже наметили вчерне план своих будущих завоеваний и прикинули соотношение сил.
Стараниями халифа Омара был расчищен и благоустроен давно заброшенный Нильско-Красноморский канал. По нему и вдоль него частью своим ходом, частью в разобранном виде на спинах мулов и верблюдов были доставлены в Средиземное море первые корабли арабов. Александрия - вековая житница Рима - стала после этого более чем на столетие житницей Аравии, а на ее верфях зазвучала гортанная речь вчерашних бедуинов: поручив женщинам заботу о своих верблюдах, они строили флот. Новым великолепием заблистала древняя Акка. Ее гавань имела вход шириной около сорока метров, что открывало доступ в нее даже самым крупным весельным кораблям. Вход этот преграждался массивной цепью - как в Карфагене, Милете, Константинополе. В Александрии арабы подновили изрядно обветшавший маяк, внимательно изучили принцип действия его механизмов и особенную заботу уделили его громадному полированному зеркалу, фокусирующему солнечные лучи так, что, по свидетельству таджикско-пер-сидского поэта XI века Насира Хосрова, «если судно румийцев, шедшее из Стамбула, попадало в круг действия этого зеркала, на него тотчас же падал огонь, и судно сгорало». Самым сильным противником, попавшим в поле их зрения, оказалась, естественно, Византта с ее огнедышащими дромонами. Первым чувством, овладевшим арабами при этом знакомстве, был страх. Он быстро прошел, но вновь появился после ряда катастрофических поражений на море. Даже Нильско-Красноморский канал, уже порядком к тому времени запущенный, был закрыт ими в 775 году ввиду угрозы карательной экспедиции византийского военного флота в южные моря. (Его пытался оживить лет двадцать спустя Гарун ар-Рашид, но отказался от этой затеи и приказал отвести воды канала в озеро Биркет ал-Джубб, больше чем на тысячелетие прервав сообщение между двумя морями.) Поэтому, не тратя драгоценного времени на инженерное теоретизирование, арабы поручили корабелам переоборудовать в спешном порядке торговые суда в военные, взяв за образец именно «дармун» (дромон). Задача оказалась несложной: она свелась, в сущности, к тому, чтобы изменить расположение гребцов, прикрыть их сверху просторной боевой палубой и установить на ней всевозможную технику, включая пневматические и механические устройства для метания жидкого огня. Использовали ли арабы вслед за ромеями римский абордажный мостик корвус («ворон») - неизвестно, но скорее всего да, потому что, во-первых, дромон был во многом скопирован с либурны, где такой мостик был неотъемлемой деталью, а во-вторых, абордажные мостики упоминают, не вдаваясь в детализацию, и византийские, и арабские источники. Возможно, впрочем, что здесь имеются в виду боевые площадки на баке и юте, поддерживавшиеся пиллерсами в виде навеса, но одно другого не исключает. Для кораблей новых типов, особенно торговых, ничем не напоминавших привычные дау, арабы заимствовали греческое слово «нав», очень похожее на их «зав» (дау) и тоже обозначающее просто судно, независимо от его типа. Неизвестно, называли ли арабы своих судовладельцев завхудами или захудами, но это вполне можно допустить по аналогии с новорожденным словечком на (в) худа - калькой греческого «навклер» («худа» - хозяин, владелец). Средиземноморские корабелы творили истинные чудеса. Древнеегипетское гребное грузовое судно бар-ит, которое греки вслед за Геродотом именовали барис и которое в эпоху императорского Рима использовалось чаще всего как погребальная ладья, они превратили в грозную парусную бариджу - особо быстроходный корабль, навевающий ассоциации с пиратскими миопа-ронами киликийцев. Впрочем, с миопарона он и был, пожалуй, в основном «списан», судя хотя бы по несвойственному арабам прямому парусному вооружению. По-видимому, бариджа развивалась параллельно с византийской бардинн, менявшей свое звучание от года к году: барджиа, барджа, барза... Бариджи в числе сорока пяти человек своего экипажа имели хлебопека и плотника, что свидетельствует о дальности их разбойничьих рейдов, наверняка небезопасных, а также метателей жидкого огня (наффатинов) и специальный абордажный отряд. Исходя из названия судна, хотя и заимствованного из Египта, но ставшего значимым у новых хозяев (бариджа - «несущее крепость»), и количества воинов (тридцать-сорок человек), оно имело на палубе башню по образцу византийских кораблей: в ней укрывались бойцы, а на верхней ее площадке стояли метательные орудия и сифоны с жидким огнем. Если бы какому-нибудь купцу первых веков нашей эры сказали, что ему придется когда-нибудь спасаться от барит, он рассмеялся бы шутнику в лицо! И вот - шутка стала явью. Бариджи увереннопотеснили миопароны во всех пиратских флотах. Кораблями среднего класса были, по-видимому, на-кира, саллура и мусаттах («палубный»), но что они собой представляли - неизвестно. Вероятнее всего, предком мусаттаха был какой-нибудь античный корабль: у греческих и римских авторов легко можно найти понятие «палубные суда» (это всегда подчеркивалось) наряду с «пиратскими» - то был не класс, а, скорее, родовое понятие. Да и саллура напоминает своим названием ромеиские селандр и элуру, слово это явно греческое. Византийский пурпуроносный хеландий дал арабам по крайней мере две модификации: нарядную харра-ку («испепеляющую»), чьим основным орудием было множество приспособлений для метания жидкого огня, и многопалубную трехмачтовую шаланди. Шаланди - узкое и длинное судно до шестидесяти метров длиной и до десяти шириной, то есть построенное в соотношении 6:1 и предназначенное в первую очередь для абордажного боя и захвата береговых крепостей: ее экипаж насчитывал до шестисот человек. В формировании облика шаланди, вероятно, не последнюю роль сыграл созвучный хеландию южноморский парусный коландий, то есть здесь мы видим такой же судостроительный гибрид, как в случае с бариджей. Впоследствии, когда арабы уже уверенно владели морем, надобность в харраке отпала, и она вернулась к своему первообразу - стала прогулочным судном царственных особ и непременной участницей помпезных празднеств на воде. Примерно столько же моряков, как шаланди, брал на борт быстроходный и очень маневренный гураб («ворон»), тоже бесспорный наследник античной диеры, вероятнее всего либурны. Он имел сто восемьдесят гребцов - на десяток больше, чем на триере, и почти вдвое больше, чем на дромоне. Относительно его названия можно предложить две версии: либо арабы просто перевели на свой язык римское слово «корвус» и этот корабль предназначался исключительно для абордажа, либо он был изобретен на верфях Хисн-ал-Гураба в Хадрамауте, древнейших в арабском мире наряду с верфями Адена и Маската. Вероятнее второе, так как достоверно известно, что гурабы очень часто использовались для оперативной переброски войск, то есть служили транспортами. И уж во всяком случае они не имели никакого отношения к галльскому карабу - маленькому и не слишком популярному даже в античности гребному плетеному челноку, обтянутому дублеными кожами (хотя карабы изредка попадаются в византийских и арабских документах). Греческий эквивалент ка-раба - рапта, означающая «сшитый из лоскутьев», упоминается автором «Перипла Эритрейского моря», встретившим где-то возле Занзибара «очень много сшитых лодок», и его земляками Диогеном и Диоскором лет десять спустя, как свидетельствует Клавдий Птолемей. Караб заслуживает того, чтобы сказать о нем несколько слов. Название это звучит как ассирийское (karabi) или древнеиндийское (karabhas) - «верблюд» (отсюда «караван»). У греков оно прилагалось к жуку-рогачу, жужелице, крабу - то есть тоже имело отношение исключительно к животному миру. С этими значениями его заимствовали римляне (а от них и итальянцы). Но позднее, после британских походов Цезаря, было добавлено еще одно - вид галльского судна. Правда, оно у них так и не прижилось: караб в первом значении упоминает только Плиний Старший в своей «Естественной истории», во втором - севильский архиепископ рубежа VI и VII веков Исидор в «Этимологиях». Сам Цезарь увиденные им суда не называет никак, он только дает их местные названия и описание: это плетеные из прутьев челноки, обтянутые дублеными настоем дубовой коры бычьими шкурами. Так в римский лексикон пришли carabus и coracles, обозначающие одно и то же - те самые челноки британцев и ирландцев. Второе из них не прижилось: возможно, это всего лишь вариант первого, имевшего поистине счастливую судьбу. Подлинное их название - карра, или курра. Галльское currach, кельтское curragh означает «болото». В древности под болотом понимали также любое мелководье, в том числе и реку: Азовское море, например, во всех античных источниках значится как Меотийское болото. Итак - челнок для мелководья. (Тут можно вспомнить также широкие и тоже плетеные, а иногда и обшитые кожей, «мокроступы» для хождения по болоту или глубокому рыхлому снегу - предшественники лыж, хорошо известные у многих народов с незапамятных времен.) Это в полной мере соответствует тому, что нам известно о каррах - челнах для рыбной ловли у побережий и на реках. Имя караб они получили не только обычным путем - по созвучию. Изображение караба на римской мраморной гробнице в районе мыса Болт-Тейл близ устья реки Эйвон и особенно на полях рукописи Витрувия, где упоминается это судно, показывают легкий челнок с плавно изогнутыми бортами и гладкой обшивкой из кож с промазанными смолой или жиром швами. Самой удивительной была кормовая часть: весь корпус примерно до его середины был плотно обмотан вкруговую канатом, уложенным, как нитка на катушке. Это предохраняло рыбака от непогоды. А управлял он, когда судно скользило по течению, посредством двух тросов, продетых сквозь обшивку и закрепленных на навесном руле. Эта-то внешность, нигде больше не встречавшаяся, и напомнила италийцам о коконе с двумя усами, как у жука. Слово curragh каждый народ озвучивал по правилам своей грамматики: бритты - карра, латиняне - курра, добавляя традиционное окончание «ус». По-видимому, галлы называли так любое транспортное средство, как велось у многих народов, например у их соседей германцев (Fahrzeug - и повозка, и корабль, и вообще все, пригодное для перевозки), и конструкция их была одинаковой. Это переняли и римляне. Уже во время галльских войн Цезаря Цицерон первый воспользовался словом currus, имея в виду легкую двухколесную коляску. Историки Тит Ливии и Тацит, поэты Вергилий и Овидий называли так прежде всего боевые и триумфальные колесницы, Катулл ввел это слово в оборот со смыслом «летящий по ветру корабль», подчеркнув быстроходность карры. В современном английском языке саг - повозка, колесница, во французском chariot - повозка, а из итальянского caretta через немецкое Karreta эта слово вошло и в русский лексикон. Что же касается открытого коракла, представлявшего собой широкую плетеную корзину, обтянутую кожами, то его имя, если только оно не вариант карры, могло родиться из греко-римского согах - «ворон» и «цвет воронова крыла». В итальянском и сегодня со-racia - сизоворонка. Возможно, шкуры, обтягивавшие кораклы, были темнее, чем на Карабах. Это тем более правдоподобно, что кораксами называлось также одно племя в Колхиде (по цвету своих плащей), а по Черному морю разгуливали плетеные камары («черные», «темные»). К карре и карабу, просуществовавшим в Ирландии вплоть до нашего века, мы вернемся, а пока - еще немного о гурабе. Гураб относился к классу галер, включавшему в себя также шини и джафн. Пожалуй, ни один класс судов не породил столько противоречивых мнений, нередко на грани фантазий, как этот. Забавно читать, как иные «знатоки» переписывают друг у друга «параметры галеры» - «точную» (до сантиметра!) длину, ширину и осадку, водоизмещение и вооружение и много чего еще. А между тем никогда и ни в одной стране не существовало такого типа судна, как галера. С самого начала это было собирательное, родовое понятие, включавшее в себя ряд общих признаков,- точно так же, как не существует просто судна дау. Даже слово «класс» приложимо к галере с существенными оговорками, так как галерами могли быть суда разных классов. Применительно к античности, например, галерой принято называть любое деревянное гребное или парусно-гребное судно, не подходящее под понятие челнока. Галера могла иметь один ряд весел (как пентеконтера), два (либурна), три (триера), различаясь, естественно, всеми своими признаками. Так повелось, и ничего тут не поделаешь. Эта традиция породила, скажем, такое устойчивое словосочетание, принятое всеми историками мира, как «галера Махдия»: так окрестили судно, затонувшее у этого африканского мыса во время правления Суллы. Из древнегреческого языка мы знаем слово «га-лее», о чем говорилось выше, и нельзя ручаться, что в византийскую эпоху древняя галера не получила второе рождение в значении «гребная галея», но это все-таки маловероятно, ибо галея и без того была гребным судном; а что касается похожих по звучанию греческих «галерос» (наречие, означающее «спокойно») и «галэс» («нечто, собранное вместе»), то они ничего общего с морем не имеют. В латинском «галерус» - меховая шапка, парик и бутон розы.
Слово же «галера» применительно к судну появилось лишь во времена Крестовых походов или чуть раньше - но не от караба и не от арабского гураба, вошедшего сперва в европейские словари как голаб и голафр. (Близость к этой ранней форме сохранила испанская «голета» - шхуна, а «галера» и «галерон» стали обозначать тюрьму.) Галера - слово чисто греческое, хотя в античности неизвестное. Его пустил в оборот, скорее всего, какой-нибудь византийский поэт, соединив gals, galos («соль» - так Гомер метонимически именовал море) и eretmon (весло) либо eres (ряд весел). Эта лингвистическая «конструкция» быстро прижилась благодаря хорошо известным со времен античности «эрам»- прежде всего диерам и триерам, входившим в состав византийских флотов. Поэтому нельзя исключить и того, что шини и джафн - это всего лишь другие названия дармуна, скопированного с дромона, или его эпитеты: на эту мысль наводит одинаковое количество гребцов - ровно сотня. Если это так, то сходными были и параметры этих типов галер, и количество воинов - полторы сотни, как на дромоне. Связь между большими кораблями, обеспечивавшую переброску войск туда, где они в данный момент всего нужней, поддерживали сорокавесельные самарии и шес-тидесятивесельные акири, или абкары, имевшие еще и мачту с парусом. Эти суда принадлежали к разряду транспортных, существенно отличавшемуся от аналогичного класса у византийцев. Почетное место в нем занимала парусно-гребная тарида, или фарида (начальная буква этого слова «тэта» известна также как «фита» и передавала звук, средний между этими двумя). Это была новейшая модификация греческой гиппагоги. Название она получила по своей главной функции; в его основе лежит семитское far - конь, лошадь: fame у хеттов, faris у арабов, а позднее и в греческом появились понятия fares, farion - арабский скакун, откуда и древнерусское слово фарь - конь для верховой езды (в отличие от комоня - гужевой лошади). На разных побережьях Средиземного моря название этого судна звучало как тарета, тарта, тереда и в конце концов выкристаллизовалась в итальянскую тартану, занимавшуюся, кроме всего прочего, грузовыми и пассажирскими перевозками. Судить о ранней тариде мы не можем, поскольку таких сведений нет, а переносить на нее более поздние характеристики рискованно, потому что арабы никогда не были такими консерваторами, как египтяне или даже греки, и постоянно совершенствовали свои суда, порою переделывая, улучшая, изменяя их до неузнаваемости. При этом они полагались на мудрость древнего изречения: «Лучшее - враг хорошего». Даже допустить, что первые тариды скопированы с византийских гиппагог, - и то некорректно. Еще одним типом транспортного судна у арабов были двадцативесельные транспортные ушари для разгрузки или погрузки стоящих на рейде кораблей, не способных подойти к берегу из-за своей осадки. (Так поступали когда-то и римляне в устье Тибра.) Здесь есть одна деталь, заслуживающая внимания. По свидетельствам арабских источников, большие лодки, осуществлявшие грузовые операции на Ниле, тоже назывались ушари. Возможно, это слово хранит отголосок имени одного из верховных божеств египтян, покровителя мореходов Усира (греческого Осириса). С древнейших, еще доисламских времен, в арабском лексиконе существовало слово «ушр», обозначавшее десятую часть стоимости всего товара, уплачивавшуюся портовым таможенникам. В ней нетрудно разглядеть десятину, жертвовавшуюся всеми мореходами древности, без различия национальности, богам. В данном случае, по-видимому,- Усиру. И тогда нильские ушари могут иметь какое-то отношение к «солнечным ладьям» фараонов, деградировавшим точно так же, как погребальные ладьи - тоже некогда священные, но потом превратившиеся в бариджи. Оба эти типа были чисто гребными - особенность, арабам непривычная. Тип движителя диктовался здесь главной функцией, требовавшей полной независимости от капризов ветров и течений. Чаще всего к услугам ушари прибегали тяжелые трехпалубные куркуры, в коих совсем нетрудно признать античный керкур. Они сплошь и рядом использовались как грузовые суда в составе военных эскадр. К разряду транспортно-грузовых относилась и хам-маля - плавучая мастерская для ремонта кораблей, снабженная всем необходимым. На ней были оборудованы каюты для разного рода специалистов по судоремонту и кладовки для хранения оружия и воинской амуниции. Хаммаля была, так сказать, «скорой помощью» военному флоту.

На мелководье и на реках грузовые операции осуществляли балямы - плоскодонные парусники, снабженные веслами. Величина их трюмов была поистине устрашающей. Посыльную, дозорную и разведывательную службу несли уже упоминавшиеся шайти, самбуки и легкие, чрезвычайно маневренные заруки (завраки), скверно, однако, переносившие даже слабое волнение на море. После завоевания арабами Пиренейского полуострова компанию им составил кариб, почти незаметный на воде. Снабдили ли арабы этот бывший караб еще и парусом - вопрос спорный, хотя такая операция и не требует радикального изменения конструкции корпуса или днища: в этой корзине, обтянутой верблюжьими кожами, ее изобретатели на одной из днищевых балок - киле или параллельных ему кильсонах - устраивали вполне надежный степс - башмак, где крепится мачта.

Кроме шайти, самбука и зарука к военным нуждам были приспособлены и некоторые другие типы дау. Среди них особенно выделяются полуторамачтовая багалла и двух-трехмачтовая гханья. Багалла (багла) была в южных морях кораблем-универсалом. На ней выходили к месту промысла рыбаки, на ней транспортировали рыбу и прочие товары до места продажи (подобно тому, как верблюд стал для людей Востока «крестником» караба, так и здесь основная функция дала название судну: «багл» - мул), на ней перевозили пассажиров и отправлялись в военные походы или пиратские рейды. В зависимости от назначения багалла могла иметь водоизмещение от ста до четырехсот тонн, неизменными оставались лишь крепкий корпус, связанный круглыми шпангоутами, крутой форштевень, достигавший трети длины всего судна, высокая транцевая корма и, разумеется, парусное вооружение, характерное для дау. Гханья же с самого начала конструировалась западными арабами как скоростное пиратское и военное судно, сравнимое с дромоном. Может быть, как раз поэтому в Средиземном море она стала прототипом первых арабских фрахтовых парусников, умевших постоять за себя. В связи с этим корпус гханьи претерпел различные изменения, но высокая корма оставалась в неприкосновенности. И сохранилась быстроходность. Первоначально гханья - это длинное и стройное судно с тремя мачтами, несущими паруса дау и расположенными каждая по-своему (кажется, единственный случай в истории судостроения): грот-мачта имела традиционный для дау наклон вперед, бонавентур-мачта (второй грот) - назад, а бизань крепилась вертикально. С таким «сарацинским» кораблем, принадлежавшим Саладдину, повстречался в 1191 году Ричард Львиное Сердце в Третьем крестовом походе к берегам Палестины. Длина корпуса гханьи по ватерлинии достигала двадцати с половиной метров, на пять метров превышая длину киля, а общая длина - тридцати. Ширина в среднем составляла пять с половиной метров. Облегченная конструкция и сравнительно низкая высота борта (метра три) обеспечивали маленькую осадку - от двух до двух с половиной метров. Двухмачтовые гханьи того времени неизвестны, их расцвет пришелся на середину XVIII века и все еще продолжается. Возможно, однако, что гханьи времени арабо-византийского противостояния мало отличались от этих поздних модификаций, и обе их мачты имели семиградусный наклон вперед, а площадь парусности достигала трехсот квадратных метров. Описание всех типов и разновидностей арабских судов могло бы вызвать легкое головокружение: их свыше полусотни, ибо достаточно было изменить какую-то одну деталь (например, при постройке на другой верфи, со своими традициями и канонами) - и появлялось судно нового типа. Однако уже и из сказанного понятно, что византийцы получили на море достойного соперника. Как, впрочем, и арабы.
ХРОНИКА ВТОРАЯ,
повествующая о том, как люди Севера отвоевывали себе жизненное пространство.
Пример арабов, объединивших под знаменем единой веры колоссальные территории, был свеж, ярок и заразителен. На завоевание Европы ринулись христиане, чья религия в 394 году была провозглашена Феодосием «единственной и истинной» для всей Римской империи. К исходу X века языческими оставались лишь мелкие княжества между Эльбой и Шпрее на западе, Западной Двиной на востоке, Карпатами на юге и побережьем Балтики на севере. Христианство окрепло настолько, что вскоре могло уже позволить себе крестовые походы против арабов. Две веры, два мира противостояли друг другу на Ближнем Востоке и в Западной Европе. Роль гегемонов в первом приняли на себя арабы, во втором - не Византия, как можно было бы ожидать, а недавно еще никому неведомые норманны. Норманны шли по следам ирландцев. Одним из важнейших моментов в истории раннего христианства было отшельничество, известное с первых веков новой эры. В V- VI веках Зеленый Эрин, как называли Ирландию, стал всеевропейским прибежищем всех гонимых. Сюда спасались от очистительных костров друиды и ученые, заботившиеся о сохранении не только своей бренной плоти, но и нетленных искр знания. Собранные воедино, эти искры заполыхали ослепительным факелом и осветили эту часть мира, так и остававшуюся «темной» со времен античности. Изучив ее визуально, ученые переселенцы засели за авторитеты - труды Гомера и Вергилия, Плиния и Солина, Страбона и Птолемея, Цезаря и Блаженного Августина. «Есть три источника знания,- рассуждал Роджер Бэкон,- авторитет, разум и опыт. Однако авторитет недостаточен, если у него нет разумного основания... И разум один не может отличать софизма от настоящего доказательства, если он не может оправдать свои выводы опытом...» Комментирование древних манускриптов с ошеломляющей очевидностью вскрыло громадные пробелы в мировоззрении авторитетов. Восполнить эти пробелы должен был опыт, эксперимент. Ирландия показала европейским переселенцам все преимущества своего географического положения. Углубленное изучение трудов классиков требовало спокойного уединения. Набеги с континента навели на мысль строить монастыри с крепкими стенами и тихими кельями. Одним из самых почитаемых стал большой монастырь на острове Айона, основанный святым Колумбой (521-597), чье жизнеописание донес до нас благочестивый Адомнан. Однако неверно было бы думать, что жизнь ирландских монахов была сплошной идиллией. Да и не этого они искали за морем. Они сами должны были создать для себя нужные им условия. Христиане Египта или Иудеи находились в этом смысле в выигрышном положении: под боком была пустыня, где очень удобно предаваться размышлениям и умерщвлять плоть, да и климат не требовал особых хлопот об одежде или жилье. Не то было на суровом Севере, особенно на более или менее густо населенных островах. Интенсивное строительство монастырей не спасало положения, но пустыня была под боком - море с его свинцовыми барханами, хрустальными плавучими плато, апокалиптическими чудовищами и арктическими миражами «хил-лингарами». Религиозный фанатизм толкал на подвижничество, и наконец он нашел выход в поисках уединенных и изобильных островов. В идеале это были поиски Земного Рая, о котором говорилось в Библии. Быть может, первыми мореходами Севера следует признать иров - коренных жителей Ирландии. Из древнеирландских мореходных эпических новелл - имрамов - известно, что они путешествовали по морю еще до возникновения их письменности и начала хроник. Устная молва расцвечивала на все лады диковинные рассказы моряков о неведомых землях и островах. Их наносили на карты, на их поиски снаряжали экспедиции, некоторые из этих земель разыскиваются чуть ли не по сей день.
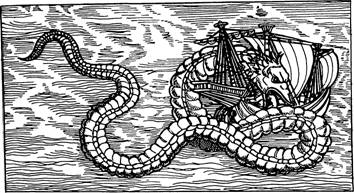 Морской змей. Из «Книги о рыбах» Геснера (1598) - по описанию Олауса Магнуса.
Морской змей. Из «Книги о рыбах» Геснера (1598) - по описанию Олауса Магнуса.
Такова, например, история святого Брандана Мореплавателя, совершившего несколько морских рейсов в VI веке. Хроники сообщают, что Брандану явился во сне ангел и подсказал, где можно найти уединенную землю, пригодную для духовного подвижничества. Брандан построил карру, сшитую из бычьих шкур и способную развивать скорость до шести-семи узлов, и на ней со своими семнадцатью спутниками плыл пять лет, пока не отыскал обетованный остров, опознав его по «веренице поднимающихся с него ангелов». После возвращения в Ирландию Брандан снарядил новую экспедицию численностью уже в шестьдесят человек - на этот раз для поисков Блаженного острова, известного из сочинений античных авторов. Он отыскал его через семь лет плавания (по другим версиям - через девять, тоже «священное число»). Ирландцы плыли на запад пятнадцать дней, затем штиль вынудил их к месячному дрейфу. Дрейф закончился у берегов неведомого острова, где их ожидал дворец с изысканными яствами. Этот дворец оказался жилищем дьявола, но моряки благополучно преодолели все искушения, отбыли оттуда и пустились в дальнейший путь. Через семь месяцев пути их прибило к другому острову, где паслись гигантские овцы. Когда они убили одну из них и развели жаркий костер, земля неожиданно погрузилась в пучину: остров оказался огромным морским чудовищем. После многих месяцев пути им встретился остров птиц, которые на самом деле были раскаявшимися падшими ангелами, затем - остров Святого Альбена с построенным на нем монастырем, потом - сильно заболоченное море, за ним - остров с ядовитыми рыбами. Дальше путешественники пристали на своем пути к острову, похожему на Остров Овец: это тоже было морское чудовище. Но поскольку как раз подоспел праздник Пятидесятницы, оно вело себя вполне благочестиво, и ирландцы благополучно пробыли на его спине все семь положенных недель.

Остров Святого Брандана на карте того времени.
Много чудесного увидели они еще в морях Севера: им попадались чудовища и огнедышащие драконы, неподвижное море и нестерпимо холодные области, плавающие хрустальные храмы (айсберги) и демоны, огненные и зловонные острова, они видели вход в Ад и остров, где казнится Иуда. Все эти кажущиеся небылицы рассказывали позднее и викинги - единственные мореплаватели Европы, не испытывавшие суеверного ужаса перед Морем Мрака. В чем же дело? Страха нет, а от рассказов мороз дерет по коже! Совсем недавно ученые до некоторой степени реабилитировали «лгунов» северных морей. Как известно, воздушные слои тем холоднее, чем дальше они от поверхности моря. И когда более тяжелый холодный воздух прорывает теплый слой и касается воды, создается уникальная оптическая иллюзия: все предметы, находящиеся на воде даже вне поля зрения (тюлени, киты, корабли), приобретают гигантские размеры. Это явление лучше всего наблюдается на высоте двух метров над поверхностью моря, а именно в этих пределах изменялась высота борта карры. Жертвами такой иллюзии, видимо, и стали Брандан и его спутники. Но вскоре все испытания остались позади, на одном из клочков суши седовласый святой указал им путь к Блаженному острову. Там их встретил еще один подвижник в одежде из перьев и продемонстрировал целую серию чудес - например, воскрешение из мертвых. В том, что Брандан лицо историческое, сомнений нет и никогда не было. Примерно известны годы его жизни: он родился то ли в 477-м, то ли около 489 года в графстве Кэрри и умер не то 16 мая 577 года в Аннагдауне, не то где-то между 570 и 583 годами в Клонферте. Сохранились основанные им монастыри - Ардфертский в графстве Кэрри, Инишдадраумский в графстве Клэр, Аннагдаунский и Клонфертский в графстве Голуэй. Путь Брандана отмечен и обителями, заложенными на островах у западноирландского побережья,- Иниш-глора, Инишкеа, Инишмерри, Тайри, Тори и других. Но дает ли это основание говорить о его путешествии как о непреложном факте? Отнюдь. Скорее, это особый вид литературы, одно из бесчисленных красочных житий святых, северный вариант сказки о Синдбаде, зиждящийся на превосходном знании Северной Атлантики. Едва ли случайно, что Синдбад и Брандан носят одинаковое прозвище - Мореход, или Мореплаватель, ставшее устойчивой частью их имен. неирландских мореходных эпических новелл - имрамов - известно, что они путешествовали по морю еще до возникновения их письменности и начала хроник.
 Святой Брандан и его острова на венецианской карте мира братьев Пиццигани. 1367.
Святой Брандан и его острова на венецианской карте мира братьев Пиццигани. 1367.
Предполагают, например, что Брандан первым достиг Исландии и острова Ян-Майен. Одну из стен Херефордского собора в Англии украшает карта примерно 1275 года с обозначением его маршрута. На ней в островах Брандана Святой Брандан и его острова нетрудно узнать Канарские, хотя изображены только пять из известных в то время шести. На карте 1339 года, составленной жителем Майорки, островами Святого Брандана назван архипелаг Мадейры. То же видим на венецианских картах 1367 и 1436 годов. С 1427 года островами Брандана стали считать только что открытые Азоры. В XVI веке португальский король подарил остров Святого Брандана авантюристу Луишу Пердигону. Оставалось только отыскать его, чтобы вступить во владение. Споры о реальности плавания этого морехода не утихают до нашего времени, и в 1976-1977 годах англичанин Тим Северин с четырьмя товарищами на одиннадцатиметровой парусной карре «Брандан», выстроенной из дерева и обтянутой кожей, пересек Атлантику, доказав тем самым если не реальность, то по крайней мере возможность путешествия Брандана, располагавшего точно такой же лодкой. Небезынтересно отметить и то, что в 1981 году Северин совершил аналогичный рейс по следам Синдбада на паруснике «Сохар», построенном по описаниям старинных арабских манускриптов, еще раз доказав этим экспериментом, что «сказка - ложь, да в ней намек». Ирландский эпос и саги повествуют не только о приключениях Брандана, но и об иных океанских одиссеях, совершенных Баринтом и Кондлом, Кормаком и Майль-Дуйном, Макхутом и Мак-Рингайлом, Мерноком и Ой-сином, Снерхгусом и другими. Баринт и Мернок, подобно Брандану, почитались как святые: они еще до него плавали к обетованному острову. Около 670 года ирландские отшельники открыли Фарерские острова, в конце Средневековья их отождествляли с античными островами Блаженных. Чаще всего это открытие приписывается Кормаку, но постепенно акцент сместился, и знакомство с Фарерами - «Овечьими островами» - нашло свое место в легенде о Брандане, необычайно популярной и широко известной. В саге о Майль-Дуйне говорится, что он и его спутники обнаружили несколько островов, и на одном из них паслось множество овец, стояли небольшая церковь и замок. Там их встретил старик, закутанный в собственные волосы. «Я последний из пятнадцати спутников Брандана из Бирра. Мы отправились в паломничество по океану и прибыли на этот остров. Все мои спутники умерли, и я остался один»,- сказал им старик и показал таблички Брандана. Еще столетие спустя ирландские отшельники, вероятно по воле ветров и волн, открыли Исландию и прожили там почти семьдесят лет, пока туда не явились норманнские разбойники. Ученый ирландский монах Дикуил, придворный летописец короля франков Людовика I Благочестивого (814-843), опираясь на сведения, почерпнутые из древних источников, и сопоставляя их с рассказами современных ему анналистов и хронистов, скомпилировал «Книгу о пределах Земли». Сам в молодости скитавшийся в морях Севера, Дикуил не мог не отметить чрезвычайную скудость данных об островах, лежащих «среди океана к северу от Британии» на расстоянии двух суток пути. На них еще за какую-нибудь сотню лет до его времени обитали ирландские отшельники, едва успевавшие отбиваться от нашествий норманнов. Среди этих островов Дикуил называет, судя по деталям описания, и Исландию, отмечая при этом, что ирландские плавания туда совершались регулярно и круглогодично начиная с конца VIII века. Правдивость Дикуила подтверждают и скандинавы. Их переселенцы, написавшие в XII веке «Книгу о заселении страны» («Ландномабук»), отмечают, что первые норманны, ступившие на исландскую землю, с изумлением обнаружили там прибывших еще раньше из-за моря христианских папаров (пап, патеров, священников), «ибо были найдены оставленные ими книги, колокола и епископские посохи». Этот потрясающий факт стал хрестоматийным для того времени, его с теми или иными вариациями можно отыскать едва ли не в любом сочинении, так или иначе связанном с географическими экскурсами. Историк рубежа XI и XII веков Ари Торгильсон Фроде пишет в «Книге ирландцев»: «В те времена Исландия от гор до берега была покрыта лесами, и жили там христиане, которых норвежцы называли папарами. Но позднее эти люди, не желая общаться с язычниками, ушли оттуда, оставив после себя ирландские книги, колокольчики и посохи: из этого видно, что они были ирландцами». Это произошло примерно в 864 году. Высказываются предположения, что ирландские отшельники могли первыми узнать и о существовании Гренландии, видной с гор северо-западной Исландии в очень ясную погоду, и что к ним восходят самые ранние сведения об Американском континенте: «Ландномабук» как об уже известном факте сообщает о путешествии примерно в 983 году некоего Ари Марссона к «Земле белых людей» (или Великой Ирландии), расположенной в шести днях плавания на запад, по соседству с уже тогда открытым Винландом. Видно, не случайно потом норманны брали с собой к берегам Америки ирландцев в качестве проводников.
В VIII веке на севере Европы заканчивался переход аборигенов к классовому строю. На Ютландском полуострове жили тогда даны. Им принадлежали также Се-веро-Фризские острова, низменный Датский архипелаг к югу от пролива Каттегат и часть полуострова Сконе. Севернее Сконе, в районе Трех озер, обитали ёты (гёты) и свионы, занимавшие также острова Готланд и Эланд. Юго-западную часть Скандинавии в районе залива Бо-хус и пролива Скагеррак населяли норвежцы. Все эти племена объединялись единым понятием - норманны, «люди Севера». Этим понятием их объединяли те, кто не принадлежал ни к одному из этих племен. Критерием служила их горячая приверженность к пиратскому ремеслу и чудовищная (даже по тем временам!) жестокость по отношению к тем, кого они считали врагами. В отличие от всех других пиратов той эпохи, чьей единственной или по крайней мере главной целью было обогащение, норманны почти всегда занимались морским разбоем «из любви к искусству», тут же проматывая приплывавшую в их руки добычу. Впрочем, эти люди, обладатели таких поэтических прозвищ, как Раскалыватель Черепов, Гадюка, Коварный, Кровавая Секира, Брюхотряс, Грабитель, Свинья, Живодер, Вшивая Борода, Поджигатель и других не ме нее изысканных, не пренебрегали и короной, если случалось ее заполучить. И они добывали ее самолично, чтобы никто потом не мог бросить им упрек, что они обязаны приобретением или, наоборот, потерей короны либо состояния кому-то, кроме самих себя.
 Корабль викингов рубежа IX и X веков.
Корабль викингов рубежа IX и X веков.
Хотя, как уверяет датский историк-хронист XII века Саксон Грамматик в своих «Деяниях датчан», эти «тигры моря» были весьма равнодушны к царственному венцу. Скорее, наоборот. Датский конунг Хельги, чьей страстью было пускать ко дну чужие суда и грабить чужие побережья, погибает в одном из походов. Король Дании Хальвдан без всякого к тому понуждения дарит корону своему брату Харальду, чтобы без помех заниматься любимым занятием - пиратством. Норвежский король Коль успешно соперничает в разбойном промысле с ютландским герцогом Хорвендиллом (отцом принца Амелета - шекспировского Гамлета), а норвежский принц Олав по прозвищу Быстрый становится пиратом по приказанию своего родителя, чтобы покончить по крайней мере с семью десятками конкурирующих корпораций, возглавляемых сиятельными принцами, благородными герцогами и владетельными аристократами, вышедшими на большую дорогу моря. Норманны вступили на морскую арену как наследники громкой славы фризов - безраздельных властителей североевропейских морей еще при жизни Рима.
Они заселяли территорию Нидерландов, где по сей день существует провинция Фрисландия. Им принадлежали также побережье в районе не существовавших еще тогда Фризских островов, остров Гельголанд и германские земли между Нидерландами и Ютландией. Их груженные товарами суда можно было повстречать на всех реках, ведущих к Северному морю и к купеческой столице Северной Европы - городу Хедебю. Из порта Дарм-штадта в устье Рейна фризские торговые когги уходили с винами и тканями в Италию и Данию, в Швецию и Норвегию, в Британию и Галлию. Их длинные весельные боевые корабли можно было увидеть на рубеже VIII и IX веков в эскадрах короля франков Карла Великого и саксонского короля Этельберта, остовы этих кораблей покоятся на дне и у скандинавских берегов - безмолвных свидетелей кровавых битв. Для похода обычно объединялись силы нескольких князей, и эти флоты внушали ужас всем, кто не принадлежал к числу подданных князя или его союзников. В самом конце X века Фрисландию жестоко разграбили доведенные до отчаяния пираты Швеции и Дании, лишившиеся значительной части своих доходов. Их было несколько тысяч, они называли себя «испепеляющими» и, как показали события, не зря. Казалось, фризам никогда уже не оправиться от этого жуткого нашествия. Но надеждам «испепеляющих» не суждено было сбыться, фризы очень быстро восстали из пепла. По словам ученого монаха, путешественника и прославленного хрониста XI века Адама Бременского, состоявшего в свите гамбургского епископа, никто с тех пор не мох безнаказанно грабить фризские берега, поэтому любое судно, не исключая и пиратское, заброшенное ветрами или обстоятельствами во Фрисландию либо проплывавшее мимо, делилось с фризами своей добычей или своим грузом. В IX веке фризам, да и не только им, пришлось впервые столкнуться с новой грозной силой в северных морях. Фризы называли их «гетана тьода» («люди моря»). Они известны также как даны, аскеман-ны («ясеневые люди»), барденгауэры («земляки бардов»), хейды («язычники»), османны («восточные люди»), нордлейды («пришедшие с севера»). Англичане звали их истерлингами («пришедшими с востока»), испанцы - мадхами («языческими чудовищами»), русские - варягами. Надежной этимологии слово «варяг» не имеет. Наиболее правдоподобно, что исток его в древнескандинавском varingr - «связанный той же клятвой (что и я)», или, проще, «соратник, дружинник». Выступая в походы, они клялись в верности общему делу палубой корабля, лезвием меча, ободом щита и крупом коня. Скандинавские наемники, служившие византийским им ператорам, называли себя поэтому верингами -vaeringjar, что по-гречески звучало как «варанги» и стало связываться со словом varang - «меч». С этим значением слово «варяг» пришло и на Русь. В топонимике оно закреплено в названиях норвежского полуострова Варангер, омываемого водами Варангер-фьорда (около полуострова Рыбачий). Из других его значений можно упомянуть «гребец». Историк С. А. Гедеонов в 1862-1863 годах посвятил тринадцать страниц своих «Отрывков из исследований о варяжском вопросе» доказательству смешанного скандинаво-славянского происхождения варягов, а само это слово производил от полабского warang - «меч». Его коллега В. О. Ключевский заканчивает свои «Наброски по варяжскому вопросу» остроумной фразой: «Происхождение слова неизвестно, но то, что им обозначалось, довольно явственно выступает в иноземных известиях IX в.» Сами они охотнее всего откликались на имя «норманны» или «викинги», и эти слова звучали одинаково ужасно на всех языках от Балтийского моря до Средиземного. «Викинг», как предполагают, произошло от глагола «викья» - поворачивать, отклоняться. В вольном переводе это - человек, ушедший в море для приобретения богатства и славы. В некоторых контекстах - изгой. Проще - пират. Прежде они были известны как добропорядочные купцы. Теперь можно только гадать, являлись ли они ими на самом деле или же то были разведывательные рейды, рекогносцировка, подготовка к войне. В 520 году под именем данов их появление зафиксировали аквитанские хронисты, полсотни лет спустя викинги торговали на северных берегах Готланда. С VIII века их узнали в иной ипостаси. В 732 году норманны впервые высаживаются в Британии, в 753-м предают огню и мечу Ирландию.
Это самые ранние даты из встречающихся в источниках. Иногда первое появление викингов в Британии датируют концом VIII века, имея в виду нападение на Линдисфарн после довольно продолжительного затишья, иногда - более конкретно, 789 годом, когда три ладьи из норманнской Ютландии появились у побережья Дорсетшира, или 787-м. Забегая немного вперед, надо заметить, что ранняя история норманнских походов не имеет точных датировок. Так, их первое нападение на Ирландию приурочивают подчас к 795 году, на Испанию - к 796-му, на Фландрию - к 820-му, на Фрисландию- к 834-838-му, на Францию (Луара)-к 842-843-му, захват Фарерских островов относят к 800 году, Гебридских - к 620-му, Оркнейских и Шетландских - к 802-му, открытие Исландии - к 861-му (а ее заселение норвежцами - к 872-930 годам). Первое нападение на Гаронну (Франция, Лисабон, Испания и Марокко) датируют 844 годом, седьмое нападение на Сену - 876-м, начало продвижения к Черному морю и Миклагарду (Константинополь) - 865-м, проникновение в Каспийское море - 880-м... После эпизода в Ирландии наступает неожиданное затишье: норманны на какое-то время занялись устройством своих внутренних дел. Быть может, этим внезапно проявившимся добронравием они были обязаны полководческому дару Карла Мартелла («Молота»), короля франков. Возможно - появлению начиная с 718 года в Северной Европе арабов, время от времени призываемых бургундами для войны с франками. В том году они захватили Нарбонн, три года спустя вволю порезвились в Тулузе, а в 725 году покорили и разграбили целую серию городов. Не случайно первые устремления норманнов были в совсем ином направлении: Европа пока им не по зубам. Как раз в 732 году, когда викинги открыли для себя Британию, аквитанский герцог Одон, не поладивший с Карлом и безжалостно им усмиренный, науськал на Франкское королевство арабского наместника в Испании Абд-ар-Рахмана, прельстив его редкой возможностью завладеть гробом святого Мартина - самой священной реликвией франков. В это время арабы уже испытывали некоторые неудобства на Пиренейском полуострове: испанцы начали его отвоевание - Реконкисту. Путь на север арабам преградило народное ополчение, еще в 718 году разгромившее отряды мусульман в долине Ковадонге в Астурии. (Это сражение было началом конца владычества мавров, но никто тогда еще этого не знал.) Соблазненные щедрыми посулами Одона, арабы прорвали заслон, форсировали Гаронну, смели с географической карты город Бордо со всем его населением, зажгли Пуатье и в октябре устремились к Туру. Здесь их уже поджидал Карл. В жестокой сече Абд-ар-Рахман сложил голову, а его четырехсоттысячное войско (если только это не преувеличение хронистов) обратилось в паническое бегство. Но не таковы были арабы, чтобы посыпать себе головы пеплом, упиваясь позором поражения. Собравшись с силами, они очень скоро ворвались с флотом в Рону, с ходу захватили Авиньон и опустошили его окрестности. Карлу и его брату герцогу Хильдебранду путем долгой осады с огромным трудом удалось вернуть этот богатейший город и важный стратегический пункт. Впрочем, с этого момента он перестал быть и тем, и другим: франки спалили дотла эту будущую столицу римских пап. Новое наступление арабов также не принесло им успеха. После гибели их полководца в первом же «бою они обратились в бегство на кораблях, но в панике половина их перетопила друг друга, а остальных добили дротиками франки. Затем воинство Карла разорило область готов, сровняло с землей города Ним, Агд и Безье, оставив от них лишь воспоминания, и подчинило фризов и алеманнов. На западе Европы сложилась мощная держава. Сын Карла Пипин Короткий и его внук Карл Великий положили начало Французскому государству. Карл Великий совершил с армией глубокий рейд по Пиренейскому полуострову, окончательно отбив у арабов охоту пронести зеленое знамя пророка по ту сторону гор. (На обратном пути, правда, его войско попало в горах в засаду, устроенную в ущелье Ронсеваль басками; в этом сражении, прогремевшем 15 августа 778 года, погиб начальник Бретонского рубежа Роланд, герой французского эпоса.) Все эти события, естественно, до поры до времени сдерживали экспансию норманнов в южном направлении. Больше того, покорение «непобедимых» фризов заставило их призадуматься о собственной безопасности. Вот тогда-то и наступило упомянутое затишье.
В конце VII века (обычно называют 777 год) датский конунг (вождь) Гудфрид, или Гаттрик, попытался объединить Данию, Швецию и Норвегию в единое Норманнское королевство под главенством Дании для защиты от алчности Карла Великого, короля франков. Многие норманны в 780 году приняли по его примеру христианство, и чуть севернее основания Ютландского полуострова началось строительство гигантского земляного оборонительного вала высотой в три и шириной до двадцати метров. Столицей нового королевства стал город Еллинг - ныне заштатный городишко недалеко от Вейле. Однако и в этот период норманны, чтобы поразмяться и не терять формы, время от времени занимались любимым делом. А поскольку у себя дома они были в это время всецело поглощены дележом земли и устройством границ, цели их набегов лежали теперь далеко от скандинавских берегов. Континентальная Европа наконец-то могла вздохнуть спокойно и заняться болеенеотложными делами, не поглядывая поминутно на север. Зато этого не могла позволить себе ее островная часть - Британия. Летом 793 года флот викингов появился у южного побережья Шотландии и, привычно разграбив его, подошел 8 июня к островку Линдисфарн, или Святому. Норманны потрудились на нем так основательно, что располагавшиеся там монастырь святого Кутберта - самый богатый в Британии - и один из прекраснейших ее замков лежат в руинах до нашего времени. Крупнейший ученый той эпохи, глава придворной школы Карла Великого и воспитатель его сыновей, знатный англосакс Алкуин написал элегию «О разрушении монастыря Линдисфарна». Гибель этого первостепенного культурного центра Англии VIII столетия была невосполнимой утратой. Годом позже точно такая же участь постигла Веармусский монастырь на архипелаге Фарне, чуть южнее Линдисфарна. В 795 году вошедшие во вкус пираты обчистили остров Уайт у побережья Уэссекса, обогнули Британию и вышли в Ирландское море. Здесь, не зная, чему отдать предпочтение - восточному побережью Ирландии или западному Англии, они удостоили своим вниманием остров Мэн, лежащий как раз посредине, а затем поднялись к северу до острова Айона во Внешних Гебридах и попытались завладеть тамошним монастырем, основанным в 563 году святым Колумбой и считавшимся главным религиозным центром христианизированных кельтов. Неожиданно для них монастырь оказал отчаянное сопротивление, и, опустошив в утешение себе округу, норманны отбыли домой за подкреплением. Они обобрали этот монастырь в 802-м и затем в 806 году. С 782 года викинги возобновили нападения на континентальную Европу. В 808 году Гудфрид разграбил славянский город Рерик, центр крупной торговли, а в 810-м захватил на двухстах кораблях часть Фрисландии и потребовал выкуп - по фунту серебра на судно. С этого же времени корабли викингов, используя речные системы Кельтики, известные с легендарных времен, стали появляться даже у средиземноморских берегов Нарбонской Галлии то под видом иудеев, то сарацин, то добропорядочных британских купцов. Смерть Гудфрида в 810 году помешала датчанам довести до конца устройство своего государства, строительство вала было заброшено, и разбой вспыхнул с новой силой. Именно с этого времени слово «викинг» широко входит в лексикон народов Северной Европы. Возможно, взлету их могущества способствовало заимствование увиденных на средиземноморских кораблях треугольных парусов, названных ими «латинскими»: эти паруса значительно улучшают маневренность судна сравнительно с прямыми рейковыми, а следовательно, и боеспособность. Карлу Великому, хоть и не без труда, удавалось отбивать все попытки их набегов, но сразу же после его смерти в 814 году и распада его государства под натиском арабов норманны ввели свои корабли в устье Эльбы. В 825 году викинги вновь прошлись по побережьям Фрисландии и Британии, в 836 году впервые разграбили Лондон, в 838 году прочно закрепились во Фрисландии, в 839-м основали собственное королевство в Ирландии, а в мае 841 года захватили Руан. (Как уже говорилось, существует и другая хронология некоторых походов.) Их успехам в это время весьма способствовала сложившаяся в Европе обстановка. Три года после смерти Карла его наследники азартно кромсали оставленный им пирог - необъятную империю, норовя отхватить кусок побольше и пожирнее. Западная Франция осталась в конце концов за Людовиком I Благочестивым, двадцать девять лет после этого царствовавшим, но не управлявшим. Хотя он носил еще и другое прозвище - Немецкий, но большая часть Восточной Франции (будущей Германии) досталась все же его брату Карлу. Третий брат, Лотарь, закрепился в Северной Италии, Фризии, Бургундии, Наварре и Провансе, противопоставив себя первым двум, заключившим против него 14 февраля 842 года союз (как раз в этом году норманны разрушили город Квентовик). Дьякон Лионской епархиальной церкви Флор написал тогда в духе древних пророков свою «Жалобу о разделе империи», где вспоминал, что при Карле Великом «франкская нация блистала в глазах всего мира. Иностранные королевства - греки, варвары и сенат Лациума - посылали к ней посольства. Племя Ромула, сам Рим - мать королевства - были подчинены этой нации: там ее глава, сильный поддержкой Христа, получил свою диадему как апостолический дар... Но теперь, придя в упадок, эта великая держава утратила сразу и свой блеск, и наименование империи; вместо государя - маленькие правители, вместо государства - один только кусочек. Общее благо перестало существовать, всякий занимается своими собственными интересами: думают о чем угодно, одного только Бога забыли». Такова была теперь «рабочая обстановка», в какой действовали викинги. Суша и море кишели разбойниками, как никогда раньше, и борьба с этим злом была делом безнадежным. По свидетельствам историков, в 820-х годах путешествие из Германии в Данию считалось столь отчаянным предприятием, что даже церковь посылала туда своих миссионеров только с их добровольного согласия. Зимой 831 года германский епископ Ангстар, например, на пути в Швецию подвергся нападению пиратов, едва не угодил в плен, лишился всего имущества и в конце концов добрался до цели сушей. Несколько позже пресвитер Рагемберт был убит датскими пиратами на пути в Шлезвиг, где его так и не дождались охрана и корабли для дальнейшего путешествия. В 843 году в день святого Иоанна норманнские ладьи бросили якоря в Нанте, викинги сожгли город, а потом, спустившись к югу, заняли и надолго превратили в свою крепость довольно обширный остров Нуармутье у берега Вандеи напротив устья Луары - очень удобный трамплин для нападений и на Францию, и на Испанию. Уже летом следующего года викинги совершили с этого острова налет на города Гаронны, но, встретив сильное сопротивление у Бордо, вернулись к океану, пересекли Бискайский залив, захватили Ла-Корунью и Лисабон и добрались до Африки. Разграбив и предав огню город Нокур около Танжера, они на обратном пути высадились в Андалусии и овладели сарацинской Севильей, после чего властитель Испанского халифата Абд-ар-Рахман II вынужден был вступить в переговоры с «королем викингов» и выслал к берегам Ирландии специально для этой цели построенный посольский корабль. Арабский писатель Ахмед ал-Кааф ретроспективно называет «варваров», штурмовавших Севилью, руссами. Их вождями в этом походе были братья Харальд и Рюрик, оба крестившиеся в 826 году в Ингельгейме на прирейнской вилле германского императора и получившие за это земли по ту сторону Эльбы. Гаврила Романович Державин, интересовавшийся личностью Рюрика, утверждал, что тот «завоевал» также Нант, Бордо, Тур, Лимузен, Орлеан и участвовал в первой осаде Парижа. Екатерина II сочинила пьесу «Рюрик» (весьма посредственную). В 1895 году в Петербурге был спущен на воду крейсер «Рюрик», в августе 1904-го в точности повторивший в Корейском проливе подвиг «Варяга». Имя Рюрика неразрывно связано с русской историей на протяжении столетий. Это закономерно. После взятия Севильи, считавшейся неприступной, слава обоих братьев не имела себе равных, и, по словам летописца Нестора, в 862 году Рюрика, по возвращении из похода основавшего норманнское государство Альдейгьюборг (Ладога), с дружиной его варягов пригласили к себе новгородцы для наведения порядка в нарождающемся государстве славян. Рюрик принял приглашение, и новую державу назвал своим именем. До вступления в викинги имя Рюрика было Росс. Так, по одной из легендарных версий, возникла Русь, будущая Россия. Эта версия, известная как «норманнская», не получила признания. Засвидетельствовано, например, употребление слова «Русь» лет за десять до гипотетического призвания Рюрика, правившего в Новгороде до своей смерти в 879 году. Арабы совершенно определенно называли руссами норманнов, отличая их от «сакалиба» - славян. Однако смысл самого этого слова до сих пор не объяснен, несмотря на усилия как сторонников «норманнской теории», так и ее противников. Если отбросить десятки фантастических гипотез вроде сближения корня «рус» с этрусками, можно убедиться, что вопрос этот за двести лет так и не сдвинут с мертвой точки. С другой стороны, противникам «норманнской теории» трудно объяснить бесспорно норманнские имена первых русских князей - Олег (Хельги), Ольга (Хельга), Игорь (Ивар) и другие. Что касается имен братьев Рюрика - Синеуса, принявшего княжество в Белоозере, и Трувора, княжившего в Изборске, то есть мнение, что это неверное прочтение летописцем скандинавского текста, повествующего о том, что Рюрик явился в Новгород со своим домом («сине хус») и верной дружиной («тру воринг»). Может быть, именно с этого времени было пущено в оборот слово «варяг» («воринг»), но что это за текст, почему им пользовался русский летописец и откуда этот летописец знал скандинавские языки - покрыто мраком. В 845 году викинги снова появились на Эльбе и стерли с лица земли первые постройки будущего Гамбурга, заложенные четырнадцатью годами ранее. Тогда же они поднялись по Сене до Парижа, по Мозелю до Трира и по Рейну до Кёльна, повсюду сея смерть, пепел и разрушения. Начиная с 836 года они совершали ежегодные экспедиции в приглянувшуюся им Британию, где уэссекский король Экгберт объединил в 827 году английские и саксонские королевства Кент, Суссекс, Уэссекс, Остангельн, Мерсию, Эссекс и Нортумбрию (так называемую гептархию) в единое англосаксонское. Они повторили налет на Лондон в 851-852 годах, явившись на остров на трехстах пятидесяти кораблях, а заодно разорили и Кентербери - будущую духовную столицу Англии. После этого норманны уже никогда не ощущали сопротивления на британских берегах, и их походы туда превратились в увеселительные прогулки. «Боже всемогущий, избавь нас от неистовства норманнов!» - эта фраза стала непременным рефреном молитв, распеваемых на Британских островах. Но всевышний не спешил с исполнением просьбы своей паствы. Англосаксонское королевство оставалось понятием чисто географическим.
Покончив с Англией, викинги в 854 году вновь грабят Гамбург. Они еще не раз повторят налет на этот порт. Адам Бременский красочно и со знанием дела описывает, как саксонские князья по примеру фризов пытались объединиться, чтобы дать отпор норманнским пиратам, как они терпели одно поражение за другим, как викинги опустошили земли в долине Везера и с большой добычей и толпами пленников ушли из разоренной Саксонии. Почувствовав слабость враждующих между собой здешних правителей и на собственном опыте хорошо зная, к чему это ведет, викинги с тех пор регулярно наведывались в саксонские пределы. Некоторые города, например Бремен, пытались возводить мощные защитные укрепления, чтобы остановить их набеги. Но это был не более чем акт отчаяния. Ни валы, ни стены не помогали. Куда более действенное средство нашли французские короли, подарившие норманнам город в устье Рейна. Викинги по достоинству оценили королевский дар, и с этих пор Франция, Германия и Нидерланды жили в постоянном ожидании их нападений. Вторым их опорным пунктом стал сильно укрепленный лагерь в окрестностях Нанта, заложенный датскими викингами летом 856 года. В январе 857 года шестьдесят две ладьи датских викингов, разграбив вторично Париж, впервые прошли Гибралтар, опустошительным смерчем пронеслись вдоль обоих берегов Средиземного моря, появились у стен Константинополя и... так же стремительно исчезли. Ни Рим, ни Константинополь не привлекли в этот раз внимания северян. Их спор впереди. Но во Флоренции, Луне, Пизе и некоторых других городах Италии они успели порезвиться на славу, оказав этим нечаянную услугу Византии. Дело в том, что как раз в это время венецианский дож Пьетро Транденико затеял весьма масштабное строительство военного и торгового флота, заручившись поддержкой франков, и ромейские владыки опасались, что пример Венеции, отныне ни в грош не ставившей второй Рим, окажется заразительным. Вот тут-то и подоспели викинги. Память об этом нашествии сохранили хроники монастыря Сан-Квентина: «После того как норманны побывали в Пизе и Фьезоле, они повернули свои ладьи к епископскому городу Лукка (по другим источникам - Луна, Лунке.- А. С), расположенному в устье Магры. Город был подготовлен к приходу викингов, и все боеспособные мужчины заняли позиции у ворот и городских стен. Однако штурма не последовало. Вместо этого у городских ворот появился безоружный предводитель викингов Хаштайн (Хастинг.- А. С), а с ним несколько его приближенных. Предводитель выразил желание принять христианство и попросил епископа города совершить обряд крещения. Просьбу согласились выполнить, хотя и приняли необходимые меры предосторожности. Хаштайн был крещен и снова выпровожен за ворота. В полночь к городским воротам с громкими криками приблизился большой отряд викингов. На носилках они несли тело якобы внезапно скончавшегося Хаштайна. Викинги объявили, что его последней волей было, чтобы его похоронили в соборе города Лукка. Разве можно было отказать в последней просьбе только что принятому в лоно церкви? Епископ приказал впустить в город безоружных людей и пронести покойника. Однако панихида не состоялась, так как перед алтарем Хаштайн вдруг воскрес из мертвых. Викинги схватили спрятанное в носилках оружие и набросились на тех, кто собрался слушать панихиду. Общая паника способствовала тому, что через городские ворота проникло в город все войско викингов, Лукка была опустошена и разрушена». В хронологии этих событий много неясного. Нет, например, единодушного мнения о времени первого прохода викингами Гибралтара, а следовательно, и похода на Лукку. Их датируют то 858-861-м, то 895 годом, подчас путая при этом Лукку с Пизой. Скептиков можно понять: ведь ранние появления норманнов в Средиземном море сами по себе ни о чем не говорят, так как в то время еще широко использовались древние речные пути (система Рона - Луара, например). Сами норманны считали, что первым из них прошел Гибралтар некий Скофти с тремя сыновьями на пяти боевых кораблях примерно в 1100 году. Но все они умерли во время этого похода по эту сторону Италии. Однако смущает то, что во времена Скофти Гибралтар уже назывался норманнами Нёрвасунд - «пролив Нервы». Назван ли он так в честь его действительного, но нам неведомого первооткрывателя или это название означает «Норвежский пролив» (такое имя мог дать ему и Скофти) - неизвестно. Как бы там ни было, южные моря викингам почему-то не понравились. Может быть, для них оказалось слишком чувствительным поражение у Константинополя в 860 году, когда норманны, воспользовавшись отъездом императора Михаила III в поход против сарацин, спустились по Днепру и осадили его столицу совместно с приднепровскими племенами. (Это произошло за шесть лет до того, как на Босфоре появились «шведские викинги Готар и Свер», считавшиеся первыми северянами в этих местах.) Может быть, имелись другие причины. Во всяком случае, викинги круто изменили курс своих кораблей. Все дальше и дальше проникают они на запад и все дольше удерживают захваченные там территории. В июне 858 года они осаждают Шартр, в следующем году - Нуайон и Бовэ, в 861 году они в третий раз грабят Париж, но в это же время высаживаются на не известных никому в Европе Фарерских островах, а два года спустя фарерский ярл Наддод, сбитый бурей с пути, когда он плыл с Гебридских островов на Фареры, обнаруживает Ледовую землю - Исландию. «Ландномабук» сообщает, что с Наддодом был также швед Гардар, сын Свавара (те самые Готар и Свер), перевозивший на этой ладье наследство своей жены. Фьорд Рейдар на восточном берегу Исландии, где они высадились, долго назывался Гардарсхольмом. Относительно этого плавания существуют и другие версии. Иногда считают, что Наддод побывал в Исландии задолго до Гардара. Многие источники вообще не упоминают Наддода, а «Ландномабук» говорит о нем лишь предположительно. Возможно, что с именем Наддода связывается другая, более ранняя дата открытия Фарерских островов. Новые земли привлекают викингов, как никого больше: быть может, они первые поняли, что Европа слишком тесна для всех. Ведь в конечном счете для этих природных земледельцев клочок собственной земли и пара овец значили куда больше, чем все сокровища в чужих сундуках. В 863 году они еще продолжают свои набеги и доходят по Рейну до Ксантена, а три года спустя шторм относит один норманнский флот с двадцатью тысячами викингов к Шотландии, где они прожили двенадцать лет, не выказывая никакого желания возвращаться домой, и другой, поменьше,- к заливу Хамбер, откуда они совершали вылазки вглубь острова. В 877 году норвежец Гунбьёрн открывает новую «Белоснежную» землю далеко на западе. Столетие спустя норманн Эйрик Рыжий, чтобы современники по достоинству оценили эту находку, нарекает ее Зеленой землей - Гринланд. (Высказывается, впрочем, мнение, что примерно до XIII века этот гигантский остров и впрямь был «Зеленым», что там еще существовала растительность.) Возможно, именно открытие Гренландии побудило датского короля Гутрума заключить в следующем году мир с уэссекским королем Альфредом Великим, сумевшим отвоевать у датских викингов Уэссекс и создать сильное государство, охраняемое с моря спешно построенным сторожевым флотом из ста двадцати кораблей, а с суши - хорошо обученной армией. Восточная Англия, захваченная в 868 году и уступленная им Альфредом, стала прекрасным плацдармом для штурма западных морей. Из событий этого времени в Европе внимание хронистов привлекла, пожалуй, только очередная, четвертая уже по счету, осада сорокатысячным войском викингов Парижа в 885 году. Набег возглавлял легендарный Рагнар Кожаные Штаны, опытнейший военачальник своего времени. Французский монах Аббон из аббатства Сен-Жермен, очевидец этого события, посвятил ему пространное стихотворение, где были такие строки: «Их кораблей было так много, что на протяжении двух миль вниз по течению реки не было видно воды. После того как было отбито первое нападение, викинги разбили лагерь на сен-жерменском холме. С этого места они спускались, чтобы творить грабежи и убийства в окрестностях осажденного города, но проникнуть в город им не удалось». Осада длилась десять месяцев, пока парижане не сумели сколотить в окрестностях города какое-никакое подобие армии, достаточное, однако, для того, чтобы викинги отступились, удовольствовавшись щедрым выкупом. После этого они вторично захватили Руан. В 892 году викинги поднимаются по Рейну до Кёльна и вновь навещают Ксантен, но ветер дальних странствий увлекает их в открытое море. Год спустя они вопреки договору с Альфредом захватывают уже хорошо известный им остров Мэн и основывают на нем новое пиратское королевство - арбалет, нацеленный в сердце Британского архипелага и превосходный отправной пункт для плаваний в Атлантике. В 911 году викинги во главе с Хрольвом Пешеходом, вдоволь пограбив Нормандские острова, высаживаются на севере Франции, захватывают плодородные земли к северо-западу от низовьев Сены и расселяются на них. «Эти владения называются с тех пор Нормандией»,- сообщает сага. Французский король Карл III Простоватый вынужден был купить мир с новыми соседями дорогой ценой: по Клер-сюр-Эптскому договору он навечно уступил эти земли обратившемуся в христианство Хрольву, образовавшему на них герцогство Нормандия и Бретань и принявшему тронное имя Ролло. Что это было за государство и какие царили в нем нравы, представить нетрудно, если вспомнить, как умирающий герцог пожертвовал сотню золотых монет христианским патерам, купив своей душе за такую цену пропуск в Рай, и тут же повелел заколоть сотню пленников на алтаре Одина, обеспечив на всякий случай своей бренной оболочке местечко в языческой Валгалле. В середине XII века нормандский поэт Вас, живший в Англии при дворе Генриха II, воспел Ролло и его государство в стихотворных «Деяниях нормандцев», известных также под названием «Роман о Ру». В середине X века печальную картину являла собой и Ютландия: «Страна была опустошена набегами: вокруг Дании плавало много викингов». Не находя больше достойной добычи в опустошенных ими же землях, норманны продают свой меч всякому, кто пожелает им воспользоваться: например - англичанам, на чьей службе «можно добыть много добра». В 964 году викинги открывают Шетландские и Оркнейские острова и превращают их в свои опорные базы и убежища в этих морях. В IX или X веке северные ладьи выходят в Каспийское море, а их экипажи совершают нашествие на Багдад. Они приходят туда не с пустыми руками: свыше десяти тысяч французских и голландских невольников появляются в этом время на рынках Востока. По следам Наддода идет норвежец Ингольф, и за какую-нибудь сотню лет необитаемая прежде Исландия (если не считать уже упоминавшихся ирландских монахов) насчитывает до тридцати тысяч жителей, большая часть коих составляла население Рейкьявика («Дымящейся бухты»), основанного тем же Ингольфом. Один из этих переселенцев, Эйрик Рыжий, после убийства знатного исландца отправляется в Западное море на поиски новых земель (таков был кодекс чести).
 Развалины дома Эйрика Рыжего в Гренландии Снимок Второй немецкой полярной экспедиции.
Развалины дома Эйрика Рыжего в Гренландии Снимок Второй немецкой полярной экспедиции.
В 983 году он высаживается на Гренландии. Гунбьёрн видел ее лишь издалека, и смутные легенды о неведомой земле давно уже достигали ушей исландских забияк. Прожив там пару лет, Эйрик вернулся в Исландию и в 986 году повел за собой тридцать пять кораблей с колонистами. До Гренландии добрались только четырнадцать, но за десять-пятнадцать лет колония так разрослась, что вслед за исландцами гренландцы потребовали ввести и узаконить у них христианство. В роли миссионера на Зеленой земле выступил сын Эйрика Лейв. В 999 году Лейв уезжает в Норвегию, чтобы поступить там на службу к королю Олаву Трюггвасону. В Норвегии он получает крещение и в обществе свяг щенника и христианских учителей весной 1000 года берет курс на Гренландию, чтобы возвестить христианство и там. Но он не достиг ее. Существует несколько версий об этом плавании. В одной из них говорится о том, что среди исландских переселенцев давно бродил слух о том, что совсем недалеко к юго-западу лежит земля, изобильная лесом, крайне дефицитным в Исландии и Гренландии. И вот, когда исландский купец Бьярни Херьюлфсон отправился в 985 году погостить к своему отцу на южную оконечность Гренландии в фьорд Эйрика, буря доставила его к этому легендарному берегу, покрытому девственными зарослями и совершенно лишенному льда и снега. Судя по описаниям, Бьярни высадился в нынешней Северной Америке на сороковой параллели, в районе Нью-Йорка. Оттуда через Новую Шотландию, Ньюфаундленд и Лабрадор он прибыл наконец в гости к отцу. Очарованный его рассказами, Лейв немедленно откупил у него корабль и с тридцатью четырьмя спутниками отправился в Америку по следам Бьярни, дабы подтвердить или опровергнуть его россказни. Согласно другой версии, Америку открыл сам Лейв, неясно только, плыл ли он туда намеренно или был занесен «ветрами по пути» из Норвегии. Вот как рассказывает об этом «Сага о гренландцах»: «Они стали снаряжать свой корабль и, когда все было готово, вышли в море. Они открыли ту страну первой, которую Бьярни открыл последней. Они подошли к берегу и бросили якорь. Затем они спустили лодку и высадились на берег. Травы нигде не было. Вдали виднелись большие ледники, а между ледниками и морем все сплошь было как каменная плита. Они решили, что в этой стране нет ничего хорошего. Лейв сказал: „Мы хоть побывали в этой стране, не то что Бьярни, который даже не сошел на берег. Я дам стране название, пусть она зовется Страной Каменных Плит (Хеллуланд.- Л. С.)". Они вернулись на корабль и вышли в море и открыли вторую страну. Они подходят к берегу и бросают якорь, затем спускают лодку и высаживаются. Эта страна была плоская и покрыта лесом. Всюду по берегу был белый песок, и берег отлого спускался к воде. Лейв сказал: ,,Надо назвать эту страну по тому, что в ней есть хорошего. Пусть она зовется Лесная Страна (Маркланд.-А. С.)". Они поспешили назад на корабль и поплыли оттуда с северо-восточным ветром и были в открытом море двое суток, пока не увидели землю. Они направились к ней и подошли к острову, который лежал к северу от нее. Они высадились и осмотрелись... Затем они вернулись на корабль и вошли в пролив между островом и мысом, протянувшимся на север. Они направились на запад, огибая мыс. Там была большая мель, и в отлив корабль сел на эту мель, так что море оказалось далеко... А когда корабль их снова оказался на воде, они сели в лодку, подплыли к нему и завели его в реку, а затем в озеро. Там они бросили якорь... Лейв назвал страну по тому, что в ней было хорошего: она получила название Виноградной Страны (Винланд. - А. С.)». Прихватив с собой образцы деревьев, рыб, злаков и винограда, Лейв вернулся в Гренландию. По возвращении он получил прозвище Счастливый. Места, где он побывал, в общем известны.
В каменистой местности Хеллуланд нетрудно признать побережье Гудзонова пролива, дискутируется лишь вопрос о том, был ли это берег полуострова Лабрадор или же полуострова Кемберленд на южной оконечности Баффиновой Земли. Канадский ученый Питер Шледерман считает, что в середине XIII века викинги не только достигли Лабрадора, но и дошли до Земли Гранта - крайней северо-восточной области континента, где он почти соприкасается с Гренландией. Кто знает, не бывали ли они там и раньше. Если же им был знаком весь этот огромный район, могут появиться и новые претенденты на роль Хеллуланда. Что касается Маркланда (кстати, еще до Лейва это название дал местности Бьярни), то это, вернее всего, район залива Гамильтон и восточного побережья Лабрадора. Наконец, Винландом до последнего времени считался район Бостона, потому что в реках викинги видели много лососей, а южная граница распространения этой рыбы проходит приблизительно по сорок первой параллели. Однако в свете раскопок Хельге Ингстада в 1961 -1968 годах более вероятным адресом Винланда выглядит северная оконечность острова Ньюфаундленд в районе пролива Белл-Айл. Саги повествуют о шести посещениях Америки. После Бьярни и Лейва там побывал в 1001 -1003 годах младший брат Лейва Торвальд, завидовавший славе брата. Перезимовав со своими тридцатью спутниками в Винланде, Торвальд весной отправился на восток вдоль лесистого берега. В одном месте он хотел построить собственный дом, но увидел, что по воде плывут три кожаные лодки, а в них сидят по три скре-линга - то ли индейца, то ли эскимоса (никто не знает в точности, что означает это слово). Пятьсот лет спустя шведский архиепископ-миссионер, путешественник и картограф Олаус Магнус писал: «Здесь в Гренландии живут пираты, кторые пользуются лодками из шкур... Они нападают на торговые суда, вместо того чтобы вступать в абордажный бой». Норманнский лагерь показался им лакомой добычей, но скрелинги не подозревали, что на этот раз они имеют дело с собратьями по профессии. Люди Торвальда убили восьмерых (подобными эпизодами пестрят все без исключения саги), но одному удалось бежать, и наутро викинги обнаружили, что они окружены. Они выставили вдоль планширя щиты и, укрывшись за ними, приняли бой. В конце концов у скрелингов истощился запас стрел, и они обратились в бегство, но одна из стрел смертельно ранила Торвальда. Его похоронили на том месте, где он собирался строить дом. Это место викинги назвали Кросснесс. В Гренландию они возвратились лишь следующей весной. На следующий год после их возвращения был вновь снаряжен двадцативесельныи корабль с тридцатью людьми во главе со старшим братом Лейва - Торстейном. Их целью, как говорил Торстейн, было доставить на родину тело Торвальда. В этой экспедиции хотел принять участие и сам Эйрик, но при посадке на корабль он так неудачно свалился со сходни, что вынужден был остаться. Это было воспринято как знамение. Дело в том, что после возвращения Лейва из Америки во всей Гренландии, принявшей христианство, дольше всех противился этому именно Эйрик - он никак не мог простить сыну, что тот «привез в Гренландию дармоеда», то есть священника. Возможно, что падение Эйрика со сходни - это позднейший домысел сочинителя саги, показавшего таким образом, что на столь благочестивое предприятие, как открытие новых земель, язычникам лучше не замахиваться. Эйрик же и сам пострадал, и дело испортил: Торстейну не удалось достичь Америки. Ее достиг три года спустя Торфинн Карлсефни, женившийся на Гудрид - вдове Торстейна. Он вышел в море на трех кораблях с шестьюдесятью мужчинами и пятью женщинами. (Так сообщает «Сага о гренландцах». В «Саге об Эйрике Рыжем» говорится, что всего на кораблях было сто сорок человек.) Это была самая удачная, но, по существу, последняя попытка серьезной колонизации Америки. Норманны поселились в домах, построенных еще Лейвом, и стали налаживать отношения с аборигенами. В качестве разведчиков Торфинну служили два скоти (ирландца), захваченных им с собой для этой цели. Однако вскоре между пришельцами и аборигенами разгорелась ссора, переросшая в кровопролитный бой и не оставившая викингам никаких надежд на дальнейшие исследования, и в 1006 году Торфинн возвратился в Гренландию. Около 1010 года в Винланд отправились исландцы братья Хельги и Финнбоги, с ними была сестра Лейва Фрейдис. Им также не удалось колонизировать Винланд: Фрейдис, склочная от природы, столь умело разжигала подозрительность и соперничество между своими соотечественниками, что кровавые стычки стали в Винланде обычным делом. Оба брата погибли в междоусобицах, оставшимся удалось вернуться в Гренландию. До недавнего времени эта одиссея считалась последней известной нам высадкой европейцев на Американский континент вплоть до плаваний Колумба. Но время внесло свои коррективы, и немалые. В 1979 году при раскопках приморского индейского селения в штате Мэн лопата археолога выбросила из земли монету, ставшую сенсацией номер один. Известный лондонский эксперт-нумизмат Питер Сибей уже при самом поверхностном знакомстве определил, что она чеканилась в правление Олава Тихого, преемника Харальда Сурового, то есть между 1066 и 1093 годом. Примерно этим временем датируется и сам раскапываемый объект - значит, монета попала в землю при «жизни» этого поселка. Находка монеты доказывает, что плавания норманнов в Америку не прекращались, что предпринимались все новые и новые попытки, что память о Винланде не умирала. В 1118 году в Винланд отправился первый гренландский епископ Эйрик Гнупсон, чтобы укрепить пошатнувшуюся среди колонистов веру. Многие сомневались в успешном исходе экспедиции, в лучшем случае считая, что Эйрик либо остался в Винланде навсегда, либо погиб на обратном пути. Это не так. Выполнив свою миссию, епископ вернулся в Европу, но доказательство этому получено лишь 10 октября 1965 года, когда в американских и английских газетах одновременно появились сенсационные сообщения о находке карты, датируемой примерно 1440 годом. Вскоре были опубликованы и ее изображения. Хотя карта сильно пострадала от времени, на ней сохранились довольно отчетливые очертания Исландии, Гренландии (особенно точно снято ее западное побережье) и «острова Винланд». Легенда в верхнем левом углу сообщает, что «с Божьей помощью спутники Бьярни и Лейв Эйриксон после долгого путешествия, предпринятого ими с острова Гренландии в южном направлении, в самые отдаленные части Западного океана, прошли под парусами через льды и открыли новую очень плодородную страну, где растет даже виноградная лоза, и но потому назвали ее Винланд» и что после них там побывал «в последний год правления папы Пасхалия II» (в 1118 году) гренландский епископ Эйрик. В октябре 1957 года эта карта попалась на глаза американскому антиквару из Нью-Хейвена Лоуренсу Уиттену, путешествовавшему по Европе и увидевшему ее в одной частной коллекции. Было ясно, что карта - составная часть латинской рукописи, вместе с коей она и была приобретена. Вероятно, решил Уиттен, это рукопись XIII века - «Сообщение о татарах» лионского монаха Джиованни дель Плано Карпини, ездившего по поручению папы Иннокентия IV с миссией в ставку монгольского хана в 1245-1247 годах. Однако в следующем году на поверхность антикварного моря всплыл еще один кусок рукописи - на сей раз датируемый XV веком (примерно 1440 годом). Автор этого фрагмента был установлен довольно легко: доминиканский монах Винсент де Бове, известный как автор «Зеркала истории». Теперь стало ясно, что фрагмент Карпини не подлинник, а позднейший список, включенный Бове в свою книгу. Когда два куска рукописи соединили, стали очевидными и один и тот же почерк, и одинаковые водяные знаки на бумаге, и множество других мелких признаков. Последние сомнения исчезли, когда совпали дырки от книжных червей, «трудившихся» над рукописью в течение пяти столетий. Следовательно, карта не была подделкой, а это означает, что экспедиция Гнупсона была успешной. Сведениями о дальнейших посещениях Винланда мы пока не располагаем. Известны лишь глухие упоминания о некоторых попытках вроде той, что предпринял в 1347 году еще один гренландский корабль с восемнадцатью членами экипажа: он двинулся по следам Лейва, но был пригнан ветрами обратно. А такие счастливые случаи, как история с картой, бывают, увы, нечасто. Лейв Счастливый умер в 1021 году. В Бостоне в 1887 году ему был воздвигнут памятник, а начиная с 1964 года американцы отмечают 9 октября как День Эйриксона - первооткрывателя своего континента. Открытие Америки отнюдь не обратило кормила норманнских кораблей за океан. У викингов было еще достаточно неотложных дел в Европе. Например - Англия.
Правнук Хрольва Пешехода, основавшего государство на берегу Ла-Манша, Родберт, снискавший шумную известность под именем Роберта Дьявола (в немалой степени он обязан этой известностью замечательной опере Джакомо Мейербера), чтобы упрочить положение нормандских герцогов в семье европейских монархов, а заодно замолить безвременную кончину отравленного им в 1028 году своего брата Ричарда III, совершил модное тогда паломничество в Иерусалим, но на обратном пути сам был отравлен своими слугами в Никее. Ставший нормандским герцогом его сын Вильям Незаконнорожденный (его матерью была дочь кожевника) немедленно включается в участившиеся к тому времени норманнские набеги на Англию. В 1016 году умер король саксов Этельред II Неповоротливый, и после недолгого правления его сыновей Эдмунда II Железнобокого и Эдварда Доброго на британский трон уселся давний недруг Этельреда - датчанин Кнут Могучий. Уселся надолго - на восемнадцать лет. Право свое на английский престол Кнут обосновал просто и без затей: он женился на вдове Этельреда Эмме, сестре Роберта Дьявола, а затем изгнал с острова детей Этельреда. Однако в 1042 году саксам удалось восстановить статус-кво: английским королем стал прибывший из Нормандии Эдуард Исповедник, процарствовавший двадцать четыре года. Первые девять лет его правления были сравнительно спокойными, взоры его чаще обращались к северу, чем к востоку или югу: Эдуард всецело был поглощен устройством дел шотландского принца Малькольма, нашедшего приют при его дворе после убийства Макбетом его отца - короля Дункана. Но Эдуарда и самого едва не постигла участь несчастного шотландца. Недовольные засильем норманнов, его придворные составили заговор, возглавленный Годвином Уэссекским, тестем Эдуарда, а после смерти Годвина в 1053 году Эдуард был вынужден завещать престол его сыну Харальду, на чьей дочери был женат русский князь Владимир Мономах. Однако Харальд родился под несчастливой звездой, ему не пришлось процарствовать и года. После смерти Эдуарда Исповедника в начале 1066 года, воспользовавшись тем, что Харальд водрузил на себя корону без церковного благословения, права на его престол предъявил расторопный сын Роберта Дьявола й внучатый племянник Эммы - Вильям. Вдаваться в юридические тонкости у него не было ни времени, ни желания, и с благословения папы в ночь с 27 на 28 августа он взошел на палубу «Моры». Четыреста боевых кораблей и тысяча транспортных последовали за своим флагманом из устья Дивы, форсировали пролив и бросили якоря в порту Певенсей близ Хастингса. 14 октября в битве при Хастингсе войска Харальда были разбиты, а сам он поражен стрелой в голову, и на британский трон уселся норманнский пират, вошедший в историю как Вильгельм Завоеватель. Брату Харальда Вальтьову, участнику битвы при Хастингсе, новоиспеченный король предложил мир и прощение. Но когда Вальтьов с несколькими людьми отправился в ставку Вильгельма, «ему навстречу вышли двое посланцев конунга во главе отряда и схватили его, заковали в цепи и затем обезглавили. Англичане считают его святым»,- сообщает сага. Считается, что с завоеванием Англии норманнами «эпоха викингов» закончилась. Но это не так. Экспансия их заметно поутихла, это верно, но они еще не раз громко напомнят о себе, подобно тому, как зима нередко дает о себе знать в апреле, а то и в мае. Они не знали меры в своих устремлениях, их суда бороздили воды всех известных им морей и проникали в неизвестные. Только к Винланду их плавания прекратились. Предпринятая-в 1065 году попытка плавания туда Харальдом Суровым закончилась в районе Гренландии, где, по словам Адама Бременского, «смутно маячил край Земли» и «застывшее море» с грохотом «низвергалось в чудовищную пучину». Им еще предстоит открыть Азорские острова, в 1402-1405 годах викинг Жан де Бетанкур именем кастильского короля станет властителем Канарских островов, а в 1365 году норманны заложат торговое поселение около устья Сенегала. Но это уже не разбойники-профессионалы. В XII веке викинги, хотя и не спеша, сходят с мировой арены, их вожди становятся герцогами и королями, а их вотчины - европейскими государствами.
ХРОНИКА ТРЕТЬЯ,
повествующая о том, как варяги и греки жаловали друг к другу в гости.
Громкие дела викингов докатились и до восточных земель - до Киева. Этот небольшой даже по тому времени городишко родился двумя веками ранее на месте древнейшего поселения Кгуе, упоминаемого античными историками (Птолемей) и средневековыми миссионерами (Гельмольд). Владели им Полянские князья - братья Кий, Щек и Хорив со своею сестрою Лыбедью: вначале каждый своим участком, а позднее - единым городом, слившимся из этих участков под властью старшего брата Кия. Это добровольное объединение сразу же принесло ощутимые плоды. Ромеи перестали чувствовать себя в безопасности на своих северных границах: начиная с рубежа V и VI веков руссы предпринимают одну попытку за другой закрепиться на южном берегу Дуная. Из летописей известны даже походы Кия на Константинополь и основание им города Киевца на Дунае. Однако после смерти братьев Киев захватили хазары и древляне, и город быстро пришел в запустение. Но руссы не переставали напоминать о себе византийским летописцам. На рубеже VIII и IX веков они, предводительствуемые неким Бравлином, отбили у греков богатый торговый город Сугдею, переименовали его в Сурож (теперь это Судак), и оттуда их флотилии стали тревожить северные берега Малой Азии. А примерно в 859 году на Ильмень-озере возник Новгород, отделившийся от порушенного хазарами Киевского княжества и основанный, как утверждала молва, тем же Бравлином. Уже в 860-м, на. втором году своего существования, новгородское войско появилось у стен Царьграда. Был ли это единичный набег или один из целой серии - мы не знаем. Несколько лет в Новом городе шла борьба за власть, не утихали междоусобицы. И лишь после того как в сентябре 862 года новгородцы пригласили на княжение норманна Рюрика, в Восточной Европе произошли заметные перемены. Вскоре после воцарения Рюрика в его дружине, как и следовало ожидать, начались раздоры. Некоторые дружинники, равные Рюрику по происхождению, а то и превосходившие его, почувствовали себя обделенными. Это следовало немедленно исправить. Пример подал в том же году норманнский воевода Рангвальд: он избрал своей вотчиной Полоцк и сел там на княжение, основав тем самым престол великих князей Литвы. За ним последовали еще два знатных норманна - Аскольд и Дир. Отделившись от Рюрика со своими дружинами, они нащупали истоки Днепра и двинулись вниз по течению. Река привела их к Киеву. В 864 году (если верить летописи) они отвоевали город у хазар и сели на совместное княжение. Года два спустя князья-варяги, по примеру Кия, совершили набег на Константинополь. Подробности нам неизвестны, но есть основания полагать, что он тоже был небезуспешным. Только внезапно разыгравшейся буре обязаны ромеи своим спасением. Киев вновь процветал, не зная еще, что скоро ему предстоит переменить хозяина. В 882 году новгородский князь Олег, родич и наследник Рюрика, признал в бывшей метрополии, возрожденной его соотечественниками, опасного соседа. Получив город обманом, он убил Аскольда и Дира и вскоре сделал Киев своей столицей. Новое государственное образование приняло название Киевская Русь, ее территория раскинулась от Балтики и Белого моря до Черного и от Верхней Волги до Вислы. Надолго сделалось русским Лукоморье (Азовское море), древнегреческое Меотийское болото. Амстердамский географ Бернхард Варен в своей «Всеобщей географии», изданной в 1650 году (при Петре эта книга была переведена Поликарповым на русский язык), писал: «Блато меотiское арiстотель нарицаетъ езеромъ, и воистину правдивее». Контроль над берегами этого «езера» сделал руссов гегемонами окрестных вод. Не последнюю роль здесь сыграл захват главнейшего портового торжища хазар - города Тмутаракани, нынешней Тамани. На протяжении многих лет он давал прибежище гонимым и высылал в море пиратские флотилии, на чьих палубах эти изгои вновь могли почувствовать себя людьми. Один из них, князь-пират Давыд Игоревич, овладел в конце концов самим этим городом, возмечтав превратить его в центр пиратского государства, но был изгнан в 1083 году Олегом Черниговским, не меньшим разбойником, чем Давыд. Перехватив его инициативу, он блокировал на какое-то время устья Днепра и Дона, собирая щедрую дань с купцов. Византийское имя Тмутаракани - Таматарх или Танатарх - весьма красноречиво говорит о положении этого города: «властелин Таны». Тана - это богатейший торговый город итальянцев в устье Дона, возникший на развалинах древнегреческого Танаиса. Владеть Тмутараканью - означаловладеть всем Азовским морем. Ее положение на берегу Боспора Киммерийского сравнимо с положением Трои на берегу Боспора Фракийского. Когда в середине XII века этот ключ-город перешел в руки половцев, русская торговля заметно пошатнулась, а Азовское море перестали называть Славянским. Наличие морей и обилие рек не могли не способствовать зарождению и развитию судоходства. Возрождались полузабытые водные пути греческих колонистов, прокладывались новые. Цепь укрепленных портовых городов, разделенных четырехчасовым пешим переходом, протянулась по реке Суле и другим притокам Днепра. Столетие спустя после объединения княжеств руссы имели по крайней мере два устойчивых и оживленных водных пути, пересекавших в меридиональном направлении весь материк. Один из них, пишет летописец Нестор, «был из варяг в греки и из грек по Днепру, а в верховьях Днепра - волок до Ловати, а по Ловати можно войти в Ильмень, озеро великое; из него же вытекает Волхов и впадает в озеро великое Нево (Ладожское. - А. С.) и устье того озера (река Нева.- А. С.) впадает в море Варяжское (Балтийское.- А. С.)». Этот путь имел массу вариантов, одним из важнейших было использование Даугавы. Вторая водная артерия пролегала по Волге почти на всем ее протяжении и выводила ладьи через Каспийское море к Ирану. Пушнина, кожи, мед, воск, соль, рыба, лес, хлеб, скот попадали в Византию по Днепру и в Счастливую Азию и Индию по Волге. Арабский почтмейстер середины IX века из города Рея - Абд ал-Касум ибн Хордадбе как о чем-то привычном сообщает в «Китаб ал-масалик вал-мамалик» («Книге путей и государств») о плаваниях русских от столицы хазар до моря Джурджана (Каспийского). Они продолжались до тех пор, пока татаро-монголы не отрезали Русь вообще от всех южных морей. Для защиты купцов от кочевников и для складирования товаров на этих водных путях торговые люди закладывали города: на Сейме - Курск, на Днепре - Смоленск, на Даугаве - Полоцк, на Великой - Псков, на Которосли - Ярославль. Множество городов и поселений возникло в Прибалтике. С 862 года - времени прихода Рюрика - летописцы наравне с Новгородом и Киевом упоминают Ростов Великий и Муром. Была и еще одна система водных путей - менее прославленная, чем эти две, но не менее великая. Она возникла не ранее X века, когда на западном берегу озера Нево был основан город Корела, нынешний Приозерск. Северо-восточный путь вел новгородцев по Волхову до озера Нево, потом по Свири до Онеги-озера и далее по одной из трех основных трасс: по Вытегре в озеро Лача и затем по порожистой Онеге; по Водле на Кенозеро и Онегу с волоком на реку Емцу и до Северной Двины; через Повенец-кий залив на Выгозеро к Онежской губе. Все эти три пути выводили в Белое море. Перед подданными варяжских князей распахнулись и варяжские земли. Началось их интенсивное освоение. Новгородцы открыли системы водных путей в Карелии и Финляндии, по озерно-речной системе Пиелисъ-ярви - Оулуярви их ладьи вышли в Ботнический залив, в XI веке они исследовали озера Кольского полуострова - например, Имандру и Умбозеро - и дошли до Хибинского хребта, двинский посадник Улеб (вернее всего - норманн Олав) достиг Карских (Железных) Ворот, а в XII веке весь юг Кольского полуострова стал владением новгородцев. Ими были обследованы и зарисованы берега Онежской губы и Соловецкие острова, берега Двинской губы и Кольского полуострова вплоть до Мурмана, полуостров Канин и побережье Баренцева моря от Чешской губы до Печорской. Они поднялись по Печоре, Кулою, Мезени и Северной Двине и основали на их берегах торговые фактории. Бернхарду Варену уже хорошо знаком и «океанъ полунощный, около земли полярныя аркти-чесюя», и частичка этого моря Севера - «море бЪлое, нЪдро россжское изъ океана полунощного между лап-шею, и последними россшскими границами, и идетъ къ полуденной странЪ; кончится же часпю при фин-ляндш часпю же при царствЪ московскомъ (издаетъ малую нЪкую долговатую пазуху, которая протя-зается до лапши) идЪже преславное и благоугодное отъ англичанъ и белеянъ есть купечество, названное пристанище архангелогородское. Реки имЪеть знамениты». Архангельск был заложен в 1584 году, при Иване Грозном. Но сведения Варена куда старше. Задолго до его времени были открыт «фретъ (пролив.- А. С.) ледовитый между новою землею и спицбергеномъ, или инымъ именемъ оная называется земля полярная». Но время подлинных, фиксированных открытий в Арктике еще не приспело... Навстречу новгородцам плыли их братья по крови - норманны. Об этом известно благодаря ненасытной любознательности и неутомимой научной и литературной деятельности уэссекского короля Альфреда, одного из немногих, кто по праву носил прозвище Великий. Он немедленно и во всех подробностях записывал все новое, что ему удавалось разузнать, его записи и сегодня служат важным источником по различным отраслям знаний того времени. Вставки Альфреда в текст собственноручно им переведенного труда римского историка Павла Орозия по географии Европы содержат любопытные сведения о плаваниях Вульфстана (то ли норвежца, то ли англосакса) и норвежца Отера, относящихся к 875-880 годам. Вульфстан впервые пересек по широте Балтийское море от Ютландии до Вислинского залива и поведал Альфреду диковинные сведения географического и этнографического характера. Что же касается Отера, то он (возможно, по поручению самого Альфреда, текст допускает и такое толкование) обогнул Скандинавский полуостров и первым проложил не речной, а морской путь в Белое море, достигнув Биармии («Великой Перми» русских летописей) и устья Северной Двины. Отер красочно описывает в своем отчете королю неизвестный еще тогда Нордкап, район Мурмана, страну тер-финнов («лесных финнов») на «Терском берегу» Белого моря (юг Кольского полуострова и Карелия). Новые открытия порождали разработку и освоение новых путей. Новгородские ушкуйники, получившие это название от своих ладей - ушкуев, проложили две наиболее удобные и оживленные трассы к северо-восточным берегам Европы: северную - по Пинеге, Северной Двине, рекам Кулой, Мезень, Пеза и Пильма до Печоры, и южную - по Сухоне, Северной Двине и Вычегде тоже до Печоры. К началу XIII века они дошли до северных отрогов Урала. Однако доминирующими оставались все же южные пути. Недаром в IX-XVI веках Черное море сплошь и рядом называлось Русским, хотя берега его были усеяны греческими и римскими колониями, пережившими тысячелетия.
Блажен, кто странствовал, подобно Одиссею, В Колхиду парус вел за Золотым Руном И, мудрый опытом, вернулся в отчий дом Остаток дней земных прожить с родней своею,
писал Дю Белле. С древнейших времен это было пиратское море - опасное, но и прибыльное. Оно помнило корабли Ясона, поход Ксенофонта, жертвоприношение Ифигении. Здесь, на Змеином острове, покоился прах обожествленного Ахилла, тщетно дожидавшегося, когда же к нему наконец присоединится его сподвижник Одиссей, штурмовавший вместе с ним Трою:
Доселе грезят берега мои: Смоленые ахейские ладьи, И мертвых кличет голос Одиссея...
Ахилл не дождался друга. Вместо него пришли иные народы, и на черноморских берегах зазвучали неведомые языки. То были славяне, варвары в понимании греков и римлян. Не ахейские, а русские моряки бороздили теперь черноморские волны, и именно русский поэт Максимилиан Волошин много веков спустя вспомнит в своих стихах о тени Ахилла, все еще витающей над ними. «О понте ексинскомъ не всуе имамы сумни-тися, аще сего первЪйщаго моря (Средиземного.- А. С.) частно можетъ нарещися, - сообщает Бсрнхард Варен и добавляет: - Ниже сумнЪше есть, дабы понтъ евксинскш иногда ради тоя вины имелъ быти езеромъ, босфору заграждену бывшу». Русские долбленые или кожаные лодьи несли свои товары по пути аргонавтов и тысяч безвестных Одиссеев, чьи тени тоже навечно остались витать в этих местах, на бывшей окраине бывшего цивилизованного мира. Товары Севера находили хороший и быстрый сбыт в Византии и Аравии. Осенью князья собирали дань, дожидались прибытия лодий с северных морей и зимой, сообразуясь с общим количеством груза, валили дуб, осину, ясень, липу и строили нужное число лодий, выжигая или выдалбливая стволы. По весне их переправляли из Новгорода и Смоленска, Любеча и Чернигова в Киев, и там опытные корабелы доводили военно-купеческий флот до кондиции. Константин Багрянородный называет русские суда моноксилами, то есть однодеревками. Однако для дальних походов лодки, выдолбленные из одного ствола, явно не годятся: ведь кроме четырех десятков человек в каждой (об этом прямо упоминают летописи), они должны были везти еще и оружие, и разного рода припасы, и запасные части рангоута и такелажа, и все необходимое для ежедневных жертвоприношений, и товары, и «живой провиант» - скот. Поэтому логичнее допустить, что словом «моноксил» в византийскую эпоху обозначали не только долбленки, но и суда с десяти-пятнадцатиметровым килем, выкроенным из единого древесного ствола (такой киль упоминался выше, когда речь шла о коландии и дау). Судя по скудным обмолвкам летописцев, киевско-новго-родские лодьи имели малую осадку, чтобы легче было преодолевать пороги и сводить до минимума тягости волока; их снабжали рулевыми и гребными веслами с уключинами; на их мачтах белел прямоугольный парус, а на палубах всегда был наготове якорь, не видный стороннему наблюдателю за высоким фальшбортом, улучшающим остойчивость судна и увеличивающим его грузовместимость. В июне лодьи перегонялись к устью Днепра и после недолгой, но необходимой подготовки выходили в море.
Их влекла в морские просторы не только торговля. Купцы редко бывали просто купцами. Недостатки кавказского берега с его маленькими и плохо расположенными по отношению к преобладающим ветрам гаванями с лихвой компенсировались изобилием оживленных торговых трасс. Самой привлекательной была артерия, соединявшая страны Средиземноморья с южными берегами Тавриды и предназначавшаяся в основном для обмена итальянских или греческих вин на крымское зерно и скот. Начиная с III века купеческо-пиратские флоты не оставляли без внимания этот путь, свой промысел на нем они сделали наследственным и в Средние века заметно усовершенствовали его благодаря выучке у крымских татар. Богатые флотилии, шествующие к крымским берегам из колоний Генуи, византийские, а позднее и турецкие корабли представляли лакомый кусок. Будучи не в силах обеспечить безопасность своих судов, генуэзцы ограничились заботой о безопасности грузов, прибывавших с моря или доставляемых из приазовских степей: полузаброшенный древнегреческий торговый город они превратили в генуэзский укрепленный форт и дали ему греческое имя Анапа, что означает «место отдыха». Однако отдых оказался для них недолгим, и, забегая вперед, можно вспомнить руины разрушенной дотла Анапы, на которых турки построили в 1783 году свою крепость, а в 1828-м сделали весьма дальновидный шаг, уступив ее России. Несмотря на интенсивную торговлю, русско-византийские отношения оставляли поэтому желать много лучшего и в конце концов вылились в открытый конфликт. В 907 году князь Олег, после захвата Киева подчинивший почти все славянские племена по Днепру, пошел войной на Византию с тем, «чтобы Русь, приходящая в Царьград, могла брать съестных припасов сколько хочет... а когда пойдут русские домой, то берут у царя греческого на дорогу съестное, якоря, канаты, паруса и все нужное». Время для этого похода было выбрано как нельзя лучше: Византия по существу была без боеспособного флота. «Монахи расслабили умы государей,- ядовито иронизирует Монтескье, - и заставили их поступать безрассудно, даже когда они совершали добрые дела. В то время как военные матросы по повелению Василия (867-886.- А. С.) были заняты постройкой церкви святого Михаила, сарацины грабили Сицилию и взяли Сиракузы. А когда его преемник Лев употреблял свой флот для той же цели, он позволил сарацинам захватить Тавромению и остров Лемнос». Как раз в царствование этого Льва, прозванного Мудрым и Философом, и пожаловала в Византию Олегова дружина. Олег осадил Константинополь двумя тысячами ло-дий с сорока человеками в каждой и восьмидесятитысячной конницей. С русичами шли «на греков» дулебы, хорваты, чудь, меря, тиверцы и другие подвластные Руси или союзные ей племена. Разгромив окрестности столицы, князь приступил к штурму. «И вышел Олег на берег,- сообщает Нестор,- и начал воевать, и много греков убил в окрестностях города, и разбил множество палат, и церкви пожег. А тех, кого захватили в плен, одних иссекли, других мучили, иных же застрелили, а некоторых побросали в море, и много другого зла сделали русские грекам, как обычно делают враги. И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на них корабли. И с попутным ветром подняли они паруса и пошли со стороны поля к городу. Греки, увидев это, испугались и сказали через послов Олегу: „Не губи города, дадим тебе дани, какой захочешь". И остановил Олег воинов, и вынесли ему пищу и вино, но не принял его, так как было оно отравлено. И испугались греки и сказали: „Это не Олег, но святой Дмитрий, посланный на нас от Бога"». После этого переговоры пошли успешней, и условия диктовал Олег. Получив огромнейший выкуп - по двенадцати гривен «на ключ», то есть на уключину, русский князь отбыл восвояси, толи прибив, то ли повесив, как говорит летопись, на ворота Царьграда свой щит в память о военном триумфе и предупредив, что скоро снова пожалует «в гости», дабы заключить письменный договор, а пока поглядит, как ромеи держат слово. Переговоры вели пятеро парламентариев - дружинники Карл, Фар-лоф, Вельмуд, Рулав и Стемид. Все - норманны, как и сам Олег. Если вспомнить известные из истории бесчинства викингов, нетрудно вообразить, каково пришлось грекам. Четырьмя годами позже Олег направляет в Царь-град посольство и 9 сентября заключает письменный договор, в общих чертах повторявший устное соглашение 907 года. К этому времени на службе у константинопольских монархов состоял наемный русский отряд численностью не менее семисот человек. Такой отряд, по сообщению Константина Багрянородного, сражался в 910 году совместно с византийцами против критских арабов. Этот факт уже сам по себе свидетельствует о высоком авторитете русского наемногр оружия. Как и в античную старину, Крит был тогда самым настоящим пиратским государством, но теперь уже арабским: арабы захватили его при помощи своего Испанского флота и владели им сто пятьдесят восемь лет. Крит на равных вел оживленную торговлю со своими соседями, ближними и дальними, но ничто не мешало его молодцам дожидаться выхода в море судна, только что загруженного в их родимом порту, и с выгодой перепродавать захваченный товар его же прежнему владельцу, а в свободное от этих хлопот время разорять и выжигать приглянувшиеся им побережья. В 959 году византийский император Роман попытался выкурить арабов с Крита жидким огнем, но ничего у него из этой затеи не вышло, как не вышло и у его предшественников, и у его преемников. Критяне, пишет Лев Диакон, «опустошая пиратскими разбойничьими набегами берега обоих материков, накопили неисчислимые сокровища» и «ежегодно причиняли ромейской земле много ущерба, бедствий и порабощений». Военное содружество против мусульман сыграло немалую роль в том, что по новому договору Византия обеспечивала русским купцам беспошлинную торговлю, бесплатное содержание и ряд льгот, важнейшей из коих было право бесплатного пользования греческими банями, к тому же еще и без ограничения во времени. Русские, со своей стороны, брали аналогичные обязательства по отношению к ромейским купцам. Одна из статей договора гласила: «Если корабль греческий будет выброшен ветром на чужую землю и случится при этом кто-нибудь из русских, то они должны охранять корабль с грузом, отослать его назад, провожать его через всякое страшное место, пока достигнет места безопасного; если же противные ветры и мели задержат корабль на одном месте, то русские должны помочь гребцами и проводить их с товарами по здорову...» В 912 году Олегу наследовал сын Рюрика Ивар, Ингвар («молодой воин»), у руссов - Игорь. Уже на втором году княжения он предпринял, как свидетельствуют арабские источники, набег на берега Каспия - моря, известного также под названиями Хвалынское, Хазарское, Табаристанское, Ак-Денгиз и другими. «Суть, иже то море, - размышляет Бернхард Варен, - нарицаютъ самымъ моремъ, а море самое свойственно нарЪчено не ино есть, развЪ океанова часть будетъ, сирЪчь по океану явственнымъ трактомъ прилепляется, но они глаголютъ, что чрез подземное течеше со океа-номъ соединяется... Ниже сумнЪние есть, дабы понтъ евксинскш иногда ради тоя вины имЪлъ быти езеромъ, босфору заграждену бывшу». По словам летописца, в этом набеге участвовало полтысячи лодий, но, вероятно, это преувеличение. Чрезвычайно обильной добычей Игоря, награбленной на Каспии, воспользовались, однако, хозяева - хазары, подстерегшие его на обратном пути в хвалынских степях и доказавшие на деле, что море совсем не случайно называют их именем. Игорь вернулся в Киев с жалкими остатками дружины. В 936 году его воины участвовали в грабежах византийским флотом берегов Италии и Крита. Сочтя себя после этого знатоком византийского военного искусства, Игорь в 941 году попытался захватить и сам Царьград «с огромным войском на 10 тысячах судов», по свидетельству хронистов, в том числе и Нестора, но потерял почти весь свой флот - возможно, тот самый, что опустошал берега Каспийского моря: корабли были уничтожены «греческим огнем». «И брани меж ними были злы,- пишет Нестор,- но одолели греки, русские же возвратились к дружине своей к вечеру и на ночь влезли в лодьи и отступили. Феофан же преследовал их в лодьях с огнем и начал пускать огонь из труб на русские лодьи. Русские же, видя пламень, бросались в морскую воду, желая спастись, и так возвратились восвояси. Те, кто пришел в землю свою, поведал каждый своим и о том, что произошло, и о лодейном огне: „Словно молнию небесную,- говорили они,- имеют у себя греки и, пуская ее, жгут нас, и поэтому мы не одолели их"». В родные края, злорадствует Лев Диакон, Игорь «прибыл едва лишь с десятком лодок, сам став вестником своей беды». Однако в 944 году русские сполна взяли реванш: их военные действия на Дунае вынудили императора выслать к Игорю послов, предложивших выкуп, достаточно солидный для того, чтобы князь принял мир. А еще через год был подписан очередной договор, почти дословно повторявший Олегов и заключенный «на вся лета, пока солнце сияет и весь мир стоит». Новым в нем было ограничение льгот русских купцов и запрещение их зимовок в дунайской дельте. Дунайская победа Игоря была как бы окаймлена двумя событиями, весьма существенными для той эпохи. В 943 году его флот захватил ряд укреплений в верховьях Куры, и к Русскому княжеству едва не были присоединены Крым и Таманские степи. Помешал случай. Захватив в Закавказье город Бердаа, Игорь оказался запертым в нем арабами и грузинами. Нападения, он, правда, отразил, но нехватка продовольствия вынудила его бесславно ретироваться. Как и с Каспия, из этого похода добралась до Киева лишь ничтожная горстка людей. Второе событие связано с непомерными аппетитами Игоря, воистину не знавшими предела. Он и пал их жертвой в 945 году, когда попытался вторично собрать дань с древлян, раздраженный насмешками Свенель-да - будущего начальника Святославовой дружины. Древлянский князь Мал убил Игоря, но его жена Хельга («святая», «светлая»), вошедшая в русскую историю под именем Ольги, отомстила древлянам методом, обычным для норманнов при штурме особо стойких крепостей, какой, по-видимому, был и стольный город Мала - Искоростень. Она приказала взять от древлян необычную дань - потри голубя и три воробья от каждого двора, привязать к их лапкам смолистую паклю, поджечь ее и отпустить птиц к их гнездам. Столица древлян сгорела дотла, а сам Мал с дочерью Малушей и сыном Добрыней - будущим былинным героем Добрыней Никитичем - попал в плен. Впоследствии Ольга женила своего сына Святослава на ключнице Малуше, и от их брака родился Владимир Красно Солнышко - русский былинный вариант короля Артура, - приходившийся Добрыне племянником. Когда Свенельд узурпировал княжескую власть у Святослава, Владимир с Добрыней бежали в Новгород, а оттуда в Швецию, жили там несколько лет и участвовали в боевых действиях. Владимир вошел в скандинавский эпос под именем Вальдемар. Вернувшись в Новгород в 969 году, Владимир с Добрыней после смерти Святослава в 972 году предательски убили старшего брата Владимира - Ярополка, захватили Полоцк, а затем вернули себе Киев, изгнав Свенельда «в Поле», то есть к полянам.
Во всех этих княжеских перипетиях деятельнейшее участие принимал норманн Сигурд, давным-давно изгнанный из страны и нашедший надежное пристанище в Гардарике («стране городов») - так норманны называли Русь, где они вели лучшую свою торговлю и куда спасались бегством после бесконечных своих раздоров. Сигурд пользовался большим почетом у Владимира (надо думать, не за красивые глаза), поэтому когда его сестре Астрид с трехлетним сыном Олавом тоже пришлось бежать из Норвегии, она не задумывалась о маршруте. Но на этом пути их встретили эстонские пираты и, как свидетельствует сага, «некоторых из захваченных в плен они убили, а других поделили между собой как рабов». Астрид была разлучена с сыном, а Олав провел в плену у эстов шесть лет, переходя из одних рук в другие. Выручил его счастливый случай. Однажды Сигурд по поручению Владимира, только что отвоевавшего свой престол, прибыл в Эстонию для сбора податей. На рынке ему приглянулся чужеземный мальчик-раб, и он решил его купить. Слово за слово из разговора выяснилось, что это его родной племянник. Так попал ко двору русского князя Олав Трюггвасон, будущий король Норвегии, и можно не сомневаться, что он не даром ел русский хлеб. Утвердившись в Киеве в 978 году, Владимир продолжил политику своего отца. Отношения с Византией резко ухудшились после 971 года, когда Святослав с десятитысячной дружиной неожиданно появился на Дунае и захватил часть болгарских земель. Самое неприятное для обеих сторон заключалось в том, что византийский император сам натравил Святослава на Болгарию, отказавшуюся платить дань Константинополю. Русский князь сделал что мог: он захватил все города вверх по Дунаю, оккупировал Македонию и Фракию и уселся княжить в Переяславце (ныне болгарский город Русе на границе с Румынией). «Греки доставляют мне золото,- хвастался князь,- драгоценные ткани, фрукты и вина, Венгрия снабжает скотом и конями, из Руси я получаю мед, воск, меха и людей». Однако приятная жизнь вскоре кончилась. Уразумев, что дело зашло слишком далеко, Византия начала тайные переговоры с болгарами, убеждая их захватить Киев. Святослав вынужден был срочно возвратиться, но когда угроза миновала, вновь двинулся к полюбившемуся ему Переяславцу. Чтобы обеспечить себе спокойное княжение в новообретенной вотчине, он захватил на всякий случай Филиппополь (Пловдив) и выступил к Адрианополю (Эдерне). С огромным трудом удалось византийскому императору удержать свои фракийские владения. Осажденные в Доростоле (Силистре), руссы отбивались отчаянно, но силы были слишком неравны. Греки оказались победителями на суше, а чуть позже триста византийских судов, вооруженных «греческим огнем», восстановили статус-кво и на море. Святослав, между прочим, по свидетельству Льва Диакона, называл этот огонь, «который мог даже и камни обращать в пепел», не «греческим», а «мидийским», то есть считал его родиной то ли иранскую Мидию (о коей он, правда, едва ли мог быть наслышан), то ли Аравию - точнее район Синайского полуострова, где жили арабские племена мидиев, или мадианитов (библейских моавитян), и существовали города Модиана (в районе Дабы) и Мадиана (нынешняя Медина). После трехмесячной осады Святослав лишился флота и весной 972 года сам погиб со своей дружиной у днепровских порогов от рук печенегов, оповещенных Иоанном I Цимисхием о маршруте своего врага. В отличие от отца, который, кроме войн, вел и широкую торговлю (в 970-971 годах купцы Святослава появлялись даже у берегов Египта, Испании и Северной Африки), Владимир проявил себя в основном на военном поприще. Возможно, в этом сказалось его длительное пребывание в земле норманнов. Но печальный опыт батюшки не прошел даром: воевал Владимир в союзе с Константинополем. В 987 году в обмен на обещание императора Василия выдать за него свою сестру Анну он направил шесть тысяч воинов для участия в подавлении мятежа византийской армии, упустив тем самым блестящую возможность стать византийским монархом, выступи он в союзе с мятежным полководцем Вардой Фокой. Возможно, он потом и пожалел об этом, так как Василий своего обещания не выполнил. Но Владимир не пал духом и тут же осадил крымскую колонию Византии Корсунь (Херсонес, нынешний Севастополь). После этого император стал уступчивее и обменял на Корсунь свою сестру, ставшую русской государыней. Не без ее влияния Русь приняла в 988 году крещение, что сразу же выдвинуло ее в один ряд с ведущими европейскими державами, в первую очередь скандинавскими и, конечно, с Византией. В 1009 году русские войска совершили совместный поход с ро-меями в Италию. В числе русских дружинников было немало наемных варяжских воинов: князья традиционно обращались за поддержкой к норманнским пиратам для улаживания своих семейных и международных неурядиц. Подобные экспедиции предпринимал и преемник Владимира - его сын Ярослав Мудрый: в 1019 и 1025 годах - в Италию, в 1038-1042-в Сицилию. Для этих целей в Константинополе постоянно содержалась хорошо оплачиваемая варяго-русская дружина, а русские купцы имели в столице собственное подворье. Впрочем, свои добрые отношения с Византией Ярослав, как правило, поддерживал чужими руками, на то он и звался Мудрым. Такова, например, история сицилийских походов, чья слава досталась в летописях русскому князю, хотя Ярослав лишь умело воспользовался нечаянно подвернувшимся случаем. После того как в 1029 году датчане в очередной раз разгромили объединенные шведско-норвежские войска, норвежский конунг Олав Харальдсон, прозванный впоследствии Святым, со своим сыном Магнусом бежал через Швецию на Русь ко двору гостеприимного Ярослава, вот уже десять лет женатого на шведской принцессе Ингигерд. «Олав конунг, - говорит сага, - предавался глубоким раздумьям и размышлениям о том, как ему быть дальше». Ярослав, видимо по совету Ингигерд, предложил ему принять власть над «Вульгарней» - Волжской Булгарией, будущим Казанским ханством. Но по зрелом размышлении Олав отверг эту честь. Не прельстила его и перспектива совершить паломничество в Иерусалим и затем уйти в монастырь. Под окнами его спальни не умолкал звон оружия дружины Ярослава, он звучал музыкой для ушей норманна. Олав предложил князю свой меч. Участвуя в его походах, он собирался с силами. Летом 1030 года Олав попытался вернуть себе престол, но этот шаг оказался преждевременным. В битве при Стиклесте 29 июля он погиб, трижды раненный. В этом сражении бок о бок с Олавом защищал честь Норвегии его пятнадцатилетний брат Харальд Суровый. После поражения норвежцев Харальд долго залечивал раны в глухом лесу, а потом, скрываясь от рыскавших по дорогам датчан, последовал примеру Олава. Он пробрался в Швецию, весной 1031 года снарядил там корабли и с присоединившимися к нему людьми прибыл летом в испытанное убежище - к Ярославу, где стал вождем его дружины. Несколько раз Харальд пробовал свои силы в походах по Восточному Пути (восточному - для норманнов) на саксов, вендов, куронов и другие народы, но Ярослав исподволь направил его устремления в иное русло, желая доставить приятное византийским монархам и соединить его с полезным для себя самого. В 1038 году варяжский флот прибыл в Константинополь, где тогда правили императрица Зоя и Михаил IV Пафлагонец. Харальд понравился Зое и был принят ею на службу, а вскоре был назначен предводителем всей русско-варяжской дружины. Уже осенью викинги вышли в Эгейское море совместно с византийской флотилией Георгия Маниака на ловлю пиратов: лавры Венеции, очистившей от пиратов Адриатику и уверенно владевшей ею, многих государей лишали тогда душевного равновесия. Однако вскоре между Харальдом и Георгием вспыхнуло несогласие, они разделились и стали действовать самостоятельно, дабы показать всем, кто чего стоит. Харальд отплыл на запад. Его привлекала Страна Сарацин, о несметных ее богатствах он был уже достаточно наслышан. Арабы в это время по уши увязли в Испании, где продолжалась Реконкиста. Как раз в тот год, когда Харальд прибыл к Ярославу, пал Кордовский халифат, и эхо этого падения разнеслось но самым отдаленным закоулкам Европы. Неудивительно поэтому, что норманны не встретили в Стране Сарацин сколько-нибудь серьезного сопротивления. Если верить саге, викинги захватили в Африке восемьдесят городов, а поскольку награбленная добыча их слишком обременяла, они отсылали ее «с верными людьми» к Ярославу. Облегчив казнохранилища африканских властителей, варяги отбыли на Сицилию и овладели там четырьмя крупными городами, считавшимися неприступными. Здесь Харальд проявил незаурядную тактическую изворотливость. Первый город имел столь прочные стены, что об осаде нечего было и думать. Харальд разбил лагерь у близлежащего леска и стал наблюдать Вскоре решение было найдено, оно почти ничем не отличалось от решения Ольги у стен Искоростеня. Норманны наловили городских ласточек, то и дело летавших в лес на поиски пищи, привязали к их спинкам сосновые стружки, смазанные воском и серой, подожгли их и отпустили обезумевших птиц к их гнездам. Через очень короткое время пылающий город распахнул свои ворота и запросил пощады.
 Боевой корабль викингов. Реконструкция.
Боевой корабль викингов. Реконструкция.
По-видимому, изобретателями этого способа были датчане. По крайней мере, с датчанами связано самое раннее его упоминание. Саксон Грамматик рассказывает, как его применял легендарный датский герой Хаддинг, сын короля Грама, воспитывавшийся, правда, в Швеции. Хаддинг для датчан - это примерно то же, что Геракл для греков или Эней для римлян, и, разумеется, нельзя слепо принимать на веру все сообщаемое о нем. Невозможно и датировать связанные с ним события, хотя путем довольно сложных и не очень уверенных сопоставлений по ряду обмолвок и деталей можно прийти к выводу, что речь идет о рубеже IX-VIII веков до н. э. (в этом случае Хаддинг оказывается современником Ромула). Согласно легендам, во время своих странствий, не уступающих странствиям Геракла, Хаддинг уничтожил некий славянский город Хандван (или Хольмгард, или Дина) в Геллеспонте точно так же, как Ольга и некоторые другие исторически реальные персонажи,- при помощи горящей смолы, привязанной к ножкам ласточек. Нельзя, однако, исключать и того, что Саксон приписал Хаддингу в легендарно трансформированном виде подвиг Сигурда, и что «город в Геллеспонте» - это та самая крепость за Геллеспонтом (если бы Сигурд плыл восточным путем) в Сицилии... Второй город викинги взяли подкопом. Случаю было угодно распорядиться так, что конец этого подкопа оказался как раз под пиршественной залой, где отцы города в этот час весело ублажали свои желудки. Можно себе представить, как на их пищеварение подействовало внезапное появление «из-под земли» вооруженных до зубов головорезов! В считанные минуты ворота были отперты, и в них хлынуло войско викингов, истомившихся ожиданием и жаждой мести. У третьего города, обнесенного кроме неприступных стен еще и широким рвом, викинги... затеяли игры на равнине, убрав с глаз долой все оружие. Горожане, выставив на стены вооруженных воинов и широко распахнув ворота в упоении своей безнаказанностью, наблюдали за ними несколько дней, осыпая насмешками и оскорблениями. Видя, что ничего страшного не происходит, они осмелели еще больше и стали выходить на стены безоружными, по-прежнему держа ворота открытыми. Это не осталось незамеченным, и однажды викинги вышли на игры в полном вооружении, тщательно замаскировав мечи плащами, а шлемы шляпами. Играя, они все ближе подступали к стенам на глазах беспечных горожан, а когда те спохватились, было поздно. По сигналу Харальда норманны молниеносно обмотали плащами левые руки, в правые взяли мечи и устремились в раскрытые ворота. Этот бой был особенно ожесточенным (Харальда сильно изранили, у него было рассечено лицо), но и этот город пал, как все предыдущие. Захват четвертого города воскрешает в памяти спектакль, разыгранный некогда Хаштайном под Луккой, с настолько незначительными вариациями, что их не стоит и упоминать. Был внезапный приступ благочестия и раскаяния, был обряд крещения, была безвременная кончина новообращенного и просьба похоронить его в городе. Но здесь дело не дошло до панихиды, как это было в Лукке. Гроб с телом «внезапно умершего» Харальда был поставлен поперек городских ворот, превратившись в подобие баррикады, его носильщики затрубили в трубы, обнажили мечи, и «все войско верингов бросилось тогда из лагеря в полном вооружении с кликами и гиканьем и ворвалось в город. Монахи же и другие священники, которые выступали в этом погребальном шествии, состязаясь между собой, кто первым получит приношения, теперь состязались в том, чтобы подальше убежать от верингов, потому что те убивали всякого, кто им попадался, будь то клирик или мирянин. Так веринги прошли по всему городу, убивая народ, разграбили все городские церкви и взяли огромную добычу». Это написано не итальянским монахом, а скандинавским летописцем! После нескольких лет грабежей в Африке и на Сицилии отягощенные добычей викинги возвратились в Константинополь. Но спустя короткое время они уже в новом походе - на этот раз их путь лежит в Палестину. Этот поход не числится историками среди Крестовых, а между тем он был успешнее многих из них. Как повествует сага, все города и крепости на пути викингов, в том числе и Иерусалим, были сданы им без боя, и «эта страна перешла под власть Харальда без пожаров и грабежей. Он дошел вплоть до Иордана и искупался в нем, как это в обычае у паломников... Он установил мир по всей дороге к Иордану и убивал разбойников и прочий склонный к грабежам люд». Верится, конечно, с трудом. Да и неясно, кого норманны именовали разбойниками. Не тех ли, кто пытался оказать им сопротивление? Что касается «прочего склонного к грабежам люда», то это, вернее всего, бесчисленные орды паломников, насчитывавшие иногда до тринадцати тысяч человек и в поисках пропитания свирепствовавшие ничуть не хуже разбойников-профессионалов. Пока происходили все эти события, племяннику Харальда удалось захватить власть в Норвегии и Дании, и, узнав об этом, викинги заскучали по родным фьордам. Харальд известил Зою о настроениях своих людей, но императрица, не желавшая лишаться прекрасной дружины и исчерпав все доводы, обвинила Харальда... в присвоении добычи Георгия Маниака! По ее навету император Михаил V Калафат, сменивший на троне своего тезку 11 декабря 1041 года, повелел бросить Харальда с двумя товарищами в темницу - высокую башню, открытую сверху, где было удобно поразмыслить над предложением Зои. Однако норманнам удалось выбраться по веревке, сброшенной сверху «одной знатной женщиной» и двумя ее слугами. Последнее, что учинили викинги в Константинополе, по словам летописца,- пробрались в спальню императора и выкололи ему глаза. Сага называет ослепленным императором Константина, но справедливости ради следует заметить, что тут скальды приписывают Харальду то, чего он явно не совершал. Ослеплен был Михаил V, процарствовавший меньше полугода, и не в спальне, а публично, 22 апреля 1042 юда, после чего корону принял Константин Мономах (дед Владимира Мономаха), процарствовавший тринадцать лет. Вероятно, сказителя сбило с толку то, что оба Михаила и Константин правили совместно с Зоей. Как бы там ни было, викингам пришлось срочно бежать. Перебравшись ночью через стены (Константинополь был окружен ими и с суши, и с моря) и снарядив две галеры, они отбыли по направлению к Черному морю. Но в бухте Золотой Рог их поджидало еще одно препятствие, о котором они не подозревали,- массивная цепь, протянутая над водой от берега к берегу и надежно (по мнению византийцев) запиравшая пролив. Цепь удерживалась на поверхности мощными деревянными поплавками, один ее конец был намертво закреплен на Галатской башне, а другой присоединен к лебедке на противоположном берегу. Изворотливый ум Харальда сработал мгновенно: «Харальд сказал, что бы люди на обеих галерах взялись за весла, а те, кто не гребет, перебежали бы на корму, взяв в руки свою поклажу. Тут галеры подплыли к железным цепям Как только они въехали на них и остановились, Харальд велел всем перебежать вперед. Галера, на которой находился Харальд, погрузилась носом в воду и соскользнула с цепи, но другая переломилась пополам, застряв на цепи, и многие утонули в проливе, иных же спасли». Ярослав, находившийся в то время в Новгороде, принял Харальда приветливо. Он вернул ему всю добычу, присланную из Африки и Сицилии, и выдал за него свою дочь Елизавету. Перезимовав в Новгороде, Харальд с молодой женой отбыл в Ладогу, снарядил там корабли и летом удалился в Швецию, а затем в Норвегию, где основал город Осло и с 1048 года регулярно совершал набеги на Данию, пока в 1064 году датчане не заключили с ним мир. Он погиб 26 сентября 1066 года в Англии, пораженный стрелой в горло у Стэмфорд-Бриджа, где за девятнадцать дней до битвы при Хастингсе пытался опередить Вильгельма Завоевателя в споре за английскую корону.
Отпуская его на родину, Ярослав не знал еще, как это было некстати. Он не подозревал, что в том же году Русь и Византия надолго станут врагами и вся тяжесть этой вражды целиком ляжет на русских. Вот когда пригодилась бы ударная сила викингов! А произошло вот что. В 1043 году во время ссоры купцов в Константинополе погиб один из представителей русской знати. Однако виновниками ссоры были признаны сами руссы, и указом императора русские купцы, а заодно и воины, были высланы из Византии. Как только весть об этом событии достигла ушей сына Ярослава Владимира, он спешно собрал стотысячное войско, прогнал послов Константина IX Мономаха, явившихся с извинениями, на четырехстах моноксилах вышел в море и взял курс на Царьград. Сохранившиеся исторические документы того времени не часто балуют нас подробными описаниями морских битв. Тем важнее и ценнее свидетельства не просто летописцев, но очевидцев. Византийский историк XI века Михаил Пселл описывает этот поход Владимира подробно и красочно: «Неисчислимое... количество русских кораблей прорвалось силой или ускользнуло от отражавших их на дальних подступах к столице судов и вошло в Пропонтиду (Мраморное море. - А. С.)... Скрытно проникнув в Пропонтиду, они прежде всего предложили нам мир, если мы согласимся заплатить за него большой выкуп, назвали при этом и цену: по тысяче статиров на судно (всего около шести тысяч фунтов золота. - А. С.) с условием, чтобы отсчитывались эти деньги не иначе, как на одном из их кораблей... Когда послов не удостоили никакого ответа, варвары сплотились и снарядились к битве; они настолько уповали на свои силы, что рассчитывали захватить город со всеми его жителями. Морские силы ромеев в то время были невелики, а огненосные суда, разбросанные по прибрежным водам, в разных местах стерегли наши пределы. Самодержец стянул в одно место остатки прежнего флота, соединил их вместе, собрал грузовые суда, снарядил несколько триер, посадил на них опытных воинов, в изобилии снабдил корабли жидким огнем, выстроил их в противолежащей гавани напротив варварских челнов и сам... в начале ночи прибыл на корабле в ту же гавань; он торжественно возвестил варварам о морском сражении и с рассветом установил корабли в боевой порядок. Со своей стороны варвары, будто покинув стоянку и лагерь, вышли из противолежащей нам гавани, удалились на значительное расстояние от берега, выстроили все корабли в одну линию, перегородили море от одной гавани до другой и, таким образом, могли уже и на нас напасть, и наше нападение отразить... Так построились противники, но ни те, ни другие боя не начинали, и обе стороны стояли без движения сомкнутым строем. Прошла уже большая часть дня, когда царь, подав сигнал, приказал двум нашим крупным судам потихоньку продвигаться к варварским челнам; те легко и стройно поплыли вперед, копейщики и камнеметы подняли на их палубах боевой крик, метатели огня заняли свои места и приготовились действовать. Но в это время множество варварских челнов, отделившись от остального флота, быстрым ходом устремилось к нашим судам. Затем варвары разделились, окружили со всех сторон каждую из триер и начали снизу пиками дырявить ромейские корабли; наши в это время сверху забрасывали их камнями и копьями. Когда же во врага полетел и огонь, который жег глаза, одни варвары бросились в море, чтобы плыть к своим, другие совсем отчаялись и не могли придумать, как спастись. В этот момент последовал второй сигнал, и в море вышло множество триер, а вместе с ними и другие суда, одни позади, другие рядом. Тут уже наши приободрились, а враги в ужасе застыли на месте. Когда триеры пересекли море и оказались у самых челнов, варварский строй рассыпался, цепь разорвалась, некоторые корабли дерзнули остаться на месте, но большая часть их обратилась в бегство. Тут вдруг солнце притянуло к себе снизу туман и, когда горизонт очистился, переместило воздух, который возбудил сильный восточный ветер, взбороздил волнами море и погнал водяные валы на варваров. Одни корабли вздыбившиеся волны накрыли сразу, другие же долго еще волокли по морю и потом бросили на скалы и на крутой берег; за некоторыми из них пустились в погоню наши триеры, одни челны они пустили под воду вместе с командой, а другие воины с триер устроили тогда варварам истинное кровопускание, казалось, будто излившийся из рек поток крови окрасил море».
Так писал Михаил Пселл. По другим данным, бой начали три греческие триеры, они сожгли семь русских судов и три пустили ко дну, после чего русские бежали и выбросились на берег, где их встретили византийские воины. После этого волны вынесли на берег много тысяч трупов русских дружинников. Русские летописцы предлагают нашему вниманию третий вариант: во время битвы шесть тысяч русских выбросились на берег и отправились народину пешком, но в районе Варны наткнулись на византийское войско, взявшее восемьсот из них в плен, приведшее в Константинополь и там ослепившее. Те же, кто не поддался панике, в том числе сам князь Владимир, и остался на судах, благополучно достигли Руси, уничтожив четырнадцать византийских судов, снаряженных за ними в погоню. Прав был все же, по-видимому, Пселл, его свидетельство подтверждает одна из летописей, прямо указывающая, что где-то между Босфором и Дунаем русские ладьи попали в жесточайший шторм и были разбиты, после чего шесть тысяч руссов попали в плен к ромеям. После этого столкновения почти до самой смерти Ярослава отношения с Византией были фактически прерваны, несмотря на заключенный в 1046 году мир, скрепленный женитьбой сына Ярослава Всеволода на дочери Константина Мономаха. Начиная примерно с этого времени русские купеческие лодьи нередко путешествовали под охраной военных судов.
Схолия третья. МОРСКИЕ КОНУНГИ.
В то время как у южных берегов Европы крест с переменным успехом оспаривал у полумесяца пальму первенства на море, у северных ее берегов шла война всех против всех. Как во времена Гомера, каждый был здесь купцом, и каждый - воином. Пиратом. Корабли были их летними жилищами. Далеко по островам и побережьям их разведчики собирали нужные сведения, не пренебрегая и слухами, если они казались им хоть сколько-нибудь правдоподобными и заслуживающими внимания. Мирные ладьи, да и боевые тоже, редко отваживались оторваться от берега в одиночку, каботажное плавание было здесь не более безопасным, чем в открытых водах. «В то время торговые корабли причаливали в самых различных местах - в реках, устьях ручьев или протоках», - говорится в одной из саг. Викинги прекрасно это знали, и это знание определяло образ их действий. Они поджидали корабли в любом месте, где можно было запастись пресной водой. Особенно тревожно было в узких фьордах и в речных эстуариях. Каждая излучина берега, каждая скала, каждый куст или дерево грозили внезапной бедой. Но они же могли послужить и защитой. Когда ярл Свейн, выступивший в поход на единственном боевом корабле, завидел вооруженный флот конунга, он тут же повернул к густолесному берегу, чтобы переждать опасность: «Они пристали так быстро к круче, что листва и ветки деревьев закрыли корабль. Потом они срубили большие деревья и поставили их на борт так, чтобы корабля не было видно сквозь листву. Еще не совсем рассвело, и конунг не заметил их. Ветра не было, и конунг на веслах прошел мимо острова». Легкое судно с малой осадкой могло спастись, зайдя на мелководье, грозившее гибелью кораблю, но его можно было взять измором. Конунг Олав Святой, когда ему было двенадцать лет (примерно в 1007 году) спасся однажды тем, что поставил свой корабль между подводными камнями, так что превосходящие силы викингов не могли к нему приблизиться и даже понесли некоторые потери, так как люди Олава прицельно набрасывали крючья на их корабли, подтягивали их к себе и истребляли экипажи. В походы'викинги выступали чаще всего весной или летом, как только это позволяла сделать ледовая обстановка. Тщательную подготовку к ним они начинали сразу но завершении предыдущей навигации, «а в зимнее время,- свидетельствует сага,- они жили дома с отцами», занимаясь хозяйством и планируя новые операции, способные восхитить своей дерзостью и великолепным исполнением даже флотоводцев нашего времени. Готовить телегу зимой было их неукоснительным правилом, их образом жизни. Так поступал, например, Харальд Прекрасноволосый: «Зимой по его распоряжению был построен большой и роскошный корабль с драконьей головой на носу. Он отрядил на него свою дружину и берсерков (отчаянных воинов, опьянявшихся видом крови и доводивших себя в бою до исступления.- А. С.). На носу во время боя должны были стоять самые отборные воины, так как у них был стяг конунга. Место ближе к середине корабля занимали берсерки. Харальд конунг брал в свою дружину только тех, кто выделялся силой и храбростью и был во всем искусен. Только такие люди были на его корабле, и он мог набирать себе в дружинники лучших людей из каждого фюлька (племенной территории.-А. С). У Харальда конунга было большое войско и много больших кораблей, и многие знатные люди были с ним». После смерти Харальда около 940 года его сын Хакон Добрый узаконил обычай, введенный отцом: он «разделил на корабельные округа все население земли от моря и так далеко, как поднимается лосось, и разделил эти округа между фюльками. Было определено, сколько кораблей и какой величины должен выставить каждый фюльк в случае всенародного ополчения... Во время ополчения должны были зажигаться огни на высоких горах, так чтобы от одного огня был виден другой. И люди говорят, что за семь ночей весть о войне доходила от самого южного до самого северного округа в Халогаланде (Холугаланне. - А. С.)». Своих ополченцев фюльк обеспечивал двухмесячным продовольствием (обычно мукой, мясом и маслом). Если же фюльк (допустим, горный) не был в состоянии снарядить корабль, он мог откупиться деньгами или натурой (так называемый «корабельный сбор»). Со временем эти откуны превратились в твердые налоги. Ими откупались и от службы. Трудно сказать, сам ли Хакон додумался до корабельных округов или эта идея передалась эстафетой от греков, по совету Фе-мистокла создавших точно таким же образом военный флот. Как бы там ни было, это второй зафиксированный в мировой истории случай, когда среди населения была введена «корабельная подать». Третьим, кто пойдет этим путем, будет Петр 1, когда задумает строить Азовский флот. Сколько нибудь определенной численности эскадр у викингов не было. Саги называют самые разнообразные и неожиданные цифры - пять, девять кораблей, одиннадцать, двадцать (или «больше двадиати»), шестьдесят, семьдесят один, «около двухсот». Часто фигурирует один корабль, иногда со свитой из более мелких судов. И на всех этих боевых ладьях царила неслыханная для того времени дисциплина. Каждый воин четко знал свое место в походе и в бою (на носу, у мачты, возле конунга и так далее) и добросовестно выполнял свою задачу. Из указаний саг легко вычислить продолжительность их дневных переходов - до шестидесяти километров под веслами и вдвое больше под парусом. Отсюда нетрудно подсчитать и скорость. Ночью, когда корабли причаливали к берегу, или днем, когда они останавливались на отдых, у сходней, спущенных с кормы (трапом норманны не пользовались), выставлялась стража, охранявшая покой спящих или досуг бодрствующих. Судя по обмолвке одной из саг, в караул отряжался каждый третий член экипажа. И горе было тому, кто засыпал на посту! Викинги не знали снисхождения и жалости. Современные романы и фильмы, рисующие их беспечными и удачливыми бродягами, мало имеют общего с действительностью. Испокон веку человек относился с пиететом к средствам передвижения, дарованным ему богами, ибо они облегчали жизнь. На заре цивилизации все эти средства, а их было тогда совсем немного, обозначались одним и тем же словом - у разных народов, естественно, по-разному. Это глобальное собирательное понятие сохранилось во всех современных языках: слово «транспорт» подразумевает любые средства передвижения от плота или самоката до космической ракеты. Так было и до начала воздушной эры, чему свидетельство хотя бы немецкое слово Fahrzeug, применявшееся и к повозке, и к судну, или арабское «багл», обозначавшее и мула, и баглу (багаллу). Своеобразным символом этого понятия могла бы послужить лодка, поставленная на колеса, как это изображено на одном из рельефов колонны Траяна. Или карра на берегах Ла-Манша и Бискайского залива: так называли не только лодку, но и повозку. Эта функция карры дожила до наших дней в итало-испано-португальском сагго (повозка), в португальских carrinho, carriola и испанском carretela (маленькая повозка), в португальском сагго-9а (телега), итальянском carrozza (экипаж, коляска) и испанском carroza (парадный экипаж), в немецких Каггеп (телега) и Karosse (парадный экипаж), наконец - в нашей «карете». В основе всех этих слов заложены общекельтские carruca и carrus, заимствованные римлянами в императорскую эпоху: первое означало у кельтов дорожный экипаж, а у римлян - роскошную карету для торжественных выездов знати, второе - телегу у тех и других. В те же годы мореходная карра превратилась в «краба» у римлян и в «клеща» (саггаа) у португальцев. После распада Римской империи в странах Европы возникли новые термины, относящиеся к мореплаванию. Кое-куда они пришли через латынь - международный язык Средневековья, но истоки их в греческом, потому что римляне сами переняли эти слова у греков, построивших им флот и преподавших вместе с этрусками азы морской науки. Так, например, пришла в Средиземноморье кимба. Древние народы, как уже говорилось, изначально делили свои корабли на «длинные» военные и «круглые» торговые или грузовые. В одном из мифов повествуется о том, как Геракл переплывал океан в золотой чаше (или кубке) Гелиоса. Этот путь он проделал от только что воздвигнутых им Столпов (Гибралтара), отметивших западный предел обитаемого мира, к острову Эрифия, или Эритея, лежавшему где-то далеко в Атлантике. Греческий Гелиос - аналог египетского солнечного бога Амона, и этот сосуд - не что иное, как «солнечная ладья» фараонов (на это указывают и некоторые другие детали). Но одно из греческих обозначений кубка или чаши - kymba, и оно перешло на название челнока. Кимбы хорошо были известны в эпоху Августа. Однако были еще и его синонимы - skafe и skyfos. Первый из них, хорошо нам знакомый по словам батискаф, пироскаф, скафандр, упомянул вместе с кимбой Софокл в значении «челн, лодка». Второй означает у Эсхила «судно, корабль» и «корпус корабля» (это сохранилось в итальянском). Римляне использовали его для обозначения класса посыльных, дозорных и разведывательных судов, а в императорскую эпоху легкие маленькие скафы (челны) применялись и как разъездные шлюпки и нередко находились на палубах больших скаф («кораблей») или следовали за ними на буксире... Однако все вышесказанное, как говорится, присказка. А сказка вот в чем. Для греков все, что могло держаться на воде и притом нести на себе людей, скот или грузы,- ploion. Кельты, долго и тесно общавшиеся с эллинами, особенно в районе устья Роны, слово «плойон» пропустили мимо ушей. Зато их слух уловил другое слово - «скафа». Это вполне объяснимо. В тех местах создался особый синтез двух культур. Кельты страшно любили украшать собственными национальными изображениями греческие предметы - панцири, щиты, сосуды, даже монеты. Скафа - именно скафа - могла привлечь их особое внимание по двум причинам. Во-первых, ее силуэт поразительно напоминает силуэт удаляющегося от наблюдателя судна, его корму: ведь и наше слово «судно» произошло от древнерусского «судьно» (сосуд). Во-вторых, это греческое слово не менее поразительно созвучно греческому же skytos (кожа) и кельтскому see (хвоя, боярышник). Греческие изделия из кожи кельты знали ничуть не хуже, чем сосуды. Но дело еще и в том, что из хвойных деревьев, меньше поддающихся гниению, средиземноморские народы строили свои корабли, а кожа служила обшивкой плетеных челноков и вообще широко применялась на флоте-например, как прокладка для трущихся частей. Такой вот лингвистический синтез и породил новое название корабля, с быстротой мысли распространившееся по всем закоулкам Европы: skip у англосаксов и готов, skepp у шведов, ship у англичан и schip у голландцев. На древневерхненемецком это слово читалось skif, на средневерхненемецком - schif, на среднепижненемецком - schip, в конечном счете они слились в единое общегерманское Schiff. В древнеанглийский лексикон вошли слова scipmann (моряк, гребец) и scipen (конюшня, хлев и сарай для зимовки кораблей). В эпоху викингов англичане называли sceppe круглые корзины - те же кораклы; у ирландцев родственное слово sciath стало обозначать щит, чья конструкция - обтянутая кожей плетенка - ничем не отличалась от коракла; универсальное слово англосаксов scippare (шкипер) - и капитана торгового судна, и командира военного корабля; а от сложного древнескандинавского понятия skipa («снаряжать корабль и набирать команду») во Франции родилось не менее сложное понятие «экипаж» - так называли и карету, и команду корабля как часть его снаряжения. После пришествия варягов в Новгород на Руси стало привычным понятие «скедия», прилагавшееся ко всем видам судов. А еще позднее из другого названия скафы - скиф - в Англии родился спортивный skiff, французский esquif.
 Рулевое весло.
Рулевое весло.
У римлян эквивалентом ploion было слово navis, тоже, впрочем, пришедшее к ним из Греции: в его основе лежат греческий глагол neuo («кивать, качаться») И производное от него nailS - корабль. Оно дало не меньшее гнездо родовых понятий корабля, причем не только в романоязычных странах, как можно было бы подумать: испанское nave и португальское navio (судно, корабль), их же пао и паи (большой корабль), французское navire, кельтское паи, употреблявшееся наряду с ciirach и тоже означавшее «судно, корабль». Слово nav, как уже говорилось, восприняли и арабы - скорее всего на Пиренейском полуострове - и употребляли его наряду со своим, исконным. В Италии так же мирно сосуществуют schifo (баркас, бот, шлюпка, ялик) и nave. А вот у готов слова naus, nawis означали «смерть»: то ли так они выразили свое отношение к морю, то ли на них нагнали страху соседи - кельты. Вполне естественно, что норманны не были исключением из общего правила в своих взглядах на «морские повозки». Ни классов, Крепление вант по-нор ни типов судов в нашем понимании этих слов викинги, по-видимому, не знали.
 Судно викингов из Гокстада. Реконструкция.
Судно викингов из Гокстада. Реконструкция.
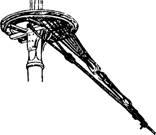
Все их корабли были килевыми и беспалубными, управлялись рулевым веслом, укрепленным в корме по правому борту, строились из липы, ясеня, дуба и других прочных пород. Движителем у них служили шестиметровые весла или прямоугольный рейковый парус, крепившийся на единственной откидной или съемной мачте (иногда позолоченной), поддерживаемой вантами и штагами. Площадь паруса достигала семидесяти квадратных метров, а подчас и больше. Он богато украшался и передвигался в вертикальной плоскости вместе с реем. Система бегучего такелажа позволяла судну ходить против ветра и лавировать. Обшивку всех судов делали внакрой, связывали канатом, крепили к шпангоутам железными гвоздями и ярко раскрашивали. Очень любопытно указание «Саги о Сверрире» - одной из самых «морских» саг - на модульный принцип постройки. Однажды Сверриру построили корабль с «девятью швами» на каждом борту, но по его требованию корабелы разобрали готовое судно, удлинили киль на двенадцать локтей (после чего швы на днище сблизились) и снова спустили на воду. После этого корабль был «крещен» (в нос и корму заложили святые мощи), но он стал слишком узок в своих оконечностях, по меркам викингов - уродливым. В этой же саге упоминается деление корпуса на три отсека - носовой, средний и кормовой. Вероятно, с этим и связаны упомянутые выше цифры - девять (швов) и двенадцать (локтей): они легко делятся на три. А вот весьма характерные указания саг на состав норманнских флотов: просто корабль, большой, огромный, боевой, торговый, весельный, быстроходный, морской корабль, «суда большие и малые», «ладьи рыболовные и гребные суда», «грузовые и мелкие суда». И - никаких отличительных признаков, кроме непременного указания количества гребных скамей. Единственное исключение - упоминание снеккьи (шнеки), или карвы, но и оно сопровождено пояснением, что это «большой боевой корабль» - и ничего больше.

Из анализа скандинавских источников становится ясно, что снеккья - это общее обозначение боевых «длинных» кораблей - в отличие от «круглых» торговых. Поэтому ставшее почему-то общепринятым деление кораблей викингов на большие «дракары» (о них - ниже) и снеккьи («змеи») размером в XVI веке поменьше - не более чем условность, а вычисление их «точных» размеров - как класса или типа - так же нелепо, как вычисление габаритов античной галеры или арабской дау. На всем протяжении «эпохи викингов» отличиями их кораблей были три - количество гребных скамей, носовое украшение и относительная величина, изменявшаяся очень незначительно. Только это и указывается составителями саг. Все остальное - не более чем кабинетные измышления. Кстати, само слово «снеккья» - недоразумение: хотя змея и называлась snekkja, носовая корабельная фигура с ее изображением всегда обозначалась словом ormr. В сущности, эти кажущиеся синонимы были совершенно разными понятиями: первое принадлежало животному миру, второе - неживой природе, искусству. Вполне естественно, что длина судна зависит от числа его весел. Чаще всего их было тридцать, по пятнадцати на борт, как на египетских кораблях XV века до н. э., а потом на греческих. Вот несколько свидетельств одной только саги: «Торлейв дал ему ладью с пятнадцатью скамьями для гребцов и всем снаряжением, шатрами и припасами» (здесь скамьи были сплошными, от борта к борту); «В эту самую осень Олав конунг велел построить на берегу реки Нид (в районе Тронхейма.- А. С.) большой боевой корабль. Это была шнека. Для ее постройки понадобилось много мастеров. К началу зимы корабль был готов. В нем было тридцать скамей для гребцов (полускамей с проходом между ними.- А. С). Он был высок, но не широк». Этому кораблю, построенному в 955 году, Олав Трюггвасон дал имя «Транин» (Журавль); «У Рауда был большой корабль с золоченой драконьей головой на носу. На нем было тридцать скамей для гребцов, и его величина соответствовала этому»; «У него был большой корабль с тридцатью скамьями для гребцов, и все люди на нем были как на подбор». В «Саге о Сверрире» можно обнаружить корабли с двадцатью шестью, двадцатью пятью, двадцатью тремя скамьями. При определении морской повинности фюльков по закону Хакона Доброго за единицу измерения принимался двадцатискамеечный корабль: это был рубеж, после которого корабль считался «большим» и был рассчитан на две-три сотни человек. В одном из походов на корабле Сверрира было триста двадцать человек. У сыновей Олава Святого и их современников - ярлов Кальва и Хакона - были корабли с сорока гребцами каждый. Корабль Кнута Могучего, имевший шестьдесят гребных скамей, заставляет вспомнить шестьдесят спутников Брандана во второй его экспедиции. Казалось бы, разница существенная. Но много лет спустя Эрлинг «велел снарядить корабль с двадцатью скамьями для гребцов, другой - с пятнадцатью скамьями (это были боевые корабли.- А. С.) и грузовой корабль для дорожных припасов». Можно поэтому не сомневаться, что количеством гребцов регулировалась только скорость. В случае погони за каждое весло, если позволяло наличие людей, садились двое, четверо, шестеро. Вплоть до конца правления Олава Святого в 1028 году корабли викингов имели, как правило, по тридцати полускамей или пятнадцати скамей. В конце XI века корабль Харальда насчитывал тридцать пять гребцов, столетие спустя конунг Сверре построил один корабль с тридцатью гребцами и один с тридцатью двумя. В XII веке, на закате «эпохи викингов», норманнские корабли имели от тридцати до тридцати семи гребцов (нечетные цифры объясняются тем, что в их число включали рулевого), хотя, конечно, было предостаточно и других.
А вот что говорит сага о самых знаменитых кораблях викингов, принадлежавших Олаву Трюггвасону и Рауду: «Олав конунг захватил корабль, который был у Рауда, и сам правил им, так как этот корабль был много больше и красивее Журавля. Впереди у него была драконья голова, и за ней изгиб, который кончался как хвост, а обе стороны драконьей шеи и весь штевень были позолочены. Конунг назвал этот корабль Змей («Ормринн». - А. С), так как, когда на нем были подняты паруса, он походил на крылатого дракона (а вовсе не по носовому изображению! -А. С). Это был самый красивый корабль во всей Норвегии. (...) В следующую зиму... он велел построить большой корабль... Он был много больше, чем все другие корабли, которые тогда были в стране... Строитель корабля звался Торберг Строгала. Но многие другие помогали ему - кто сплачивал доски, кто тесал, кто забивал гвозди, кто подвозил лес. Все в корабле было очень тщательно сделано. Корабль был длинный и широкий, с высоким бортом и из крупного леса... Все говорили, что никогда не видели такого большого и красивого корабля... Торберг был главным корабельным мастером, пока корабль строился. Это был корабль с драконьей головой на носу и сделанный по образцу того Змея... Но он был много больше и во всех отношениях более тщательно сделан. Конунг называл его Великим Змеем («Ормринн Ланги». - А. С), а того- Малым Змеем («Ормринн Скамми».-А. С). На Великом Змее было тридцать четыре скамьи для гребцов (вместо обычных тридцати.- А. С). Голова и хвост дракона были целиком позолочены, а борт был так же высок, как на морских кораблях (? -А. С). Из всех кораблей, построенных в Норвегии, он был лучше всего сделан и потребовал наибольших затрат. (...) Затем Олав конунг велит спустить на воду Великого Змея, а также все другие суда, большие и малые. Он сам правил Великим Змеем. И когда набирали людей на корабли, то отбор был очень тщательным: ни один человек на Великом Змее не должен был быть старше шестидесяти и младше двадцати лет, и они тщательно отбирались по силе и храбрости. Первыми были набраны люди в дружину Олава конунга. В нее брались как изнутри страны, так и из других стран (одно из немногих прямых упоминаний наемников. - А. С.) самые сильные и самые храбрые. (...) Восемь человек было на каждой полускамье в Змее, и все это были отборные мужи. Тридцать человек было на корме корабля (дружина конунга.- А. С.)». Под стать «Великому Змею» был, видимо, и корабль Лейва Счастливого, имевшего своими спутниками тридцать четыре человека: все они явно были и гребцами.
 Примерно так мог выглядеть «Великий Змей».
Примерно так мог выглядеть «Великий Змей».
Как видим, сами норманны не делали различия между «драконами» и «змеями». Да и мудрено было бы им это сделать, если форштевни их ладей могла украшать какая угодно фигура, дававшая, как повелось еще с античности, имя и самому кораблю. Корабль Олава Святого, например, назывался «Человечья Голова»: он собственноручно вырезал на форштевне свой портрет. «И долго потом в Норвегии на носу кораблей правителей вырезали такие головы»,- повествует сага. Однако никому пока не пришло на ум окрестить такие суда «головастиками» и выделить их в особый тип. Другой корабль этого же конунга нес впереди золоченую голову зубра и носил имя этого животного. «Эдда» упоминает ладью бога Бальдра, второго сына Одина, правившего Вестфалией: «Хрингхорни» («с кольцом на форштевне»). Она была «всех кораблей больше». Корабль Эйндриди назывался «Драглаун» (drag - волок), а его противника Эрлинга - «Буковый Борт». Все тексты саг убеждают в том, что драконов вырезали не чаще других носовых фигур. Похоже, что эта мода пошла именно от Олава Трюггвасона и полюбилась только тем немногим, кто стремился сравняться с ним в славе и политическом влиянии, а в идеале – и превзойти их. Была ли это фигура устрашения, что, в общем-то, наивно, или родовой герб Харальда Пре- красноволосого (Олав приходился ему правнуком), неизвестно. Голова дракона на его судне была съемной и служила опознавательным знаком, а это функция именно герба, она перешла потом к рыцарям. Когда однажды в поле зрения наблюдателей оказался норвежский корабль, очень похожий на «Великого Змея», но без носовой фигуры, они заподозрили Олава в трусости, поскольку тот «не смеет плыть с драконьей головой на носу корабля». И лишь когда из-за мыса показался корабль Олава - «очень большой и с позолоченной драконьей головой» - все стало на свои места. Этот корабль был единственным в своем роде, он узнавался с первого взгляда и служил эталоном морского могущества и доблести.
 Норманнский корабль.
Норманнский корабль.
Потому-то корабли с драконами и привлекали особое внимание современников. Так были оформлены, например, самые большие из всех известных нам судов норманнов, принадлежавшие ярлам Кнуту Могучему и Хакону, безуспешно пытавшимся нагнать страх на Олава Святого. У Кнута «был такой огромный боевой корабль, что на нем умещалось шестьдесят скамей для гребцов. На штевне у него была золоченая голова дракона. У Хакона ярла был другой корабль с сорока скамьями для гребцов. И у него на штевне была золоченая голова дракона. На обоих кораблях были паруса в красную, синюю и зеленую полосу. Надводная часть кораблей была покрашена, и вся корабельная оснастка была отличной. У него было и много других больших и хорошо оснащенных кораблей». «Большой боевой корабль с головой дракона на носу» велел выстроить и ярл Торольв, а потом подарил его Харальду Прекрасноволосому. Может быть, тот и называл его «Дреки», но во всяком случае это слово отражало бы лишь имя корабля или деталь герба его владельца, но никак не его тип.
Если здесь и вправду имеются в виду гребные скамьи, а не количество гребцов, то эти корабли должны были выглядеть такими же монстрами для своего времени, как плавучие небоскребы эпохи Птолемеев. И функция их была б тогда единственная - устрашение. По первый бой, скорее всего, стал бы для них и последним. Другое дело -- количество гребцов: двадцать-тридцать гребных банок на борт - это совсем близко к стандартам тех столетий, и эти корабли не выглядели бы белыми воронами и спокойно выполняли свою функцию. Даже и в этом случае они прозвучали бы дерзким вызовом могуществу Олава Святого, потому что, например, у Торольва и его компаньонов был «корабль на двадцать гребцов (не скамей! - А. С), хорошо снаряженный, на котором они раньше плавали викингами». Но... выстрел оказался холостым. Как и еще один, вероятно последний, относящийся к XII веку. Здесь уже и автор саги не скрывает, что очередной «дракон» был прямым подражанием, и его вынужденные «похвалы по заказу», обычные для саг, звучат довольно кисло: «Эйстейн конунг велел построить большой корабль в Нидаросе (не на верфях ли Олава Трюггвасо-на? - А. С). По размеру и постройке он походил на Змея Великого, корабль, который Олав сын Трюггви когда-то велел построить. На новом корабле тоже спереди была голова дракона, а сзади - его хвост, то и другое позолоченное. Борта у корабля были высокие, но нос и корма считались недостаточно высокими. Эйстейн конунг велел также построить в Нидаросе корабельные сараи (для зимней стоянки судов. - А. С.), такие большие, что они казались чудом. Они были из лучшего леса и отлично сплочены». Свои боевые корабли викинги чаще всего называли поэтическими эпитетами кеннингами или хейти. Например - «конь волны» (при этом конская голова на форштевне вовсе не обязательна). Или - «зверь пучины». Или - «скакун корабельного борта». В кеннингах корабля можно встретить упоминания оленей и медведей, чаек и ветра, стапеля, лыж и корабельных катков. Особенно часто в них фигурирует священное дерево askr (ясень потому .норманнов, как уже творилось, звали аскеманнами), bord (борт, щит) и skeid (щит, защита, убежище). Последнее было самым популярным, и произошедшее от него древнеанглийское sket (быст рый, скорый), возможно, указывает на класс или тип особо быстроходных судов. Думается, то были снеккьи, и вот почему. Вряд ли случайно замечание автора саги о «Транине» Олава Трюггвасона: «Это была шнека». Значит, что-то отличало ее от других, обычных для той эпохи кораблей. Пресловутые дракары отпадают: норманны такого слова не знали, не встречается оно и в иностранных источниках, например русских. Руссы упомянуты здесь неспроста: ведь после прихода варягов они должны были неизбежно и очень близко познакомиться с их судами. В «Повести временных лет» под 882, 945, 968, 971, 985-м годами есть лишь одно обозначение судна - лодья (и лодка - маленькая лодья). Слово это, безусловно, нерусское: на древнескандинавском lodr (концевое г в этом языке не читается) - кожа. Значит, его принесли скандинавы. Но ведь они никогда не пользовались плетеными судами! И вот тут самое время вспомнить британско-ирландскую карру. Поскольку ее владельцы долгие годы не имели никакого понятия об иных кораблях, то карра в их речи означала и просто судно, то есть служила также родовым понятием. И когда викинги впервые появились у берегов Англии на своих внушающих ужас кораблях, часть которых была, по-видимому, украшена драконьими головами, общеевропейское (в том числе и норвежское) слово drake, dreki (в древнеирландском эпосе драконы не встречаются) соединилось с местным, и в северных морях появилась «драконья карра» - дракарра, дракар. Именно упоминание в этом сложном слове карры ясно свидетельствует о том, что образование «дракар» впервые прозвучало у британских берегов: дракон был священным животным и воинским тотемом саксов. Материковые саксы назвали бы такой корабль «дракскип». Норманны нового термина не восприняли, у них и без того было предостаточно слов для обозначения своих кораблей, в том числе и пиратских: во всей Северной Европе наиболее обобщающим понятием для корабля викингов без различия его типа и прочих деталей, как и следовало ожидать, было именно drak-skip («корабль дракона»). Северян же поразило другое: гладкость обшивки кожаных судов. Норманнские корабелы делали обшивку внакрой, клинкерным способом или "близким к нему, как это практиковалось тогда повсеместно. К слову сказать, она и впрямь напоминала чешую или перья дракона. Гладкая же, по оценкам их экспертов, должна была значительно улучшить характеристики судна, хотя трудоемкость ее изготовления возрастала значительно: ведь каждую доску нужно было выстругать и плотно подогнать к соседней. Вероятно, древнеанглийское слово ceorfan (резать, строгать) и произошло все от той же карры. Может быть, как раз в то время и закачался на волнах «лучший струг», принадлежавший скандинавскому богу Фрейру и носивший имя «Скидбладнир» («сложенный из тонких досочек»). Это была первая из снеккий - змеев, отличающихся, как известно, от драконов гладкостью своей кожи и необыкновенной юркостью в воде. И принадлежал он богу. Вот почему в саге появилась фраза «Это была шнека». Кеннингов змеев, по свидетельству «Эдды», было четырнадцать, и первым в этом перечне значится дракон, а шестым - собственно змей. Видимо, эти понятия были синонимами. Тогда же должно было появиться и второе имя снеккьи - карва: «струганая, резаная, долбленая». На Руси шнеки и струги стали известны одновременно - прежде всего в Новгороде, куда привел свою дружину Рюрик. На Белом море утвердилась форма «шняка», скорее всего через англичан: на древнеанглийском змей - snaca. В этой же транскрипции его заимствовали шведы. В сущности, шнеки и струги обозначали одно и то же. И в это же время из византийских источников попал в русские летописи караб: в 907 году Олег и его люди плыли к Византии «на кораблех». Это были боевые лодки, выдолбленные из цельного ствола,- моноксилы, известные еще с античных времен. Во время своих походов к Дунаю с ними познакомился римский император Траян. На рельефах его колонны изображен мо-ноксил, установленный на колесную повозку и превратившийся в некое подобие арбы. Это же мы видим и в описании штурма Константинополя Олегом, только он снабдил корабли, кроме колес, еще и парусом, чем привел в ужас ромеев, незнакомых с «сухопутными парусниками». В XII веке слово «корабль» встречается в русском «Сказании об Индийском царстве», в 1204 году - в «Повести о взятии Царьграда», а в 1280-х годах в «Житии Александра Невского» уже мирно соседствуют лодьи, шнеки и корабли. От карры, или карвы, новый тип обшивки получил в конце XI века особое название, до наших дней сохранившееся в немецком как karviel, в английском как carvel, а в голландском как kraweel. Но такая обшивка была редкостью вплоть до XV столетия, случаи ее применения МОЖНО пересчитать ПО пальцам. По расстоянию между отверстиями для весел (ruims) в верхнем поясе обшивки, позволявшими норманнам обходиться без уключин, - около метра - легко можно установить длину борта этих судов: он делался прямым и одинаковой высоты на всем своем протяжении, поэтому одинаковыми были и весла. Чтобы получить общую длину военного корабля, к этой длине достаточно приплюсовать длину штевней. Некоторые штевни мы можем потрогать собственными руками благодаря стараниям археологов. Самое раннее судно, тридцативесельное, датируемое примерно 800 годом и найденное в Усеберге, имело длину 21,4 метра и ширину 5,1, высота его борта оценивается в 1,4-1,6 метра, а осадка - 0,75.
 Реконструированное норманнское судно.
Реконструированное норманнское судно.
 Флюгер из Челлунге (Готланд), украшавший мачту корабля викингов, а позднее - церковный шпиль.
Флюгер из Челлунге (Готланд), украшавший мачту корабля викингов, а позднее - церковный шпиль.
Очень близко к нему по параметрам парусное судно того же времени, обнаруженное в Гокстаде: оно на два метра длиннее, борт его на тридцать сантиметров выше, и лишь осадка почти втрое превышает осадку его гребного собрата. Предполагают, что оно могло брать на борт до семидесяти человек и развивать скорость свыше десяти узлов. Корабли времени двух Харальдов (Прекрасноволо-сого и Сурового) и двух Олавов (Трюггвасона и Святого) обнаружены в Скуллелеве и Туне, Ладбю и Хедебю, Фромборке и Ральсвике. Самое маленькое из них (Хедебю), иарусно-гребное, имеет длину около шестнадцати метров и ширину два с половиной, им управляли восемь-десять пар гребцов. Длина самого большого (Скуллелев), гребного, достигала двадцати восьми метров, а ширина превышала четыре. Только корабли Вильгельма Завоевателя, судя по их изображениям, были заметно шире и не имели весел. Что же касается его флагманского корабля - «Моры»,- то здесь есть несколько любопытных деталей, в сагах не упоминаемых. Это - герб с изображением креста на топе мачты, фигура ангела, трубящего в рог, на ахтерштевне (возможно, она была вращающейся - по аналогии с некоторыми скульптурами Александрийского маяка) и флагшток с тремя знаменами, одно из которых явно служило штандартом конунга.
 Средиземноморский способ руления: два рулевых весла, крепящихся в петлях по каждому борту.
Средиземноморский способ руления: два рулевых весла, крепящихся в петлях по каждому борту.
Среди торговых судов, в подавляющем своем большинстве парусных, эволюция более заметна. Для них характерны широкий до тридцати градусов - развал шпангоутов наружу, что связано со стремлением увеличить грузоподъемность судна, и наличие (иногда) второго рулевого весла. В течение двух столетий их длина возросла от восьми метров (судно из Щецина) до семнадцати с половиной (судно из Эльтанга), ширина - от 2,2 до 3,9, осадка - от 0,45 до метра, высота борта - от 0,7 до 1,9 метра (это именно та высота, на которой обычно возникает упоминавшаяся оптическая иллюзия хиллингар, непомерно увеличивающая и приближающая предметы). Первое из них было построено в IX веке, второе - в XI. Свои торговые суда норманны называли кноррами (или кнорре) и коггами. По звучанию слово кнорр сразу напоминает карру. И неудивительно: если у боевых ладей викингов борт был прямой, то у карры - изогнутый, а норвежское knorr и означает «спираль, изгиб». Такие же суда, плавно прогибающиеся от носа и кормы к середине, викинги видели и у арабов: например, самбук. Кнорры имели заостренные оконечности, палубу с квадратным люком, ведущим в трюм, прямой рейковый парус и широкий развал высоких бортов, очень редко - весла в качестве добавки к парусу, а больше - для маневрирования в узкостях и при швартовке. Для регулирования площади парусности были изобретены риф-штерты, введенные затем и на боевых кораблях. Кнорры появились в северных морях в IX веке, впервые этот тип судна упомянут в песне скальдов, повествующей о битве у Хафсфьорда в 872 году, где кнорры были составной частью флотов викингов. Это короткие (от пятнадцати до двадцати одного метра), широкие (в среднем пять метров) и пузатые корабли с большой осадкой и высоким фальшбортом. Форштевень их, украшенный головой животного, круто отгибался назад, как на древнеегипетских судах, и когда кнорр выплывал из-за какого-нибудь мыса, казалось, что это какой-то причудливый морской зверь рассекает грудью холодные волны. Скандинавам он больше всего, и не без основания, напоминал улитку с поднятой головой: следы этого поверья сохранились до наших дней в шведском (шня-ка - лодка, снеккья и улитка), в немецком (шнекке) и английском (снейл), обозначающих улитку. Поэтому кнорр имел еще одно название - сколь поэтическое, столь же и двусмысленное: knorrabringa. Его можно перевести и как «грудастый», и как «привозящий, доставляющий», то есть грузовой. В Англии кнорр получил имя kel. Это слово переводится как «плоскодонка», но, хоть это и странно, именно от него произошел «киль», a keier у англосаксов означало шкипера. Форма кнорров оставалась в основном неизменной, усовершенствования были направлены лишь на повышение мореходности, скорости и маневренности в зависимости от района плавания, который, судя по всему. был у этих судов постоянным: различались, скажем, knorrarnes («кнорр мыса»), knorrasund («кнорр пролива») или austrfararknorr («кнорр для плавания на восток», то есть на Русь, где такие суда, размером поменьше своих собратьев, называли этим же именем). В конце того же IX века викинги уже включали в состав своих военных эскадр и торговые парусники еще одного типа - когги, известные позднее во многих странах Северной Европы и внешне очень напоминавшие кнорры. Этимология этого слова довольно прозрачна: фризское соске, древнегерманское kuggon или kukkon, древневерхненемецкое kocko, средневерхнене-мецкое kocke, кельтское kocker, средненемецкое kogge, наконец голландские kog и kogge - все это означает одно и то же - «кривой, изогнутый». Подобно скафе и всем производным от нее, когг получил свое имя за сходство корпуса с формой выпуклого сосуда. Первые когги, как и скафы, представляли собой лодки и предназначались главным образом для рыболовства. Такая лодка, датируемая серединой X века, найдена в Зейдерзее - заливе Фризского побережья. Близкое родство когга со скафой закрепилось в древнескандинавском «скейф» (skeifr) - кривой, изогнутый: так, по-видимому, называли на первых порах когги норманны. Ширококорпусные и высокобортные, кругло-носые и глубокосидящие одномачтовые «коккеры» были рождены во Фрисландии, их упоминает в одном из своих анналов английский король Альфред Великий, сообщая попутно, что эти фризские ладьи отличаются своей конструкцией и от пришедших вместе с ними норманнских кораблей, и от противостоявших им английских, близких к снеккьям. Но слово когг, по-видимому, тогда еще не было в ходу, оно появилось впервые только полстолетия спустя, в 948 году - в списке кораблей города Мёйден, что возле Амстердама.
 Ранний когг. Реконструкция.
Ранний когг. Реконструкция.
Судя по эпическим сказаниям, фризы, как и их соседи, обычно выступали в пиратские походы с трехтысячным войском и с флотом примерно в полсотни кораблей, сопровождаемым полутора-двумя десятками грузовых барок и галер с продовольствием, лошадьми и амуницией. Все члены таких военных дружин, нередко постоянных, носили имя huskarlar. Своему вождю они давали присягу верности - var, поэтому хускарлы называли себя также варингами или верингами, то есть варягами. Первые когги были беспалубными, груз защищался от непогоды наброшенными на него дублеными шкурами. Их прямой внутренний киль, выполненный из одного дерева и круто переходящий в прямые штевни, соотносился с шириной всего судна в пропорции 3:1. Днище было плоским, это делало когг удобным и для грузовых операций, и для нападений с моря: он подходил к берегу и при отливе плотно садился на ровное дно, а прилив позволял ему продолжить путь. Поэтому когг был идеально приспособлен в первую очередь для перевозки «живых грузов». К коггу в неменьшей степени, чем к кнорру, приложимо английское «кел». Округлый, благодаря гнутым шпангоутам, и высокий корпус, прямые крутые штевни сформировали принципиально новый силуэт судна. Когги достигали тридцатиметровой длины, имели в среднем семь метров в ширину, осадку до трех метров и грузоподъемность до двухсот тонн. Обшивка когга делалась традиционно - внакрой, а в корме на правом борту было румпельное рулевое весло. Крепкая его мачта, тоже цельная, несла один широкий рейковый четырехугольный парус площадью до двухсот квадрат ных метров, в более поздние времена к парусу, как и у кнорров, добавились весла в носу и в корме.

Жесткое крепление рулевого весла с прямоугольной лопастью по правому борту.
 Скандинавские наскальные изображения кораблей бронзового века.
Скандинавские наскальные изображения кораблей бронзового века.
Паруса норманнских кораблей имели не только традиционную четырехугольную форму, но нередко и треугольную - вершиной вниз. Те и другие можно, например, увидеть на картинах Николая Константиновича Рериха - выходца из знатного скандинавского рода и весьма эрудированного историка. В сагах же хотя и упоминаются паруса, но - ни малейшего намека на их форму. «Паруса в красную, синюю и зеленую полосу», «парус полосатый» - вот все, что можно извлечь из норманнской литературы. Подлинные паруса викингов до нас тоже не дошли. Поэтому основное, чем приходится руководствоваться,- немногочисленные и грубо исполненные изображения на камнях (главным образом надгробных), к тому же изрядно поврежденные.
 Норманнский корабль на камне Орнамент рубежа VIII и IX из Ардре (Готланд).
Норманнский корабль на камне Орнамент рубежа VIII и IX из Ардре (Готланд).
 Сцены ковра из Байё.
Сцены ковра из Байё.
Единственное (да еще цветное!) изображение кораблей викингов, дошедшее до нас, можно сказать, в девственном виде,- это знаменитый ковер XI века, хранящийся в соборе французского города Байё и напоминающий собою пестрые кадры кинохроники. Очень часто его называют гобеленом, хотя здесь совершенно другая техника, а вдобавок - безусловный анахронизм: гобелен - это ковер или обои, вытканные из шерсти или шелка особым способом, а способ этот изобрел придворный красильщик и ткач французского короля Франциска I, царствовавшего в 1515-1547 годах, по фамилии Гобелен. Именно это чудо средневековогоискусства свидетельствует о том, что косые паруса были восприняты в Нормандии и употреблялись наряду с традиционными рейковыми (обычно их было два на каждом судне). Ковер последовательно рассказывает в своих семидесяти двух сценах (первоначально их было семьдесят шесть) о завоевании Вильяльмом Незаконнорожденным английской короны в 1066 году. Вышитый собственноручно «по горячим следам» в 1077 году женой Вильяльма (впрочем, теперь уже - Вильгельма Завоевателя) нормандской герцогиней Матильдой Фландрской, дочерью графа Бодуэна, и ее фрейлинами (благодаря чему и сохранился), он дает неплохое представление и о постройке норманнских судов, и об их оснастке, и о составе флота, и о самом форсировании пролива. И если даже, как иногда предполагают, изготовление ковра приписывает Матильде всего лишь легенда, то уж во всяком случае можно не сомневаться, что зрители из числа придворных легко узнавали на нем самих себя и не допустили бы даже малейшего искажения каких бы то ни было реалий! Это сочли бы прямым оскорблением - со всеми вытекающими отсюда последствиями. Матильда, как известно, умерла в 1083 году, Вильяльм - пять лет спустя, но подобного счета никто им так и не предъявил. Так что ковер из Байё - один из самых надежных документов той эпохи, воплощенный в цвете. У этого типа паруса долгая биография. Начальной ее строкой можно, пожалуй, считать уже упоминавшийся рельеф гробницы египетского вельможи Ти. На нем воспроизведено судно не с обычным для Египта широким горизонтальным или квадратным парусом, а с сильно вытянутым вертикальным, причем правая его сторона - подветренная - косо срезана по всей высоте полотнища. Для чего? Дело в том, что с таким парусом, похожим на перевернутую трапецию и заметно уменьшающим сопротивление воздуха, намного легче маневрировать судном, идущим вниз по течению единственной в Египте реки, то есть против ветра, ибо на североафриканском побережье преобладают северные ветры... Но изображение это не имеет аналогов, и можно почти с уверенностью утверждать, что если даже судно на рельефе египетское, то парус - финикийский: жители Леванта вписали немало выдающихся страниц в историю древнеегипетского судостроения и мореплавания. Однако традиционный консерватизм египтян, обусловленный требованиями религии, отторг это новшество. Зато эта идея пережила века на своей родине. И получила второе рождение, когда Левант стал римской провинцией. Впрочем, необычный этот парус прекрасно был известен и грекам. Первым его упомянул в своей «Греческой истории» полководец и писатель Ксенофонт, ученик Сократа: акатий. Это слово хорошо знали также историки Геродот и Фукидид - они называли так судно, имея, быть может, в виду именно его парус. (Древние были большими любителями метонимии, сплошь и рядом можно встретить «мачта» вместо «судно» или «соль» вместо «море». Таких примеров - легион.) Акатий упоминают трагик Эврипид, поэт Пиндар, историк Полибий, писатели Лукиан и Плутарх. Разное время, разные берега... Ксенофонт не был моряком, и его описание столь же кратко, сколь и туманно. Из него можно заключить, что акатий - это вспомогательный косой парус, управлявшийся только одним шкотом и устанавливавшийся на специально для него предназначенной наклонной носовой мачте. Акатий, по-видимому, явился следующим и весьма логическим шагом от того паруса на египетском судне: от первоначального четырехугольника здесь осталась нетронутой только верхняя шкато-рина, крепившаяся к рею, а боковые грани срезаны гораздо круче - так, что нижняя исчезла совсем. Возможно, акатий имел и некоторые варианты: например, мог срезаться лишь один угол, так что парус представлял собой перевернутый прямоугольный треугольник. Но это - только догадка, хотя и небезосновательная. Его разновидностью можно считать парус, изображенный на одной помпейской фреске, называвшийся римлянами (например, Сенекой, Луканом, Стацием) «суппарум» и тоже послуживший предметом ожесточенных споров. Формой он напоминает вымпел, свисающий с рея косицами вниз. И действительно, христианский писатель III века Квинт Септимий Тертуллиан употреблял это слово именно в таком значении - флаг, вымпел. Суппарум тоже управлялся лишь одним шкотом, прикрепленным к левой косице, тогда как правая была привязана к борту. Суда акатий были одним из излюбленных типов пиратских пенителей моря. Прежде всего - из-за их быстроходности и маневренности. То и другое давал парус акатий. Похожий парус несли на своей мачте, установленной в середине корабля, и либурны. Его называли еще эпидромом - «сверхскоростным». Наконец, к этому же семейству можно причислить арабский парус дау - тоже похожий на сильно деформированную трапецию (сильнее, чем парус с рельефа Ти). Не исключено, хотя утверждать это ни в коем случае нельзя, что эту форму паруса арабы окончательно оформили после покорения ими Египта и Леванта: в Александрии и Суре были прославленнейшие верфи, верно и долго служившие новым хозяевам. Акатий и дау, как видно, обладали особой быстроходностью благодаря своим парусам. И это не могло остаться незамеченным, в том числе и на атлантическом побережье Европы, особенно после завоевания арабами Пиренейского полуострова. И вот - первое, что бросается в глаза,- необыкновенное сходство акатия и норманнского паруса. Причем не только сходство формы. Ими и управляли одинаково. На ковре совершенно отчетливо видно, как нижний, острый конец паруса почти незаметно переходит в толстый шкот, его держат в руках матросы, располагавшиеся чуть впереди кормчего (как и на помпейской фреске), или сам кормчий. Быть может, таков был живописный прием, указывавший на краткость рейса и благоприятную погоду: в противном случае шкот был бы привязан к мачте (как, например, на картинах Рериха «Иноземные гости» и «Славяне на Днепре»). Так как надутый ветром парус трудно удерживать долго в руке, вероятно, его шкот одним-двумя шлагами набрасывался на какое-нибудь дерево. Точно так же поступали на реках, где чаще и оперативнее приходилось приспосабливаться к капризам ветра, течения и извивам берегов.
 Посадка на корабль. Ковер из Байё.
Посадка на корабль. Ковер из Байё.
Отправляясь в торговые рейсы, купцы Севера по примеру греков и арабов объединялись в большие флотилии, чтобы успешнее противостоять пиратам. Часто такие сообщества становились постоянными, включали в себя одних и тех же, хорошо проверенных в деле судовладельцев и назывались фелагами. Если же когги выступали в военный поход, их снабжали ложной палубой и размещали под ней до сотни вооруженных головорезов (увы, точно так же поступали и пираты!). Такие когги назывались фреккоггами («военными», «опасными», «храбрыми»). На носу и корме у каждого когга укреплялись деревянные, обнесенные релингами помосты - боевые площадки для воинов на случай отражения морской атаки. Носовой помост был как бы насажен на форштевень, и эта верхняя часть форштевня служила дополнительным прикрытием.
 Корабль норманнов. Реконструкция.
Корабль норманнов. Реконструкция.
«Кудруна» описывает такой корабль, принадлежавший владетельному государю, достаточно подробно, хотя и не без преувеличений, вообще свойственных эпосу. Его построили из кипариса, как известно, не поддающегося гниению, мачты оковали для прочности стальными обручами, шпангоуты и якоря отлили из тяжелого серебра, концы червленых весел оправили золотом. Якорные канаты для фризских кораблей доставлялись обычно из Багдада (как, вероятно, и кипарис), они славились особой прочностью. Из Аравии или других восточных стран привозили и шелковые полотнища, из них фризы сшивали трапециевидные (явно арабского происхождения) паруса - чаще всего белые, чтобы на их фоне можно было достаточно подробно разглядеть вышитый герб судовладельца или крест странствующего рыцаря. Снаряженный таким образом корабль с наступлением весны выходил в море. Позднее все когги стали палубными и обзавелись надстройкой в средней части, а релинги боевых помостов превратились в сплошную, богато орнаментированную зубчатую ограду - имитацию башни. Такие сооружения - форкастль и ахтеркастль - со временем стали самыми настоящими башнями и обеспечивали вместе с «вороньим гнездом» на мачте, где тоже укрывались лучники, пращники и арбалетчики, достаточно надежную защиту. Их переняли и другие народы моря, в том числе норманны.
 Обычное «воронье гнездо» средневековых судов.
Обычное «воронье гнездо» средневековых судов.
 Навесные рули с румпелем.
Навесные рули с румпелем.
С ростом купеческих товариществ и их товарооборота корабли постепенно совершенствовались. Рулевое весло, крепившееся прежде в петле по правому борту в кормовой части, переместилось к ахтерштевню, в диаметральную плоскость судна. Это придало коггу и кнорру лучшую устойчивость на курсе и свело до минимума всяческие случайности, связанные с действием ветра и волн. В XIII веке кормовое весло исчезло, корабли стали управляться навесным рулем. Появились бушприт и подпалубные помещения (иногда с окнами), прочный стоячий такелаж рационально дополнился бегучим, это облегчило работу с парусом. Каковы были их экипажи? Как ни странно, но этот вопрос тоже из области загадок. Первоначально, по-видимому, веслами ворочали сами воины, специальных гребцов не было: с этого начинали и греки - достаточно вспомнить пятидеся-тивесельные корабли (пенте-контеры) аргонавтов, Одиссея, Меиелая. Эта традиция еще сохранялась в V веке: Хенгист И Хорса прибыли в Британию с шестьюдесятью дружинниками на двух кораблях, каждый из них был тридцативесельным. Олав Святой вышел однажды в море на двух больших торговых кораблях с двумястами двадцатью воинами (стало быть, по сотне с лишним на каждом), да еще при этом пустил на дно военную галеру: он поставил свои безобидные на вид суда по сторонам пролива, протянул между ними толстый канат, притопив его, а когда киль ничего не заподозрившей ладьи оказался точно над ним, на обоих кораблях по команде энергично заработали грузовые лебедки, после чего «корабль был поддет канатом, его корма поднялась вверх, а нос погрузился в воду. Вода хлынула в носовую часть корабля, затопила его, и он перевернулся». В другом случае Олав снарядил пять военных кораблей, а людей у него было около трехсот, примерно по шестидесяти на корабль. «Сага о Сверрире» упоминает эскадры из двадцати, четырнадцати и... одного корабля. Его современник по имени Асбьёрн тоже как-то «решил спустить на воду один из своих грузовых кораблей. Этот корабль был такой большой, что годился для плавания по морю. Корабль был отличный, оснастка его - отменная, а парус - полосатый. Асбьёрн отправился в плавание и взял с собой двадцать человек». Военный корабль этого же Асбьёрна был рассчитан на сорок гребцов, а ушли на нем в море около девяноста человек (неясно, входили ли гребцы в их число). Из саг можно узнать, что, скажем, на весельной пиратской лодке было двенадцать человек или двадцать, что для таких же целей предназначался «небольшой быстроходный корабль на двенадцать или тринадцать гребцов, и на нем около трех десятков человек», что восемнадцать гребцов - это «немного» (именно столько было у Брандана в его первом путешествии и на гренландском корабле, плававшем к Америке в 1347 году), что на боевом корабле могло быть «около двадцати пяти человек», «около восьмидесяти человек» (явно не считая гребцов), на грузовом - «десять или одиннадцать человек». Отражают ли эти цифры возможность судна или конкретную потребность каждого рейса - неизвестно. Вероятнее все же второе: ведь одно дело - короткий разбойничий набег или каботажное плавание и совсем иное - многосуточное плавание вне видимости берега. Конечно, парус выручал неплохо. Ну а если непогода? Ведь ни один человек не в состоянии грести безостановочно дни и ночи. Значит, иногда половина или даже треть скамей могла пустовать, а иногда на каждой могли сидеть двое-трое. Все решала конкретная обстановка. Тридцать спутников Торвальда, например, могут навести на мысль о тридцативесельном судне, но тридцать спутников Торстейна плыли на двадцативе-сельном корабле и, возможно, гребли, разделяясь на вахты, а на каждом корабле Карлсефни было вообще по два десятка мужчин... Опираясь на разрозненные обмолвки саг, можно попытаться воссоздать некую общую картину того, как «ходили на дело» викинги. Возглавлявший их конунг или ярл устраивал прощальный пир, а затем отдавал приказ трубить поход и сниматься с якоря. Предварительно суда, хранившиеся зимой со всеми своими принадлежностями и оснасткой в специально оборудованных корабельных сараях, или вытащенные на берег для стоянки, спускали на воду. Это было красочное зрелище: белый или сшитый из вертикальных цветных полотен парус, расписная обшивка бортов, разноцветные шатры, заменявшие каюты, сверкающие золотом носовые фигуры, доспехи и гербовые накладки на щитах, вывешенных по фальшборту, пурпурные, изумрудные, кобальтовые ткани плащей. Первыми из бухты выскальзывали маленькие, ярко раскрашенные юркие гребные восьмивесельные суденышки: они указывали безопасный фарватер, а заодно вели разведку. Среди них безусловно были аски - моноксилы, выдалбливавшиеся из цельного ствола ясеня (откуда и название) и имевшие наращенные борта. Эти высокомореходные лодки примерно с V века служили и пиратскими судами, отчего викингов, как уже упоминалось, называли в числе прочих прозвищ аске-маннами. Их строили потом франки и англосаксы, а у норманнов после появления более крупных кораблей аски стали играть вспомогательную роль и где-то в IX или X веке сошли со сцены, вытесненные другими типами. При виде незнакомого судна они подавали сигнал, после чего парус, мачта, шатры и шест с позолоченным флюгером, указывающим направление ветра, быстро убирались, весь корабль покрывался специально для этой цели предназначенными серыми коврами под цвет воды, и все, кроме нескольких гребцов в носу и корме, низко пригибались, скрываясь за фальшбортом.
 Корма средневекового судна, снабженного рулем.
Корма средневекового судна, снабженного рулем.
Когда дозорные выясняли обстановку и решали, что опасности нет, все возвращалось на свои места. Вероятно, боевые корабли имели в корме полупалубу, а над ней еще один помост, своего рода капитанский мостик, служивший наверняка и боевой площадкой: трудно иначе истолковать фразу «Саги об Эгиле» о «верхней палубе на корме». Конунг, стоя на этом высоком помосте, где было его обычное место, руководил всеми действиями флотилии, прибегая в случае нужды к услугам трубачей. Корма вообще играла важную роль в корабельной жизни: с нее подавали почетную сходню (вторая спускалась с носа), к ней была привязана спасательная и разъездная шлюпка, всегда следовавшая на канате за судном, к ней подходили лодки гостей, ею же швартовались и сами корабли к береговым сваям или близко растущим у воды деревьям. Конунга окружала, сомкнув щиты, его дружина. Его легко можно было приметить по блиставшим золотом щиту с гербом и шлему, короткому алому плащу, наброшенному поверх кольчуги и украшенной золотом рукояти меча. При угрозе нападения с фланга картина мгновенно менялась: по сигналу трубача воины тесно выстраивались вдоль бортов, выставив перед собой сплошную стену щитов, а из-под каждого щита выглядывало острие копья. Корабль превращался в ощетинившегося ежа, и в этих случаях конунг свободно разгуливал по палубе, своевременно оказываясь там, где требовалось его присутствие. В отличие от античных, норманнские корабли, лишенные тарана, подходили к берегу не кормой, а носом, затем разворачивались к нему бортом и швартовались двумя канатами со стороны суши; с противоположного борта их удерживали якоря. Нос и корма флагманского корабля были обиты толстыми железными листами кверху от ватерлинии - вероятно, съемными, так как в противном случае судно могли бы вытащить на берег разве что великаны, а его осадка сильно ограничила бы район плавания. Эти листы затрудняли работу абордажного отряда: крюки не могли закрепиться на отполированном металле, а если кто-нибудь в прыжке попадал на эту обшивку, он тут же соскальзывал за борт. Абордаж можно было производить только бортом к борту: иначе пришлось бы перелезать через собственный высокий форштевень под градом стрел, камней, дротиков и вообще всего, что подворачивалось под руку. Перед битвой корабли поднимали знамена и выстраивались в одну линию, причем корабль конунга был в центре ее, а их форштевни связывались канатами: это помогало держать строй, служило профилактической мерой против дезертирства и паники, а также препятствовало прорыву кораблей противника в тыл. Вся эта схема очень напоминает греческий прием защиты от таранной атаки. «Сага о Сверрире» рассказывает, что суда связывались вместе по четыре и по пять и при этом могли передвигаться: викинги «гребли внешними веслами на крайних кораблях». При сближении с вражескими кораблями на их штевни первым делом метали абордажные крючья, сбивая попутно насадные драконьи головы. В качестве таких крючьев использовались также легкий зуболапыи якорь и «копье с крючком, которым можно было также и рубить». С малых судов, постоянно крутившихся в гуще боя, снизу вверх летели копья, отгоняя людей от борта. На эти копья ловили и тех, кто пытался совершить спасительный прыжок за борт. Этими копьями, а также секирами старались продырявить борта вражеских кораблей, как это делали, например, руссы в битве, описанной Михаилом Пселлом. А из корзины на мачте и из-за высокого форштевня, где было убежище ударных отрядов и лучников, на палубу зацепленного корабля сыпался встречный ливень стрел, дротиков, копий и камней. Спасение от него было единственное - выставить на высоких шестах широкие щиты, сплетенные из прутьев и выступающие за пределы борта. Эту тактику норманны принесли и на Русь: в «Повести о походе Ивана IV на Новгород в 1570 году» упоминается о том, как «воинъские люди в малых судех ездяху по реце Волхове, со оружием, и с рогатыни, и с копии, и с багры, и с топоры».
Если неприятель не выдерживал натиска и искал спасения на других своих кораблях, канаты, связывавшие носы, перерубались, корабли обходили очищенное судно и приступали таким же манером к захвату следующего. Выждав удобный момент, воины перепрыгивали на палубу противника и завязывали рукопашную. Такому прыжку могла помешать чаще всего высота борта неприятельского корабля. Конунг, помогая своим, тоже стрелял из лука, метал копья, всячески подбадривал, а в преддверии абордажной атаки извлекал из рундука под своим почетным сиденьем мечи и раздавал их экипажу. Палубный бой начинался в том случае, если противник не мог или не успевал вырубить вместе с деревом наброшенный абордажный крюк или якорь. Схватка начиналась с носа и постепенно перемещалась к корме. Вот как описывает один из подобных эпизодов сага: «Бой шел на носах кораблей, и только те, кто стоял там, могли рубиться мечами, те же, кто находился за ними в средней части корабля, бились копьями. Стоявшие еще дальше метали дротики и остроги. Другие бросали камни и гарпуны, а кто стоял за мачтой, стрелял из лука». Битва у мачты, водруженной в центре корабля, знаменовала наступление критического момента, и тогда конунг выбегал из-за ограды щитов и личным примером вдохновлял своих людей. Если же дело оказывалось совсем худо, в ход пускалось все, что оказывалось под рукой: «Олав схватил румпель и бросил в этого человека, и попал в голову... так что череп раскололся до мозга»,- бесстрастно передает сага. Или вот еще: «Вигфусс, сын Глума Убийцы, схватил с палубы наковальню, на которой кто-то выпрямлял рукоять своего меча... Он метнул наковальню двумя руками и попал в голову Аслаку Лысому, так что острый конец наковальни вонзился в мозги. До этого Аслака не брало никакое оружие, и он рубил на обе стороны». После боя - иногда скоро, а иногда и несколько дней спустя (после похорон павших или отхода в безопасное место) - трубили сигнал к дележу добычи. Трофеи делили на четыре части, потом каждую часть - еще на двенадцать, и только затем выделялись персональные доли. Нагруженные добром победители возвращались в родные фьорды, и слава летела впереди них. Они становились героями саг, передаваемых из поколения в поколение. А павшие в битве отправлялись в последний свой рейс к блаженным берегам на «безразмерном» корабле «Нагльфар», сделанном из ногтей мертвецов. Правит им невидимый для живых великан Хрюм, «и лишь поднимут на нем паруса, в них дует попутный ветер, куда бы ни плыл он. А когда в нем нет нужды, чтобы плыть по морю, можно свернуть его, как простой платок, и упрятать в кошель, так он сложно устроен и хитро сделан», - поясняет «Младшая Эдда». Это - эпос. Действительность была куда трагичней. Конунга заворачивали в саван, и живые обязаны были взглянуть на мертвеца, чтобы засвидетельствовать его смерть и тем предотвратить обвинения в убийстве или появление самозванцев. Иногда бывало еще проще: «Но Хаки конунг был так тяжело ранен, что, как он понимал, ему оставалось недолго жить. Он велел нагрузить свою ладью мертвецами и оружием и пустить ее в море. Он велел затем закрепить кормило, поднять парус и развести на ладье костер из смолистых дров. Ветер дул с берега. Хаки был при смерти или уже мертв, когда его положили на костер. Пылающая ладья поплыла в море, и долго жила слава о смерти Хаки». Так уходили в более радостный мир морские конунги - морские короли, викинги. Утонуть викинг не мог никак, если б даже и захотел. Когда он оказывался за бортом, его тут же подхватывала своей золотой сетью богиня моря Ран, жена морского великана Эгира, и уносила все в ту же блаженную страну. У Ран и Эгира были девять дочерей-волн: Химинглеффа (Небесный Блеск), Дуса (Голубка), Блё-дугхадда (Кровавые Волосы), Хеффринг (Прибой), Удор (Волна), Раун (Всплеск), Бюлгья (Вал), Дрёбна (Бурун) и Кольга (Рябь). От них пошло поверье о смертоносном «девятом вале», а еще позднее это число закрепилось в количестве баллов шкалы состояния поверхности моря и шкалы степени его волнения в зависимости от высоты волн. Море часто называли «дорогой Ран», «землей кораблей», «землей киля, носа, борта или шва корабля», «путем и дорогой морских конунгов» и иными подобными эпитетами, а в поэзии одним из десяти хейти моря было «Эгир» и еще одним - «соль», прямой синоним греческого «галс», тоже принадлежавшего поэтам и давшего имя галере.
Викинги, быть может, единственные мореплаватели Севера, пересекавшие обширные водные пространства, не имея компаса, полагаясь на благосклонность Эгира и заступничество Ран. Днем в ясную погоду их вело солнце, ночью - звезды и маяки. Саги свидетельствуют о «солнечном камне»: им, например, владел Олав Святой. С этим камнем он не боялся ни туманов, ни пурги. Как сообщают саги, камень этот опускали в воду, и, плавая в ней, он отражал лучи невидимого солнца. Относительно этого чудо-камня существуют по крайней мере два соображения: либо это дощечка с укрепленным на ней магнитным железняком, либо кристалл исландского шпата, фокусирующего при пеленге на солнце два изображения вследствие поляризации света. Как бы там ни было, он вполне заменял викингам компас или секстан. Широту они определяли посредством солнечных часов - гномона, как это делали греки еще во времена Аристотеля. Вообще, реальность мореплавания в ту или иную эпоху - понятие весьма относительное. Принято считать, что в дальних рейсах, вне видимости берегов, нужно как минимум уметь вычислять широту и долготу. Однако, как уже было сказано, арабы в то самое время, когда Брандан плыл к своим островам, вообще не имели понятия о долготе и пользовались только вычислениями широты. Португальцы же и испанцы почти тысячелетие спустя решали прямо противоположную проблему. А если даже и научиться вычислять то и другое, куда это наносить? Ведь карты с градусной сеткой появятся еще нескоро, а каждый мореход отсчитывал расстояние от порога родного дома. Не случайно же Роджер Бэкон сокрушался о том, как «медленно растут у западных христиан географические сведения», и полагал, что «надо производить измерения, определять точно положение стран и городов, а для этого необходимо принять какой-нибудь определенный пункт за начало долготы. Можно бы взять, например, на западе западную оконечность Испании, на востоке - восточную границу Индии. География, помимо ее практических приложений, важна и для других наук. Нельзя знать людей, не зная климата и страны, в которой они живут, так как климат влияет на произведения растительного и животного царства и еще более на нравы, характеры и учреждения...». Прозорливость, поразительная для своей эпохи! Или, быть может, хорошая осведомленность: у арабов уже был общепринятый нулевой меридиан: он проходил через Канарский архипелаг - античные Острова Блаженных. А в это же самое время на Люнебургской карте мира 1284 года, обильно уснащенной пояснительными надписями, твердой рукой обозначен Рай (на крайнем востоке), указано местообитание «породы сильных собак» (в Албании) и начертаны прочие такого же рода сведения, дающие путешественникам, по мнению составителя, «правильное направление и приятное наслаждение от созерцания попутных предметов»,- те же климаты, то же животное и растительное царство... В самом начале XVI века испанский поэт Хуан Боскан писал:
Встревожен шкипер небом грозовым, но стоит солнцу вспыхнуть на просторе, он все тревоги забывает вскоре, как будто почва твердая под ним.
Солнце днем и звезды ночью - недаром их величали «путеводными», поклонялись им и приходили в ужас во время затмений. На солнечном Севере с незапамятных времен определяли широту по длине тени в полдень. Норманны были третьей великой морской нацией в период становления европейских государств. И они заставили поделиться с собой морем и ромеев, и арабов.
ХРОНИКА ЧЕТВЕРТАЯ,
повествующая о том, что поделывали христиане, магометане и язычники в Средиземном море.
После разрыва с Ярославом Византия оказалась лицом к лицу сразу с добрым десятком внешних врагов, не считая врагов внутренних. Узы и печенеги участили свои набеги с Балкан и все чаще форсировали Босфор и Дарданеллы, появляясь у самых ворот Константинополя. Из Средней Азии и Ирана шла другая волна тюркских племен, гонимая монголами и сельджуками,- огузов и туркмен. К ним присоединялись грузины, армяне и кавказские греки. Вся эта орава, разноязыкая и разношерстная, оседала там, куда не в состоянии были дотянуться руки византийских чиновников, смешивалась с местным населением и начинала обзаводиться хозяйством. Византийцы называли их турками, и ни те, ни другие еще не ведали, что в Малую Азию пришли не просто эмигранты, а новые хозяева. На этот раз - навсегда. Но если бы даже ромеи и знали об этом, они уже ничего не смогли бы изменить: варяжской дружины в Константинополе больше не было, а собственных сил катастрофически не хватало. В 1055 году турки захватили Багдадский халифат, за ним последовали Сирия и Палестина. Египетский халифат по-прежнему оставался в руках арабов. Путь на Восток был закрыт для Европы бесповоротно, лишь одиночки могли проникнуть туда, преодолевая множество опасностей. Императоры, видя, как их владения тают на глазах, шлют в Ватикан депешу за депешей, умоляя защитить восточный оплот христианства от ярости сельджуков. Но папа медлит с ответом, он прикидывает возможные дивиденды. Он размышляет... Для Ромейской державы наступило смутное время. Бесконечной чередой следовали заговоры и бунты. Верность и честь окончательно уступили место предательству и низости, особенно при дворе. И, как в любой стране, оказавшейся на грани анархии, на ее дорогах появились собственные разбойники, а на побережьях - собственные пираты. Вероятно, они были и раньше, но удельный вес их был столь невысок, что хронисты считали ниже своего достоинства упоминать о них. Теперь хроники ромеев запестрели именами византийских, турецких и иных разбойников. Эти имена замелькали и на страницах мемуаров царствующих особ. На западе, в Адриатическом море, все больший вес приобретали далматы, именовавшие себя то кроатами, то хорватами, но охотнее всего - сербами. Трирский архидиакон Вильгельм упоминал в 1168 году их «правителей, называемых жупанами», которые «иногда служат императору, а иногда, выходя из гор и лесов, опустошают всю окрестную страну». Но еще за два века до него византийский император Константин VII Багрянородный (913-959) писал об этом могущественном разбойничьем племени, способном выставить одновременно до шестидесяти тысяч конников, до сотни тысяч пехотинцев и до девятисот боевых кораблей - сагин и кундур. «Сагины,- сообщает Константин,- вмещают в себя по 40 человек, кундуры же по 20, а меньшие по 10 человек». Византии на протяжении многих лет пришлось иметь дело с сербами, и особенно много крови попортил ей жупан Рашки (Сербии) по имени Вукан. В 1090 году, когда империя лихорадочно отбивалась от нашествия северочерноморских племен, фигурирующих в хрониках то как скифы, то как узы, то как кумены, то как мисы, на морской арене появился новый персонаж, громко заявивший о себе с первых же шагов. Это был турецкий эмир, сатрап Смирны (Измир) Чакан, или Чаха (возможно, соотечественник Вукана). Десять лет назад он уже совершал набеги на Азию, был взят в плен фессалийцем Александром Кавасилой и подарен тогдашнему византийскому императору Ники-фору Вотаниату. Оценив незаурядные личные качества пленника, Никифор возвратил ему свободу, даровал титул протоновелиссима (третьего по значению лица в империи) и щедро осыпал милостями. Однако с воцарением Алексея Комнина Чакан попал в опалу, и вот теперь сложившаяся обстановка подсказала ему план мести. Правильно оценив ситуацию, он решил урвать свою долю пирога со стола дерущихся гигантов. Но для этого нужен флот, а в Смирне его не было. Чакан отыскал в городе человека, сведущего в морском деле, и поручил ему как можно скорее создать эскадру пиратских судов. Именно так: пиратских. Вскоре новый флот был готов к выходу в море. Наряду с множеством обычных боевых кораблей в его составе было сорок крытых парусных боевых челнов, похожих по описаниям хронистов на черноморские камары - традиционные пиратские челны кавказских народов. С этим флотом, укомплектованным опытными моряками и воинами, Чакан серией молниеносных бросков захватил почти без боя Клазомены (Урла), Фокею (Фоча), Митилену (Ми-тилини), Самос, Родос и Хиос. У Хиоса он без особого труда разгромил спешно высланный против него императором сильный флот с большим количеством воинов, возглавляемый Никитой Кастамонитом, и удалился в Смирну на отдых. Но Алексей Комнин не думал опускать руки; ведь речь зашла о престиже империи и его собственном. Командование вторым флотом он вручил своему родственнику Константину Далассину, и тому удалось захватить хиосскую гавань и осадить город Хиос. Узнав об этом, Чакан немедленно двинул к острову свой флот, а сам выступил из Смирны сушей во главе восьмитысячного отряда турок. Связав строй своих кораблей толстой цепью, чтобы они держали линию и не ударялись в бегство или, наоборот, не проявляли ненужного лихачества, Чакан начал методичное преследование. Однако на этот раз обстоятельства сложились так, что военные действия были перенесены на сушу. Фортуна отвернулась от смирнского сатрапа, и вскоре Чакан и Далассин вступили в мирные переговоры. Далассин тянул время: он дожидался прибытия с флотом шурина Алексея - прославленного полководца Иоанна Дуки.
Когда Чакан понял, что его водят за нос, он тайком отбыл в Смирну за подкреплениями. Как только об этом донесли Далассину, тот поступил точно так же: в Волиссе - городке на мысе острова Хиос - он набрал корабли со свежим войском, установил на них гелеполы, вернулся к городу Хиосу, захватил его штурмом и, не теряя времени, всею мощью обрушился на Митилену. Отказавшись от прежних планов, Чакан засел в своей сатрапии, построил новый флот и с этого времени держал в постоянном страхе все приморские области. Свои же бывшие островные владения, отобранные византийцами, он разорил дотла, за исключением Мити-лены, отдавшейся в его власть добровольно. Поддерживая постоянную связь с печенегами, он исподволь, но настойчиво толкал их на захват Фракийского Херсонеса, а в ожидании этого события переманивал на свою сторону наемников, стекавшихся со всех сторон к Алексею. Делать это было ему тем легче, что зима наступила необыкновенно суровая, и снежные заносы серьезно затрудняли доставку продовольствия в Константинополь. Столица голодала. В пику Алексею Чакан провозгласил себя императором, а Смирну - столицей империи и стал готовиться к походу на Константинополь. Весной 1091 года Алексей вновь выслал Иоанна Дуку с войском и Константина Далассина с флотом, приказав им одновременным ударом захватить Митилену и затем раз навсегда покончить с самозванным императором, отобрав у него «столицу» - Смирну. Этим указом Чакан был фактически поставлен вне закона. Война с ним кончилась, началась охота на пиратов. Гарнизон Митилены возглавлял в это время брат Чакана - Галаваца. Понимая, что Галаваце не выстоять против отборных императорских войск, Чакан устремился ему на помощь. Осада Митилены длилась три месяца. Ежедневно - от восхода до заката - византийцы штурмовали стены города, но не продвинулись ни на шаг. На исходе третьего месяца непрерывных боев Чакан предложил Иоанну мир при условии, что ему самому будет дозволено беспрепятственно возвратиться в Смирну. Они обменялись двумя знатными заложниками, принесли положенные клятвы, и перемирие вступило в силу. Однако Чакан и тут остался верен себе, но не своему слову: под покровом ночи он попытался вывезти с собой в цепях все население Митилены. Обман раскрылся, когда его корабли уже были в море. Одураченный Далассин немедленно устремился за ним в погоню, а Иоанн тем временем захватил весь остальной флот пиратов в момент его отплытия и освободил пленников. Далассину удалось настичь Чакана, многие его корабли он пленил и безжалостно перебил всех, кого сумел отыскать на их палубах. Готовый к такому повороту событий, пиратский вождь пересел в суматохе боя на легкое суденышко и незаметно выскользнул из этой мясорубки. (Точно так же спасся когда-то Митридат: видимо, это была обычная тактика пиратского морского боя.) На берегу его поджидал большой отряд турок, с ним он добрался до Смирны. Радость освобождения была омрачена для него тем, что он узнал здесь о захвате Дукой всех островов, совсем недавно вновь занятых его молодцами. Особенно чувствительна была для него потеря Самоса, взятого приступом. Но не таков был этот человек, чтобы впасть в отчаяние и опустить руки. Пока византийская армия улаживала очередные недоразумения с Кипром и Критом, пираты спешно строили дромоны, диеры, триеры и легкие суда. Не дожидаясь спуска их на воду, Чакан приступил к осаде города Авида. Однако его поджидал здесь неприятный сюрприз: никейский султан Килич-Арслан ибн Сулейман (он был женат на дочери Чакана) 1 не прислал обещанную подмогу, а, напротив, двинул свои войска против него. Чакан не знал тогда, что Алексей направил султану письмо, где, ловко играя на его подозрительности, уверил, что истинная цель пиратов - захват не Византии, которая явно им не по зубам, а турецкого султаната. Дабы выяснить, в чем дело, Чакан послал в ставку султана своего сына Ибн Чакана. Султан встретил шурина по-родственному радушно, напоил за трапезой крепким вином и собственноручно заколол мечом. Чакану пришлось срочно ретироваться в Смирну.
1 Вопрос о степени родства Килич-Арслана и Чакана не так прост. Фраза из письма Алексея султану, где упоминается «твой зять Чакан», противоречит указанию на то, что жена султана была дочерью Чакана. В первом случае Чакан должен был быть женат на дочери или сестре Килич-Арслана, но тогда султан не мог быть мужем дочери Чакана. Что они оба были женаты на дочерях друг друга, представляется вовсе невероятным. Остается лишь признать, что либо Алексей был не силен в степенях родства, либо это описка в самом письме или в тексте «Алексиады» и вместо «зять» следует читать «тесть».
«Чакан,- пишет в своих мемуарах Анна Комнина,- как своей вотчиной распоряжался Смирной, а некто по имени Тэнгри-Бэрмиш - городом эфесян у моря... Другие сатрапы захватывали крепость за крепостью, обращались с христианами, как с рабами, и все грабили. Они овладели даже островами Хиосом, Родосом и всеми остальными и сооружали там пиратские корабли. Поэтому самодержец решил прежде всего заняться делами на море и Чаканом...» Был, однако, момент, когда все это отодвинулось на задний план. Опасность шла с запада. Весной 1093 года, когда еще не был усмирен Чакан, против Византии выступили сербы. Их вождь Вукан, «муж, искусный как в речах, так и в делах», по определению Анны Комнины, перешел с войском границу империи и стал опустошать ее приграничные области. После долгих хлопот Алексею, казалось, удалось усовестить его, и они заключили мир в Скопле. Но ромеи тогда еще плохо знали этого человека. Уже через год Вукан вновь отправился в набег на земли империи. На этот раз Алексей выслал против него своего юного племянника Иоанна с огромной армией, и Вукан вновь запросил мира, покаявшись в нарушении данного год назад слова. Тем временем он готовился к решительному бою. Он уже закончил приготовления, когда к Иоанну привели какого-то монаха-перебежчика. Монах раскрыл Иоанну замыслы жупана, но Иоанн счел это провокацией и «с гневом прогнал монаха». Очень скоро, всего через несколько часов, ему пришлось горько раскаяться в своей недоверчивости. «Вукан ночью напал на Иоанна,- свидетельствует Анна,- и в результате многие наши воины были убиты в палатках, а многие обратились в паническое бегство, попали в водовороты протекавшей внизу реки и утонули. Лишь наиболее храбрые бросились к палатке Иоанна и, мужественно сражаясь, с трудом отстояли ее от неприятеля. Таким образом, большая часть ромейского войска погибла». Иоанн бесславно возвратился в столицу. На какое-то время сербы оказались хозяевами положения, и они использовали это преимущество в полной мере. Они не успевали перевозить добычу из Византии в Далматию, а их путь был отмечен пеплом городов и селений, разрушенными крепостями и тучами воронья. Не на шутку встревоженный Алексей самолично выступил теперь против Вукана во главе большого войска, но хитрый жупан вновь, уже в третий раз запросил мира и в третий раз получил его. Он не остановился даже перед тем, чтобы в числе заложников передать императору своих племянников, среди которых был будущий жупан Рашки, преемник Вукана Урош. Им еще не раз придется впоследствии разыгрывать сцену обмена заложниками и высокопарными клятвами, подписания мира и быстрого забвения всех этих скучных церемоний. Император устал от войн на два фронта, и самым привычным маршрутом ромейских послов в эти годы был путь в Ватикан. Восточный оплот христианства умолял о помощи оплот западный. В 1095 году папа Урбан II наконец откликнулся на призывы Алексея. 26 ноября на соборе в Клермоне он выступил с большой речью, густо замешенной на религиозном фанатизме и пересыпанной напоминаниями о славных деяниях предков. Момент был выбран удачно: в 1085 году кастильцы отобрали у мавров Толедо, а незадолго до открытия собора, 15 июня 1094 года, испанский рыцарь Родриго Диас де Бивар торжественно вступил с отрядом в Валенсию и стал ее правителем, соединив в своем имени арабское «Сид» (мой господин) и испанское «Кампеадор» (воитель). «Песнь о Сиде» тогда еще не была написана, но страстям не следовало дать остыть. Однако перед папой были не только рыцари (тех и не надо было уговаривать), и едва ли эта речь возымела бы желаемое действие на умы расчетливых овернских крестьян, меньше всего помышлявших о бранных подвигах, если бы не одно примечательное место в ней, яркое и доходчивое: «Земля, которую вы населяете,- разглагольствовал Христов наместник,- сдавлена отовсюду морем и горными хребтами, и вследствие того она сделалась тесною при вашей многочисленности: богатствами она необильна и едва дает хлеб своим обрабатывателям. Отсюда происходит то, что вы друг друга кусаете и пожираете, ведете войны и наносите смертельные раны.Теперь же может прекратиться ваша ненависть, смолкнет вражда, стихнут войны и задремлет междоусобие. Предпримите путь ко гробу святому: исторгните ту землю у нечестивого народа и подчините ее себе». Все это было чистой правдой, по причине перенаселенности и междоусобиц начинались много веков назад и финикийская, и Великая греческая колонизация, хотя аудитория папы вряд ли об этом подозревала. Это правило исправно действовало и в Средние века. Хорса и Хенгист, например, прибывшие в Британию из Саксонии, на вопрос Вортегирна о причине перемены мест отвечают без обиняков: «А обычай у нас таков, что когда обнаруживается избыток жителей, из разных частей страны собираются вместе правители и велят, чтобы юноши всего королевства предстали перед ними. Затем они по жребию отбирают наиболее крепких и мужественных, дабы те отправились на чужбину и там добывали себе пропитание, избавив таким образом родину от излишних людей». Но была и еще одна причина, почему папа не моргнув глазом отправил за тридевять земель цвет европейского рыцарства: из бурлящего котла, каким была тогда Европа, нужно было срочно «выпустить пар». Ни у папы, ни у европейских монархов не было, да и быть не могло, уверенности, что какой-нибудь бойкий витязь не предъявит завтра, и не без основания, права на тиару или корону: ведь короли были не просто первыми, а лишь первыми среди равных. У них не могло быть гарантии, что кто-нибудь не собьется со счета. Дальнейшая история Европы показала, что так оно и вышло. Спасение святынь началось летом следующего года с неслыханного до той поры погрома зажиточных иудейских граждан в Кёльне и Лотарингии. Хронист Альберт Аахенский пишет, что в Кёльне начинающие крестоносцы «переранили и изувечили почти всех самым бесчеловечным образом, срыли их дома и синагоги и разделили между собой множество денег. Устрашенные такими жестокостями, иудеи в числе 200 бежали и ночью переплыли на судах в Нейсе; новстреченные пилигримами и крестоносцами были все умерщвлены и ограблены, так что не спаслось ни одного человека». Постояв таким образом за веру, а заодно устранив временные финансовые затруднения, бесчисленные отряды французских, английских, фламандских, лота ингских и прочих искателей приключений с нашитыми на одежду красными крестами переправились через Босфор и двинулись на Иерусалим, оставив за собой опустошенные амбары Константинополя.
 Крестоносцы. Средневековая миниатюра.
Крестоносцы. Средневековая миниатюра.
Главной ударной силой Первого крестового похода на море была огромная объединенная флотилия фризских пиратов, пополненная разбойничьими судами чуть ли не всех европейских портов, особенно Генуи. По данным папской канцелярии, едва ли, впрочем, достоверным, в этом походе участвовало до трехсот тысяч человек. Казалось, весь мир разом пришел в движение, как во время Великого переселения народов. Грань между рыцарем и разбойником, купцом и пиратом вновь стала столь же неясной и условной, как между награбленным добром и военной добычей. Алексей скорее, чем он сам мог бы еще недавно предположить, пожалел об отправленных в Ватикан письмах, но было поздно. Джинна выпустили из сосуда, и направление ему указал сам византийский монарх. Империя таяла прямо на глазах. После набегов печенегов, турок и десятков других племен она сохраняла свое былое величие лишь в летописях и хрониках. Ко времени Первого крестового похода Малая Азия окончательно отпала от нее и перешла к сельджукам, кроме области Трапезунта. Как никогда, она оправдывала теперь название «Греческая империя», и не только по языку и религии. Северная ее граница шла по Дунаю и захватывала юг Крыма, западная плавной дугой соединяла Белград и Скодру и далее к югу послушно повторяла очертания Греции и всех ее островов, замыкаясь у Константинополя. Алексей все еще не терял надежды вернуть утраченную Малую Азию, но то были пустые мечты: такие повороты исключительно редки в истории человечества. К тому же разбой на дорогах и разбой на море не оставляли ему времени для других дел. Шел 1097 год, второй год Первого крестового похода. Уже почти десятилетие Византия, не зная отдыха, отбивалась от пиратов, а их количество ничуть не уменьшилось. Наоборот, оно даже увеличилось, ибо добрая половина «пиратов-крестоносцев» так и не добралась до обетованных земель, соблазнившись прелестями островов Средиземного моря, куда более реальных и достаточно богатых. Часть из них пополнила потрепанные местные пиратские эскадры, часть стала действовать самостоятельно. И столько же времени у всех на устах было имя Чакана. В захваченной 19 июня византийцами Никее, принадлежавшей султану, была пленена дочь Чакана вместе с двумя ее детьми, и теперь Алексей приказал возить их по прибрежным городам, устрашая тех, кто не желал сложить оружие. Однако этот спектакль не очень-то подействовал на пиратские гарнизоны, и Алексей подступился к Чакану с другого бока: он приказал доставить его дочь в Константинополь, принял ее там как царствующую особу и вскоре почтительнейше возвратил безутешному Килич-Арслану. Трудно сказать, что больше подействовало на Чакана - падение Никеи, измена зятя, гибель сына или пленение дочери. Может быть, он просто устал и возмечтал окончить свои дни на покое. Факт тот, что он сдал Смирну без боя и ушел со всеми ее жителями в султанат. Там следы его затерялись навсегда. Наконец-то Алексей смог обратить взоры на запад, где, воспользовавшись беспорядками в Византии, подняли головы итальянские города, в чьи ворота все громче и явственней стучалась долгожданная независимость. Многие из них успели уже обзавестись военным флотом, едва ли уступающим византийскому. Во всяком случае, предстоявшая неизбежная их схватка должна была стать схваткой равных. Анна Комнина упоминает, например, пизанский флот, насчитывавший около девятисот боевых единиц. Часть из них епископ Пизы употребил для переброски крестоносцев из Франции в Палестину, а затем, воспользовавшись благоприятным моментом и «заручившись поддержкой еще двоих епископов, живших у моря... отделил значительную часть своих кораблей и отправил их грабить Корфу, Левкаду, Кефалинию и Закинф». Момент и впрямь был выбран удачно: Византия ничего не могла противопоставить новоявленным епископским пиратам, и довольно долго они орудовали совершенно безнаказанно. Тем не менее император повелел срочно строить корабли по всей империи, и в апреле 1099 года между Патрами и Родосом византийские плавающие крепости настигли разбойников. В этих сражениях со всей очевидностью проявилось не только равное соотношение их сил, но и сходная тактика боя. Не исключено, что посредниками в ее распространении были все те же вездесущие пираты. Алексей тщательно готовился к встрече с ними: «Зная опытность пизанцев в морских боях и опасаясь сражения с ними, император поместил на носу каждого корабля бронзовую или железную голову льва или какого-нибудь другого животного,- позолоченные, с разинутой пастью, головы эти являли собой страшное зрелище. Огонь, бросаемый по трубам в неприятеля, проходил через их пасть, и казалось, будто его извергают львы или другие звери». Только «греческому огню» и были обязаны византийцы своей победой над пизанцами. Но Алексей все же не зря страшился этой встречи: плоды победы были половинчаты. Уцелевшая часть итальянского флота немедленно приступила к грабежу эгейских островов и опустошила побережья Кипра. Прибрежные города на материке начали голодать. Византийцы были вынуждены прибыть на Кипр и вступить в переговоры, но они закончились ничем, а на обратном пути императорский флот почти весь погиб во время шторма у берегов Малой Азии. 1 августа 1100 года крестоносцы вновь отплыли из Франции в Сирию, на этот раз на кораблях генуэзцев. Прослышав об этом, Алексей срочно выслал в Грецию сухопутное войско и флот, чтобы перехватить их у мыса Малея. Но армада показалась ромеям столь неисчислимой, что они благоразумно убрались восвояси, не приняв боя, и 25 сентября крестоносцы благополучно высадились в Латакии. Неудачи преследовали Восточный Рим одна за другой. Пиза, Генуя и Лонгивардия (занятая норманнами Южная Италия) объединили свои флоты для грабежа побережий, на востоке новые волны турок образовали второй фронт. (Этот союз, впрочем, ничуть не помешал Генуе в скором времени смешать Пизу с землей из сугубо коммерческих соображений.) Империя оказалась в кольце. Алексей попытался было упорядочить охрану морских путей, но итальянцы наладили отличную разведку и постоянно были в курсе всех его замыслов. Снова участились мятежи в самой Византии. Император готов был опустить руки. «В один и тот же момент,- пишет Анна Комнина,- ополчились на него скиф с севера, кельт с запада, исмаилит с востока; не говорю уже об опасностях, подстерегавших его на море, о варварах, господствовавших на море, и о бесчисленных пиратских кораблях, построенных гневом сарацин или воздвигнутых корыстолюбием ветонов (славянских пиратов Дал-матии.- А. С.) и их недоброжелательством к Ромей-ской державе. Все они с вожделением смотрели на Ромейскую империю». Анна не упомянула здесь еще норманнов, должно быть, включив их в понятие «кельтов с запада». А между тем помощь Алексею пришла именно от них. Пришла, когда ее уже никто не ждал. В 1108 году семнадцатилетний норвежец Сигурд, получивший впоследствии прозвище Крестоносец, отплыл с шестьюдесятью кораблями на поиски приключений и славы и взял курс на Францию. Перезимовав там, викинги двинулись вдоль западного побережья Пиренейского полуострова, принадлежавшего в своей южной части маврам. Встретившись с флотом мавританских пиратов, рыскавшим в Атлантике в надежде на поживу, Сигурд вступил с ним в бой, отбил восемь галер и, высадившись на сушу, принялся нагонять страх на «язычников». Для начала он захватил крепость Синтру недалеко от Лисабона, перебив все ее население, погрязшее, по его убеждению, в грехах.
Такая же участь постигла вскоре и сам Лисабон, расположенный как раз на границе христианских и мавританских владений. Следующий разграбленный викингами город, к западу от Лисабона, сага называет Алькассе. Вряд ли стоит сомневаться, что это искаженное арабское «ал-касар» - укрепленный наподобие кремля дворец - и что речь здесь идет о многострадальной Севилье, расположенной в восьмидесяти семи километрах от устья реки ал-Кабир («Великой», будущего Гвадалквивира). Севилья, эта бывшая жемчужина римской провинции Бетика, главный лагерь вандалов и столица вестготских королей, была уже знакома норманнам. Она была завоевана арабами в 712 году, а с 1026 года стала центром Севильского эмирата. Норманны называли ее Алькассе по имени самого знаменитого ал-касара на Пиренейском полуострове - великолепного мавританского дворца Ал-касар, резиденции эмира Севильи. Участившиеся набеги заставили арабов перестроить этот дворец и превратить его в крепость, поэтому его окончательное оформление было завершено лишь в конце XII века. Может быть, и набег Сигурда сыграл в этом не последнюю роль. Но чисто географически это все-таки «темное» место саги: как известно, к западу от Лисабона лежит только море, Испания же расположена в прямо противоположном направлении - восточном. Это - во-первых. Во-вторых, нельзя все же с абсолютной уверенностью локализовать город Алькассе. Севилья представляется наиболее приемлемым вариантом лишь потому, что она расположена на воде, была в то время уже известна викингам и всегда привлекала их своими богатствами. На карте Пиренейского полуострова можно отыскать и другие пункты с названиями, близко звучащими к упомянутому сагой: Алкобаса недалеко от Лейрии (но викинги прошли ее до Лисабона), Алькантара на реке Тахо, отнятая у мавров в 1213 году и ставшая центром одноименного рыцарского ордена, созданного для борьбы с маврами, Алькасар де Сан-Хуан (чтобы попасть туда, викингам надо было подняться по Гвадиане до ее истока, образованного слиянием Хигуэлы и Санкары: город расположен у места их встречи) и Алкасер ду Сал на реке Садо, впадающей в залив Сетубал юго-восточнее Лисабона (после Севильи это наиболее вероятный претендент).
Как бы там ни было, Сигурд «взял город, перебил много народу, так что город опустел», с огромной добычей вернулся к океану и ввел свой флот в Гибралтар. В проливе ему вторично пришлось иметь дело с арабскими пиратами, но и здесь победа осталась за викингами. Их флот поплыл «на юг вдоль Страны Сарацин» и прибыл к острову Форментера - самому южному в Балеарском архипелаге. Поскольку Страной Сарацин была в то время Испания, в отличие от Великой Страны Сарацин - Африки (ее считали родиной арабов), это может означать только одно: миновав Гибралтар, норманны отправились к северу вдоль испанских берегов. Никакой путаницы тут нет: до конца XVII века на европейских картах стрелка «розы ветров» была обращена книзу, как и у арабов, заимствовавших этот принцип у китайцев вместе с компасом - «указателем юга». Об этом всегда надо помнить, «путешествуя» по старинным картам и читая эпические сказания. Европейские карты известны с середины XV века (нюрнбергская «Карта мира» Германа Шёделя и другие). До эпохи Колумба то были портоланы, без градусной сетки. Но это вопрос спорный, особенно применительно к викингам. Они могли с одинаковым успехом пользоваться как арабскими картами, захваченными в боях, так и вычерченными на их основе собственными. Несмотря на то, что север на них был внизу (предполагалось, что наблюдатель находится на Северном полюсе), изображение обычно ничем не отличалось от привычного нам. Только у арабов оно бывало перевернутым, так что Европу нужно было искать в нижней части карты, а Африку в верхней. Может быть, именно этим можно объяснить и расположение «языческой Испании» к западу от Лисабона, а не к востоку. На холмистой Форментере викингов ожидало славное приключение, достойное занять место в учебниках по тактике. Оказалось, что этот остров был базой мавританских пиратов. Вероятно, само пиратское гнездовье находилось в восточной части острова, на холме Ла-Мола высотой сто девяносто два метра, служившем превосходным наблюдательным пунктом. Викинги не знали, что Балеарские острова были оккупированы сарацинами еще в 798 году и сразу же благодаря своему географическому положению стали пристанищем всех окрестных шаек. В 1000 году пираты создали здесь собственную независимую конфедерацию, до середины XIII века угрожавшую каталонскому побережью и вконец разорившую Барселону. Флот Сигур-да подгадал как раз в разгар военной кампании по очистке Балеарского архипелага от пиратов, ее вели каталонцы совместно со своими торговыми партнерами пизанцами по инициативе папы Пасхалия II. Поэтому население Форментеры встретило пришельцев во всеоружии.
 «Зеркало мира» XV века (север - внизу).
«Зеркало мира» XV века (север - внизу).
Штаб-квартирой форментерских пиратов была огромная пещера в прибрежной скале, куда они стаскивали свою добычу. К пещере вел крутой подъем, а вход в нее мавры загородили каменной стеной, над которой скала нависала козырьком. Норманнов пираты приняли в хорошем расположении духа: они швыряли им на головы камни и копья, а на стене разложили груды сокровищ, предлагая «трусливым собакам» взять их, если смогут.
Поразмыслив, Сигурд приказал снять с кораблей два баркаса, втащить их с тылу на скалу и обвязать с обоих концов толстыми канатами. Затем в баркасы сели вооруженные люди, и их спустили на канатах прямо к пещере. Сигурду с другим отрядом оставалось лишь взобраться на скалу и взломать стену. Но в самой пещере оказалась вторая стена, из-за нее мавры прицельно истребляли викингов, хорошо просматриваемых на фоне светлого входа. Все попытки штурма этой преграды оканчивались ничем. «Тут конунг,- говорит сага,- велел принести бревен, сложить большой костер у входа в пещеру и поджечь бревна. Спасаясь от огня и дыма, некоторые язычники бросились наружу, где их встретили норвежцы, и так вся шайка была перебита или сгорела. Норвежцы взяли там самую большую добычу за весь этот поход». Разорив еще два пиратских гнезда - на Ивисе и Менорке, викинги отплыли к Сицилии, с 1094 года принадлежавшей норманнам, а оттуда взяли курс на Палестину, где им радушно распахнул свои объятия Бал-дуин I Фландрский - первый король Иерусалимского королевства, основанного в 1100 году крестоносцами. Сигурд проявил пример благочестия, искупавшись в Иордане, чем снискал особое расположение Балдуина и его двора. Это расположение усилилось еще больше после того, как викинги 4 декабря 1110 года помогли крестоносцам овладеть богатейшим городом арабов Сайдой - древним Сидоном. Вот тогда-то викинги через Кипр и Грецию прибыли в Константинополь, где были ошеломлены небывалым приемом. Завидев еще издали их парчовые паруса, император Алексей приказал выстелить для дорогих гостей коврами улицы столицы от Золотых Ворот до своего дворца, он предложил им золота, в котором они не нуждались, и устроил в их честь игры, в которых они с удовольствием приняли участие. Причина этого сногсшибательного приема, чье описание может показаться неправдоподобным, прояснилась чуть позднее, когда Сигурд оставил императору самое дорогое, о чем тот мог мечтать,- чуть ли не всю свою дружину и все корабли. Сам же он с немногими оставшимися при нем викингами продолжил путь на подаренных Алексеем лошадях. Трудно сказать, чем было вызвано это решение. Скорее всего, Сигурд опасался, что он слишком «наследил» в Гибралтаре и на Балеарских островах и что его там с нетерпением поджидают чересчур превосходящие силы опомнившихся сарацин. Поэтому он благоразумно принял подаренных скакунов и на них проделал оставшийся путь - через Болгарию, Венгрию, Швабию, Баварию и Данию. Это был вариант пути «из варяг в греки». Варяги прошли его в обратном направлении. Датский король Нильс Свенсен дал им корабль с полной оснасткой, и на нем Сигурд прибыл в Норвегию после трехлетнего отсутствия. Надо полагать, он в ярких красках расписал свои приключения, особенно чудеса Палестины, так как именно Палестина стала целью путешествия норманнов Эрлинга, Эйндриди, Рёгнвальда и епископа Вильяльма. Отплыв на пятнадцати кораблях с Оркнейских островов несколько лет спустя после возвращения Сигурда, они в точности повторили его одиссею. До Гибралтара флотилия плыла единым строем «путем, по которому плавал Сигурд Крестоносец», но по выходе в Средиземное море Эйндриди со своей дружиной отделился от нее. Рёгнвальд и Эрлинг остались верны прежнему курсу - возможно, не без увещеваний епископа, торопившегося к «святым местам». Когда на этом курсе оказался большой сарацинский корабль, они с ходу взяли его в «клещи». Однако арабы так густо забрасывали их камнями и копьями и так щедро поливали кипящей смолой и маслом, что добыча ускользнула бы от них, если бы Эрлинг не нашел выход. Вернее - вход, потому что викинги вошли на сарацинский корабль через отверстия в борту, прорубленные их ныряльщиками. Профессия ныряльщика, известная еще с гомеровских времен (колумбеты и арнойтеры у греков, уринаторы у римлян) была норманнами заметно усовершенствована. Они могли не только продырявить днище или перерезать якорный канат, но и поджечь судно: для этого при них были огниво и трут, упрятанный в скорлупу ореха, обмазанную воском. Но в данном случае огонь не понадобился. «Они овладели дромундом и перебили на нем уйму народу. Они захватили огромную добычу и одержали славную победу», - подобные восхваления столь часто встречаются в сагах, что в конце концов перестают восприниматься. Но в этой привлекает одна деталь: корабль назван дромундом, то есть дромоном, и если вспомнить, что такое дромон и что такое снеккья, победа и впрямь была выдающейся. Но каким образом на дромоне оказались мавры? Одно из двух: либо норманны захватили византийское судно, приняв его за сарацинское (что, пожалуй, маловероятно), либо это был арабский дармун. Но во втором случае выглядит несколько странным, что северян не встретили жидким огнем, как правило, имевшимся на таких кораблях. Дромон, как уже говорилось, мог быть огненосным и неогненосным. После 1139 года на них на всех демонтировали устройства для метания огня: второй Латеран-ский собор запретил это оружие как бесчеловечное. Но ведь на мусульман постановление папы не распространялось! Еще два столетия спустя отряды наффатинов, метавших вручную кувшины с горящей нефтью, были непременной составной частью арабских армий. Однако даже если это было редчайшее исключение, минутный каприз бога войны, невозможно все же не признать, что Эрлинг вышел победителем из стычки с самой могучей плавающей крепостью Средиземноморья, независимо от ее национальной принадлежности. Хотя нельзя, правда, исключать и того, что эта «славная победа» была одержана над каким-нибудь мелким суденышком и что для норвежских скальдов любое средиземноморское судно было «дромундом», хорошо им известным со слов тех же викингов, никогда не упускавших случая прихвастнуть своей поистине эпической доблестью. Дальше маршрут Эрлинга до мельчайших деталей повторил маршрут Сигурда, вплоть до сухопутного возвращения в Норвегию. Надо думать, варяжская дружина Константинополя получила новое пополнение. С ее помощью император Иоанн II, сын Алексея, в 1122 году наголову сокрушил войско печенегов у болгарского города Стара Загора. Печенеги, выстроившие повозки кольцом и окопавшие их глубоким рвом, дважды наносили поражение византийским войскам - сначала самим грекам, а потом их французско-фламандским наемникам. И всего лишь четыреста пятьдесят варягов, несмотря на шестидесятикратное превосходство противника, сумели сделать то, перед чем отступила вся армия! Возможно, они, по обыкновению, применили здесь одну из своих дьявольских хитростей. Лет восемь спустя после этой битвы норманны, уже неплохо освоившиеся в Средиземном море, почувствовали себя в нем хозяевами. Конунг Родгейр Могучий, завоевав Апулию, Калабрию и множество островов, высадился с войском на Сицилии и закрепился там. В благодарность за помощь крестоносцам он коронуется папой и германским императором в 1130 году как первый король Сицилии и Апулии под именем Рожера II. Это третье и последнее государство, основанное норманнами в чужих землях. Оно просуществует до 1302 года. Роль просвещенного государя, как оказалось, куда больше подошла Рожеру, нежели роль рыцаря удачи. При его дворе в Палермо с 1138 года полтора десятилетия подвизался знаменитый Абу Абдаллах Мухаммед ибн Мухаммед аш-Шериф ал-Идриси, знатный мавр из Сеуты и потомок эмиров, выпускник Кордовского университета, много поколесивший по Англии, Италии, Малой Азии, Португалии, Франции. Рожер создал ему все условия для работы, рассылая повсюду своих людей с поручением собирать все, что может заинтересовать его гостя. Идриси, прекрасный знаток Птолемея и (Эрозия, и сам не сидел сложа руки, он не пренебрегал ни доставляемыми ему рукописями, ни жмвыми рассказами арабских, норманнских, славянских, итальянских и любых других купцов, посещавших островное королевство норманнов. Он располагал сведениями обо всех странах вплоть до Белого моря на севере и тропической Африки на юге. Он дал первое подробное описание компаса, известного китайцам по крайней мере с VI века до н. э., но еще не начавшего свое триумфальное шествие по европейским морям. Когда его географический труд «Нузхат ал-муштак фи-хтирак ал-афак» («Развлечение истомленного в странствии по областям») был закончен в 1154 году, последовал обмен любезностями: Идриси посвятил его своему меценату и дал второе название или подзаголовок «Китаб ар-Руджари» («Книга Рожера»). Рожер в ответ даровал гостю титул графа Сицилийского. Идриси покинул Сицилию лишь при сыне Рожера - Вильгельме I. Экземпляр его рукописи был приобретен Россией в конце прошлого века в Тегеране и хранится ныне в Публичной библиотеке в Петербурге, поражая красотой магрибинского шрифта и мастерством исполнения заставок и карт. Рожер по справедливости может считаться соавтором этого труда.
 Чертеж астролябии в арабской рукописи 1205 года Музей Стопкапы, Стамбул.
Чертеж астролябии в арабской рукописи 1205 года Музей Стопкапы, Стамбул.
 Морской змей - обитатель Моря Мрака. Рисунок рубежа XVI и XVII веков по описанию Олауса Магнуса.
Морской змей - обитатель Моря Мрака. Рисунок рубежа XVI и XVII веков по описанию Олауса Магнуса.
В 1151 году Идриси изготовил для своего покровителя из серебра «земной диск» с изображением всего поднебесного мира, нарисованного «севером на юг». Значительную часть его занимает Море Мрака. Рожер был норманном, должно быть, он снисходительно улыбнулся наивности своего друга: его соотечественники не знали такого понятия, они отважно забирались в такие моря, какие и не снились ни арабам, ни европейцам. Зато в собственных морях они потеряли былое значение и от наступления вынуждены были перейти к обороне против славянских племен, уравнявшись, таким образом, с прочими государствами европейского Севера. Никто уже не трепетал при слове «норманн» или «викинг», да их так уже и не называли. У всех на языке были славяне, скандинавы теперь на собственной шкуре познавали, чем они были когда-то, не столь уж давно, для своих соседей. Новые народы выходили на морскую арену Севера. Но их время - впереди.
ХРОНИКА ПЯТАЯ,
повествующая о том, к чему привели поиски несуществовавшего пресвитера.
Между 1165 и 1170 годами многие государи Европы получили таинственные послания, сразу ставшие сенсацией номер один и всколыхнувшие весь континент. Автором посланий был пресвитер Иоанн - царь-священник неведомого христианского государства где-то далеко на Востоке. Оригинал письма не сохранился, неизвестен и язык, на котором оно написано. Разные источники называют латынь, греческий и арабский. Предполагают, что оригинал был направлен византийскому императору Мануилу I, правившему во второй половине XII века, а он переслал его копии римскому папе Александру III и германскому императору Фридриху Барбароссе, и уже через них с письмом ознакомились остальные европейские монархи. Вот что говорилось в этом пространном письме. сПресвитер Иоанн, всемогуществом Божиим и властью Господа нашего Иисуса Христа Царь царей, Повелитель повелителей желает своему другу Мануилу, князю Константинопольскому, здравствовать и благоденствовать по милости Божией. Я, пресвитер Иоанн, властелин над всеми властелинами, превосхожу всех обитающих в этом мире добродетелями, богатством и могуществом. 72 царя платят Нам дань... Наше Великолепие властвует над тремя Ин-диями, и земли Наши простираются до потусторонней Индии, где покоится тело Святого апостола Фомы... В Нашем подчинении находятся 72 провинции, из которых лишь немногие населены христианами... В стране Нашей водятся слоны, дромадеры, верблюды... пантеры, лесные ослы, белые и красные львы, белые медведи, белые мерланы, цикады, орлы-грифоны, тигры, ламы, гиены, дикие лошади, дикие ослы, дикие быки и дикие люди, рогатые люди, одноглазые, люди с глазами спереди и сзади, кентавры, фавны, сатиры, пигмеи, гиганты вышиной в 40 локтей, циклопы - мужчины и женщины, птица, именуемая феникс, и почти все обитающие на Земле породы животных. За Нашим столом ежедневно пирует 30 000 человек, не считая случайных гостей, и все они получают из Наших сокровищниц подарки - коней или другое добро. Стол этот из драгоценнейшего смарагда, а поддерживают его четыре аметистовые колонны... Каждый месяц Нам прислуживают поочередно 7 царей, 62 герцога, 265 графов и маркизов, не считая тех, кто состоит на какой-нибудь службе. По правой стороне Нашего стола ежедневно восседают 12 архиепископов, по левой - 20 епископов, а кроме того, патриарх Святого Фомы, Сармогенский протопапа и архипапа Суз, где находится Наш славный престол и стоит Наш царский дворец... Фундамент и стены его сложены из драгоценных камней, а цемент заменяет наилучшее чистое золото. Свод его, то есть крыша, состоит из прозрачных сапфиров, среди которых сияют топазы... Есть в нем дверь из чистого хрусталя, украшенная золотом. Она ведет на восток, высота ее 130 локтей, и она сама открывается и закрывается, когда Наше царское Величество отправляется во дворец... Наш стольник - примас и царь, Наш кравчий - архиепископ и царь, Наш постельничий - епископ и царь, Наш доезжачий - царь и аббат... В одну сторону государство Наше простирается на четыре месяца пути; на какое расстояние Наша власть распространяется в другую сторону, никому не известно...» Заканчивалось письмо прозаической просьбой прислать алтарь из Иерусалима для новой строящейся церкви, где собирались бы все ученые мужи для выработки методов дальнейшего распространения христианства. Не одна голова закружилась от этих строк!
27 сентября 1177 года папа откликнулся на послание Иоанна, выразил готовность переслать алтари и уведомил, что в царство пресвитера отправляется его личный врач, магистр Филипп. Путь предстоял неблизкий и нелегкий: Сузы, где была столица сказочного царства,- это нынешний Шуш в Иране, бывшая резиденция эламских и персидских царей. Филипп проделал его и благополучно возвратился, но о его путешествии ничего не известно. Можно лишь смело утверждать, что царство пресвитера Иоанна он не нашел, потому что оно никогда не существовало. Скорее всего, это письмо было сочинено на досуге каким-нибудь скучающим рыцарем, начитавшимся бесчисленных фантастических «житий» (вроде истории о том, как святой апостол Фома, чье упоминание в письме едва ли случайно, построил крепость для индийского царя Гондофара) и создавшим на их основе легенду, пережившую века. Об этой легенде не стоило бы и упоминать, если бы в нее не уверовал папа - единственный из всех адресатов. Легенда о сказочно богатом царстве христианского пресвитера открыла собой новую эпоху в истории Европы и явилась началом новой главы в истории мореплавания. Интерес к этой легенде в значительной мере подогревался Крестовыми походами, второй из которых закончился неудачей в 1149 году, а третий начался в 1189-м. Письмо подоспело как раз в промежутке, и надежды на союз со столь могущественным монархом не могли не вызвать волнения в умах европейских властителей. Показательно, однако, что ни один из них даже не попытался установить контакта с потенциальным союзником, чье царство, судя по его посланию, очень кстати располагалось в самом сердце языческих земель. Однако упоминание Индии сыграло огромную роль в проникновении европейцев на таинственный Восток. Итальянские моряки уже пользовались тогда компасом, заимствованным у арабов во время Крестовых походов. В первые годы XIII века французский поэт Гийом из Прованса сочинил восторженную оду «волшебной игле», и она решительно опровергает притязания некоего Флавио Джойи из Амальфи на первенство в изобретении этого прибора в 1320 году. То ли этот Гийом впоследствии переехал в южную Италию и стал там известен как Гильельм из Апулии (под этим именем его упоминают некоторые авторы), то ли, наоборот, апулиец Гильельм прославился в роли провансальского поэта,- неясно. Несомненно лишь одно - свое стихотворение он написал в Италии. В нем он прославляет апулийский город Амальфи как всеевропейский центр по производству «магнитных игл», не упоминая, однако, при этом никакого Флавио Джойю. Спустя ровно еще одно столетие (как раз около 1320 года) в трактате, написанном все в том же Амальфи, было дано первое описание корабельной буссоли (давно уже известной арабам под именем «хукка»), но несомненно, что и она применялась европейцами много раньше, с конца XII века или около того: именно с этого времени начинается внезапный и бурный расцвет портовых городов - Венеции, Амальфи, Пизы, Флоренции и Генуи в Италии, Марселя во Франции, Барселоны в Испании. Это именно те порты, где были сосредоточены практически все торговые связи Европы с Китаем и Индией - через египетских и сирийских посредников в Средиземном море и через итальянские базы Тану и Феодосию на Черном. Ибн Баттута называл феодосийский порт несравненным и утверждал, что он мог принять одновременно до двух сотен самых разнообразных судов. Аналогичные базы-фактории с военными гарнизонами возникли также на побережьях Сирии и Палестины и на некоторых островах Средиземного моря. Индийские пряности, наркотики и предметы роскоши занимали особое место в этой торговле. Монополистами в ней были итальянские купцы, долгие годы сотрудничавшие с купцами Александрии - всемирного рынка торговли того времени. После завоевания Египта арабами и упадка Александрии они вынуждены были искать иные пути. В немецкой народной книге второй половины XV века о приключениях Фортуната упоминается стародавний обычай: «...Когда судно приближается к Александрии, но еще пребывает в открытом море, навстречу ему высылают небольшое суденышко и спрашивают, откуда судно идет, что они везут и каков их промысел. Те ответствуют, означенную весть передают королю. А когда судно зайдет в гавань, никому не дозволяется ступить на сушу, прежде нежели пришлют охранную грамоту». Охранная грамота выдавалась сроком на шесть недель - дольше задерживаться иностранному судну в Александрии не дозволялось.
Разумеется, европейских купцов такие строгости не устраивали. Итальянцы создали собственную Александрию в городе Тана в устье Дона - на месте древнегреческой колонии Танаис. С конца XII по XV век через Тану шли караваны к устью Волги, а оттуда через Каспийское море товары Европы проникали в китайские, иранские и арабские города. Из описания флорентинца Франческо Бальдуччи Пеголотти, совершившего одно из таких путешествий в 1334-1335 годах и потратившего на него около года, известен маршрут итальянских купцов: Тана - Гинтеркан (Астрахань) - Сара (Сарай) - Органчи (Ургенч) -Отрар (Ташкент) - Армалек (близ Кульджи) -Карамуран (Гуанчжоу) - Кассай (Ханчжоу) - Камбала (Пекин). Как это ни парадоксально, именно итальянская торговля обогатила Константинополь, сделавшийся главным складочным местом и перевалочной базой всех товаров между Востоком и Западом,- тот самый Константинополь, который после 1475 года разрушил Тану и выстроил на ее руинах свой главный пункт на Черном море - крепость Азов. Но морской державой он уже не станет никогда. Византийские императоры совершенно перестали уделять внимание флоту и целиком погрузились в бухгалтерские расчеты и религиозные размышления, молчаливо признав этим превосходство итальянских эскадр. Константинополь еще блистал, и никто пока не догадывался, что это блеск погасшей звезды, что Восточный Рим уже переступил ту гибельную грань, где кончается величие и начинается упадок. Он умирал, но умирал красиво. «Сюда приходят купцы из земли Вавилонской, из Месопотамии, Персии, Мидии, всех царств земли Египетской, из земли Ханаанской (Палестины.- А. С), Руссии, Венгрии, земли печенегов, Хазарии, Ломбардии и Испании,- делится впечатлениями путешествующий раввин Вениамин из наваррско-го города Туделы в декабре 1171 года.- В него стекаются для торговли со всех стран, морем и сухим путем, это шумный город; нет подобного ему ни в одной стране, за исключением Багдада, этого величайшего города, который принадлежит измаильтянам... Говорят, что доходы одного этого города со сдачи в наем лавок и рынков и от пошлины с торговцев, прибывающих морем и сухим путем, доходят ежедневно до 20 тысяч золотых монет. Населяющие эту страну греки очень богаты золотом и жемчугом, ходят разодетыми в шелковые платья, вышитые золотом, ездят на конях, подобно княжеским детям». Мог ли Вениамин предположить, что дни этого города уже сочтены? Когда в 1199 году папа Иннокентий III заговорил об очередном, Четвертом крестовом походе в Александрию и далее в Сирию, перед крестоносцами встала обычная проблема: нужен флот, и немалый. С этим шестеро послов и прибыли из Франции в Венецию в феврале 1201 года. Венецианский дож девяностолетний полуслепой Энрико Дандоло не сказал ни «да», ни «нет», он обещал подумать. Торговля Жемчужины Адриатики страдала в те годы, как никогда раньше, ее корабли проходили между двух огней, между Скиллой и Харибдой, поселившимися в горле адриатической «бутылки» - проливе Отранто: итальянский берег пролива принадлежал норманнскому Сицилийскому королевству, греческий - Византии. Завоевание Далматии Венецией не дало того эффекта, какого ожидали, морская полиция не справлялась со своей работой. Выбор у венецианских купцов был незавиден: норманнские и византийские пираты грабили одинаково чисто. Существовали, правда, и варианты - пираты Далматии у порога родного дома, генуэзские на Корфу, сарацинские в Ионическом море за проливом или папские там, где, по их мнению, было наиблее безопасно. Стихотворение «О падении Рима», сочиненное при английском дворе Генриха II Вальтером Мапом, где кардиналы названы морскими разбойниками с корабля «Святой Петр» (так поэт окрестил церковь), куда как близко к истине. Они вездесущи. Если бы хоть один берег Адриатики был не столь опасен... Вот об этом и размышлял Дандоло в ожидании назначенного послам срока. Когда они явились вторично, дож сказал, что Венеция готова взять на себя строительство судов для перевозки четырех с половиной тысяч конных рыцарей, девяти тысяч оруженосцев (по два на каждого рыцаря) и двадцати тысяч пехотинцев. Кроме того, она предоставляет собственные корабли, способные разом перевезти всю эту ораву со всем снаряжением, в распоряжение воинства Христова. Но и этого мало: Венеция всего лишь за восемьдесят пять тысяч марок не возражает против обеспечения всех этих людей и лошадей провиантом в течение девяти месяцев из тех двенадцати, на которые предлагается заключить контракт... Стандарт. Не вызывало удивления и единственное условие дожа: он намеревался самолично присоединиться к экспедиции и взять с собой половину всех венецианцев, способных носить оружие, с тем, чтобы половина будущей добычи отошла к Венеции. Для этого Жемчужина Адриатики снаряжала еще полсотни галер за свой счет, в том числе одни из самых крупных для того времени - «Рай» и «Орел». Лишь одно было не совсем обычно в тексте этого договора. Совсем маленькая деталь: направление похода было указано не «в Египет», а «за море». Папа насторожился, но ничего худого все же не заподозрил, и контракт был подписан. Венецианцы в точности выполнили его условия. Даже больше: они сразу же дали крестоносцам понюхать крови, введя в ноябре 1202 года свой флот в богатейший хорватский город Зара (Задар), торговый соперник Венеции, незамедлительно разграбленный бравыми рыцарями. «Крестовые походы - то же пиратство, чуть повыше классом, а больше ничего!» - воскликнул однажды Фридрих Ницше. Цепь, преграждавшая вход в гавань Зары, не остановила корабли венецианцев, по всей видимости, оборудованные то ли мощными таранами, разрывавшими цепь при разгоне судна, то ли особыми приспособлениями - «ножницами», перекусывавшими ее. А потом... Потом они, как того и требовал договор, перевезли всю эту орду за море. Но не за Средиземное, а за Эгейское. 23 июня 1203 года огромная венецианская армада бросила якоря в Золотом Роге у стен Константинополя. Перед крестоносцами, защищаемый цепью и молитвами, лежал самый богатый город Европы. 13 апреля следующего года он капитулировал. Право же, Иерусалим стоил Константинополя! И Энрико Дандоло успел убедиться в этом лично, хотя и не знал еще, что то был его последний поход: в 1205 году он умер и был похоронен в соборе святой Софии. По свидетельству организатора и участника этого похода маршала Жоффруа Виллардуэна, после занятия города крестоносцы поджигали его трижды, причем в третьем пожаре «сгорело домов более, чем сколько находится в трех самых больших городах королевства Франции», а добыча «была так велика, что вам никто не в состоянии был бы определить количество найденного золота, серебра, сосудов, драгоценных камней, бархата, шелковых материй, меховых одежд и прочих предметов... В течение многих веков никогда не находили столько добычи в одном городе. Всякий брал себе дом, какой ему было угодно, и таких домов было достаточно для всех». Примерно такое же описание могли бы сочинить вандалы после упоминавшегося уже разграбления Рима, будь у них письменность! Византийская держава перестала существовать, на ее руинах крестоносцы основали недолговечную Латинскую империю, после чего методично приступили к искоренению всего греческого, начиная с языка и кончая одеждой. Уцелевшие византийцы сумели отстоять лишь три клочка земли, чтобы создать на них независимые государства - Никейскую и Трапезунтскую империи и Эпирское государство. Забегая вперед, можно напомнить, что именно войска полутурецкой Никеи отвоевали Константинополь 25 июля 1261 года при деятельной поддержке генуэзцев - исконных конкурентов Венеции. Но еще за столетие до этого генуэзцы вытеснили венецианцев с черноморских берегов и стали безраздельными владельцами путей в Индию и Китай. Они располагали торговыми факториями на Корсике и в Северной Африке, в Тавриде и Леванте. Если еще раз заглянуть вперед, мы увидим, что их владычество резко пошатнулось лишь в 1406 году, когда Тимур основал Крымское ханство и по крайней мере на полтысячелетия закрыл для европейцев Переднюю Азию. Однако многочисленные новшества в морском деле позволили венецианцам после утраты ими черноморских торговых путей переключиться на поиски новых. Первым делом они заручились благосклонностью султанов Сирии и Египта и вернули себе прежние торговые связи с этими странами. В 1206 году они отбили у генуэзских пиратов остров Корфу и сделали его важным опорным пунктом в горле Адриатики. Сразу же после этого венецианцы вступили в спор с греческими и итальянскими пиратами за обладание стратегически важными Ионическими островами около пролива Отранто - и выиграли его. Затем они наладили отношения с властителями Аравии и Индии, и те открыли для них свои порты. Южный путь в Индию, самый длинный, оказался в конечном счете самым коротким.
 Гавань Венеции в XII веке. Средневековая гравюра.
Гавань Венеции в XII веке. Средневековая гравюра.
Подчинив острова Кипр, Кандию и Эвбею, венецианцы получили безраздельную власть над Средиземным морем. С 1223 года генуэзцы и венецианцы имели постоянные торговые склады в Тунисе и торговые конторы и представительства на всем североафриканском побережье от Каира до Орана, включая остров Джербу. Именно с этого времени Венеция приобретает титул Жемчужина Адриатики и вводит обычай «венчания» дожа с морем. Не ограничиваясь южными товарами, Венеция в обмен на них получает и северные, ее торговые представительства появляются в Германии (Аугсбург и Нюрнберг), Фландрии и Голландии. Она надолго становится средоточием всех географических и этнографических сведений, доставляемых ее купцами со всех концов обитаемого мира. «Нужда, заставившая всех этих людей жить среди вод,- рассуждает Никколо Макьявелли,- принудила их подумать и о том, как, не имея плодородной земли, создать себе благосостояние на море. Их корабли стали плавать по всему свету, а город наполнялся самыми разнообразными товарами, в которых нуждались жители других стран, каковые и начали посещать и обогащать Венецию. Долгие годы венецианцы не помышляли об иных завоеваниях, кроме тех, которые могли бы облегчить их торговую деятельность: с этой целью приобрели они несколько гаваней в Греции и Сирии, а за услуги, оказанные французам по перевозке их войск в Азию (во время Четвертого крестового похода. - Л. С), получили во владение остров Кандию. Пока они вели такое существование, имя их было грозным на морях и чтимым по всей Италии, так что их часто избирали третейскими судьями в различных спорах». Многие византийские владения стали теперь венецианскими. Город приобрел такое великолепие, что было бы неудивительно, если бы автором послания пресвитера Иоанна оказался венецианец, описавший в несколько преувеличенном виде богатства самой Жемчужины Адриатики. Достоверность легенде в глазах современников придавали некоторые общеизвестные факты из истории христианства. Еще примерно в 300 году армянин княжеского рода Григорий принял религию Христа и распространил ее к югу от Каспийского моря. Столетие или полтораспустя был отправлен в изгнание за лжеучение константинопольский епископ Нестор. Несто-риане основали свои общины в Персии, Средней Азии, Индии и Китае (несторианкой была даже одна из жен Чингисхана). Позднее среди учеников Нестора был Джованни ди Монтекорвино, обративший в христианство одного из монгольских князей и переложивший на монгольский язык Новый Завет в 1305 году, а еще позднее, в 1326 году, богатая армянка выстроила за свой счет христианский храм в Кантоне. Слухи о христианизации Востока, как правило, преувеличенные и искаженные, достигали ушей европейских монархов. Их привозили арабские, венецианские и генуэзские купцы вместе с экзотическими товарами. На протяжении трех десятилетий, например, европейцы всерьез считали Чингисхана грузинским царем Давидом IV и надеялись обрести в нем союзника в Крестовых походах. Чистая случайность помешала тому, что монгольские орды не пришли в Европу по приглашению их властителей: после того как перед степняками склонились Китай и Русь, монголы увязли в войнах на восточных границах Германии, покрытых в то время настолько густыми лесами, что в них способны были потерять друг друга две большие армии. Разбив 9 апреля 1241 года у Вальштатта христианские войска, монголы повернули к югу, опустошили Моравию и Венгрию, но от Адриатики внезапно повернули на восток. Парализованная ужасом Европа оставила пустые мечты о союзе с мифическим пресвитером и стала подумывать о вполне реальном союзе с Батыем, все еще надеясь настропалить его на сарацин. С этой целью папой Иннокентием IV в пасхальное воскресенье 16 апреля 1245 года были посланы из Лиона с письмом и богатыми дарами к хану Аюку в Верхнюю Монголию монах миноритского ордена Джованни дель Плано Карпини и уроженец Вроцлава Бенедикт Поляк. В апреле следующего года Карпини и Поляк через Чехию, Польшу и Киев, по берегам Днепра, Дона и Волги достигли Сарая и оттуда в сопровождении эскорта прибыли в Сыр-Орду (около нынешнего Улан-Батора). Пробыв при дворе около трех месяцев, о»ни отбыли с ханским письмом и в начале ноября вернулись в Лион. В письме ничего не понявший монгольский хан снисходительно благодарил Иннокентия за присланную дань и соглашался удовлетворить его просьбу и принять его в вассалы, припугнув для острастки на случай непослушания. (Китайские императоры по примеру монголов тоже всегда четко различали «дары», которыми они, и только они одни, могли выразить свои симпатии, и «дань», которую им обязаны были регулярно присылать все остальные смертные.) Посчитав Карпини неспособным к дипломатическим делам, европейские монархи отправили на Восток еще несколько миссий с той же целью - христианизировать монголов. Все они, естественно, потерпели неудачу, а их главы оказались не в состоянии даже представить внятный отчет о своих путешествиях, хоть сколько-нибудь сравнимый с «Историческим обзором» Карпини. Вторым источником сведений о восточных землях явилась книга францисканского монаха родом из Фландрии Виллема (Гильома) Рубрука. В 1253 году он был послан к сыну Батыя Сартаку - по слухам, благочестивому христианину. Миссия Рубрука кончилась ничем, но ему Европа обязана самым обстоятельным и правдивым описанием восточных земель из всех, когда-либо сделанных до него.
Превзойти Рубрука сумел лишь знатный венецианец Марко Поло, не оцененный в полной мере при жизни, но получивший позднее прозвище «Геродот Средневековья». Современники же называли его «Миллионом», намекая на бесконечные, по их мнению, преувеличения в описаниях восточных земель. В отличие от всех прежних путешественников, упомянутых выше, Марко Поло не собирался христианизировать восточных владык. Он преследовал чисто торговые цели, как и его отец Никколо и дядя Маттео. Да он и не мог задаться этой целью по простой причине: ему едва исполнилось к началу путешествия семнадцать лет. Никколо и Маттео Поло уже побывали в Азии. Примерно в 1254 году, когда Рубрук обращал в истинную веру повелителя монголов, братья выехали по торговым делам из Венеции в Константинополь. Неизвестно, что побудило их пуститься затем в дебри неведомых земель, но в 1260 году они уже были на черноморском побережье Крыма, а в следующем году их можно было повстречать на Средней Волге. Оттуда братья через владения Золотой Орды добрались до Ургенча и затем до Бухары. В Бухаре они встретились с послом ильхана Хулагу, спешившим из Тегерана ко двору великого хана Хубилая, внука Чингисхана, и в составе его каравана проделали дальнейший путь - по долине Зерафшана до Самарканда, по долине Сырдарьи до Отрара, по долине Или до оазиса Хами и далее по Великому шелковому пути до столицы великого хана. После десятилетнего отсутствия они через Акку возвратились в Венецию. Богатства Китая, не шедшие ни в какое сравнение с унылыми монгольскими степями, виденными Карпини и Рубруком, поразили воображение братьев, и летом 1271 года они вновь отправились ко двору великого хана. На этот раз Никколо взял с собою Марко. Теперь братья избрали маршрут, пройденный ими два года назад при возвращении из Китая: от Акки через Малую Азию и Армянское нагорье до Басры и Тебриза, через пустыню до Кайена и Балха и далее до Памира, затем они достигли Тибета и через область тангутов спустя три с половиной года после начала путешествия прибыли в ставку великого хана Клеменфу (Шанду, километрах в трехстах к северу от Пекина). Это путешествие растянулось на двадцать четыре года, из них около двадцати лет семейство Поло жило в Китае и находилось на службе у великого хана. В 1275-1279 годах, когда хан завоевывал остававшиеся еще независимыми области Китая, Марко сконструировал несколько метательных и осадных машин и преподал монголам основы осадного искусства, хорошо знакомого венецианцам. Благодаря этому он снискал особое расположение Хубилая и в течение многих последующих лет пользовался неограниченной свободой, разъезжая по стране и изучая ее. В 1292 году ко двору великого хана прибыло посольство от ильхана Ирана Аргуна с просьбой прислать достойных невест для самого Аргуна и для его наследника. Хубилай снарядил четырнадцать четырехмачто-вых кораблей, способных нести по дюжине парусов каждое, и отправил в Тебриз китайскую и монгольскую принцесс, снабдив корабли продовольствием на десять лет. Сопровождать невест он поручил Марко. Флотилия отправилась из Зейтуна через Чинское (Южно-Китайское) море и через три месяца достигла Явы. На Суматре Марко узнал о «стране семи тысяч четырехсот сорока восьми островов» - Индонезии, затем мимо Никобарского и Андаманского архипелагов прибыл к Цейлону, и наконец, вдоль берегов Индии и Ирана, корабли вошлет в Персидский залив. Все это плавание заняло двадцать один месяц, за это время умерли и Аргун, и восьмидесятилетний Хубилай. Из шестисот пассажиров флотилии в живых осталось восемнадцать человек: такова была тогда цена мореплавания. Смерть хана освободила венецианцев от обязательства вернуться к нему, и в следующем, 1295 году они прибыли домой через Трапезунт и Константинополь. В 1298 году между Венецией и Генуей вспыхнула война, и Марко вместе с адмиралом Дандоло 7 сентября попал в плен во время морского сражения у Корчулы, где, по словам современников, он отличился незаурядной храбростью и военным мастерством. Томясь от бездействия в генуэзской темнице, н продиктовал свои воспоминания другому пленнику - пизанцу Рустичано, записавшему их на венецианском диалекте. Это сочинение, названное «Книгой о разнообразии мира», было продиктовано по горячим следам за очень короткое время, ибо Марко был отпущен на свободу через девять месяцев, но в течение веков служило авторитетнейшим источником для картографов, географов, этнографов и путешественников.
Значение книги невозможно переоценить. Описание персидских пустынь, монгольских степей и рек соседствует в ней с живыми и точными зарисовками обычаев и обрядов Тибета и Бирмы, Лаоса и Вьетнама, Японии и Индии. Из нее европейцы впервые узнали о жемчужине южных морей Яве, о людоедах Суматры, о голых дикарях Никобарских и Андаманских островов, о могиле Адама на Цейлоне и о птице Рухх (эпиорнисе), водящейся на Мадагаскаре. Впервые после Геродота Марко Поло указал на возможность обогнуть Африканский континент. То, чему Марко был очевидцем, он воспроизводит с документальной точностью; сведения об Африке или Мадагаскаре, основанные на слухах и устных рассказах, менее достоверны, хотя в общем достаточно критичны и правдивы. Это не осталось не замеченным и современниками. Умер Марко 8 января 1324 года в возрасте семидесяти лет, всеми осмеянный и презираемый. Даже немногие оставшиеся у него друзья слезно молили умирающего путешественника отречься хотя бы от самых лживых, по их убеждению, страниц его книги. И еще много лет спустя после его смерти на венецианских карнавалах наряду с масками Арлекино и Пьеро забавляла зрителей маска Поло, изрекавшая самые невероятные небылицы. Первыми его заслуги и его правдивость признали испанцы, составившие в 1375 году в Каталонии карту Востока по книге Марко. В 1459 году его сведениями воспользовался венецианец Фра-Мауро при работе над круговой картой мира. А чуть позднее книга Марко Поло стала настольной для некоего генуэзца по имени Кристобаль Коломбо. Из других книг того времени замечательны письма-отчеты францисканского монаха Джованни ди Монте-корвино, посланного папой Николаем IV с христианской миссией в Камбалу (Пекин) примерно в 1289 году. Из Ормуза он морем добрался до Южной Индии и оттуда, тоже морем, до Китая. В Пекине он построил церковь о трех колокольнях, где крестил около шести тысяч человек. При церкви действовала певческая школа для мальчиков, распевавших переведенные Мон-текорвино псалмы. Позднее эта церкобь стала собором с полным причтом. В 1328 году, уже после смерти Марко Поло, он умер в сане архиепископа в Пекине, где прожил тридцать шесть лет.
Между 1317 и 1330 годом другой францисканский монах, Одорико Маттусси ди Порденоне, совершил путешествие в Китай и Тибет, посетив также Индию и Малайский архипелаг. Примерно шесть лет он действовал в Китае рука об руку с Монтекорвино, а по возвращении в Падую с мая 1330 по 14 января 1331 года диктовал свои впечатления. Однако смерть оборвала его воспоминания, и книга, названная «О чудесах мира» и отчасти дополняющая и подтверждающая некоторые страницы книги Марко Поло, осталась незавершенной. Одорико первым из европейцев посетил Целебес (Сулавеси) и указал довольно точное количество островов южноазиатских морей - две тысячи четыреста, втрое уменьшив число, приведенное Марко Поло. Однако книга больше повествует о различных чудесах, вполне оправдывая свое название (например, о дынях, при созревании рождающих ягнят), чем о географических реальностях. Чудеса - вот слово, лучше всего характеризующее ту эпоху, слово, чаще всех других употреблявшееся на всех европейских языках и диалектах (исключая, разумеется, слово «пираты»). Чудеса сделались модой века, если можно так выразиться, даже веков. Они были злобой дня во дворцах и в лачугах, в лавках и на палубах кораблей, в воинских палатках и в конторах менял. Чтобы нейтрализовать воздействие на умы чудес Востока, церковь срочно создавала в противовес им чудеса Запада. Чудеса, чудеса... Они заполонили все страны континента и островов, в них верили, на них уповали, им больше, нежели чему-нибудь другому, обязана церковь чудовищным ростом своих доходов. Смутные грезы, смутные слухи, смутное будущее... То было поистине смутное время, хотя ни один историк не решится этого утверждать, поскольку он располагает множеством имен и дат и ему ясна последовательность событий. Не в этом была «темнота» эпохи. По дорогам Европы, Малой Азии, стран Леванта и островов Средиземного моря в одиночку или целыми отрядами бродяжничали безработные рыцари в поношенных и сильно потускневших доспехах. Они искали сеньора, хотя бы самого завалящего, который пожелал бы воспользоваться их услугами. Однако сеньоры не спешили с предложениями: мало кто мечтал добровольно впустить в свой дом разбойника. К тому же предложение слишком явно превышало спрос, со времен короля Артура странствующих рыцарей в Европе заметно поприбавилось. В одной только Англии в 1270-х годах их было две тысячи семьсот пятьдесят - в среднем по одному на полсотни квадратных километров. Куда ни пойди - везде наткнешься на рыцаря. Многие из них изъяснялись на новом европейском языке - английском, смеси англосаксонского и старофранцузского. В XIV веке он станет литературным языком Британии. Если в течение двух предшествовавших столетий рыцари находили достойную цель для удовлетворения своего честолюбия в Крестовых походах, то после захвата Акки (крепости Сен-Жан д'Акр) арабами в 1291 году на Крестовых походах был поставлен решительный крест: слишком силен оказался шок от поражения, слишком ничтожен оказался результат мимолетных побед. Опьянение прошло, началось тяжелое похмелье. В тесных монастырских кельях, в гулкой тишине обомшелых родовых замков, в развеселых трактирах - везде можно было встретить одноруких, одноглазых, одноногих, покрытых рубцами ветеранов, с тоской и умилением вспоминавших, как в 1147 году их отцы или деды шли отомстить туркам за взятие Эдессы (но умалчивавших о неудаче под Дамаском), как в 1189 году великолепная троица - Фридрих I Барбаросса, Филипп II Август и Ричард Львиное Сердце вели свои рати на безбожника Саладдина (но умалчивавших о том, что Иерусалим так и остался в руках мусульман). Предательски разграбленный Константинополь - вот все, чем они могли похвалиться. Ни учреждение в 1118 году духовно-рыцарского ордена тамплиеров (храмовников) для охраны толп паломников, ни благотворительная деятельность иоаннитов (госпитальеров), ни жестокости возникшего в конце XII века Тевтонского ордена - ничто не смогло сломить упорства и отваги потомков Магомета. Не помогло и то, что среди участников Третьего похода не было ни одного простолюдина: отборная интернациональная гвардия трех королевств Европы вымостила своими гробами путь к гробу Господню. Теперь вот и «девятый вал» вдребезги разбился о ворота Востока. И нет больше ни средств, ни сил, чтобы сокрушить «неверных».
Перспективы были безрадостны. Без работы оказались не только рыцари, владевшие каким-никаким завалящим замком, но и тысячи тысяч рядовых крестоносцев, чьи надежды избавиться от назойливых кредиторов и поправить свои дела рухнули безвозвратно. Их обычно тоже называли рыцарями те, кто к ним не принадлежал, потому что они шли с теми же армиями, под теми же знаменами и грабили ничуть не хуже, чем их титулованные соратники. О том, что представляли собою армии крестоносцев, неплохое представление дает «Великая хроника» английского монаха Матвея из монастыря Сент-Олбанс, долго жившего в Париже и потому получившего прозвище Парижский. Он сообщает, как в 1251 году некий венгр, хорошо владевший французским, немецким и латинским языками, а следовательно, принадлежавший отнюдь не к общественным низам, ссылаясь на поручение девы Марии, стал собирать крестоносное воинство из простолюдинов, «ибо французские рыцари были отвергнуты Богом из-за своей спеси». Ему оказала поддержку королева Бланка, и вскоре число добровольцев перевалило за сотню тысяч. «Они несли военные знамена,- пишет Матвей,- и на знамени их вождя был изображен ягненок, несущий стяг: ягненок - в знак кротости и невинности, стяг с крестом - в знак победы... Со всех сторон к ним стекались воры, изгнанники, беглецы, отлученные - все те, которых во Франции в народе имеют обыкновение называть бродягами; таким образом они сформировали весьма многочисленную армию, которая имела уже 500 знамен, подобных стягу их учителя и вождя. Они несли мечи, обоюдоострые секиры, копья, кинжалы и ножи и выглядели приверженными скорее культу Марса, чем Христа». Дальше следует описание самых разнузданных оргий и проповедей распущенности, насилий и безумств. Нетрудно вообразить, чем кончилась эта затея и против кого были обращены впоследствии упомянутые кинжалы и ножи. Это вообще очень характерный пример, по праву занявший место во всех хрестоматиях. Вместо 1251 года можно поставить любой другой, вместо Франции - любое другое европейское государство. С конца XIII века положение многократно ухудшилось. Банды разгромленных на Востоке рыцарей, спасая свое реноме, весь свой гнев и отчаяние обрушили на беззащитную Европу, грабя монастыри и лавки, сжигая леса и строения, разоряя князей и ремесленников: должны же они как-то жить.
На конях наши роты Сидят, полны заботы; Щадить нам нет охоты, Лишь ты, Христова мать, Не устаешь внимать,
распевали немецкие рыцари-разбойники из вольницы Шенкенбаха в эпоху Крестьянских войн. Сколько таких песенок и таких вольниц было в другие времена и в других странах - подсчитать просто невозможно. «Хроника Рамона Мунтанера» поведала историю так называемой Каталонской компании - армии из двух с половиной тысяч конных рыцарей и вдвое большего количества пехотинцев, отосланных в начале XIV века из Сицилии, уже не чаявшей от них избавиться, в Константинополь по просьбе византийского императора. По пути они ограбили Корфу, но императору, следует признать, служили исправно, пока того не прикончили его же подданные. Сочтя себя после этого свободными от всяких обязательств, эти кондотьеры обосновались на Галлипольском полуострове, где совместно с тысячью восьмьюстами турецких конников вскоре опустошили всю округу. Превратив окрестности Галлиполи в пустыню, изголодавшаяся орда двинулась через Македонию и Фессалию в Афины. Однако афинский герцог, принявший их к себе на службу, очень скоро стал искать, кому бы предложить услуги этой шайки: пусть убираются - и чем дальше, тем лучше. Охотников не находилось: Каталонская компания уже успела стать знаменитой. Дело кончилось тем, что этот вельможа погиб от их рук, а наемники остались безраздельными хозяевами одного из лучших герцогств Европы. Французские короли для защиты своих владений от броненосных бандитов додумались в конце концов учреждать регулярные армии, где за приличную, но отнюдь не регулярную плату служили не иностранные наемники, а их собственные подданные. Тем, кто не был королем, оставалось лишь тешить себя слухами о грядущих переменах и надеяться на чудо. Но чудес не происходило, и все множились и множились толпы на дорогах. Разорившиеся крестьяне, озорные школяры, хитроумные попрошайки, смазливые обольстительницы, продавцы индульгенций и святых реликвий, калеки явные и мнимые, трубадуры, фальшивомонетчики, бродячие торговцы и фокусники, составители гороскопов, юродивые, насквозь пропыленные паломники с нахлобученными на нос увядшими венками, прокаженные, фигляры, монахи всех мастей, бесталанные ремесленники - все, кому не лень, выходили на большую дорогу суши или моря и кто на собственный страх и риск, а кто заручившись содействием и поддержкой тех же рыцарей, пытались быстро и эффективно поправить свои дела. И все они разносили по отдаленнейшим уголкам европейского мира самые невероятные слухи о чудесах Востока, о баснословных богатствах арабских ал-каса-ров, о почти фантастической веротерпимости сарацин и об их чудовищной жестокости. Правдоподобие всем этим басням придавало детальное описание восточного быта. Чтобы ознакомиться с ним, можно было теперь ехать не на восток, а на запад - в Испанию: 16 июля 1212 года мавританские войска были разгромлены, и черные клобуки быстро стали вытеснять белоснежные бурнусы в Кордове, Севилье, Арагоне, на Балеарских островах, в Португалии. Каталонско-арагонский флот совместно с кастильским, созданным Фердинандом III, стал господином всего западного Средиземноморья. Именно флоту испанцы обязаны захватом Севильи, после чего единственным мусульманским клочком в Европе остался Гра-надский эмират на юге Пиренейского полуострова. Но он был слишком удален от центра христианского мира. Не найдя на дорогах желаемого, многие оседали в приглянувшихся городах и селах. Росли города, росло их население, росли монаршьи аппетиты. Двум миллионам англичан становилось тесно на своем острове (так думали Плантагенеты). Французы, коих было в одиннадцать раз больше, мечтали о заморских владениях, лучше всего - в Британии (так считали Капеты). Не желая отставать от Болоньи, основавшей в 1158 году первый европейский университет, просвещенные Плантагенеты в 1209 году учреждают сразу два - в Кембридже и Оксфорде, поскольку перенаселенный сорокатысячный Лондон слишком тесен, чтобы вместить еще несколько десятков студиозусов. Итальянцы, не ударив лицом в грязь, основывают в 1222 году второй университет - в Падуе. В том же году их примеру следует Сала манка, а два года спустя Неаполь. С 1253 года Капеты уже гордятся своей несравненной Сорбонной, разместившейся в самом сердце трехсоттысячного Парижа. Именно от мавров и переселившихся вместе с ними в Испанию евреев черпали европейские недоросли познания об античной философии и географии, прокомментированных и развитых арабами. Только в Испании можно было в те времена свободно вкусить тела Христова, поклониться пророку и послушать песнопения торы. Только там считалось истиной учение о шарообразности Земли и только арабы правильно оценивали соотношение суши и моря на планете. Они уже вовсю собирают в то время материал для первой в мире настоящей (в современном понимании этого слова) лоции - справочника ловцов жемчуга, содержащего достаточно полные сведения о глубинах и течениях Персидского залива, о портах и правилах плавания. (Рукописный экземпляр этого справочника, датированный 1341 годом, поступил в 1984 году в Центр народного наследия стран Персидского залива в столице Катара городе Доха.) А в университетах Европы (кроме Гранады, разумеется, ведь нельзя же считать язычников европейцами!) процветают схоластика и догматизм. Еще не пришло время Бруно, Галилея, Коперника, Сервета и Парацель-са. Но уже существует с 1215 года доминиканский орден, и в том же году папа Иннокентий III на четвертом Латеранском соборе уже учредил инквизицию, но на откуп доминиканцам ее отдаст папа Григорий IX лет через пятнадцать-двадцать. Есть еще время пожить в свое удовольствие. И умереть в своей постели. Европа похожа в эти годы на жизнерадостный восточный базар, играющий всеми красками, насыщенный всеми ароматами, наполненный всеми звуками. Ночь еще нескоро. Через пятнадцать лет. Громко скрипят перьями летописцы и мифотворцы, громко бурлят реторты алхимиков, громко выясняют ученые богословы, сколько чертей поместится на кончике шпиля Кёльнского собора, когда он будет наконец достроен (спор этот так и не был завершен, ибо Кёльнский собор, начатый в 1248 году, был достроен лишь в 1861-м). Громко обсуждаются там и сям злободневные новости, касающиеся всех,- об изгнании королем Арагона и герцогом Барселоны Иоанном I сарацинских пиратов с Балеарских островов (наконец-то каталонские купцы могут вздохнуть свободно!), о бесчинствах тосканских и корсиканских пиратов (куда до них сарацинам!), о появлении новых братств рыцарей удачи - мальтийских рыцарей-иоаннитов и флорентийских рыцарей-стефанитов (говорят, от них не отстают даже подданные Ватикана!), о договорах пиратов с властителями европейских государств (тут держи ухо востро!). Потоки новостей, водопады новостей, моря новостей.
 Испанские инквизиторы за работой. Гравюра конца XV века.
Испанские инквизиторы за работой. Гравюра конца XV века.
Но громче всего в эти годы, как, впрочем, и в предыдущие, говорило оружие. Это было совершенно новое, невиданное оружие, страшное и дальнобойное. Его изобрел, как полагают, немецкий ученый, францисканский монах Бертольд Шварц на заре XIV века. Однако едва ли это можно считать изобретением в привычном нам смысле слова. Просто Шварцу попалась однажды на глаза переведенная в середине XIII столетия на латинский язык рукопись трактата VIII или IX века «Книга об огне, предназначенном для сожжения врагов», принадлежавшая Марку Греку. В этой рукописи содержалось первое известное нам упоминание о неслыханной дотоле взрывной смеси. В сущности это был рецепт «греческого огня», а точнее - одного из его компонентов. Сам огонь приготовить было несложно: «Возьми чистой серы, земляного масла, вскипяти все это, положи пакли и поджигай»,- так написано в трактате. «Земляным маслом» могла быть минеральная нефть - лучше всего с берегов Красного моря, об этом тоже нетрудно было догадаться. Смущало другое: если всю эту адскую смесь поджечь, она сгорит (или взорвется) тут же, в руках пожигателя. Византийцы и арабы метали ее из трубок или сифонов, причем довольно далеко и прицельно. Но ведь их огнеметы - не праща, они жестко закреплены на носах кораблей или в фигурах движущихся зверей. Можно было бы заподозрить здесь действие сжатого воздуха: его секрет был известен еще древним египтянам и широко варьировался в громоздких пневматических автоматах Герона Александрийского. Но метательные трубки слишком малы для этого, их изображения ясно это показывают. Какая же сила выбрасывала шарик? Шварц получил ответ из той же рукописи: это порошковая смесь шести частей селитры с одной частью угля и одной - серы, разведенная льняным или лавровым маслом.. Сгорая, она мгновенно выделяет большое количество газа, с успехом заменяющего собой пневматическое устройство. Этим составом пользовались в XII-XIII веках арабы в своих модфах, отдаленно напоминающих мушкеты. Модфы выстреливали металлический шарик бондок («орех») на значительное расстояние. Несмотря на то, что это оружие иногда относят к ручному, оно никогда им не было: судя по гравюрам, модфы жестко укрепляли под углом на штативе наподобие безоткатных орудий, упирая задним концом («лафетом») в землю, а к отверстию примерно в середине ствола, куда засыпалась взрывчатая смесь, подносили раскаленный прут (что уже исключает ручное использование). Модфы гораздо ближе к устройствам для метания жидкого огня, да вероятно они и были ими, судя по тому, что взрывной состав, без всякого сомнения, заимствован из того же трактата Марка Грека, но раньше, чем он стал известен Бертольду Шварцу. Арабы могли заполучить этот трактат (даже не в одном экземпляре) в любом из захваченных ими византийских городов или кораблей. Взяв за основу ручную трубку и значительно видоизменив ее, немецкий монах на основе этой смеси, называемой по-латыни «пульвис», сконструировал огнестрельное оружие - и ручное, и стационарное. Секрета «греческого огня» больше не существовало. Глиняный шарик превратился в новом оружии в пулю или ядро - сперва монолитное, потом полое, начиненное взрывчатыми смесями и разбрасывавшее огонь точно так, как об этом писала Анна Комнина. Пульвис немцы стали называть «пульвер», англичане - «пауда», французы - «ла пудр», что означает одно и то же - пыль, порошок. Скандинавы назвали эту смесь «форс» (водяные брызги), прибалты - «парслас» (снежинки), русские - зельем, пока не заимствовали у поляков в XVII веке слово «прох» (пыль, порошок), вскоре превратившееся в «прах» и затем в «порох». По всей видимости, Шварц сделал свое изобретение, будучи в Англии, потому что именно англичане первыми применили новое оружие на втором году Столетней войны. Оттуда оно начало шествие на юг (Испания, 1342 год), на север (Швеция, 1370-е годы) и наконец на восток (Венгрия, 1378 год и Московия, 1382-й). Связь «греческого огня» с артиллерией до конца не выяснена. Из некоторых китайских хроник явствует, что еще в 618 году до н. э. в Поднебесной империи гремели пушки. Арабы применяли огнестрельные орудия, заимствованные, как полагают, у китайцев или индийцев, в 1118 году при осаде Сарагосы и в 1280-м - при осаде Кордовы. Чуть раньше, в 1232 году китайцы отбивались артиллерийским огнем от монголов, штурмовавших крепость Канфэнгфу. В 1310 году только благодаря артиллерии кастильский король Фердинанд IV отбил у арабов Гибралтар. Но были ли это орудия на основе пороха - сомнительно. Скорее - разновидности «греческого огня».
 Однофунтовая спрингарда XIII века.
Однофунтовая спрингарда XIII века.
Изобретение же Шварца совершенствовалось очень быстро: в 1364 году в Перуджии началось промышленное производство короткоствольных ружей, в Пистойе вскоре изобрели пистолет, в 80-х годах XIV века пушки устанавливались на английских и французских кораблях, а в конце того же столетия появились духовые ружья и был изобретен ружейный замок. Новое оружие нашло признание не сразу: слишком оно было страшно, не укладывалось ни в какие мерки. Кроме того, его еще надо было научиться делать, а потом обучить пользоваться им. Лишь примерно столетие спустя оно уравняло шансы рыцаря и крестьянина при встрече на узкой дорожке. «Благословенны счастливые времена, - ностальгически вздыхал Дон-Кихот в романс Сервантеса, - не знавшие чудовищной ярости этих сатанинских огнестрельных орудий, коих изобретатель, я убежден, получил награду в преисподней за свое дьявольское изобретение, с помощью которого чья-нибудь трусливая и подлая рука может отнять ныне жизнь у доблестного кавальеро...» - и добавлял: «...В глубине души я раскаиваюсь, что избрал поприще странствующего рыцарства в наше подлое время...» Но это было позднее, а до того «подлого времени» исход битв по-прежнему определялся составом войск и преобладанием того или иного вида метательного, колющего или рубящего оружия, а также качеством доспехов. Во время Столетней войны, например, дисциплинированные английские арбалетчики в битве при Креси 26 августа 1346 года уничтожили несколько тысяч генуэзских наемников Филиппа VI и тысячу двести девяносто одного конного французского рыцаря, плотно упакованных в лучшую броню Европы. Ровно десять лет спустя эта же история в точности повторилась при Пуатье, где сложили головы еще около восьмисот французских рыцарей.

Спербер XV века. Музей Сан- Марино.
Крестоносцы принесли с собой с Востока еще одно страшное оружие, скосившее в 1347-1349 годах больше людей, чем все войны, вместе взятые. «Король Чума», как назвал ее Эдгар По, начал свое триумфальное шествие под печальный перезвон колоколов из Леванта через Константинополь по Греции, Италии, Франции, Испании, Англии, Германии, Голландии, Дании, Скандинавии, Польше, России. Это была та самая чума, благодаря которой человечество получило бессмертный «Декамерон» Джованни Боккаччо. «Черная смерть» унесла в могилы двадцать миллионов человек в Европе и пятьдесят - в Азии, почти четверть тогдашнего населения Земли. В одной только Англии умерла от чумы по крайней мере треть жителей. Вымирали деревни и города, саранча выедала то немногое, что еще можно было отыскать на опустевших полях, в задымленной миллионами костров Европе свирепствовал голод. Это был единственный противник, перед которым спасовали не только все армии, но - неслыханное дело! - и пираты, что было подлинным и единственным чудом того времени. Бедствия Столетней войны, тысячекратно усиленные все возрастающим разбоем на дорогах, бесконечными эпидемиями и междоусобицами, национальными и интернациональными, не могли не вызвать взрыва в среде неимущих. Он произошел в 1358 году. Вот как описывает его знаменитый летописец и поэт Жан Фруас-сар из Валансьенна в своих «Хрониках Франции, Англии, Шотландии и Испании»: «Некие люди из деревень собрались без вождя в Бовэзи, и было их вначале не более 100 человек. Они говорили, что дворянство королевства Франции - рыцари и оруженосцы опозорили и предали королевство и что было бы великим благом их всех уничтожить... Потом собрались и пошли в беспорядке, не имея никакого оружия, кроме палок с железными наконечниками и ножей, прежде всего к дому одного ближайшего рыцаря. Они разгромили и предали пламени дом, а рыцаря, его жену и детей - малолетних и взрослых - убили. Затем подошли к другому крепкому замку и сделали еще хуже... Так они поступали со многими замками и добрыми домами и умножились настолько, что их уже было добрых 6 тысяч; всюду, где они проходили, их число возрастало, ибо каждый из людей их звания за ними следовал; рыцари же, дамы, оруженосцы и их жены бежали, унося на своей шее малых детей, по 10 и по 20 миль до тех пор, пока не считали себя в безопасности, и бросали на произвол судьбы и свои дома, и имущество. А эти злодеи, собравшиеся без вождя и без оружия, громили и сжигали все на своем пути, убивали всех дворян... Поистине, ни христиане, ни сарацины никогда не видали таких неистовств, какими запятнали себя эти злодеи. Ибо, кто более всех творил насилий и мерзостей, о которых и помышлять-то не следовало бы человеческому созданию, те пользовались среди них наибольшим почетом и были у них самыми важными господами... Между прочими мерзостями они убили одного рыцаря, насадили его на вертел и, повертывая на огне, поджарили при даме и ее детях. После того как 10 или 12 из них истязали и насиловали женщину, они накормили ее и детей этим жареным, а потом всех умертвили злой смертью. Выбрали короля из своей среды, который, как говорили, происходил из Клермона и Бовэзи, и поставили его первым над первыми. И величали его, короля, Жак Простак. Они сожгли и начисто разгромили в области Бовэзи, а также в окрестностях Корби, Амьена и Мондидье более 60 добрых домов и крепких замков, и если бы Бог не пришел на помощь своей благостью, эти злодеи так бы размножились, что погибли бы все благородные воины, святая церковь и все зажиточные люди по всему королевству, ибо таким же образом действовали названные люди и в области Бри, и в Патуа. Пришлось всем дамам и девицам страны, и рыцарям, и оруженосцам, которые успели от них избавиться, бежать в Мо, в Бри поодиночке, как умели, между прочим и герцогине Нормандской. И спасались бегством все высокопоставленные дамы, как и другие, если не хотели стать жертвами истязания, насилования и злой смерти. Точно таким же образом поименованные люди действовали между Парижем и Нуайоном, между Парижем и Суассоном, между Суас-соном и Ан, в Вермандуа и по всей стране до Куси. И тут творили они великие злодейства и разгромили в области Куси, Валуа, епископства Ланского, Суассона и Санли более 100 замков и добрых домов рыцарей и оруженосцев, а всех, кого хватали, грабили и убивали». Несмотря на бросающуюся в глаза односторонность в оценке этого восстания, получившего название Жакерии, совершенно ясно, что картинки эти списаны с натуры. Это описание подтверждается и другими документами. Не стоит удивляться беспримерной жестокости доведенных до отчаяния простолюдинов: действие рождает адекватное противодействие. Фруассар, видимо, сам оказался в числе пострадавших вместе с воспеваемыми им рыцарями и прекрасными дамами, этим и объясняется его отношение к Жакерии. К словам Фруассара можно добавить еще, что многие из этих «жаков» после поражения восстания нашли выход своей неутолимой ярости под пиратским флагом. Легко вообразить, каково приходилось тем, кто попадал в их руки. Пока Европа была поглощена всеми этими бедами, далеко на востоке, в Пекине, в 1368 году приходит к власти китайская династия Мин, сменившая монгольскую династию Юань. Ее основатель Чжу Юаньчжан прекратил абсолютно всякие сношения с внешним миром, и в первую очередь - с Западом. Именно с этого времени, как никогда раньше, Восток становится тем пленительным, таинственным и притягательным Востоком, куда три десятилетия спустя во что бы то ни стало стремились добраться португальцы и испанцы, и который еще и в наше время носит отпечаток чего-то неуловимо исключительного, экзотического и чудесного.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, Пока не предстанут Небо с Землей на Страшный Господень Суд.
С этих пор европейцы вынуждены довольствоваться исследованиями Европы и ее окрестностей - не дальше Передней Азии, пока и ее через сорок лет не закроет для них Тимур.
Схолия четвертая. КРЫЛАТЫЕ ПИЛИГРИМЫ.
«Когда все пилигримы собрались в Венеции и увидели великолепный флот, который был построен, великолепные нефы, большие дромоны и юиссье для перевозки коней, и галеры, они сильно дивились всему этому и огромному богатству, что нашли в городе»,- торопится поделиться впечатлениями Робер де Клари. По его словам, для начала XIII века это был «самый богатый флот, какой когда-либо можно было увидеть». Главенствующее положение в нем занимал неф, поставленный и Робером, возможно бессознательно, на первое место в перечне. Неф родился одновременно с коггом или чцть позже его и отличался более округлой формой форштевня.

Неф на печати города Уинчелси ХШ века.
Когда Альберт Великий обратил свое королевское внимание на необычные суда фризов, он не знал еще, что этим судам уготована долгая и блестящая родословная. Для него это были норманнские корабли. В Бретани - просто корабли, по-бретонски - нефы (от латинского «навис»). На севере, в том числе и на Руси, эти суда называли бусами - от древнескандинавского bussa, bflza («быстрый» - отсюда, кстати, и само это русское слово), знакомого нам по английскому bus и по окончаниям слов омнибус (транспорт для всех), автобус (самоходная повозка) и другим. Так что буса - это калька слов навис, неф и прочих, означающих в общем смысле любое транспортное средство, а более узко - любое судно. В XII веке эти бусы известны из документов как «корабли крестоносцев». Но развитие они получили не в Англии и не во Франции... Потеря сухопутных трасс не обескуражила итальянских купцов. Возросшее значение морской торговли обратило их к поискам путей ее интенсификации - увеличению скорости и грузовместимости судов. Начав свою коммерцию на античных «черепахах», генуэзцы и венецианцы продолжили ее на судах нового типа, переняв и усовершенствовав важнейшие североевропейские инженерные новшества. Привычной деталью становится подвешивающийся на петлях поворотный руль, окончательно вытеснивший кормовое весло и заметно повысивший маневренность (первый когг с таким рулем зафиксирован в 1242 году). К прямому рейковому парусу добавился или пришел ему на смену косой, треугольный, позволяющий лавировать против ветра. (Предполагают, что итальянцы заимствовали его на Востоке.) Ахтеркастль и фор-кастль, придававшие судну лучшую остойчивость, превратились в открытые платформы, соединенные переходным мостиком и огражденные богато орнаментированным резным ярусным фальшбортом. Иногда на них ставили дополнительные мачты с парусами и рыцарскими гербовыми знаменами, а под сильно выступающим кормовым подзором подвешивали разъездную шлюпку. Нередко шлюпка крепилась на грузовом палубном люке - в том случае, если судно имело вырезы в борту, открывавшие прямой доступ в междупалубное пространство - твиндек, и в палубном люке не было особой нужды.
 Один из первых английских кораблей с навесным рулем, 1340.
Один из первых английских кораблей с навесным рулем, 1340.
На знаменитой мозаике XIII века из венецианского собора святого Марка неф изображен с тремя мачтами, убывающими по высоте начиная с передней (столетие спустя все стало наоборот), с двумя рулевыми веслами и латинским парусом. На юте ставили тент или навес. Неф с тремя-четырьмя мачтами называли нередко марсильяной. Длина таких нефов достигала тридцати метров, ширина - восьми, а высота борта - трех. Их двадцатипятиметровая мачта могла нести несколько парусов. На них появляются шпили для выборки якорных канатов, их штурманы пользуются компасом и довольно еще неуклюжим секстаном, свой курс они прокладывают на портоланах - морских навигационных картах без координатной сетки. В 1255 году венецианские моряки создают «Собрание морских правил», подробно регламентирующее эксплуатацию кораблей и впервые вводящее понятие грузовой марки (до двухсот тонн) для определения высоты надводного борта (до семи с половиной метров). Длина и ширина венецианских нефов в полтора раза превышала цифры, указанные выше. В северных морях нефы называли также гатами. Если в основе этого слова лежит древнеиндийское gatus - дорога (отсюда «гать» - тропа через болото), то эти корабли - «путники, странники» для норманнов, исландцев и шведов (по-шведски gatt - узкий пролив, то есть специфически морская дорога). У нижнелужицких славян gat - пруд, а у ирландцев - ивовый прут, тот самый, что шел в огромных количествах на плетеные корпуса судов. Однако, скорее всего, судно получило свое имя от нижненемецкого gat - корма. Видимо, Германия и стала его второй, северной родиной. А уже оттуда пошли и голландское katt, и английское cat (эти слова имеют еще одно значение - «кошка», и это может указывать на какую-то родовую связь с византийскими элурами или галеями), и русское «кат», обозначавшие трехмачтовое торговое судно. Но почему - корма? Обшивка нефа делалась внакрой (хотя на мозаике из собора святого Марка она больше похожа на гладкую), но именно корма, по-видимому, представляла собой исключение. Чем корма выше - тем лучше: ведь при плавании под парусами при попутном ветре волны догоняли корабль и прокатывались по нему от штевня до штевня. Высокая корма в какой-то мере предохраняла от постоянного холодного и соленого душа. Еще на античных судах это была самая высокая часть корпуса. Там находился кормчий, оттуда флотоводец руководил боем, там ставились палатки или каюты для почетных пассажиров, там обитал патрон-покровитель судна (римский тутела), а позднее поднимался флаг. Эта деталь судового набора издревле приобрела особое значение. И оно, это значение, воплотилось в сильно развитой кормовой надстройке - наследнице боевой платформы и ах-теркастля. На нее было перенесено и традиционное украшательство кормы, переросшее в вид особого искусства морских архитекторов. Ах-теркастль сделался органической частью набора корпуса корабля, выраставшей из разукрашенного или покрытого резьбой верхнего Корма с боевой площадкой пояса обшивки, круто поднимавшегося к штевням, и составлял с ним единое целое. Собственно боевая башня (форкастль) осталась только в носовой части, кормовая же надстройка нового типа совместила в себе функции ахтеркастля, каюты и складочного места судового снаряжения, в том числе и боеприпасов (с этого времени крюйт-камера - от голландского kruit, «порох» - традиционно располагалась в корме). Эта кормовая надстройка получила у итальянцев название talare - «спускающийся до пят» - от латинского talaris стем же значением. В выборе термина, возможно, сыграли роль и греческие слова talaros (корзина, плетенка), falaros (белый) и falaron (металлические украшения). На городских печатях XIII-XIV веков видно, что и носовая часть нефа изменила свой силуэт: впереди форкастля появился бушприт. Только марсиль-яна сохранила прямую корму, и это роднит ее скорее с коггом или кнорром, чем с нефом.

Верхний пояс щедро разукрашенной обшивки, огибавшей корпус в виде орнаментированного фриза, мог дать нефу еще и третье имя: по-итальянски fregio - украшение, фриз, fregiato - украшенный, fregata - фрегат. Но принято считать, что слово это голландское, и тогда в основе его лежит именно второе название нефа - гат: подобно тому как когг (тот же неф), участвовавший в боевых операциях, назывался фреккоггом, так гат в аналогичных случаях приобретал имя фрекгат. Возможно, впрочем, что верны обе версии: в XIII- XIV веках первые фрегаты известны как раз в Средиземном море - это были быстроходные парусно-гребные (до пяти пар весел) посыльные суда, осуществлявшие связь между крупными кораблями (теми же нефами) или с берегом и следовавшие за ними на буксире; в северных же морях фрегат появился полтысячелетия спустя именно как военное судно. Количество весел средиземноморского фрегата и сочетание их с парусом не могут не напомнить абсолютно такое же маленькое суденышко римлян времени Цицерона - актуариолу (характерно, что актуариола - это уменьшительное от актуария, не мог ли и маленький фрегат сосуществовать с большим - нефом?), а также барку (будущий баркас), предназначенную для высадки на берег, и некоторые другие типы античных судов с аналогичными функциями. Греки называли буксируемую лодку efolkion, у римлян это слово стало звучать как хелкиарий (от helcium - «ярмо» для крепления буксирного каната), а у арабов фулк, фулук, фулу-ка стало уже самостоятельным типом судна, ничего общего не имеющим со своим первообразом, как и произошедшие от него небольшая турецкая фелука (фелюга) или северный хулк, хольк. Вот как описывает Робер де Клари преображение мирного нефа в «опасный» и его участие в боевых действиях: «И когда нефы и все другие суда венецианцев были введены в гавань и стали в безопасности... дож Венеции сказал, что он поставит орудия на своих нефах и лестницы, с которых будет произведен приступ стен... Дож Венеции приказал соорудить дивные и прекрасные осадные орудия, ибо он распорядился взять жерди, на которых крепят паруса нефов, длиною едва ли не в 30 туаз (58,47 метра.- А. С.) или даже более того, а потом он приказал хорошенько связать их и закрепить прочными канатами на стенах, и устроить поверх них добрые мостки и оградить их по краям добрыми поручнями из веревок; и каждый мостик был столь широк, что по нему могли проехать бок о бок три вооруженных рыцаря. И дож повелел хорошо укрепить мостки и прикрыть их с боков столь прочными кусками эксклавины (грубого холста.- А. С.) и парусины, что тем, кто проезжал по ним, чтобы участвовать в осаде города, нечего было опасаться стрел ни из арбалетов, ни из луков; и каждый мостик находился на высоте 40 туаз (77,96 метра.- А. С.) над нефом, а то и больше; и на каждом юис-сье был мангоннель (колесная баллиста.- Л. С), который мог метать камни так далеко, что они били по стенам и достигали города. (...) Когда корабли должны были вот-вот причалить, венецианцы взяли тогда добрые канаты и подтянули свои корабли как можно ближе к стенам; а потом французы поставили свои орудия, свои „кошки", свои „повозки" и своих „черепах" для осады' стен; и венецианцы взобрались на перекидные мостки своих кораблей и яростно пошли на приступ стен; в то же время двинулись на приступ и французы, пустив в ход свои орудия. (...) Венецианцы подготовили к приступу перекидные мостики своих нефов, и свои юиссье, и свои галеры; потом они выстроили их борт к борту и двинулись в путь, чтобы произвести приступ: и флот вытянулся по фронту на доброе лье; когда же они подошли к берегу и приблизились насколько могли к стенам, то бросили якорь. А когда они встали на якорь, то начали яростно атаковать, стрелять из луков, метать камни и забрасывать на башни греческий огонь; но огонь не мог одолеть башни, потому что они были покрыты кожами... И во всем флоте имелось не более четырех или пяти нефов, которые могли бы достичь высоты башен - столь они были высоки; и все яруса деревянных башен, которые были надстроены над каменными, а таких ярусов там имелось пять, или шесть, или семь, были заполнены ратниками, которые защищали башни. И пилигримы атаковали так до тех пор, пока неф епископа Суассонского не ударился об одну из этих башен... а на мостике этого нефа были некий венецианец и два вооруженных рыцаря; как только неф ударился о башню, венецианец сразу же ухватился за нее ногами и руками и, изловчившись как только смог, проник внутрь башни (...) и в башню взошел затем другой рыцарь, а потом и еще немало ратников. И когда они очутились в башне, они взяли крепкие веревки и прочно привязали неф к башне, и, когда они его привязали, взошло множество воинов, а когда волны отбрасывали неф назад, эта башня качалась так сильно, что казалось, будто корабль вот-вот опрокинет ее или... что силой оторвет неф от нее». Так воевали средневековые итальянские нефы... или все же фрегаты? Чтобы разобраться в биографиях судов, в происхождении и трансформациях их названий, нелишне делать это с оглядкой на эпоху, особенно если эта эпоха - средневековая, межвременье. Ушли в прошлое классические греческий и латинский.
Нет еще испанского языка, есть так называемая «народная», или «кухонная» латынь, подобно губке впитывающая в себя германские, кельтские, иудейские и арабские корни, изменяющая первоначальные значения латинских слов и утверждающая новые. Лишь к концу XV века кастильское наречие превратит этот волапюк в тот испанский язык, на коем писал свои донесения Колумб. Италия до X века вообще не имела единого языка, там доживала еще свой век рафинированная латынь, жадно вбирая в себя звонкие диалекты, которые Цицерон без колебания назвал бы варварскими. Генуэзцы не без труда изъясняются с римлянами, римляне с венецианцами, венецианцы с флорентийцами, флорентийцы с тарентцами. И только в XIV веке Данте, Боккаччо и Петрарка на основе флорентийского диалекта создадут и утвердят тот единственный итальянский язык, который мы знаем, но утвердят лишь в произведениях изящной словесности, а не в устной речи,- точно так же как Камоэнс стал, в сущности, «отцом» литературного португальского языка, сотканного из местных наречий - наподобие испанского и итальянского. Вот этот фактор и надо учитывать при анализе названий судов, появившихся до XIV-XV веков. Ну вот хотя бы плоскодонная гондола, достоверно известная с 1094 года, когда Венецией правил дож Вито Фальери. Сами итальянцы не могут объяснить ее происхождение, опираясь на собственный язык, и в их словаре это слово стоит особняком: оно единственное на gond, если не считать двух производных - gondoliere (гондольер) и gondolare (плыть в гондоле). Чаще всего его пытаются вывести из диалектного konkula или khontilas - «лодочка, челнок». Но если это даже и так, здесь все же ясно проглядывает греко-римский конто-тон - челнок, тоже плоскодонный и управляющийся вместо весел шестом. И вот что сразу приходит на ум. По наблюдению Стендаля, «во всей этой прекрасной Италии... только три города - Флоренция, Сьена и Рим - говорят приблизительно так, как пишут; во всех остальных местах письменная речь отстоит на сто лье от устной». Особенно этим славилось именно тосканское наречие, где «к» звучит как «г», а «г» легко принять за «з». Озвончившись, contus неизбежно должен был превратиться в венецианском диалекте в gond (латинское окончание, естественно, исчезло). Значит, первые гондолы, были, по-видимому, маленькими рыболовецкими челнами - gondula в документах XI века - и управлялись шестами, если только это имя не было прямо перенесено на какой-нибудь местный челнок с этими признаками- тот же контотон. Именно из шеста могло произойти единственное весло гондолы - рулевое и вместе с тем гребное. Сама техника управления им напоминает работу шестом или гребком: ведь первоначально место гондольера было в центре судна. (От contus, означающего также копье, произошла и condotta - договор с начальником наемного войска и само это войско, и по дорогам Италии зашагали наемные полководцы - кондотьеры, «копьеносцы».) Весло гондолы вырезается обычно из бука, его длина превышает четыре метра, а вес - четыре килограмма. Для него была изобретена уключина особой формы - forcola («вилка») с двумя длинными и узкими выемками, позволяющая придавать гондоле желаемую скорость путем переноса весла из одной выемки в другую. Эта уключина и сейчас по традиции делается из ореха. На носу гондолы укрепляется массивная ferro («железяка») в виде шапки дожа - она придает плавность носовой оконечности и уравновешивает корму. Любопытна одна особенность гондолы - она сохраняет нормальное положение на воде только до того момента, пока у кормила находится гондольер. Стоит ему сойти на берег - и судно кренится на правый борт. Дело в том, что когда-то гондолой управляли два гондольера (потому-то и уключину приспособили для двух весел), но примерно с XVI века из-за нехватки гребцов пришлось ограничиться одним (или возвратиться к одному, если весло гондолы действительно произошло от шеста). Поскольку же конструкция была рассчитана «на пределе», а вилкообразная уключина уже прочно вошла в обиход и сделалась традиционной, то вес второго гребца заменила металлическая накладка на правом борту, выравнивавшая корму. На корме, а чаще в центре судна - там, где прежде было место гондольера,- красуется каюта или, скорее, навес с полукруглым верхом, покоящимся на бортах. На одной картине художника рубежа XV и XVI веков Витторе Карпаччо гондолой управляет негр. Хроника 1493 года подтверждает - первоначально гондольерами были рабы. В числе представителей этой профессии не редкостью были женщины.
 Ганзейский когг. Реконструкция.
Ганзейский когг. Реконструкция.
Гондолы брали на борт от двух до четырех пассажиров, соответственно варьировались и их размеры, но в XVIII веке, когда они возросли до того, что эти суденышки стали создавать невообразимую толчею в узких каналах Венеции, мешать друг другу и калечить пассажиров своими украшениями (иные гондолы напоминали ощетинившегося ежа), был принят строгий закон, ограничивавший длину гондолы десятью метрами и восьмьюдесятью семью сантиметрами, а ширину - метром и сорока двумя сантиметрами... Итак, достоверно одно - в основе чуть ли не всех названий средневековых судов лежит латынь или греческий, а в литературные языки они вошли в том виде, в каком существовали с момента своего рождения, причем не только в разных районах и в разное время, но подчас и одновременно могли использоваться различные названия для обозначения одного и того же типа - неф, буса, гат, когг. Робером де Клари когги не упоминаются: чистокровный француз, он знает только нефы. В его время это были, за исключением мелочей, суда-синонимы. В начале XII века Вольфрам фон Эшенбах в своей поэме «Парцифаль» упоминает «большой, крепкий корабль»- возможно, когг. В 1199 году на печати английского города Данвича был изображен парусник с кормовым рулевым веслом по правому борту. Схематичное изображение бимса намекает на наличие палубы - ее имели и когги, и нефы. В документах 1206 года можно не раз встретить упоминание когга, этот тип судна зафиксирован в 1230 году на севере Испании, а четверть века спустя в Марселе. Но это те времена, когда коггом могли величать неф, а неф - коггом. Лишь примерно столетие спустя их пути разойдутся.
 Юиссье. Напольная мозаика 1213 года в церкви Сан-Джованни Эванджелиста.
Юиссье. Напольная мозаика 1213 года в церкви Сан-Джованни Эванджелиста.
Из других типов судов, упомянутых Робером де Клари, весьма примечательно юиссье. Это не что иное, как византийская гиппагога - судно для перевозки лошадей. Но как она изменилась внешне! Главным новшеством стали, по-видимому, запирающиеся ворота в корме, а иногда и по бортам, предназначенные для прохода животных по широкой сходне. Во всяком случае, из античных источников эта деталь неизвестна, хотя нечто подобное у греко-римских судов предположить все же можно: вряд ли случайно замечание Фукидида о том, что самены, имевшие срезанную транцевидную оконечность, очень легко и быстро могли быть переоборудованы в гиппагоги - для этого достаточно было прорезать двери или перебросить мостки через фальшборт. Дверь по-латински ostium, по-итальянски uscio, по-французски huis (первая буква не читается). Поэтому новые суда получили имя ускиеры у итальянцев и юиссье у французов. Не исключено, что и итальянское usciere (швейцар) тянется корнями из тех времен: так могли называться если не все члены команды ускиеры, то по крайней мере те, на чьем попечении находились двери и погрузка лошадей. Ускиера была высокорентабельным типом морского транспорта и довольно быстро вытеснила популярную на Средиземном море, особенно в западной его части, византийско-арабскую парусно-гребную тариду, хотя оба типа сосуществовали по крайней мере до XIV века.
 Ускиера. Реконструкция.
Ускиера. Реконструкция.
У крестоносцев пользовались популярностью и те, и другие, смотря по средствам заказчика. Если компания Робера де Клари заказала ускиеры, то прижимистый Людовик IX, собираясь в 1248 году в очередной, Седьмой крестовый поход, предпочел именно тариды, и дюжина этих судов, сорокавесельных и трехпарусных, была для него построена в течение двух лет. Каждая тарида принимала на свою единственную палубу не более двух десятков лошадей, ее длина составляла от двадцати шести до тридцати шести метров (длина киля - семнадцать метров), ширина палубы до девяти метров, а плоского днища - чуть больше трех. Одно из последних упоминаний тариды можно отыскать в анналах Генуи, относящихся к 1270-м годам.
 Постройка корабля крестоносцев. Гравюра на дереве, 1486.
Постройка корабля крестоносцев. Гравюра на дереве, 1486.
Гонку выиграла ускиера. И неудивительно. Она имела две сплошные палубы, способные принять до сотни лошадей - в восемь-девять раз больше, чем могли себе позволить византийцы, и впятеро - по сравнению с таридой! Но чаще на верхней палубе размещались колесницы, разного рода военная техника и обслуживающий персонал, а иногда и пассажиры; там же в случае долгого рейса прогуливали лошадей, чтобы они не застоялись и постоянно были в боеспособном состоянии. Лошади во время плавания довольствовались нижней палубой, где для них были оборудованы стойла, а верхняя хорошо укрывала от непогоды. Такие суда были очень широко распространены и дожили почти до нашего века. Вот как отзывается о них французский писатель Теофиль Готье, совершивший осенью 1861 года путешествие по Волге от Твери до Нижнего Новгорода: «Следуя вниз по реке, мы часто встречали суда, походившие на те, что я видел на стоянке у Рыбинска. Они неглубоко сидят в воде, но по размерам не меньше торгового трехмачтового судна. Их конструкция представляет собою нечто особенное, своеобразное, чего не встретишь в других местах. Как у китайских джонок, нос и корма их загнуты наподобие деревянного башмака. Лоцман сидит на некоей площадке с рубленными топором перилами, на верхней палубе возвышаются каюты, имеющие форму беседок, и покрашенные и позолоченные маковки с флагштоками. Но самое удивительное представляет собою находящийся на таком судне манеж. Он дощатый и поддерживается столбами. В нижнем этаже судна размещаются конюшни, в верхнем - сам манеж. Сквозь просветы между столбами видно, как по кругу манежа ходят лошади, связанные спереди три по три или четыре по четыре. Эти лошади наматывают на ось буксирный канат. На конце этого каната якорь сначала отвозится вверх по течению на лодке с восемью или десятью гребцами и забрасывается в грунт реки. Число лошадей на борту такого судна может доходить от ста до ста пятидесяти. Они поочередно сменяют друг друга: в то время как одни работают, остальные отдыхают, а пароход хоть медленно, но безостановочно плывет. Мачта такого судна бывает невероятной высоты и делается из четырех или шести сцепленных стволов сосен и напоминает ребристые столбы готических соборов. С мачт свешиваются веревочные лестницы, ступеньки которых крест-накрест переплетены между собою веревками. Я описал в подробностях эти большие волжские барки потому, что они скоро исчезнут... Суда, о которых я говорю, напомнили мне огромные деревянные сооружения, плававшие по Рейну и переправлявшие целые деревни с их хижинами, запасы провизии... даже целые стада коров. Последний лоцман, умевший ими управлять, умер несколько лет назад...» Несомненно, очень многие детали этого описания дошли сквозь века из Средиземноморья эпохи Крестовых походов. И даже от античности: «На носу таких барок, - замечает Готье, - часто изображали глаза, смотрящие огромными зрачками вдаль...», причем брови представляли собой шкурки соболей или других пушных зверьков, приколоченные гвоздями в надлежащих местах. Да и такая деталь, что «кружевом украшает корму резьба, вырубленная топором по дереву с такой ловкостью, какой не превзойти даже резцом», уводит воображение во времена весьма отдаленные... Что же до меховых бровей, то они заставляют вспомнить одну из этимологии - так называемую «народную» - слова галера, произошедшего якобы от латинской galerus - меховой шапки, помещавшейся то ли в натуральном виде, то ли в живописном на носу корабля. Ничего общего с действительностью сия словесная эквилибристика, конечно, не имеет.
 Венецианская галера рубежа XIII и XIV веков. Реконструкция.
Венецианская галера рубежа XIII и XIV веков. Реконструкция.
Не менее примечательны были в то время и суда, именуемые Робером де Клари галерами. Галера венецианского дожа, например, «вся была алой», а над самим дожем «был раскинут алый парчовый балдахин, впереди были четыре серебряные трубы, в которые трубили, и кимвалы, которые гремели по-праздничному». Когда флот покидал венецианскую гавань, «это было со времени сотворения мира самое великолепное зрелище, ибо там было наверняка 100 пар труб, серебряных и медных, которые все трубили при отплытии, и столько барабанов, и кимвал, и других инструментов, что это было настоящее чудо. Когда они вышли в открытое море, натянули паруса и подняли свои знамена и флажки на башни нефов, то казалось, что все море заполнилось кораблями, которые они направили сюда, и словно пламенело от великой радости, которую они чувствовали». Похоже, что эти галеры были парусными, поскольку здесь нет никакой оговорки. Думается, однако, что значение слова галера как «морское гребное судно», о чем уже сказано выше, наиболее вероятно. По-видимому, в эпоху Крестовых походов этот термин сосуществовал наряду с галеей: в итальянском сохранились оба эти слова, причем galea обозначает галеру, a galera - лодку. Первоначальное же galee в среднегреческом превратилось в galaia и стало обозначать тот, первый тип судна, патриарха всего этого семейства. Не говорит ли это о том, что жители Апеннинского полуострова различали мбольшую галею и аленькую галею, то есть что эти суда составляли такую же типовую пару, как неф и фрегат, актуарий и актуариола? Вполне ведь могло быть, что галерой, в отличие от прочих лодок - барок, называли шлюпку только галеи, следовавшую за ней на буксире, а позднее и поднимавшуюся на палубу.
 Галея. Рисунок из генуэзского документа второй четверти XIII века.
Галея. Рисунок из генуэзского документа второй четверти XIII века.
Это тем более правдоподобно, что у тех же итальянцев «большая галера» - переходное звено между галерой и парусником - носила имя галеацца или галеас (тогда как просто «большую лодку», как позднее и баржу, называли barcone), а гребец галеры - галеотто. Барконе, по-видимому,- то же, что бардже: так называли лодку с дюжиной гребных банок. Галеацца, галеас, галеотто - все они явно связаны с галеей, а галеотами называли гребцов галеры и тогда, когда она стала плавучей тюрьмой: слово galeotto приобрело в те времена второе значение - каторжник, a galera - каторжные работы. У испанцев же galeota (во Франции - galiote) стало обозначать маленькую галеру - в противоположность другой ее современнице - итальянской галеацце, а крестоносцы иногда величали так дромоны... Так о каких же галерах ведет речь Робер де Клари? Не о лодках же... Скорее всего, здесь под словом «галера» скрывается галеон (почему-то в русском языке все еще иногда по старинке пишущийся через «и» - как до недавнего времени Вергилий). Первые упоминания галеона и галеаса встречаются в генуэзских хрониках 1100-х годов. Их, новорожденных, долго еще путали с галеями, и в одном из отчетов, датируемом 1189 годом, его составитель счел нужным разъяснить, что есть что: «Галея (galea.- А. С.) -это длинное, узкое и низкое судно, на его носу прикреплен брус, именуемый обычно шпорой и способный протыкать насквозь неприятельский корабль. Галеон также имеет только один ряд гребцов, но он более короток и подвижен, более поворотлив и быстроходен и пригоден к метанию огня». Как раз то, что и нужно было крестоносцам в войнах против мусульман! Крестовые походы отнюдь не ввергли Аравию в то жалкое состояние, в каком ее мечтали видеть христианские монархи. Флот ее и гавани блистали прежним великолепием, а потери в одном месте с лихвой компенсировались приобретениями в другом. В X веке, например, ярко засверкала звезда Могадишо на побережье Сомали - новая торговая фактория южноморских Синдбадов. Ибн Баттута, побывавший там в 1331 году, уже застал большой, оживленный и прекрасно оборудованный порт. Каждый прибывающий корабль встречали еще на рейде небольшие лодки-самбуки, и их владельцы наперебой предлагали странникам здоровую пищу и гостеприимный кров. Принять у кого-либо из них накрытое кисеей блюдо с яствами означало отдаться под его покровительство, заключить жилищный контракт. Такой или сходный обычай существовал и в других портах Африки, Индии, Мальдивских и иных островов. Однако это гостеприимство ничуть не мешало портовым инспекторам и таможенникам скрупулезно исполнять свои обязанности, а капитанам арабских кораблей (руббанам, муаллимам, каррани, нахудам) - «добровольно» уступать для местной казны часть товаров по заметно сниженным ценам: это было все же лучше, нежели конфискация груза, иногда и вместе с судном, за ложную информацию. По-прежнему престижной оставалась для арабов и служба в военном флоте. Они имели их пять. Два «опекали» Восточное Средиземноморье: Критский, державший в повиновении острова и берега Эгеиды, и Сирийский, осуществлявший ту же задачу у южного побережья Малой Азии и у берегов Леванта (нередко эти два флота объединялись, блокируя всю Малую Азию). Сирийский флот был вторым по значению, особенно в первой четверти X века, когда им командовал византийский пират Лев Триполитаник, из каких-то соображений променявший крест на полумесяц и одержавший ряд блистательных побед над бывшими своими соотечественниками. В западной части Средиземного моря действовали Африканско-сицилийский флот, державший в постоянном страхе Италию, и Испанский, чье название отражает его цели (эти два флота тоже, случалось, совершали совместные операции). Центральным, главенствующим флотом был Египетский, его корабли дислоцировались в портах Египта и южного Леванта, а штаб-квартира была в Каире. Ни в одном флоте мира - ни до того, ни после, вплоть до XVI или XVII века - не было такой четкой организации и железной (но отнюдь не палочной!) дисциплины, к тому же добровольной. Весь он был разделен на десять эскадр, возглавляемых «эмирами моря» - адмиралами. Из их числа назначался главный адмирал флота - мукаддам. В мирное время все они, как, впрочем, и остальные моряки, жили в своих поместьях в окружении жен и друзей, а в случае даже кратковременной отлучки обязаны были известить об этом начальство (каждый - свое, по ранжиру) и указать новый адрес или маршрут поездки. Численный состав эскадр, а следовательно, и всего флота в разное время был различным. Неизменным оставалось количество командующих (десять) и эскадренных старшин (двадцать), ведавших выдачей жалованья. За каждым старшиной было закреплено определенное количество офицеров и матросов, и они, руководствуясь списком, выплачивали нужные суммы. Эти списки экипажей - первые достоверно нам известные судовые роли. Из корабельных должностных лиц известны кроме палубных матросов и рулевых лоцман, писец, «мастер причала», боцман, вычерпыватель воды, плотник. Из числа матросов назначались постоянные впередсмотрящие, или дозорные, они же и сигнальщики. Иногда на судне был врач, если только лекарским искусством не владел кто-либо из команды. Разумеется, на весельных судах были две-три смены гребцов - свободных или рабов. Имелись также хранители провизии и корабельного имущества. В случае подготовки к походу старшины отправляли посыльных по имеющимся у них адресам (потому-то и надо было извещать о каждой отлучке с постоянного места жительства) и созывали всех в Каир. Здесь халиф производил смотр и вручал именем Аллаха «походные» - по пяти динаров каждому сверх обычного жалованья, ибо перед лицом Аллаха и смерти все равны. Затем устраивался морской парад, и прямо с него корабли уходили в экспедицию, по возвращении из коей на повторном смотру подсчитывались потери и добыча, раздавались милости и высказывались упреки. Однако вопреки всем усилиям халифов смотры начиная с середины X века становились все печальнее. В 961 году арабы потеряли Крит, а спустя четыре года - Кипр, после чего они уже практически перестали грезить о лаврах в морской войне с ромеями. В 1071 году норманны вытеснили их с Сицилии, в 1098 году они упустили из рук Мальту, и эти потери обернулись крупным выигрышем для Италии, много лет опасавшейся разделить судьбу Испании. Впрочем, скоро и Испания смогла вздохнуть свободней и начать вынашивать идею Реконкисты - после того, как арабы потеряли в 1146 году Триполи, а двумя годами позже Махдию, свою пиратскую столицу... Типы судов у арабов оставались традиционными (во всяком случае, по названиям), и все их можно было увидеть одновременно, словно в музее, в любом районе моря, причем не обязательно Средиземного. Пришла эпоха оживленного обмена идеями, христиане заимствовали все, что казалось им дельным, у арабов, арабы - у христиан. Но сегодня далеко не всегда можно угадать, что скрывается за тем или иным термином. Например - заимствованная у крестоносцев батта, вооруженная метательной техникой. В этом слове слышится то ли итальянское battaglia - баталия, бой (тогда это «военное судно»), то ли batto - маленькая шхуна или парусная лодка-долбленка, хорошо, кстати, известная и в северных морях. Совершенно неясно, как выглядел кабк - плавающая крепость с тысячью воинов на ее палубах и со ста тридцатью шестью огнестрельными орудиями. Все реже использовалась в военном деле гханья - теперь это довольно популярный тип фрахтового парусника. Обзаводятся бушпритом багала и некоторые другие типы - в этом сыграла роль бателла, оказавшая также влияние на развитие и оформление ахтерштевня и кормового набора. (Впрочем, не исключено, что под бателлой понимали теперь маленькую батту.) Появляется в составе итальянских флотов военно-транспортный селандр - последний левиафан античности.
Быстроходность многих из этих судов была за пределами реального для того времени: если верить китайскому свидетельству 1178 года, арабские суда (неизвестно только, какие) могли покрывать при попутном ветре расстояние в пятьсот семьдесят шесть километров за сутки, то есть шли со скоростью около тринадцати узлов! Судя по «Книге Марко Поло», арабы строили свои суда методом тысячелетней давности, освященным Аллахом и опытом,- сшивая деревянные части кокосовыми волокнами, без применения металлических гвоздей и скреп (хотя кое-где их изредка пускали в ход), и пропитывая корпус жировыми смолами разных составов, а паруса сшивая из пальмовых листьев. По словам Марко Поло, экипаж арабского корабля составлял двести человек (хотя он мог, разумеется, значительно варьироваться в зависимости от многих обстоятельств), а каждым его веслом управляли четверо. Большие корабли в случае надобности буксировались лодками с четырьмя десятками вооруженных людей. Эти лодки принадлежали самому кораблю и путешествовали вместе с ним, привязанные за кормой (обычно по две) или к борту. «Наработка на отказ» арабского судна была годичной, после чего его придирчиво осматривали, кренговали и ремонтировали: каждый шов между досками обшивки закрывали новой доской, так что вся обшивка становилась двойной, тройной - и так до шести раз, а доски ее слоев располагались в шахматном порядке по отношению к каждому прежнему слою. Таким образом, предельный срок службы судна составлял шесть лет или чуть больше. Корабли, пришедшие в негодность, на всех флотах использовали теперь как брандеры. Их упоминают многие хронисты, в том числе такие знаменитые, как Жоф-фруа де Вилардуэн или Никита Хониат. В первый день 1204 года брандеры были применены византийцами против крестоносцев. Это зрелище довольно подробно описал Робер де Клари: «Ночью они взяли в городе корабли; они нагрузили их очень сухими деревяшками, положив куски смолы между деревяшками, а потом подожгли. Когда наступила полночь и корабли были целиком охвачены пламенем, поднялся очень резкий ветер, и греки пустили все эти пылающие корабли, чтобы поджечь флот французов, и ветер быстро погнал их в сторону нашего флота. Когда венецианцы заметили это, они быстро вскочили, забрались на баржи и галеры и потрудились так, что их флот милостью Божьей ни на один миг не соприкоснулся с опасностью. А после этого не прошло и 15 дней, как греки сделали то же самое; и когда венецианцы опять вовремя увидели их, они еще раз двинулись им наперерез и доблестно защитили свой флот от этого пламени, так что он нисколько милостью Божьей не пострадал, кроме одного купеческого корабля, который прибыл туда: он сгорел». Такие вот огненные феерии разыгрывались теперь на морях, и в них могли участвовать суда всех калибров и всех назначений - от дромона до плота. Брандеры, по-видимому, использовались и пиратами (хотя надежных данных нет), причем не только в морских сражениях, но и в местах засад - если, например, величина жертвы оказывалась не по зубам этим морским стервятникам, а аппетит был непомерным. Еще до наступления эпохи Крестовых походов существовали многочисленные по понятиям того времени и подробные описания морских и сухопутных дорог средиземноморских государств. То были прямые наследники античных периплов, а в Новое время они развились в целую систему «бедекеров» - путеводителей для путешествующих самостоятельно - ив хорошо знакомые нам лоции. На всем протяжении деятельности крестоносцев, начиная по крайней мере со времени Ричарда Львиное Сердце, в таких путеводителях указывались не только сами пути и их варианты, не только поведение тех или иных ветров и течений, но также исторические и бытовые сведения, относящиеся к описываемым участкам суши и моря, и продолжительность плавания при сохранении определенной скорости, и места наиболее вероятных пиратских засад, среди которых наиболее часто фигурировали проливы, скалы и узкие бухты. Чтобы миновать их благополучно, морякам рекомендовалось держаться подальше от берега. Но ведь для этого надо уметь надежно ориентироваться в открытом море? Верно. Это умели делать еще античные греки. Разные народы пришли к одному и тому же решению, не удивительно ли? Нет, неудивительно и даже закономерно, потому что путь к этому открытию был один. В Исландии бытует предание об Одди Хель-гасоне - «Звездном Одди», современнике Олава Святого, батраке крестьянина Торда, жившем около 1000 года на северном побережье острова. Этому Одди часто доводилось рыбачить, а что лучше располагает к наблюдениям и размышлениям, чем полная уединенность на маленькой карре! Судя по рассказам, Звездный Одди был человеком незаурядным, он умел не только наблюдать и запоминать, но и делать верные выводы. Вычислить широту по длине полуденной тени было для него сущим пустяком. Да и вообще его астрономические познания не оставляли желать ничего лучшего, а составленными им таблицами движения солнца, луны и звезд, отличающимися поразительной точностью, пользовались все, кому удавалось их заполучить, предпочитая познания простого батрака познаниям ученой братии того времени. У отшельников и монахов той же Ирландии, да и не только ее, досуга было ничуть не меньше, и можем ли мы поручиться, что Одди был явлением исключительным? Просто до нас дошли кое-какие обрывки сведений о нем, и в этом ему повезло чуть больше, чем другим подобным уникумам. Кто знает, не было ли таких Одди и на борту тех, кто находил позднее острова и континенты в океанской пустыне и благополучно возвращался, чтобы рассказать о них? И уж конечно - не только у ирландцев, не только у людей Севера.
 Корабль флотилии Вильгельма Завоевателя, отплытие. Ковер из Байё.
Корабль флотилии Вильгельма Завоевателя, отплытие. Ковер из Байё.
Судить об уникальности Одди - это все равно, что всерьез подсчитывать число гребцов по стилизованным и обобщенным изображениям вроде древнекритских или по ковру из Байё: где-то нечаянно получится и верный результат или близкий к верному - подобно тому как стоящие часы хоть дважды в сутки, но все же показывают правильное время.
Большинство открытий греки сделали на пентекон-терах, ирландцы - на каррах. Арабы, скорее всего, использовали для этих целей, кроме дау, пятидесяти-весельный шат - вероятно, помесь византийского дро-мона и, исходя из названия, арабской шайти. Это был бесспорный потомок пентеконтеры, известный с XI века и применявшийся на всем протяжении эпохи Крестовых походов. Но скорость должна была примерно вдвое превышать скорость пентеконтеры, потому что каждым его веслом управляли двое. Это суденышко совмещало в себе достоинства античной монеры, где количество весел равнялось количеству гребцов, и античной же полиеры, где веслом могли ворочать несколько человек, а в конечном счете явилось предтечей позднесредне-вековой галеры. Вполне возможно, что шат - это чисто гребная разновидность итальянской быстроходной саетты - «стрелы», окончательно оформившаяся, однако, на Балтике, где получила имя скют, скута - «лодка» (по-видимому, от голландского schuit - течь). А сошел он с исторической арены именно тогда, когда в морях Севера формировались флоты нового типа, вобравшие в себя все лучшее, что могли предложить ведущие морские державы того времени, и сотворившие из этого «с мира по нитке» нечто совершенно новое, неслыханное...
ХРОНИКА ШЕСТАЯ,
повествующая о том, как в Море Страха пришел страх моря.
К востоку от Северного лежало еще одно море, мало известное в Европе и довольно долго не имевшее устоявшегося названия. Кажется, первым о нем упомянул греческий путешественник и ученый IV века до н. э. Пифей из Массалии (Марселя). Мы не знаем, как называлось это море в те времена, но римский ученый I века Плиний Старший, рассказывая о путешествии Пифея, употребляет слово Метуо-нис. По-латыни это родительный падеж от «метуо» (страх). Море Страха. Может быть, так его назвали сами римляне? Десятка за два лет до рождения Плиния, в 5 году, «море, о котором до этого никогда не слышали», по словам римского историка Веллея Патеркула, стало известным в Вечном городе. О нем заговорили. Заговорили после того, как туда забрел римский флот. Римские моряки удивленно разглядывали его неприветливые берега, многочисленные острова, песчаные пляжи. Это море называли то Коданским заливом (он дал имя городу Гданьску), то Венетским или Славянским, то Свебским, то Сарматским. Руссы называли его Варяжским, а Адам Бременский, после 1068 года часто бывавший личным гостем датского короля Свена II Эстридсена и черпавший у него географические сведения, впервые дал морю имя, существующее и поныне,- Балтийское.
Благодаря бурной деятельности викингов это море быстро заняло подобающее место в маршрутах европейских торговцев. Со временем на его берегах возникают города, соперничающие с признанными торговыми центрами Севера. Но общая конфигурация Балтики долго еще была покрыта мраком. Ее хорошо знали только пираты. Те же, кто не имел чести принадлежать к их почтенной корпорации, изображали Балтийское море каждый в меру своего разумения, то вытягивая его в широтном направлении, то располагая в меридиональном и нанося известные по слухам заливы в зависимости от своего вкуса и эрудиции, а то и вовсе обходясь без излишних изгибов береговой линии. Это неудивительно. Адам Бременский сообщает, что сразу после заключения мира с датчанами в 1064 году Харальд Суровый, с малолетства склонный к приобретению разнообразных знаний, отплыл с датским военачальником Ганузом, чтобы исследовать «неизведанные просторы» Балтики, но они воротились, «изнуренные и побежденные противными ветрами и пиратами». Бернхард Варен впервые дал более или менее верную картину: «Море балтгёское, пазуха коданская, въ нЪмцахъ несвойственно нарицается cie гостъ зее, из-ходитъ изъ океана, и идетъ между землями между зе-лащиею и островомъ датскимъ, и между готф1ею и между землею шведскою, якоже и между зелащиею и ют-лащиею, первЪе долговатымъ путемъ отъ полунощи къ полудню течетъ, a6ie же въ бокъ пошедши, далечай-шимъ путемъ до страны полунощныя проходитъ... Отъ страны западныя имЪетъ швещю, и лапшю, три пазухи вторые издаетъ (или вторые три отноги морскie), отъ которыхъ двЪ суть продолговаты: си есть: ботнитская и финская. Третья же есть широкая, сирЪчь ливонская. РЪки преславныя величиною cie море въ себе прiемлетъ». С упадком «эпохи викингов» балтийские народы попытались упорядочить свои расплывчатые и зыбкие границы и свое (точно такое же) положение на морских побережьях. Дабы убедиться, что осуществить это не так-то просто, им не понадобилось много времени. Не успевали горожане обнести свое владение стеной, как у этой стены моментально появлялись пираты, прочно и с удобствами обосновывавшиеся во всех пригодных для корабельных стоянок бухтах. Особенно их привлекали укромные острова и шхеры у восточного побережья Ютландии, послужившие в свое время викингам, а теперь гостеприимно принявшие новых хозяев. Здесь обитали славянские племена вагров, руян, пруссов, вильцев, варнов, бодричей (ободритов) и десятки других, то торгующих, то враждующих друг с другом. Постоянные нападения пиратов вынуждали их строить свои города на расстоянии от пяти до пятнадцати километров от береговой черты, как это делали еще греки и римляне. Причина была та же: возможность вовремя заметить нападающих с моря, а при случае - отрезать им пути отступления. Такова, например, история многострадального города Любека, располагавшегося первоначально ближе к морю и отступавшего в глубь побережья после каждого его разрушения пиратами до тех пор, пока он не смог относительно спокойно существовать на реке Траве, где в устье эстуария любекцы и построили наконец свой порт Травемюнде. Такая же судьба постигла многие другие города. Столица лелегов Валеград, город хижан Микилинбор (Мекленбург) и озерный порт ободритов Шверин (славянский Зверин) отступили далеко от моря, и лишь один из них оставил свое некогда блиставшее имя обширной бухте; их интересы на море представляет Висмар - бывший торговый центр бодричей Вишемир. Еще дальше от побережья расположен Ратибор (Рацебург) - столица полабов. В 1043 году, когда датчане уничтожили славянскую морскую базу Энибор (Эмбург), жители решили, что ее восстановление - безнадежное дело, и переселились в северную часть острова Рюген, где на мысе Аркона выстроили новую (около Путгартена), а когда датчане сожгли и ее в 1168 году, возвратились на континент. Жертвой славянских пиратов стал в 1066 году (по другим данным - в 1050-м) датско-фризский Хайта-бю (Хедебю) - центральный складочно-перевалочный пункт товаров Восточной и Западной Европы, «скандинавский Коринф». Пираты грабили и сжигали его до тех пор, пока он не пришел в полный упадок, парализовав торговлю в северном бассейне. Теперь этот город на западном берегу озера Везен-Нор - лишь предмет интересов археологов и туристских бюро Шлезвига. Только город вагров Старгард (Штральзунд) сумел отстоять свое береговое положение.
Картина, сложившаяся в этом районе, отчасти напоминала ту, что была на Черном море в античные времена, когда одни племена пускали ко дну корабли, а другие давали приют их экипажам. «Из островов, обращенных к земле славян,- пишет Адам Бременский,- следует выделить три. Первый из них называется Фемб-ре (Фемарн.- Л. С). Он так расположен напротив области вагров, что его можно различить из Стар-града, так же как остров Лаланд (Лоланн.- А. С). Последний расположен напротив области вильцев, и им владеют руяне - очень отважное славянское племя... Оба эти острова полны пиратов и кровожадных разбойников, не щадящих никого их тех, кто проплывает мимо. Они даже убивают всех пленников, хотя их принято обычно продавать. Третий же остров называется Земландией (Зеландия.- А. С.) и расположен невдалеке от области русов и поляков. На нем живут сембы, или пруссы, очень гуманные и самоотверженные люди, всегда готовые оказать помощь тем, кто оказался в опасности на море или подвергся нападению пиратов». Чтобы защитить свои владения от пиратов, жители островов и материка ставили хитроумные ловушки и заграждения, проявляя при этом незаурядную изобретательность. В узких проходах и в горлах фьордов они затапливали суда, утыкивали дно вбитыми наклонно сваями, протягивали притопленные цепи или толстые канаты. Этим они оказывали неоценимую услугу будущим историкам. В 1920 году рыбаки обнаружили на дне Роскилль-фьорда в Зеландии затопленные суда, набитые камнями и связками хвороста и лежащие так, чтобы, во-первых, защитить фьорд от нагонов волны, а во-вторых, затруднить судоходство в этом районе. В их расположении чувствовалась продуманная система, исключающая всякую случайность. Их было пять. Не эта ли пятерка была, если верить легенде, затоплена по приказу датской королевы Маргариты, дабы положить конец пиратским грабежам? Нет, когда корабли подняли на поверхность,радиоуглеродный анализ определил, что их возраст лет на триста старше. Значит, на одном из этих судов вполне мог быть пассажиром непоседливый Адам Бременский, а затопить их могли описываемые им пруссы. Теперь на берегу Роскилль-фьорда для них выстроен специальный музей, где корабли викингов встали на свою последнюю и на этот раз вечную стоянку. По образцу одного из них была построена знаменитая «Сага Сиглар». Примерно с XII века северная часть пути «из варяг в греки» получила продолжение на запад. Лодьи из Ладожского озера спускались по Неве в Финский залив, брали на острове Котлин лоцмана и шли в Колы-вань (Таллинн), а оттуда - на Готланд, в Ютландию, Германию, Швецию, Финляндию. В наиболее часто посещаемых землях новгородцы основывали по примеру арабов и итальянцев свои торговые представительства. «Гостевые» торговые дворы - готский, немецкий - появились и в самом Новгороде, а от него торговая цепочка тянулась к Киеву, где существовал Новгородский гостиный двор. Западная Европа оказалась перед фактом: русские купцы готовы были стать гегемонами балтийской торговли. Тогда последовали превентивные меры. В 1134 году произошла кровопролитная стычка в Дании. В 1142 году трем русским лодьям пришлось отбиваться от шестидесяти шведских судов - и отбились! Шведским пиратам было в эти годы не до новгородцев: их гораздо больше беспокоили западные славяне, выхватывавшие у них из-под носа самые лакомые куски. Перед лицом общей опасности шведские, датские и норвежские властители тоже готовы были забыть все распри, понимая, что завтра может настать очередь любого из них. Первыми подали благой пример датчане. Не тратя времени на обмен посланиями «на высшем уровне», датские короли стали обращаться непосредственно к тем, кому грозила беда, и, естественно, ожидали того же от них. Эта система стирания сословных граней действовала весьма успешно, хотя случались и накладки. Летом 1136 года датский король Эйрик IV и архиепископ Эцур как равного уведомили Гутхорма, правителя города Конунгахеллы (на месте нынешнего Гёте-борга) о выступлении в поход славянского племени вендов, предводительствуемого Реттибуром и Унибуром. Венды лавиной шли по прибрежным городам, превращая их в руины и пепел и не ведая поражений. Можно было подумать, что снова наступил VIII век и что скандинавы возродились из праха, обратив время вспять. Но так мог подумать только очевидец. Беспечные горожане Конунгахеллы не принадлежали к их числу и потому оставили предупреждение датчан без внимания. Очень скоро им пришлось в этом горько раскаяться. 10 августа пятьсот пятьдесят вендских шнек с сорока четырьмя воинами и парой лошадей на каждой подступили к стенам Конунгахеллы, то ли по нечаянности, то ли намеренно подгадав к окончанию торжественной мессы по случаю дня святого Лавранца. Венды взяли город в кольцо, поднявшись вверх по рукавам реки Гёта-Эльв, обтекавшей город, и высадив конницу. Единственное серьезное сопротивление нападавшим оказали купцы девяти кораблей, готовых отплыть с товарами на восток. Они так отчаянно защищали свое имущество, что, по словам саги, венды потеряли здесь полторы сотни кораблей со всеми людьми. Остальное население Конунгахеллы укрылось тем временем в крепости подожженного разъяренными вендами города. Реттибур предложил им почетную сдачу, но горожане, устыдившись своей недавней трусости, отказались. Началась осада. Несколько раз Реттибур, раздосадованный задержкой, повторял свое предложение - и столько же раз получал прежний ответ. Однако силы были слишком неравны, было ясно, что город обречен. Когда это дошло наконец до осажденных, они согласились сдаться. Но венды, как и следовало ожидать, не сдержали слова, «они взяли в плен всех, мужчин, женщин и детей, и убили многих, всех, кто был ранен и слишком молод или кого им было трудно взять с собой. Они взяли все добро, которое было в крепости... Язычники сожгли церковь и все дома, которые были в крепости». Так повествует сага. Пленных, в том числе около семи тысяч женщин и детей, они продали в рабство сарацинам. За действия пиратов нередко расплачивались их ни в чем не повинные соотечественники, а против тех, кто казался послабее, даже устраивались запоздалые карательные экспедиции: надо же было как-то возмещать убытки. С середины XII века скандинавские короли окончательно перестали различать восток и запад, и за грехи пиратствующих вендов или бодричей все чаще страдали «восточные гости», в коих они могли бы найти отличных торговых партнеров и союзников. В 1157 году новгородские купцы были арестованы в Дании, а их корабли с товарами стали собственностью датской короны. В 1164 году шведы осадили Ладогу (Старая Ладога), но потерпели поражение.
Ободренные успехом руссы в 1178 году разгромили шведские города на территории Финляндии, захватили в плен и казнили епископа, а в 1187 году к берегам Швеции на множестве кораблей подошли из Курляндии куронские пираты (тоже славяне) и, предварительно разграбив, дотла сожгли ее тогдашнюю столицу и богатейший торговый город Сигтуну. В следующем году новгородцев чувствительно пощипали на Готланде и в Швеции. В ответ русские закрыли все свои гавани для шведских и готландских судов и вели торговлю только по южным (славянским) берегам Балтики вплоть до Ютландского полуострова. При новгородском князе Ярославе Владимировиче с Готландом был заключен мирный договор, возобновивший торговые отношения. Необъявленная война продолжалась лишь со Швецией. В 1198 году новгородцы вновь предали огню и мечу шведские поселения в Финляндии, не зная еще, что у них появился новый грозный соперник: в середине XII века немецкие купцы обнаруживают устье янтарной Даугавы, и в 1201 году уроженец Бремена икскюльский епископ Альберт Аппельдернский из рода Буксгевденов закладывает там город Ригу - с 1202 года столицу учрежденного им же ливонского ордена меченосцев. На месте древней Колывани, хорошо известной восточным славянам, меченосцы строят в 1219 году город Ревель - будущий Таллинн («Датская крепость»). В 1270 году весь этот район уже подробно описан в датской лоции. Но к тому времени многосторонний торговый договор, заключенный еще в 1201 году, уже настолько серьезно ущемлял права новгородцев, что германская и скандинавская торговля потеряла всякий смысл, а Ревель и Рига закрыли для них южные берега и прервали все связи с западными славянами. Их интересы вновь, и теперь уже надолго, обратились к морям Ледовитого Севера. После упоминавшегося уже открытия полуострова Канин были открыты острова Колгуев и Вайгач, а по некоторым данным и Новая Земля. Северные мореходы выходили в море на яйцевидных двух- или трехмачтовых парусно-гребных раньшинах грузоподъемностью до сотни тонн. По-видимому, именно на таких судах они в XIII, а по другим данным - в XV веке обнаружили полярный остров Грумант (Шпицбергенский архипелаг) и объявили его владением Московии. Первое документальное свидетельство об этом открытии содержится в письме нюрнбергского картографа Иоганна Мюнцера, отправленном в 1493 году португальскому королю Жуану II. В начале XVI века о плаваниях русских к Груманту доносил датскому королю Христиану II его московский агент. Трем островам Груманта поморы дали свои названия: Западному Шпицбергену - Большой Берун, Северо-Восточной Земле - Полуночная Земля, острову Эдж - Малый Берун. Временное исчезновение с Балтики восточных гостей создало новую расстановку сил в этом бассейне, особенно чувствительную для их западных собратьев. Героическое прошлое балтийских славян все гуще покрывалось патиной времени. Легендами стали штурмы Конунгахеллы и Сигтуны, навеки канули в Лету имена вождей, и достоянием истории стали их подвиги. Новые народы выходили на морскую арену Севера, новые языки зазвучали на балтийских берегах. В 1147 году, когда Людовик VII вместе с немецким королем Конрадом III выступил во Второй крестовый поход на Восток, соотечественники Конрада организовали точно такое же нашествие на север. Его возглавили немецкий рыцарь Альбрехт Медведь (сын Белленштед-тского графа Оттона) и восемнадцатилетний герцог Саксонии и Баварии Генрих Лев, горевшие желанием обратить в святую веру славянских язычников. Оба похода, одинаково начавшиеся, одинаково и закончились - крахом. Людовик и Конрад едва унесли ноги из Леванта, Альбрехт и Генрих вынуждены были заключить со славянами мир: первый - с князем бодричей Никлотом, второй - с князьями лютичей (тоже из клана бодричей) и поморян. Однако несколько лет спустя они все же захватили славянские земли, их население частью перебили, частью христианизировали, а затем заселили немецкими и нидерландскими колонистами. «Славяне везде поражены и подверглись изгнанию. И пришли от края океана сильные и многолюдные племена, которые захватили славянские земли...» - пишет в «Славянской хронике» католический миссионер Гельмольд. Альбрехт обосновался в бывшей столице гаволян Браниборе, захваченном после смерти гаволянского князя Прибыслава в 1150 году, и стал именоваться с тех пор маркграфом Бранденбургским. Генрих чуть позже сделался владельцем территории бодричей между Лабой и Одрой, которые получили теперь новые имена - Эльба и Одер. А примерно в 1160 году пало последнее бодричское княжество на балтийском побережье - Мекленбургское. Несмотря на все старания, Генриху не удалось онемечить до конца свое новое приобретение, если не считать традиционной переделки названия, и мекленбургская великогерцогская династия на всем протяжении своей истории оставалась единственной славянской династией Западной Европы: она вела свой род по прямой линии от Прибыслава - сына Никлота. Узнав о гибели Никлота, сообщает Гель-мольд, его сыновья Прибыслав и Вартислав подожгли последнюю крепость ободритов Вурле «и скрылись в леса, а свои семьи переправили на корабли. Герцог, опустошивший всю землю, начал восстанавливать Зверин и укреплять замок... После этого сыновья Никлота вошли в милость к герцогу, и он отдал им Вурле (на реке Варнов, славянской Варнаве.- А. С.) и всю область». Что же касается столицы Бранденбургского маркграфства - будущей Пруссии,- то ею стал в 1307 году Берлин, слившийся воедино из двух рыбацких деревень на берегу Шпрее (славянской Спревы) - Кёльна и Берлина. В его гербе и сегодня красуется медведь - патрон Альбрехта. Но это будет позже. А пока берега Швеции держат в страхе свевы, на острове Рюген свирепствуют хольм-рюгенцы, переселившиеся сюда еще в V веке во главе со своим вождем Хагеном, вождь племени гломмов Хеден дал свое имя острову Хиддензее, фризы с датчанами совершают самые настоящие крестовые походы на них на всех в 1217 и затем в 1227 году. Добираясь из Польши в Померанию лесом, который еще в первой четверти XII века «не пересек ни один смертный», бамбергский епископ Оттон, «опасаясь разбойничьих налетов, приказал делать зарубки на деревьях и валить стволы, чтобы облегчить путь себе и своему войску»,- свидетельствует немецкий хронист Герборд на рубеже XII и XIII веков. Мало что изменилось с приходом новых хозяев, и можно поручиться, что такое положение сохранялось и столетия спустя. «Пиратство в Северном море,- сетует позднейший коллега Герборда,- а также в других районах у датчан, шведов, норманнов, саксов, вендов, русов, англичан и шотландцев настолько усилилось, что от разбойничьих походов и набегов пиратов никто не был защищен ни на море, ни на суше. И если раньше пиратством занимались отдельные лица, то сейчас морской разбой стал делом целых наций и народов. Так, шведы грабили датчан и русов, датчане и норманны - англичан и саксов, венды - датчан, саксы - англичан и французов...» Война всех против всех явно не способствовала большой торговле. А города между тем росли, и многие из них уже готовы были принять в свои руки бразды балтийской экономики. Это было требование времени. Но им сильно докучали пираты. Гамбург и Любек, правильно оценив обстановку, первые поняли все преимущества норманнских фелагов - торговых сообществ. И они возродили их на новом уровне, объединив свои торговые представительства в Брюгге - сердце фламандской коммерции. Кастовые интересы уже тогда побуждали купечество этих городов защищать свои права не только от пиратов, но и от своих конкурентов из Кёльна, Мюнстера и множества других германских городов, а также с острова Готланд, лежавшего на перекрестье торговых трасс. В 1226 году гамбуржцы выступили соперниками Кёльна и на английском рынке, основав с разрешения Генриха III собственную контору в Лондоне. Весной 1241 года, стремясь обезопасить себя от участившихся нападений пиратов, Любек и Гамбург заключили договор об охране своей торговли, торжественно подписанный в зале любекской ратуши. Первая статья его гласила: «В случае, если против наших или их горожан поднимутся разбойники и иные злые люди, начиная от места впадения в море реки, именуемой Травой, и до Гамбурга, а также по всей Эльбе до моря, и будут чинить на наших и на их горожан вражеские нападения, то мы с ними и они равным образом с нами на одинаковых началах должны будут участвовать в расходах и тратах на уничтожение и искоренение этих разбойников». В 1267 году Любек последовал примеру Гамбурга и открыл в Лондоне свое торговое представительство. С этих пор скандинавам противостояла в северных морях мощная сила, и она еще тысячекратно возрастет через несколько десятков лет. Этот союз портовых городов Балтийского и Северного морей, созданный и направленный против пиратов, стал называться Ганзейским или попросту Ганзой. Готское слово «ганза» означает «толпа», на среднени-жненемецком оно стало означать «союз, товарищество». К моменту образования этого союза на побережье северных морей насчитывалось свыше трех тысяч торговых центров, но раздробленность Германии и междоусобицы ее князей не могли создать условий для безопасной торговли, и набожные немцы последовали древнему хорошо проверенному совету: помогай себе сам, и Бог тебе поможет.
 Купеческое судно на печати Штральзунда XIV века.
Купеческое судно на печати Штральзунда XIV века.
Монополисту германско-английской торговли Кёльну ничего другого не оставалось, как только смириться и примкнуть к этому союзу, возглавляемому купцами вольного города Любека. В 1299 году представители Ростока, Гамбурга, Висмара, Люнебурга и Штральзунда прибыли в Любек, где заключили соглашение, что «впредь не будут обслуживать парусник того купца, который не входит в Ганзу». Ганза стала коллективным монополистом северной торговли, а ее сразу же вошедшие в моду печати городов-участников - знаком гостеприимства и символом власти. Печати Висмара, Дан-вича, Любека, Ростока, Штральзунда дошли до нас в прекрасном состоянии и донесли изображения торговых судов того времени - в основном коггов, отчего их называют также «когговыми печатями». На одной из них, изготовленной в Данциге на рубеже XIII и XIV веков, отчетливо просматриваются «вевлинги» - ванты. Это едва ли не первое их изображение, известное нам сегодня. Одна из основных целей создания этого торгово-военного союза изложена в ряде более ранних постановлений. Еще в начале 1260-х годов будущие ганзейцы решили, что «каждый город по силе возможности защищает море от пиратов и других злоумышленников, так, чтобы торговцы морские могли свободно справлять свою торговлю». В 1265 году последовало уточнение: «Если на морях соберутся пираты, все города должны, сообразно раскладке, производить затраты на уничтожение их». В 1293 году членство в Ганзе оформили двадцать четыре города, а к 1367 году их количество возросло более чем втрое. Торговые представительства ганзейских купцов имелись кроме Лондона в Бергене и Брюгге, Пскове и Венеции, Новгороде и Стокгольме. Ганза устраивала свои великолепные ярмарки в Дублине и Витебске, Плимуте и Познани, Осло и Франкфурте, Праге и Нюрнберге, Амстердаме и Нарве, Варшаве и Вильнюсе, и еще в десятках городов всей Европы. В любом из них можно было купить и продать все, что душе угодно, от колесной мази или вяленой рыбы до самых утонченных и экзотических предметов роскоши Востока, доставляемых итальянскими посредниками. На ганзейских ярмарках фламандские полотна встречались с английской шерстью, аквитанские кожи - с русским медом, кипрская медь - с литовским янтарем, исландская сельдь - с французским сыром, рейнские вина - с египетской пшеницей, венецианское стекло - с багдадскими клинками. Торговля, как и война, стала всеобщей, представление о ее масштабах может дать речь венецианского дожа Томмазо Мочениго, произнесенная в 1420 году: из нее явствует, что товарооборот одной только Венеции в торговле с Ломбардией составлял два миллиона пятьсот сорок семь тысяч дукатов и приносил ежегодный доход купцам не менее шестисот тысяч. Три года спустя он указывал в своем завещании, что оставляет соотечественникам три тысячи триста сорок пять кораблей, готовых плыть, куда им укажут, тридцать шесть тысяч отлично обученных моряков и шесть тысяч искусных корабелов, вытесывающих на верфях, оборудованных по последнему слову техники, морское могущество Венеции. Интенсификация торговли с Венецией и Генуей побудила ганзеицев переместить ее центр из Брюгге в Лисабон. В XIV веке ганзейский флот насчитывал почти тысячу судов, но и их не хватало, и с середины века был возрожден известный еще с античности метод фрахта. Из таможенных документов известно, что в 1386 году из любекского порта вышло восемьсот сорок шесть судов, в следующем году из гамбургского - пятьсот девяносто восемь.
 Венецианская гавань на рубеже XV и XVI веков. Гравюра Джакопо Барбари.
Венецианская гавань на рубеже XV и XVI веков. Гравюра Джакопо Барбари.
8 сентября 1308 года стараниями фламандских и норвежских купцов было отменено полупиратское «береговое право». Владельцы потерпевших крушение кораблей теперь могли спокойно ремонтировать их и подбирать уцелевшее имущество, не отдавая его ни целиком, ни частично какому-нибудь предприимчивому феодалу, вздумавшему объявить своей собственностью приглянувшийся ему участок побережья и на этом основании присвоившему себе право прикарманивать все, что будет выброшено сюда морем. Однако на большинстве побережий «береговое право» осталось и существовало еще многие столетия - дольше всего в Англии, где при Адмиралтействе существовал даже специальный Департамент морских находок. «Все, что находится в море, все, что пошло ко дну, все, что всплывает наверх, все, что прибивает к берегу,- все это собственность генерал-адмирала»,- писал Гюго в «Человеке, который смеется». Нашедший что-либо на побережье или в прибрежных водах и не передавший находку властям приравнивался к рангу «королевских воров» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Образование Ганзы несколько умерило разбойничьи замашки прибрежных феодалов, сковав свободу их действий. Их кошельки начали очень быстро пустеть, и после убийства короля Эрика Клиппинга 22 ноября 1286 года в Дании наступила эпоха смут. Разорившиеся аристократы нередко в это время залезали в долги - ровно настолько, чтобы можно было снарядить корабль и выйти на нем в море, дабы расплатиться с долгами. Для некоторых это был побочный доход, иные сделали его основным. Известен курьезный случай, когда немецкие князья оптом запродали датскому королю... все побережье южной Балтики от Ютландии до Одера. Эта сделка была немногим реальней для датского короля, чем подаренный португальским королем остров Святого Брандана для Луиша Пердигона: балтийское побережье по крайней мере не надо было разыскивать. Неразрешимой оставалась лишь одна мелочь, мучившая в свое время и португальского идальго: как вступить во владение? Ас 1319 года уже и сама Дания отдается в залог по частям всем желающим. За нею последовал полуостров Сконе, проданный Швеции в 1332 году изгнанным датским королем Кристофером И. С 1332 по 1340 год Дания была без короля, в 1346 году новый ее король Вальдемар IV Аттердаг продает Эстонию Тевтонскому ордену, а тот год спустя перепродает ее другому ордену - Ливонскому. Возможно, что на мысль торговать побережьями навели предприимчивых феодалов трагические события 1282 года, когда в результате катастрофического опускания двухсотпятидесятикилометрового участка побережья Северного моря в районе нынешнего Амстердама образовался обширный залив Зёйдер-Зе - «Южное море», в 1932 году разделенный шлюзованной дамбой на два залива - Ваддензе и Эйселмер. Ушли под воду фризские города Нагеле, Энс и несколько других, от материка отделились огромные куски суши, образовавшие цепочку Фризских островов, еще и сейчас меняющих свою конфигурацию. Возможно ли описать, что творилось в то время на море! С начала XIV века Бремен был вынужден закрыть свой порт и откупаться от фризов ежегодной данью в тысячу четыреста марок серебром. Судоходство по Всзеру прекратилось совершенно. Проливы были наглухо перекрыты пиратами. В 1338 году Висмар, Гамбург, Любек и Росток заключают союз с несколькими северогерманскими княжествами, направленный против пиратов, но, как и следовало ожидать, он остался на бумаге (предвидя такой оборот, Бремен не присоединился к этому союзу и оказался прав). Более того, многие германские князья, члены этого союза, вступили в сговор с пиратами и совместно с ними выкачивали деньги из Ганзы, получая недурные дивиденды. Возможно, они делились ими и с германским королем, иначе трудно объяснить издевательский совет Карла IV Люксембургского в ответ на слезную жалобу гамбурж-цев о бесчинствах пиратов на Эльбе - изловить злодеев и привлечь их к суду. С большой долей вероятности можно утверждать, что многие пираты состояли у него на службе в роли каперов - точно так же, как у других европейских монархов, например датских и английских. Этот вид разбоя известен с древнейших времен, а само это слово произошло от латинского capio - завладевать, захватывать. Позднее появились и производные от него - голландско-немецкие kappen (разбойничать на море) и карег (легкое морское судно), французское сарёег (лежать в дрейфе: например, поджидая добычу, то есть, по существу, сидеть в засаде) и другие. Каперство было делом обоюдовыгодным: для короля тем, что он ни гроша не вкладывал в снаряжение судна и, ничем не рискуя, получал доходы, для капера - тем, что он в глазах закона оказывался теперь не просто разбойником с большой дороги, а в некотором роде «государственным служащим» и всегда мог рассчитывать на поддержку своего патрона. Так оно и выходило: когда в 1351 году капер захватил возле Брюгге ганзейский корабль и по требованию Ганзы был привлечен к суду, английский король Эдуард III приказал захватить в качестве заложников ганзейских купцов, торговавших в Лондоне, и дело было быстро улажено. Надо заметить, этот капер, выведя свой корабль в море, рисковал ничуть не меньше, чем его жертва. Во-первых, сам Эдуард был не той фигурой, с коей можно было позволить себе шутки: из хроники Фруас-сара известно, что этот отчаянный монарх - «последний из могикан» - сам промышлял пиратством, самолично совершив однажды беспримерное по дерзости нападение на конвой испанского купеческого каравана. Во-вторых, что тоже немаловажно, в те годы все европейские берега к западу от Ютландии знали только одного хозяина. Точнее - хозяйку, так как их держала в постоянном страхе представительница «слабого пола», и ее нечеловеческая жестокость заставляла содрогаться даже видавших виды пиратов Балтики. После того как в 1343 году (по другим данным - тридцатью годами ранее) в Нанте жертвой клеветы перед королем пал бретонский рыцарь Оливье де Клис-сон и его голова была выставлена для всеобщего устрашения на воротах родного города, его вдова баронесса Жанна де Бовиль (или Бельвиль) с двумя сыновьями вышла в море на снаряженной ею в Англии с ведома и согласия Эдуарда III эскадре из трех кораблей. Добыча не имела для нее особого значения: чтобы купить корабли и набрать команды из самых отъявленных головорезов, каких только ей удалось сыскать, баронесса, наоборот, продала все, что имела, а имела она немало. В течение нескольких лет неуловимая прекрасная дама, мстя за мужа, буквально выжгла все побережье Франции, безжалостно вырезала почти всех его обитателей, не успевших спастись бегством в глубь страны, и методично пускала ко дну все без разбора встречавшиеся ей корабли, не обращая ровно никакого внимания на мольбы о пощаде. Внеся таким образом свой вклад в Столетнюю войну и опустошив побережье сильнее, чем это смогли сделать обе воюющие армии, Жанна исчезла со сцены так же внезапно, как и появилась на ней. Корабельщики долго еще не верили, что можно безнаказанно приблизиться к берегам Франции, где витала зловещая тень пиратствующей баронессы. Из сотен слухов и версий о причинах исчезновения этой фурии, которое считали одной из ее дьявольских уловок, самым правдоподобным было предположение о ее гибели в штормовой Атлантике, куда ее увлекла погоня за каким-нибудь флагом, скорее всего - французским. Несмотря на то, что пиратство становилось делом государственным, Вальдемар IV попытался вести с ним борьбу, установив твердый контроль в проливе Эресунн, однако взимание пошлин с проходящих этим проливом судов вылилось в открытый конфликт с Ганзой. В 1367 году семьдесят семь ганзейских городов объявили Дании войну, закончившуюся 24 мая 1370 года Штраль-зундским миром. Ганза не только получила во владение на пятнадцать лет четыре города на восточном берегу Эресунна, но и право вето на избрание датских королей. В 1376 году с согласия Ганзы регентшей Дании при малолетнем Олаве стала его мать Маргарита - дочь Вальдемара IV и жена норвежского короля Хакона VI. Не желая зависеть от прихотей ганзейских купцов, она очень скоро стала нанимать на службу пиратов западной части Балтики и натравливать их на ганзейские корабли и центры. Больше других начали страдать вендские города Висмар, Любек, Росток и Штральзунд. Дело кончилось тем, что они тоже вошли в соглашение с пиратами, после чего началась борьба за выживание - кто кого. Росток и Висмар быстро обогащались, особенно после того как предоставили пиратам свои порты и рынки, где те преспокойно сбывали награбленное. Не пренебрегали услугами рыцарей моря и другие ганзейские города, а вскоре в пиратских войнах принял участие шведский король Альбрехт Мекленбургский. После двух лет непрерывных грабежей всеми всех определилось наконец соотношение сил. Ганза запросила пощады, предложив Маргарите мир. Он был заключен в 1382 году, но разбойничью карусель, закрученную Маргаритой, не могла уже остановить и она сама, хотя большинство пиратов после заключения мира покинуло западно-балтийские воды, перебазировавшись в район Гданьского залива. Самые стойкие остались. Для борьбы с ними Маргарита вступила в соглашение с Тевтонским орденом, и они совместно учредили по примеру венецианцев нечто вроде морской полиции. Во главе объединенного флота из четырнадцати кораблей был поставлен сконский (по другим данным - штральзундский) горожанин Вульфлам. Но ему приходилось гоняться за собственной тенью. Весной 1389 года Альбрехт был захвачен в плен Маргаритой, ставшей, таким образом, еще и королевой Швеции, а единственный верный королю ганзейский город Стокгольм был осажден датчанами, и его падение грозило отменой привилегий ганзейских купцов. Ганза обратила свои взоры на Готланд, чрезвычайно удобно расположенный по отношению к столице Швеции. И не просчиталась. Уроженец готландского города Висби шведский полуаристократ-полупират и приближенный готландского правителя Эрика, сына Альбрехта, Свейн Стуре предложил ганзейцам свои услуги, с благодарностью ими принятые. Своей базой Стуре сделал родной город, где с незапамятных времен местные корабелы охотно ремонтировали пиратские суда, а жители принимали на хранение добычу. В этом-то древнейшем пиратском гнезде Балтики Свейн Стуре с благословения купцов Висмара и Ростока провозгласил образование витальерского братства. Как Ганза в свое время заменила викингов в балтийской торговле, так в балтийском разбое на смену им пришли витальеры. Пришли с согласия и по поручению Ганзы. Девять ганзейских городов и мекленбургский герцог Иоганн едва успевали подписывать витальерам каперские свидетельства от имени Альбрехта. Сложившаяся ситуация диктовала витальерам два пути помощи Стокгольму - или разгромить датский флот, или помочь шведам выдержать осаду. Стуре избрал второй и на своих легких маневренных суденышках, раз за разом обманывая бдительность датчан, взялся за подвоз продовольствия в осажденный город. От шведского слова viktualier, означающего «продовольствие», и произошел термин «витальеры». В 1392 году, пишет любекский хронист Детмар, «собрался неукротимый народ из разных мест - городские заправилы, горожане из многих городов, ремесленники и крестьяне - и назвали себя братьями-витальерами. Они заявили, что хотят выступить против королевы Дании, чтобы помочь королю Швеции, который был ею пленен». Девиз всеобщего равенства и братства, под которым они шли в бой, снискал им симпатии простонародья, и не без его помощи витальерам удавалось иногда овладеть довольно крупными и хорошо укрепленными городами - такими, как Висмар или Берген. Сожжение в Бергене торгового представительства Ганзы и постоянные нападения на ганзейские суда поставили, однако, это братство вне закона, и с 1392 года оно стало чисто пиратским. Детмар отмечает, что в эти годы «к сожалению, они наводили страх на всем море и на всех купцов: они грабили и своих, и чужих, и от этого сельдь очень подорожала». Висмар и Росток закрыли перед витальерами свои порты и рынки и вскоре первыми познали ярость и жестокость недавних союзников. Но и другим городам доставалось не меньше. Оказавшись перед угрозой разорения, Ганза снарядила против витальеров две экспедиции. Обе они потерпели крах, хотя во второй, организованной в 1394 году, со стороны Ганзы участвовали тридцать пять хорошо оснащенных кораблей с тремя тысячами отборных рыцарей. Угроза стала теперь всеобщей, и в 1395 году Маргарита освободила Альбрехта, надеясь этим шагом хоть немного разрядить обстановку. Но обстановка не разряжалась. Каждый корабль, каждую эскадру все и везде принимали теперь за пиратские, не обращая никакого внимания на флаг. Иногда это приводило к совершенно невероятным курьезам, будто списанным со страниц плохого приключенческого романа. Так, в 1396 году датский флот, высланный «королевой пиратов» Маргаритой из Кальмара в Висби против витальеров, по ошибке вступил в бой с ганзейскими кораблями, тоже свято уверенными, что нарвались на пиратов. Пока моряки обоих флотов добросовестно истребляли друг друга сперва на воде, а потом и на улицах города, витальеры были в каком-то очередном рейде. Возвратившись из него, они с изумлением узнали, что стали единственными властителями моря. Но ганзейские города придерживались иного мнения, они не думали сдаваться. Почти непрерывно они высылали против пиратов одну экспедицию за другой, хотя редко какая из них оказывалась успешной. Наоборот, не в диковину были случаи, когда матросы кораблей-охотников прельщались вольной и сытной жизнью и пополняли собою ряды рыцарей морских дорог. Хроники того времени свидетельствуют, что тюрьмы всех городов были переполнены пленными пиратами и что «палачи не справлялись со своей работой и брали себе помощников», но это не должно вводить в заблуждение: не следует забывать, какие это были города и какие в них были тюрьмы. Экипаж одного захваченного корабля (например капера Мольтке с сотней его молодцов, плененных штральзундцами) вполне мог заполнить собой до отказа несколько таких каталажек. Может быть, именно этим обусловливались нередкие случаи расправы на месте, причем методами, заимствованными из арсенала самих же пиратов: «Жителям Штральзунда удалось захватить один из разбойничьих кораблей. После этого команду заставили также (в ответ на аналогичное действие пиратов.- А. С.) лезть в бочонки. Потом был объявлен приговор, согласно которому, все, торчащее из бочек, должно быть срублено палачом». Живучесть витальеров казалась сверхъестественной в те суеверные времена, и знатоки классической филологии все уверенней производили название братства от латинского «виталис» - жизненный, живой. В июле 1397 года витальеры вдруг вспомнили о богатом городе Стокгольме, выстоявшем с их помощью против датчан. Времена переменились, теперь пираты думали только о добыче, ожидавшей их за стенами шведской столицы. Свейн Стуре, укомплектовав сорок два корабля тысячью двумястами головорезами, двинулся на штурм города. Он несомненно увенчался бы успехом, так как стокгольмский бургомистр Альберт Руссе уже обсуждал с членами городского магистрата условия сдачи. Но неожиданно витальеры получили известие о смерти своего господина и покровителя Эрика, и это удручающее обстоятельство посеяло брожение в головах пиратских вожаков, так как сводило на нет все их каперские свидетельства и превращало в обыкновенных пиратов без всякого прикрытия. Те из них, кто еще не окончательно порвал со своим аристократическим прошлым, заколебались и решили выйти из игры. Это спасло Стокгольм. Но это же и погубило витальеров, ослабленных раздорами. Воспользовавшись тем, что Готланд остался без хозяина, Маргарита сочла момент как нельзя более удобным для захвата Висби. Не доверяя собственным полководческим талантам после трагикомедии 1396 года и не желая понапрасну рисковать, она призвала на помощь крестоносцев. В 1398 году войско рыцарей креста двинулось на Готланд, и это второе появление тевтонов в западной Балтике оказалось роковым для витальеров. 31 марта орденский флот, усиленный ганзейскими и датскими судами и насчитывавший восемь тысяч кораблей с пятью тысячами отборных воинов под командованием магистра Конрада фон Юнгингена бросил якоря южнее города Висби. Однако ни закованные в броню рыцари, ни осадные машины, ни предательство готландцев не помогли тевтонам. После длительной осады магистр вынужден был заключить со Стуре перемирие. По его условиям Готланд «на вечные времена» становился владением ордена, а Стуре и около двух тысяч уцелевших витальеров получали право отбыть на своих кораблях, куда пожелают. Свейн Стуре и некоторые вожаки из аристократов примирились с Маргаритой и стали добропорядочными горожанами, многие витальеры избрали местом своих набегов Ботнический и Финский заливы с устьем Невы. Большая же их часть ретировалась на остров Гельголанд и укрепилась там, нависнув дамокловым мечом над Бременом и Гамбургом. Зараза пиратства распространялась от Невы до Ла-Манша с молниеносной быстротой. «Вольные братства» возникали и лопались одно за другим, и даже современные этим событиям историки становились в тупик, не в силах разобраться, кто есть кто. Их базы были на островах Рюген и Хиддензее, на полуостровах Даре и Сконе, в городах Аурих и Эмден, на побережьях Фризии и Финляндии. Нередко всех пиратов того времени называют ви-тальерами. Но это неверно. Витальеры были лишь самой могущественной и долговечной организацией из сотен других, и именно это обстоятельство обеспечило им место в истории. Уже в 1394 году, когда Ганза организовала вторую экспедицию к Готланду против витальеров, ей пришлось столкнуться на острове Рюген с другим пиратским братством - ликеделерами («равно-дольными»), пиратствовавшими под девизом «Друзья Бога и враги мира». Ликеделеры, как и витальеры, поначалу действовали в союзе с Ганзой и по ее поручению против Англии и Дании, но вскоре тоже вышли из-под контроля и превратились в самостоятельную и грозную силу.
Историки дружно отмечают монастырскую дисциплину на ликеделерских кораблях: вино и азартные игры были у них якобы под запретом, все признаки роскоши и излишеств тщательно преследовались, перед каждым боем все ликеделеры исповедовались корабельному священнику и причащались, малейшие попытки неповиновения грозили им смертной казнью и т. д. и т. п. Что-то из всего этого, по-видимому, соответствует истине, но все вместе - безусловная легенда, и одни факты опровергаются другими, столь же правдоподобными. С суровостью дисциплины плохо согласуются, например, некоторые статьи свода морских законов города Висби XIII века - вроде той, что разрешает ответить на пощечину капитана корабля пощечиной, на удар ударом, на зуботычину зуботычиной. Библейский принцип «око - за око» делал всех равными на борту, и поддержание дисциплины должно было вырасти в проблему. Трудно поверить и в то, что разбойники были равнодушны к деньгам и драгоценностям, а утверждение, будто они изгоняли из своей среды трусов, плохо согласуется с неотвратимостью смертной казни в случае невыполнения приказа. Более правдоподобны, хотя и не бесспорны, другие черты их быта и деятельности: что они оставляли восьмую часть груза добровольно сдавшемуся купцу, а остальной товар доставляли на продажу в порт назначения, указанный тем же купцом, и там сбывали; что они хорошо обращались с пленниками, предоставляя им свободу в ближайшем порту, предварительно обеспечив одеждой и провиантом (так поступали и пруссы, это зафиксировано хронистами); что все, без различия происхождения и корабельной должности, получали равную долю добычи (на то они и были «рав-нодольными»); что если они что-то отбирали у населения для своих нужд, то потом отдавали в возмещение половину добычи. Все это могло быть, хотя и неизвестно, было ли: мы знаем, что ликеделеры грабили одни приморские города и селения и, по примеру фризов, облагали данью другие. Едва ли эти реквизиции шли на удовлетворение нужд первой необходимости, и трудно увязать эти действия с тем, что разбойники брали «взаймы» там, где могли просто взять, да еще потом расплачивались по-царски с теми, кто ничего не осмеливался потребовать. Пираты есть пираты, во все века и у всех народов, и если что-то действительно выделяет ликеделеров из среды себе подобных, так это то, что на первых порах своей деятельности - только на первых! - они воздерживались от грабежей побережий и искренне хотели помочь Ганзе, нападая исключительно на пиратские корабли и отбирая их добычу, чтобы получить часть ее в виде законного приза. Но они быстро сориентировались в обстановке, и за пиратскими кораблями последовали ганзейские (если не было свидетелей), потом английские и датские. Именно к раннему периоду деятельности ликеделеров, когда они выступали как каперы под флагом Ганзы, относится известный эпизод: английский король арестовал несколько ганзейских ког-гов в своих портах и потребовал возмещения убытков, понесенных британскими купцами в балтийских водах. Ликеделеры не дали в обиду своих покровителей и захватили в ответ английские корабли в Гданьском заливе, уравняв тем самым убытки обеих сторон. После изгнания витальеров с Готланда вместе с ними на Гельголанд пришли и ликеделеры, ставшие к тому времени заправскими пиратами. Обосновавшись там, они перерезали важнейшие артерии фризско-англий-ской и фризско-норвежской торговли. Если говорить точнее, их действия были теперь направлены против фризских городов неблагодарной Ганзы, не оценившей в должной мере их услуг. Самих же фризов пираты не трогали, за что и пользовались их покровительством до самого конца XIV века. Фризы встретили полуторатысячную армию балтийских головорезов как родных, как собратьев по почетной и доходной профессии. Ослабление торговли с Англией и Скандинавией мало затронуло их карман: во-первых, многие города регулярно присылали им дань как плату за свою безопасность (Бремен, например, откупился в 1397 году от их нападений десятью тысячами рейнских гульденов); во-вторых, в том муравейнике, состоявшем из бесчисленных враждующих мелких княжеств, каким была тогда Фризия, многие надеялись поправить свои дела руками пришельцев; в-третьих, витальеры и ликеделеры не оставались в долгу за гостеприимство и нейтралитет и аккуратно возмещали все убытки, вольно или невольно причиняемые ими фризам; в-четвертых, Фризия их стараниями сразу выдвинулась на одно из первых мест в Европе как рынок всевозможных товаров.
Словом, фризам не на что было сетовать, выгода была обоюдной. У нового пиратского братства быстро объявились именитые покровители - такие, как эмден-ский пробст (старший пастор) Хиско или графы Конрад II Ольденбургский (его сын сам подался в ликеде-леры) и Кено тен Брок. Лишь после того как связи с Англией и Норвегией прервались совершенно, Ганза решилась отрядить для борьбы с пиратами три с половиной тысячи человек, а 25 июня 1399 года по настоянию Гамбурга ганзейцы созвали экстренный съезд в Любеке, чтобы принять наконец решение о совместной борьбе с пиратством. Присутствовавшая на съезде Маргарита направила целую серию писем фризским князьям и городам с требованием прекратить покровительство ликеделерам. А начиная со следующего года против пиратов были высланы несколько экспедиций, не принесших, впрочем, заметного успеха. Ликеделеры, в отличие от витальеров, происходили в основном из социальных низов. Быть может, упоминание Детмаром среди витальеров «городских заправил, горожан из многих городов, ремесленников и крестьян» ошибочно, и он имел в виду ликеделеров. Среди их вождей особо выделяются полулегендарные фигуры Клауса Штертебекера и Годеке Михеля, Мольтке и Мантейфеля, Вигбольдена и Вихманна. В романах XIX и XX веков их личности окутаны ореолом тайны, хроники XIV-XV столетий сообщают об их исключительной жестокости. С 1394 по 1399 год их именами англичане пугали своих детей. Особенно зловещую славу снискали ликеделеры тем, что пытались установить в своей среде равноправие и, по существу, поставили вне закона всех сколько-нибудь состоятельных граждан любой страны. (Это, впрочем, не помешало Штертебекеру жениться в 1400 году на фризской аристократке, дочери владетельного Кено тен Брока.) Наученная печальным опытом борьбы с виталье-рами, Ганза мечтала покончить с ликеделерами одним ударом. В 1401 году гамбургский сенат решил, что час настал. Весной ганзейский флот в сильном тумане подошел к Гельголанду, гамбуржцы хитростью проникли на корабль Штертебекера и взяли его в плен, набросив сеть. После судебного процесса, растянувшегося на полгода, где пиратам припомнили все их прегрешения, Штертебекер и семьдесят три ликеделера были обезглавлены при большом стечении народа 20 октября на гамбургской площади Кляйнер Грасброк в присутствиибургомистра Николауса Шокке и членов городского магистрата. Теперь эта площадь оказалась на территории разросшегося порта, и на ней красуется мемориал - памятник Клаусу Штертебекеру высотой более двух метров, выполненный мюнхенским скульптором Н. Вагнером. Чуть позже участь Штертебекера и его молодцов разделили доставленные в Гамбург Годеке Михель и Вигбольден с восьмьюдесятью товарищами. Но ликеделеры, даже лишенные вождей, были живучи. Не сумев победить, их пытались приручить. В 1407 году ликеделеры снова на фризской службе в войне против Голландии. В 1426 году они служат голштинскому дворянству, в 1428-м помогают Ганзе одолеть датчан, а в 1438-м - голландцев и зеландцев. Тех, кто не соглашался служить Ганзе, ловили и обезглавливали, остальные же превращались, по существу, из пиратов в каперов. К этому времени относится наибольшее число известных нам каперских патентов, выдаваемых главами европейских государств. После гибели последнего предводителя ликеделеров Ганса Энгельбрехта центр пиратства переместился на Британские острова, Ла-Манш оказался под их контролем. Но в Ла-Манше ликеделерам суждено было столкнуться с мощной конкуренцией со стороны местных пиратов, прежде всего английских.
ХРОНИКА СЕДЬМАЯ,
повествующая о том, как соперничали между собою Ричарды и Эдуарды и как выиграл от этого Генрих.
Как это ни странно, Англия, островная страна, намного позднее обзавелась собственными пиратами, чем другие европейские государства. Мы, правда, не знаем, что творилось на Британских островах до прибытия туда римлян, но некоторые косвенные свидетельства говорят за то, что британцы очень долго не помышляли о власти над морем. Их легкие суденышки, детально описанные Цезарем, не удалялись от берега дальше, чем это требовалось для того, чтобы обеспечить их владельцам приличный улов. Бриттов не знали в Европе даже понаслышке. Их собственные легенды тоже повествуют в основном об отражении пиратских нападений извне, как это бывало, например, при короле Артуре. После прихода римлян положение на островах круто изменилось. При императоре Диоклетиане была предпринята первая известная нам попытка установить при помощи флота контроль над побережьем Британии. Но это был римский флот, а командовал им юный галл из племени менапиев, обитавшего в междуречье Шельды и Рейна примерно в районе Северного Брабанта. Этого галла звали Караузий. Выходец из простонародья, на службе у римлян он отличился во многих сражениях и однажды предстал перед сенатом с не совсем обычной просьбой. Это была, по существу, даже не просьба, а предложение заключить сделку: Караузий, повествует английский летописец Гальфрид Монмутский, «обратился с ходатайством разрешить ему, неся на кораблях дозорную службу, охранять от набегов чужестранцев морское побережье Британии. Он сулил, что, если ему будет это дозволено, он добудет столько добра и богатств, что римское государство приобретет от этого много больше, чем если бы ему было отдано все королевство Британия». Совершенно ясно, как и где Караузий намеревался добывать богатства, превышающие все, что способны были умельцы-римляне выкачать из всей Британии. Во всяком случае, не в Британии. Сделка была заключена по всей форме. Караузий возвратился из Рима «с указами за подобающими печатями» - каперскими свидетельствами и принялся от имени римского сената собирать подходящие корабли и вербовать команды из всяческого сброда, именуемого Гальфридом «горячими и доблестными юношами». Сколотив внушительную эскадру, Караузий с этими юношами обошел на кораблях все побережье Британии, «по пути он подходил к близлежащим островам, опустошал на них нивы, разорял города и поселки, отбирал у жителей все их достояние. И так как он занимался всем этим, к нему во множестве стекались любители поживиться чужим, и вскоре его войско стало настолько значительным, что никакой соседний властитель не мог бы перед ним устоять». И лишь после этого Караузий выложил карты на стол: он обещал римскому сенату избавить Британию от засилья чужестранцев, и он сделает это - он избавит Британию от римлян! В 287 году Караузий убил римского наместника, щедрыми посулами переманил на свою сторону часть римских легионеров, так что остальные «перестали понимать, кто их соратник, кто враг, поспешно рассеялись, и победа досталась Кара-узию». Сметливый галл провозгласил себя императором Рима и Британии под именем Цезарь Марк Аврелий Мавзей Валерий Караузий Август и оставался им до 293 года, пока не был убит своим собственным полководцем Аллектом, подкупленным сенатом. Поскольку Караузий все же не был британцем, да и не столько он пиратствовал, сколько каперство-вал, то считается, что традиции английского пиратства заложил в 1205 году с благословения Иоанна Безземельного беглый монах Ойстас, известный под кличкой Бич Пролива. Однако в 1212 году Иоанн, выдавший Ойстасу карт-бланш на грабежи французских судов и возмущенный не столько бесконечными жалобами на захваты судов английских, сколько тем, что обнаглевший монах перестал отдавать ему «королевскую долю», отказал ему в продлении каперского свидетельства, и отставной монах не долго думая возглавил французский флот, щипавший берега Альбиона. Лишь в 1217 году англичанам удалось изловить Ойстаса и вздернуть на рее его собственного корабля. В 1216 году английский трон занял Генрих III Плантагенет, и с этого времени в течение более чем ста лет местные пираты не давали о себе знать: Британия строила военный флот, чтобы стать владычицей окрестных вод. Но после смерти «короля морей» Эдуарда II в 1327 году пиратство у английских берегов расцвело столь пышно, что британские купцы вынуждены были создать у себя подобие Ганзы: города Хастингс, Дувр, Ромней, Сэндвич и Хаит объединились в Лигу пяти портов. Позднее к ним присоединились города Рай и Уинчелси. Это объединение стали вскоре называть Лондонской Ганзой. Собственно, организация под таким названием возникла еще в XIII веке в Брюгге. Но в то время название этого объединения свидетельствовало не столько о его «национальности», сколько о сфере торговых устремлений, хотя английский двор рассматривал Фландрию как свою собственность и из хроники Фруас-сара известно, что во время Столетней войны «король Англии запер все морские проходы и не пропускал ничего во Фландрию, а особенно шерсть и овечьи шкуры. Этим все страны Фландрии были глубоко поражены, так как суконное производство - главный предмет, которым они живут, и было уже много разорившихся благородных людей и богатых купцов». Выражение «все страны Фландрии», между прочим, свидетельствует о том, что в XIV веке, когда Фруассар писал эти строки, понятие Фландрия было шире, чем впоследствии. Поскольку Англия была главным торговым конкурентом местных купцов, особенно в части шерстяного производства, то понятие «Лондонская Ганза» очень легко перешло на протекционистскую Лигу пяти портов.
 Одно из первых изображений английского корабля с навесным рулем. Собор в Винчестере.
Одно из первых изображений английского корабля с навесным рулем. Собор в Винчестере.
На средства Лондонской Ганзы была создана полицейская флотилия - специально для борьбы с пиратством, а в 1360 году не без хлопот Лиги в Лондоне учредили Высший адмиралтейский суд для разбирательств преступлений на море. После того как пираты, высадившиеся в один прекрасный день на побережье Восточного Суссекса, разгромили в пух и прах Уин-челси, особым королевским указом в Англии на всех ее побережьях была введена должность «наблюдателя пиратов», уцелевшая до наших дней. Занимающие эту должность лица обязаны в течение всего светлого времени суток следить за морем, дабы загодя усечь подплывающих злодеев и оповестить власти. В 1340 году Англия сделала первую попытку стать владычицей морей: в союзе с Фландрией она уничтожила французский флот в устье Шельды. После этого парижанам и тевтонам ничего иного не оставалось, как обзавестись собственной Ганзой, и с 1358 года первоначальная Ганза во избежание путаницы стала называться Германской или Немецкой. (По другим данным, название «Германская Ганза» впервые появилось в 1356 году. Впоследствии она распалась на четыре «четверти» - вендскую во главе с Любеком, прусско-лифляндскую во главе с Данцигом, саксонскую во главе с Брауншвейгом и прирейнскую во главе с Кёльном. Этот распад знаменовал собою закат Ганзы. После закрытия в 1494 году немецкого двора в Новгороде она лишилась значительной части восточных товаров. Затем последовали потери одного рынка за другим, особенно чувствительным было отпадение фламандского и английского. В 1669 году Германская Ганза прекратила свое существование, но фактический ее закат наступил еще в середине XVI века.) И все же, несмотря на все меры, предпринимаемые для охраны коммерции, многие купцы, компании и города в обход законов предпочитали личные соглашения с пиратами: помощь в обмен на безопасность. Каждый купец или шкипер всегда мог быть уверен, что, скажем, если пират Уильям Кайд имел «постоянную прописку» в Эксмуте, то Клея Стивена всегда можно было разыскать в Портсмуте. Учреждение суда мало исправило дело, и уж вовсе он себя скомпрометировал, когда выяснилось, что один из судей, Джон Хоули, член парламента, адмирал западного побережья, заместитель командующего королевским флотом, королевский комиссар по борьбе с пиратством (таков был его официальный титул),- что этот почтенный человек сам грабил и захватывал корабли, в том числе и английские! Это было неудивительно: Лига с самого начала получила право задерживать в английских водах все не принадлежавшие ей корабли, обыскивать их и конфисковывать любой груз, казавшийся подозрительным. Нечего и говорить, насколько широко капитаны Лиги трактовали эти полномочия и пользовались ими. Не был чужд человеческих слабостей и Джон Хоули. Когда летом 1399 года французские пираты напали на его родной город Дартмут и разграбили его, Хоули обратился к Ричарду II Плантагенету за разрешением на ответную акцию. Разрешение было легко получено, и Хоули, собрав все корабли, какие смог обнаружить в дартмутском порту, взял курс на континент. Дебют его оказался удачным: он возвратился в Англию с тридцатью четырьмя французскими кораблями, захваченными у берегов Нормандии и Бретани. История умалчивает о том, были ли это пиратские корабли и все ли они доподлинно принадлежали французам. Умалчивает она и о роли Джона Хоули в последовавшем почти сразу после его возвращения государственном перевороте: именно в эти дни в Англию вернулся изгнанный Ричардом двоюродный его брат герцог Ланкастер и возглавил мятеж на севере страны. Тот факт, что после воцарения герцога под именем Генриха IV и заточения последнего Плантагенета в замок Понтефракт, или Помфрет, близ Уэйкфилда 30 сентября, где он умер четыре месяца спустя при невыясненных, но весьма странных обстоятельствах, а также то, что на Джона Хоули внезапно пролился золотой дождь,- все это может кое-что прояснить в этой истории. С первых же дней своего правления Генрих сделал его адмиралом, членом парламента и прочая, и прочая. Спрашивается - за что? Ведь фамилия Хоули никогда не значилась в книге английских пэров. И о каких «заслугах перед страной» говорится в королевском указе? О единственном полупиратском рейде к берегам Франции с патентом Ричарда в кармане? Едва ли это было таким уж выдающимся событием для того беспокойного времени. Все это очень загадочно. Но, как бы там ни было, Хоули с этих пор поправлял свои дела на вполне законном основании. Под прикрытием своих титулов и патентов он собрал, например, в 1403 году корабли Дартмута, Плимута и Бристоля и с ними захватил в Бискайском заливе семь генуэзских и испанских «купцов». Не исключено, что в этом бискайском рейде участвовал и некто Гарри Пэй из города Пула, тоже расположенного на южном побережье Англии немного восточнее Дартмута: Бискайский залив был излюбленным местом его действий, и как раз в это время Гарри грабил его берега, особенно досаждая испанцам. После того как он обчистил несколько кораблей его католического высочества, а затем, высадившись в Нормандии, украл дорогое распятие в прибрежной церкви, числившееся к тому же среди особо почитаемых реликвий, терпение испанцев истощилось. Не сумев дотянуться до самого Пэя, они совместно с французами сожгли его родной город. Тогда Пэй, вероятно не без содействия Хоули, заручился поддержкой закона и стал капером в составе королевского флота под командованием лорда-адмирала Томаса Бэркли. В 1406 году он для начала свел счеты с французами, захватив со своими пятнадцатью кораблями сто двадцать французских (это событие англичане внесли в свои анналы как выдающуюся победу в Столетней войне), а затем снова переключился на испанцев, передоверив грабежи Франции «молодцам из Фауэя» - портового города в Корнуэлле. Однако звезда фауэйских пиратов померкла, не успев как следует разгореться. Ко времени их выхода на морскую арену обстановка в Ла-Манше заметно изменилась, как, впрочем, и в самой Англии. Нельзя сказать, что, низложив Ричарда, Генрих завладел британской короной. Он ее только примерил. «Не стоит царствовать, когда престол непрочен под тобой»,- сказал Шекспир. Генрих считал - стоит. Но ему мешал... покойный Ричард. По всей Англии бродили слухи о его чудесном вызволении, и по всей Англии в подтверждение этих слухов то там, то здесь объявлялись люди, выдававшие себя за последнего Плантагенета и, естественно, претендовавшие на английский трон. И все они рано или поздно оказывались во главе разбойничьих отрядов или пиратских флотов. Борьба с лжеричардами занимала все мысли Ланкастера. А это означало и борьбу с пиратством. Чуть ли не с первых дней своего водворения в Тауэре (до XVI века он служил не только тюрьмой, но и королевским дворцом), когда гамбургские купцы все еще вылавливали на Гельголанде последних ликеделеров, Генрих заключил соглашение с Испанией и Францией об отказе прибегать к услугам рыцарей моря и о совместной борьбе против них. Однако это привело лишь к тому, что английские пираты стали теперь совершенно безнаказанно орудовать только в беззащитных английских водах, поскольку королевский флот превратился к тому времени в фикцию и почти целиком стал пиратским. Тогда Генрих попытался стравливать разбойников друг с другом, выдавая одним каперские свидетельства на ловлю других, а всем желающим - против их всех. Но это привело к такому взрыву разбоя на море и на побережьях, что ни один англичанин не мог теперь знать наверняка, кто сидит с ним за одним столом в таверне. Генрих V попытался было изменить положение вещей, но двумя годами позже возобновил практику своего предшественника. Королевская власть становится в Англии все более и более призрачной. Сами короли этого еще не понимают, они царствуют. Царствуют, но не управляют. Бразды государственного правления берут в свои руки рыцари. Берут исподволь, настолько ненавязчиво, что трудно определить ту грань, за которой короли превратились не более чем в жителей Тауэра (а иногда и узников). По-видимому, это случилось в конце царствования Генриха V. С этого времени история Англии стала делаться далеко от Лондона. В Лондоне теперь «делали» только королей.
Имена Ричардов и Эдуардов сменяются на страницах английских хроник, как в калейдоскопе, но вместо фамилии Ланкастер или наряду с ней все чаще начинает мелькать другая. Мы напрасно стали бы искать ее в перечне пиратских капитанов того времени, но она частенько попадается в списках их клиентов, пожелавших воспользоваться услугами рыцарей морских дорог. Обладатели этой фамилии и сами были рыцарями, она фигурирует еще и в придворных хрониках. Наконец, ее можно отыскать на современной географической карте. В самом сердце Англии, на полпути между родиной Шекспира Стратфордом и многострадальным Ковентри, возвышается двенадцатиметровая скала, увенчанная своеобразной зубчатой «короной» - белокаменным средневековым замком, чья причудливая архитектура и зловещая слава вот уже много столетий привлекают толпы путешественников. Это владение графов Уорвиков - древнейшего рода, снискавшего громкую и до некоторой степени скандальную известность в истории двух великих королевств - Англии и Франции. Вниманию туристов здесь предлагаются обширная картинная галерея, замечательная оружейная палата и уникальная ваза, найденная в окрестностях Тиволи и доставленная в Англию. Гиды при этом не забывают упомянуть, что город Уорвик - место рождения знаменитого писателя и поэта XIX века Вальтера Сэвиджа Лендора и что чуть севернее расположен городок Кенильворт, прославленный одноименным романом тезки Лендора - сэра Вальтера Скотта. Родословная Уорвиков с надлежащими комментариями была впервые составлена хронистом Джоном де ла Рузом на латинском и английском языках по приказанию Ричарда III. Но ее следует признать полулегендарной (поскольку де ла Руз был священником) и официозной (поскольку он был еще и герцогом). Закреплению легенды способствовал и Шекспир, вероятно, пользовавшийся хроникой Руза при сочинении своих трагедий. После установления абсолютизма Генриха VIII история Уорвиков забывается настолько добросовестно, что житель конца XVII века Урс - герой романа Гюго «Человек, который смеется» - делает на стенке своего возка под рубрикой «Утешение, которым должны
довольствоваться те, кто ничего не имеет» более чем лаконичную запись: «Эдуард Рич, граф Уорвик и Холленд - собственник замка Уорвик-Касл, где камины топят целыми дубами». Это было единственное, что помнили об Уорвиках в эпоху Стюартов. Определяющую роль в этом сыграли политические мотивы. А между тем история Уорвиков достойна пера лучших романистов. Первым обладателем этого титула считается сэр Хью, один из участников веселых застолий короля Артура. Впрочем, в стихотворном фольклорном романе о нем, сочиненном в XIII столетии, и в позднейших продолжениях и пересказах этого романа, принадлежавших Рейнбруну и Лидгейту, приводится иная версия: сэр Хью был всего лишь кравчим у графа Уор-вика, но впоследствии он женился на графской дочери и был возведен в рыцарское достоинство. Как видим, подлинная история рода Уорвиков теряется во мгле веков, но этого нельзя сказать об их фамильном владении. Время постройки замка известно совершенно точно: XI век, эпоха Вильгельма Завоевателя. В последней четверти того же столетия владельцем замка и впридачу к нему титула становится родственник Вильгельма - Генри де Ньюбург (он же - Белломонт), оказавший немало важных услуг своему покровителю. Однако один из его не слишком отдаленных потомков оказывается бездетным, и его имение и титул переходят к представителю материнской линии рода - Уильяму Бошану (или Бошампу). Именно один из Бошанов - Ричард - впервые прославил имя графов Уорвиков. В 1414 году Генрих V поручает ему представительствовать от имени Англии на вселенском соборе в Констанце, уравняв его таким образом в правах с императором Священной Римской империи Сигиз-мундом и с высшим католическим духовенством. Собор длился четыре года. Когда интерес к нему начал остывать, его подогрели двумя кострами, на которых во славу Божью сожгли Яна Гуса и Иеронима Пражского. Инициатором был Сигизмунд, но это ничуть не умаляет роли Уорвика. Дабы отвлечься от государственных забот и доказать, что англичане владеют мечом отнюдь не хуже, чем тонкостями юриспруденции, Ричард принимает в 1417 году участие в рыцарском турнире близ Кале, где квартировал его гарнизон. В этом гарнизоне служил тогда с одним конным и двумя пешими солдатами его вассал, норманн по происхождению, сын уорвикширского шерифа и члена парламента Джона Мэлори - Томас, чья судьба на протяжении всей его жизни была настолько тесно переплетена с судьбой Уорвиков, что кое-кто высказывал даже предположение об их родстве. Подвиги Бошана побудили Томаса сравнить своего патрона ни много ни мало как с королем Артуром, чье имя к этому времени уже прочно обросло легендами. Мэлори как раз задумал собрать воедино все, что ему было известно об Артуре, а удручающую нехватку материала возмещал описанием современных ему событий, стилизуя их под рыцарскую старину в меру своего разумения. Артур в изображении Мэлори живо напоминал его читателям Генриха V, а Ричарда Бошана он вывел на страницах нарождающегося романа под именем сэра Гарета Оркнейского - Рыцаря-Меняющего-Цвета. Тройная победа Бошана на этом турнире, каждый раз появлявшегося на ристалище в новых доспехах, засвидетельствована и хроникой Руза, друга Томаса. Надо полагать, Бошан с блеском справился с поручением короля, ибо короткое время спустя его имя фигурирует в плеяде имен высших английских военачальников периода Столетней войны, а позднее британский граф назначается комендантом Руана и потом регентом не принадлежавшей английской короне Франции (хотя девятимесячный младенец Генрих VI короновался в сентябре 1422 года в оккупированном Париже). В должности коменданта Руана граф пошел по стопам Сигизмунда, санкционировав в мае 1431 года сожжение Жанны д'Арк. Спустя восемь лет он отошел в лучший мир в том же самом городе, так и не дождавшись внуков. Сын Ричарда Бошана Генрих оказался последним представителем этой ветви. Новыми обладателями замка и титула графов Уорвиков становятся отдаленные родичи Бошанов - Невиллы, и один из их представителей сумел возродить угасшую было славу рода. Если Ричарда Уорви-ка-Бошана можно назвать правой рукой английских монархов, то его тезка Ричард Уорвик-Невилл прочно занял место в истории как их «делатель».
 Корабли XV века того времени.
Корабли XV века того времени.
19 октября 1453 года закончилась Столетняя война, не принесшая ни почета английскому оружию, ни выгоды государству. Два года спустя Англию охватила тридцатилетняя гражданская война, известная как война Алой и Белой роз. Дрались две ветви одного генеалогического ствола, подтачивая здоровье самого дерева. После шести лет кровопролития на престоле утвердилась Йоркская династия в лице Эдуарда IV. Воцарению Эдуарда предшествовали события, где центральной фигурой стал граф Уорвик. Остров был в пиратском кольце, и среди этой публики слышалась не только английская речь. К его берегам устремились рыцари удачи всей Европы, привлеченные запахом поживы. Томас Мэлори, не принадлежавший к числу тонких знатоков морского ремесла и по обыкновению переносивший современные ему события в эпоху короля Артура, не раз упоминает о прибытии в Англию заморских «рыцарей» и как самые заурядные типы кораблей у британских берегов называет «большие каракки, и бревенчатые барки, и галеоны, и благородные спиннеты, и галеры, и галеоты, со многими гребцами». Столь подробное перечисление средиземноморских типов судов, мореходных и вместительных, наводит на грустные размышления. Впрочем, и на суше было не лучше. История крупнейшего королевства Европы напоминает в этот период уголовную хронику. Англия, по образному определению Шекспира, превращается в живодерню. Страной все еще правит Генрих VI Ланкастер - безвольный и слабоумный. Правит номинально. Фактические хозяева страны - разбойники, пираты да еще группировка придворных рыцарей, пекущаяся не столько о государственных интересах, сколько о своих собственных.
Однако в Англии слишком много герцогов, удовлетворить интересы всех физически невозможно. Одному из них - Ричарду Йоркскому пришлись особенно не по душе чрезмерные притязания сторонников Ланкастеров. Он начал собирать под свои знамена многочисленных вассалов и щедрыми посулами привлек на свою сторону всю Ирландию. Единомышленники Ричарда при королевском дворе сумели добиться его назначения лордом-протектором (регентом), и это окончательно развязало ему руки. Перед ним замаячила корона. Решающая битва произошла 22 мая 1455 года у города Сент-Олбанс. Богом этого сражения (и злым гением Ланкастеров) стал двадцатисемилетний сэр Ричард Невилл, граф Уорвик, старший сын графа Солсбери. В этой сече, по-видимому, участвовал и Томас Мэлори, возвратившийся в Англию после смерти Бошана и в 1445 году уже представлявший графство в парламенте по поручению нового патрона. Но довольно скоро сэра Томаса всецело поглотила деятельность иного рода, успешно совмещаемая с военной и литературной: в его «послужном списке» за 1450-1468 годы - грабеж на большой дороге, кража со взломом, угон скота, насилие над женщиной, разорение монастырской собственности, неоплаченный долг и много чего еще, в том числе два дерзких побега из тюрьмы. Словом, этот забияка был именно тем человеком, в каком нуждался всякий уважающий себя сюзерен. Уорвик как мог выручал верного вассала, то и дело беря его на поруки, а в 1456 году, играя на его военных заслугах, даже сумел добиться вторичного его избрания в парламент, но собственные хлопоты захватили Уорвика с головой, ему стало некогда уделять должное внимание лихому рыцарю, и Мэлори утешался тем, что грезил за тюремной решеткой о славных временах Артура, наделял персонажей своего романа чертами горячо любимого патрона и, когда совсем уже становилось невмоготу, заканчивал главы сентенциями вроде: «Эту книгу изложил рыцарь-узник Томас Мэлори, да пошлет ему Бог благополучное вызволение». Или: «А я прошу всех тех, кто прочтет эту повесть, помолиться за написавшего ее, дабы послал ему Господь поспешное и скорое освобождение». Весь свой увесистый роман Мэлори написал, сидя в тюрьмах.
Пока он лил слезы в камере над страданиями прекрасных дам и не менее прекрасных сэров, сэр Ричард с головой ушел в борьбу партий. Ему, как никому другому, было известно, что исход одной баталии, даже самой кровавой, не решает исхода династической войны. Лордам Алой розы удалось перегруппировать свои силы и добиться переизбрания лорда-протектора, превратив этим Ричарда Йорка в частное лицо, а его мечту о короне - в навязчивую идею. В 1459 году военные действия развернулись почти во всех графствах, а год спустя Ричард Уорвик смог наконец материализовать грезы своего сеньора. Весной 1460 года он двинулся со своими отрядами из Кента в Уорвик, но у порога родного дома, близ города Нортгемптон, его поджидали королевские рати, возглавляемые лично его величеством. Это была армия львов, предводительствуемая бараном. Уорвик наголову разгромил алых рыцарей, пленил Генриха VI и продиктовал условия мирного договора, важнейшим из которых было провозглашение Ричарда Йорка законным наследником короны. Ричард Йоркский стал первым королем, «сделанным» Ричардом Уорвиком. Но ему так и не суждено было царствовать. Жена Генриха Маргарита Анжуйская (француженка по происхождению) и его лишенный престола сын Эдуард, прослышав об исходе сражения, бежали в Шотландию, где тогда царствовал Яков II. Яков снабдил беглецов необходимыми средствами, давшими им возможность быстро навербовать в Шотландии и северных (проланкастерских) графствах Англии достаточную армию. Достаточную, по крайней мере, для того, чтобы 31 декабря дать бой узурпатору. На этот раз йоркцам пришлось столкнуться с армией львов, предводительствуемой смертельно раненной львицей. В битве при Уэйкфилде войска Ричарда Йоркского были уничтожены, сам он убит, а граф Солсбери попал в плен и вскоре погиб на плахе. Уорвику и Мэлори удалось бежать. Досадная неудача отнюдь не смутила Уорвика. Он собирает новую армию, заставляет ее присягнуть старшему сыну герцога Йоркского, именуемому им отныне королем Эдуардом IV, и выступает против правительственных войск. (Впрочем, с этого момента трудно судить, чьи войска следует признать правительственными.) Вслед за незначительным поражением армия Уорвика взяла блестящий реванш 29 марта 1461 года при Тоутоне. После этой битвы, где участвовало около пятидесяти тысяч англичан, Генрих VI был низложен и нашел себе убежище в Шотландии, Маргарита и ее сын Эдуард бежали во Францию, а Ланкастерская династия уступила место Йоркской. Последние прибежища ланкастерцев - замки Бэмбург и Олнвик в Нортумберленде Уорвик взял приступом в 1462-1463 годах при деятельном участии Томаса Мэлори, ненадолго освободившегося из очередного заключения и не забывшего упомянуть эти крепости на страницах своего романа во время следующего, слегка переиначив их названия. Насколько бескорыстен был милорд Уорвик, столь усердно завоевывая трон для равных ему по происхождению Йорков? Конечно, династические права Йорков были намного бесспорнее прав Уорвиков даже до назначения Ричарда Йорка наследником Генриха. Однако нельзя объяснять действия Уорвика одной лишь рыцарской верностью своему государю, столь трогательно воспетой в средневековом эпосе. Это качество никогда не было модным в патрицианских кругах, а особенно - в то смутное время, когда практически любая аристократическая фамилия имела шансы стать первой между равными. Вывод может быть только один: последовательно отстаивая законные династические права Йорков, Уорвик добывал корону самому себе. Каждое выигранное сражение он рассматривал как ступеньку, а конечную победу Йорков - как прочный трамплин для решающего прыжка на трон. Дальнейший ход событий подтвердит это предположение. Второй король, «сделанный» Уорвиком, оказался строптивым сюзереном. Он желал царствовать, а не выполнять капризы графа. Чтобы хоть на время развязать себе руки и избавиться от докучливой опеки Уорвика, он отослал его во Францию с поручением высватать себе француженку-жену, а сам тем временем усердно занялся обольщением леди Элизабет Грей. Граф, надо прямо сказать, очутился в довольно глупом положении. Чаша терпения Уорвика переполнилась, когда Эдуард спутал его планы, выдав свою сестру Маргариту за бургундского герцога Карла. Этого герцога потом назовут Смелым, но в то время он еще только дожидался престола. Уорвик стал всерьез подумывать о том, что Эдуард составил бы прекрасную пару Генриху VI, снова взятому в плен в 1465 году и теперь томившемуся в одной из башен привычного ко всему Тауэра. Но время еще не приспело. В пику Эдуарду Уор-вик заключил союз со злейшим врагом Карла - французским королем Людовиком XI, а свою старшую дочь Изабеллу выдал за младшего брата Эдуарда, давно уже с нежностью поглядывавшего на английскую корону,- герцога Кларенса. Родственные узы с королевской фамилией заметно повысили акции Уорви-ка и еще на один шаг приблизили его к роли лидера в среде пэров. Теперь переполняется чаша терпения Эдуарда. В благородном семействе разражается скандал. В 1468 году Эдуард объявляет амнистию всем своим противникам. Из списка он твердой рукой вычеркивает имена Уорвика и его верного Мэлори. Уорвик узнает о готовящемся против него указе и бросается под крылышко своего новообретенного союзника - Людовика. Король французов в надежде на будущий альянс с Англией помогает ему не только снискать расположение Маргариты (соломенной вдовы Генриха VI), но и устроить брак ее сына Эдуарда со второй дочерью Уорвика - Анной. Породнившись сразу с двумя королевскими фамилиями и укрепив свои позиции при дворе Людовика, Уорвик решил, что его пребывание во Франции чрезмерно затянулось, и стал размышлять о пользе свержения неблагодарного Йорка и реставрации Ланкастера. Белые розы перестали нравиться Уорвику. Розы должны быть алыми - все остальные цвета противоестественны. Момент был благоприятным. Прежде всего - леди Элизабет Грей. Эта дама непреклонно отмела все посягательства короля на свою честь, недвусмысленно заявив ему: «Всё - или ничего». Эдуард не любил отступаться от задуманного, он заключил с нею тайный брак. Это стоило ему короны. Во всяком случае, таков был повод. Причина крылась глубже. Политика Эдуарда IV, стремившегося к абсолютизму, отшатнула от него многих представителей спесивой английской знати, не желавшей терять ни крохи своих рыцарских привилегий. В северных графствах перегруппировывали свои силы все еще многочисленные сторонники Ланкастеров, стремившиеся найти политическую опору в танах (вождях) пограничных шотландских кланов. Подготовив через своих лазутчиков восстание крупных феодалов на севере страны (на его подавление король отбыл самолично) и заручившись поддержкой герцога Кларенса, Уорвик погрузил наемное войско на одну из пиратских эскадр, в ожидании настоящего дельца пощипывавших побережье собственной страны, высадился в Англии и 6 октября 1470 года с ходу занял Лондон, отдав его на разграбление пиратам и наемникам. Эдуард IV срочно ретировался в Бургундию под защиту своего зятя, прихватив с собою лондонского лорд-мэра. Внезапно осиротевшим англичанам Уорвик вернул прежнего короля - своего тестя, которого он пять лет назад бросил в Тауэр, а теперь провозгласил единственно законным монархом. Ну а поскольку король все-таки был слабоумным, Уорвик заодно назначил себя лордом-протектором Англии с титулом «заместитель короля». В эти дни он как никогда был близок к осуществлению своих замыслов: Эдуард вместе с лорд-мэром угодили у побережья Нидерландов в плен к знаменитому каперу того времени Паулю Бенеке, командующему военно-пиратским флотом Германской Ганзы. Он пленил их лично на своем «Петере Данцигском», но вскоре они были выкуплены за сумму, несомненно соответствующую их достоинству. Поэтому Уорвику пришлось и дальше довольствоваться ролью «заместителя». В этой должности сэр Ричард пробыл ровно полгода. Властный и капризный, он быстро растерял вчерашних сторонников и приобрел смертельного врага в лице своего зятя герцога Кларенса, навсегда лишившегося отныне надежд на престол. Уснув однажды в своей опочивальне верноподданным ланкастерцем, герцог проснулся горячим сторонником Йорков, одним махом лишившись доверия обеих партий и не создав собственной. Эта метаморфоза имела роковые последствия для Томаса Мэлори, не успевшего по вечной своей рассеянности сменить цвет Ланкастеров на цвет Йорков. Он снова попадает в тюрьму - последний раз в своей жизни, и умирает там 14 марта 1471 года, едва успев поставить точку после заключительных фраз только что оконченного увесистого романа: «Я же прошу вас, всех джентльменов и дам, кто прочтет эту книгу об Артуре и его рыцарях от начала и до конца, молитесь за меня, покуда я еще жив, дабы Господь ниспослал мне освобождение». Реставрация Алой розы, чьи наиболее сильные и последовательные приверженцы были некогда истреблены самим же Уорвиком во имя торжества Йорков, не прошла безболезненно для английского нобилитета. Поэтому когда в марте 1471 года Эдуард IV с бургундским войском на кораблях, подозрительно похожих на пиратские, вернулся в Англию и в течение полутора месяцев собрал под свои знамена сторонников Белой розы, Лондон распахнул перед ним свои ворота. Уорвик бежал в Среднюю Англию и в графстве Лейстер начал формировать армию. Одновременно с юга к Лондону двигалось наемное французское войско во главе с Маргаритой Анжуйской. 14 апреля армии Алой и Белой роз встретились у малопримечательного городка Барнета. В этой сече войска Уорвика были почти полностью уничтожены, а сам он погиб. Генрих VI - третий и последний король, «сделанный» им, был вторично низложен и вскоре заколот в Тауэре Ричардом III, проскучав в заточении всего лишь пять недель. Но история графов Уорвиков на этом не закончилась. Новым обладателем поместий и титула стал Эдуард Уорвик - сын герцога Кларенса и Изабеллы Уорвик. Его венценосный тезка, отвоевав себе престол, удовлетворился гибелью главы рода и не стал преследовать его наследника, к тому же доводившегося ему племянником. Он даже позволил своему второму (самому младшему) брату Ричарду, герцогу Глостер-скому, бывать в замке Уорвик и заниматься там вместе с Эдуардом фехтованием, стрельбой по мишеням, верховой охотой и прочими безобидными развлечениями, достойными сливок английского общества. Было время - Ричард Уорвик и Эдуард определяли политическую жизнь Англии, теперь Эдуард Уорвик и Ричард занимаются охотой, только охотой. На лисиц. На оленей. На крестьян. На кабанов. Поменялись местами не только имена, но и интересы их обладателей. Это не тревожило короля. Его не слишком взволновало даже известие о браке Ричарда с вдовой погибшего принца Эдуарда Ланкастера - Анной Уорвик и рождение у них сына Эдуарда. (Ребенок умер в апреле 1484 года, леди Анна пережила его ровно на год, поговаривали, что она была отравлена Ричардом.) Король был поглощен куда более важными делами. Например, в 1478 году он решил избавиться от своего брата, дважды предавшего его. Герцога Кларенса бросили в Тауэр, а дабы пресечь брожение умов, ему предложили самому избрать род смерти. Месяц спустя первого вельможу Англии по его просьбе утопили, словно котенка, в бочке с мальвазией, которую этот гурман так любил. Ричард, неизменно хранивший верность королю и этим снискавший его особое расположение, по долгу родственника попытался было вступиться за герцога, а заодно - и за его сына, своего племянника и товарища по охоте, но скоро оставил эту бесплодную затею. Ричард вернулся к светской жизни. Его час настал в 1483 году. В этом году умер Эдуард IV. По его предсмертному требованию Ричарда назначили лордом-протектором и по совместительству опекуном при малолетнем Эдуарде V. Несмотря на волю короля, дорогу к регентству Ричарду пришлось расчищать мечом. Он расчистил ее после подавления заговора графа Ричмонда из рода Тюдоров (родственников Ланкастеров), всерьез намеревавшегося примерить на себя корону, но оказавшегося вынужденным искать прибежища в Бретани. Однако вторая роль при дворе ни в малой мере не устраивала Ричарда. Несколько месяцев спустя Эдуард V и его младший брат (тоже Ричард) были объявлены незаконнорожденными, брошены в Тауэр и при весьма туманных обстоятельствах задушены в башне, с тех пор получившей название Кровавой (хотя кровь пролита не была).

Орудие Тауэра XV века.
За всеми этими семейными хлопотами Ричард совершенно забыл о другом узнике Тауэра - Эдуарде Уорвике, за которого он совсем недавно пытался заступиться, а теперь оставил в каменном мешке размышлять о бренности всего земного. Обосновав таким образом свои династические права, Ричард стал королем Англии, присвоив себе вместе с престолом порядковый номер III и место в династии Йорков. Он на удивление быстро сумел обзавестись многочисленными и могущественными врагами. Уже сами способы расправы с герцогом и затем с принцами не могли не восстановить против короля английских лордов. Эдуард и Ричард нарушили их древнейшие исконные привилегии: титулованные особы, а тем паче члены королевской фамилии могли быть казнимы единственным достойным способом - усекновением главы на плахе. (Печальную ошибку Йорков учел в январе 1649 года Кромвель: Карлу I отрубили голову вместе с короной с полным соблюдением приличий. В мае 1650 года Кромвель установил военную диктатуру с согласия парламента.) Поскольку с покойного Эдуарда взятки были гладки, гнев лордов с удвоенной силой обрушился на Ричарда. Заговоры против него следовали бесконечной чередой, в одном из них была даже замешана королева-мать, оказавшаяся не у дел. Воспользовавшись смутами, одна из могущественнейших фамилий Англии - Тюдоры, объединившие всех явных и тайных сторонников Ланкастеров, вторично выдвинула графа Ричмонда претендентом на английский трон. 22 августа 1485 года в битве при Босуорте Генрих Ричмонд разбил армию Ричарда III (Ричард погиб в этом бою) и сделался королем и основателем новой династии под именем Генриха VII. Его женитьба на дочери Эдуарда IV Елизавете ознаменовала конец гражданской войны, стоившей существования тридцати одному знатному роду, и примирение обескровленных династий. В заключение он сделал то, до чего не додумался в свое время Ричард Уорвик: в герб Тюдоров, ставший теперь государственным гербом, были искусно вкомпонованы обе изрядно потрепанные розы - алая и белая, давшие Англии по три короля каждая. Такой кульбит английской истории не устраивал двоих, имевших еще достаточно сил и желания, чтобы посеять смуты на острове. Но кроме сил и желания нужно иметь еще и возможность, а вот ее-то как раз и не было. Пока не было.
Один из этих двоих - Эдуард Уорвик по-прежнему сидел в Тауэре, забытый Богом и людьми, и дожидался развязки. Может быть, в царствование Генриха Тюдора он все еще желал злой смерти Эдуарду Йоркскому. Другая - Маргарита Бургундская жила в Антверпене, утратив всякие надежды на корону после гибели 5 января 1477 года Карла Смелого в битве со швейцарским ополчением, безвременной смерти дочери (тоже Маргариты Бургундской) и раздела Бургундии между Францией и Нидерландами. Одинокой женщиной владело лишь одно желание - отомстить. Самое простое, что она могла бы предпринять, это обратиться к пиратам, как поступали все в ее положении, кому это было по карману. Но их вожак Пауль Бенеке сам отрезал ей пути к этому шагу: он вызвал неистовый гнев папы Сикста IV тем, что взял на абордаж недалеко от Брюгге флорентийскую галеру «Святой Фома», туго набитую ценным церковным имуществом, оцениваемым ныне в несколько миллионов золотом. Свой трофей Бенеке включил в состав ганзейского флота, невзирая на протесты флорентийцев, тщетно напоминавших ему о мирном договоре между Флоренцией и Германской Ганзой. (Впоследствии этот корабль захватили французы и вернули законным владельцам за тысячу двести гульденов.) Набожная католичка, Маргарита, разумеется, не решилась на союз с врагом папы. Она продолжала дожидаться удобного случая. Такой случай вскоре представился. Однажды один из придворных Маргариты сообщил ей, что встретил на улицах Антверпена... сына Эдуарда IV. Маргарита живо заинтересовалась воскресшим покойником и приказала доставить его к себе. Так состоялось знакомство развенчанной герцогини с Перкином Уорбиком, чье необычайное сходство с младшим сыном Эдуарда IV подсказало ей план мести Тюдорам, родственникам ненавистных Ланкастеров. План этот был весьма авантюрным для тех времен: Европа еще не успела забыть целую серию самозванцев, называвших себя чудесно спасшимся Ричардом II Плантагенетом, который был свергнут Генрихом IV Ланкастером и то ли традиционно заколот, то ли уморен голодом в 1399 году. Трудно сказать, сознавалали ослепленная ненавистью женщина всю шаткость своих замыслов и их возможные последствия. Во всяком случае, она решилась рискнуть. Уорбик поселился в ее покоях и прилежно приступил к изучению премудростей придворного этикета и родословных английской знати. В 1492 году, когда Генрих VII улаживал очередной спор с французским королем при помощи оружия, а Колумб открывал Америку, Маргарита решила, что час пробил. Она публично объявила Уорбика сыном Эдуарда IV, герцогом Йоркским. Была сочинена и распространена в Англии прокламация, обосновывавшая законность притязаний Уорбика на английскую корону. (Вероятно, на ней строил свою книгу французский историк Рей, в 1818 году повторивший все аргументы Маргариты «подкрепив» их легендарными данными.) В карьере Уорбика, несомненно, сыграло не последнюю роль не только его внешнее сходство с убитым в Тауэре принцем, но и поразительное созвучие его фамилии с фамилией заживо погребенного в том же Тауэре Уорвика. Маргарита в прокламации признала Уорбика своим племянником, но ведь и Уорвик состоял с нею в точно таком же родстве! Тот, кто сомневался в чудесном воскрешении принца, вполне мог уверовать в то, что речь идет об Эдуарде Уорвике - племяннике короля и не менее законном претенденте на корону, чем его кузен. Даже сегодня, когда мы оцениваем события прошлого во всеоружии исторических и не только исторических знаний, мы не всегда способны достаточно быстро ориентироваться во всех хитросплетениях жизни далеких эпох. Чего же можно ожидать от современников этих событий, не только лишенных элементарной информации, но и находившихся в идеологическом плену той или иной партии, группировки, династии? Слухи и сплетни - вот все, что было им доступно. И воспринимаемое на слух словосочетание «Уорбик, племянник Маргариты» почти неизбежно должно было превратиться в гораздо более привычное: «Уорвик, племянник Маргариты». Уорбика не знал никто; Уорвика, родственника Йорков, Ланкастеров и Тюдоров, знала вся Англия. Именно на этом в значительной степени строились планы Маргариты, именно это предопределило первоначальные успехи самозванца. Итак, дьявольский план приведен в действие. Уорбик отправился в Ирландию, все еще хранившую верность Йоркской династии, и стал дожидаться удобного случая для реализации своих «прав». Однако его планы сорвал на этот раз мир между Англией и Францией. Армия Генриха вернулась в Лондон, а Уорбик - в Антверпен. Генриха VII сильно обеспокоило появление самозванца, чреватое новой гражданской войной, а возможно - и новой сменой династии. Он велел учинить строгое расследование и обнародовать его результаты. Убийц детей Эдуарда допросили с пристрастием, но они твердо стояли на своем: принцы задушены ими собственноручно. Послали за тауэрским священником, чтобы узнать место их погребения и либо подтвердить, либо опровергнуть заявление Маргариты Бургундской, но оказалось, что он давно уже умер. Генрих попал в довольно щекотливое положение: о производимом расследовании знали многие, но раскладка получилась явно в пользу Маргариты. Опровергнуть Маргариту Генрих не мог, а продолжение расследования могло привести к еще более нежелательным результатам. Он отступился. Но не отступилась герцогиня. Уорбик на ее деньги нанимает пиратские корабли с головорезами, готовыми на все, и пытается высадиться в Англии. Неудача. В Ирландии - тот же результат. Еще и еще. Наконец он прибывает в Шотландию. Здесь его с распростертыми объятиями встречает Яков IV (дед Марии Стюарт), давно уже мечтающий насолить Генриху Тюдору (ее прадеду). Уорбик отсылает пиратский флот в южном направлении, поселяется в Эдинбурге и вскоре при содействии Якова упрочивает свое положение браком со своей дамой сердца и родственницей короля - дочерью лорда Хантли графиней Екатериной Гордон. Этот брак сделал самозванца хоть и отдаленным, но все же родственником английских королей. Матримониальный союз вскоре перерастает в союз политический. В 1495 году король Шотландии и лжекороль Англии, присвоивший себе титул Йорков и имя Ричарда IV, объявляют себя в состоянии войны с Генрихом, которого они теперь называют не иначе как узурпатором. Однако заговорщики плохо оценили соотношение сил, пираты задали стрекача при виде королевских штандартов, а расчеты на то, что объявление войны послужит сигналом к единению враждующих шотландских кланов и к восстанию английской знати, лопнули как мыльный пузырь. Уже в следующем году Яков заключил с Генрихом вынужденный мир на условиях высылки своего но-вообретенного родича из Шотландии. Благополучно миновав все ловушки, расставленные на его пути Генрихом, Уорбик вернулся во Фландрию. Вернулся проигравшим, хотя и не побежденным
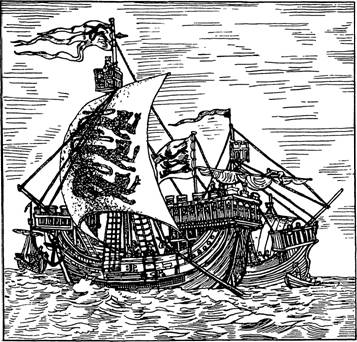 Английский военный корабль XV века. Реконструкция.
Английский военный корабль XV века. Реконструкция.
Но семя, брошенное Маргаритой, уже дало всходы. Едва в 1498 году в Корнуэллсе восстали крестьяне, немедленно прибывший туда Уорбик стал их знаменем. Во главе нескольких тысяч мятежников он двинулся к Лондону. Но ему не удалось уйти дальше соседнего графства. Когда армия восставших приблизилась к Эксетеру, она встретила упорное сопротивление, спутавшее все карты Уорбика, рассчитывавшего на блицкриг. Затянувшийся штурм городских стен и бесплодные переговоры погубили восстание. Крестьяне были перебиты подоспевшими королевскими войсками, а Уорбик попал в плен и препровожден в Лондон, куда он так долго и безуспешно стремился. Пробыв в Тауэре около года, Уорбик при весьма загадочных обстоятельствах совершает побег. Относительно этого побега можно предложить две версии: либо Уорбику помог совращенный им тюремщик, свято уверовавший в то, что узник - подлинный король Англии, либо побег устроила Маргарита Бургундская, не желавшая прекращать игру. Второй вариант выглядит правдоподобнее. Известно, что у побережья Кентского графства крейсировал таинственный корабль, готовый немедленно принять Уорбика на свой борт. К тому же по следам беглеца почти тотчас была пущена погоня, а это маловероятно в том случае, если побег готовил фанатичный приверженец Йорков, хорошо знакомый с распорядком жизни тюрьмы и, естественно, дорожащий собственной головой. Настигаемый королевскими слугами, Уорбик бросился под защиту оказавшегося на его пути монастыря, но было уже поздно. Его заметили. Монастырь был окружен, и приор, безуспешно пытавшийся спрятать Уорбика, сумел лишь выговорить ему жизнь, взывая к монаршему милосердию и напоминая ему о священном праве убежища, коим обладали храмы и монастыри. Как ни странно, Генрих сдержал слово, данное солдатами приору от его имени. Уорбика лишь приковали к позорному столбу в Чипсайде, а затем водворили в одиночную камеру Тауэра. Деятельная натура Уорбика плохо переносит заточение. У него возникает новый план. Но теперь это не просто план бегства, а план мести. Он оказался достойным учеником Маргариты. Когда в Антверпене Уорбик штудировал английскую историю, его внимание привлек пассаж о «делателе королей». Теперь он вспомнил, что последний представитель этой фамилии, забытый тремя монархами, вот уже двадцать один год ожидает своей участи где-то здесь, рядом. Союз двух несомненно незаурядных людей мог с легкостью сокрушить стены их темницы и стать гибельным для Тюдоров. Остальное было, как говорится, делом техники. Несмотря на строжайшую изоляцию, Уорбик сумел установить связь с графом Уорвиком, томившимся в другой одиночке. И не только установить связь, но и разработать совместный план побега.
Можно сколько угодно гадать, как им удалось это осуществить и каким образом этот план сделался достоянием короля, но факт остается фактом. Генрих счел себя свободным от данного прежде слова и приказал повесить Лжеричарда, которому едва исполнилось двадцать пять лет, как простого мужлана. Одновременно с плахи упала голова единственного и последнего законного претендента на английский престол. Законность притязаний графа Уорвика подтвердил способ его казни, назначенный самим королем. Генриху VII удалось, хоть и не без труда, стабилизировать обстановку в стране, но ему еще долго приходилось подавлять выступления лжеричардов и лжеэдуардов. В конце концов он с этим справился, потому что среди них не было больше ни Уорвиков, ни Уорбика, и ими не руководила такая женщина, как Маргарита. Но англичан не напрасно называют морской нацией. Потеряв источники легких доходов на суше, многие обратились к морю, и вскоре в английских водах вновь создалась ситуация, какая была при Ричарде II и его преемниках. Она сохранялась до 1536 года, когда Генрих VIII издал новый закон о борьбе с пиратством и стал самолично контролировать его выполнение. Но это был уже явно запоздалый шаг, потому что примерно с этого времени торговля в северных морях начала терять свое значение, и морские трассы стали перемещаться далеко на запад. Центр пиратства переместился в новые моря, указанные Колумбом.
Схолия пятая. УСМИРИТЕЛИ ВЕТРОВ.
Ганзейская эпоха пролегла четким водоразделом в истории судостроения и мореплавания. Ушли в память поколений викинги. Арабы удерживали единственную оставшуюся у них полоску земли - на побережье северо-западной Африки. Рухнула Византийская империя. Запад стал Западом, Восток - Востоком. Заимствовать больше было не у кого. Оставалось - совершенствовать. Или изобретать.
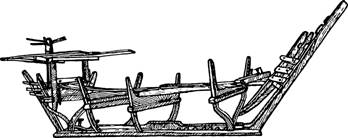 Модель бременского когга.
Модель бременского когга.
На рубеже XII и XIII веков тускнеет ореол исключительности, издревле осенявший лоцманов: в обиход прочно входят морские карты, достаточно пригодные для мореплавания. Предполагают, что впервые и сразу во множестве вариантов они появились на Сицилии, где «Книга Рожера» стала настольным руководством по географии. Генуэзцы, выученики сицилийцев по части навигации, моментально оценили достоинства этого новшества и разнесли его по всем странам, куда их моряки нанимались на службу. Вслед за арабами они принимали за нулевой меридиан тот, что проходит через Острова Блаженных (Канарские). Преобладающим типом все еще остается когг, и о нем мы теперь можем судить не при помощи воображения, а непосредственно: в первой половине 1960-х годов были найдены его останки на дне Везера близ Бремена. Это - прославленный бремеркогге, хорошо уже известный до того по многочисленным изображениям на печатях. Археологи датировали его 1380 годом. Обмеры подтвердили первоначальные предположения: длина когга оказалась 23,4 метра (при длине киля 15,6), ширина - от 6,2 до 7 метров, высота борта - 3,5. Его прямой ахтерштевень достигал пяти метров в длину, а форштевень - 8,4. Это судно грузоподъемностью до шестидесяти ластов имело сорок шпангоутов, а его дубовая обшивка была выполнена двумя способами: по бортам - внакрой, по днищу, почти плоскому,- вгладь. Толщина ее составляла пять сантиметров, все доски были примерно одинаковы: восемь метров (длина) на полметра (ширина). В носовой части были укреплены балки битенгов, в кормовой имелся брашпиль, установленный на палубе. Экипаж бременского когга насчитывал до двух десятков человек. Мачта этого когга имела длину до тринадцати метров, почти равняясь длине киля. Совершая обычные торговые рейсы, капитан этого судна не упускал случая попутно умножить свои прибыли: в корме имелось устройство для выброса и выборки рыболовной сети. И это тоже подтверждают документы: когги, подобно многим другим типам, первоначально были рыболовными судами. Не случайно, видно, судовая шлюпка на когге получила в ганзейские времена имя кимбы - рыболовной лодки античных времен, тогда как гребные лодки ганзейского времени (это явствует из английских документов 1403 года) носили имена барджеа, барджиса - явно пришедшие из Италии (бардже), а начиная с XV века так обозначали корабельные шлюпки.

Корма английского военного корабля.
Найденный когг был одним из последних судов этого класса: лет через пятнадцать-двадцать их грузовместимость резко возросла. Изменились и их конструкция, и их силуэт. Причем не только в Германии. Английские корабли, например, к началу XV века тоже обзавелись рядом новшеств. Они имели бушприт и навесной руль, а их парус украшался гербом. Фальшборт был сплошным, но обычно выполнялся в виде непрерывного ряда щитов, имитирующего силуэт боевых ладей викингов. Концы бимсов часто выводились наружу через обшивку. В 1371 году испанцы первыми в Европе додумались устанавливать на своих кораблях обычные полевые орудия. Пройдет еще немало лет, пока появится сугубо морская артиллерия и будут изобретены «вожжи», удерживающие орудие в момент отдачи после выстрела. Пушки срываются со своих площадок-станин, калечат канониров, разрываются, топят корабли, «разгуливая» по палубам во время качки (как это прекрасно описано Виктором Гюго в романе «Девяносто третий год»).
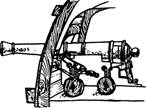
И все же - это орудия, страшные орудия, не менее страшные, чем «греческий огонь». Примеру испанцев немедленно следуют ганзейцы, англичане и французы. Это новшество изменило силуэт судов. Орудия вначале, аналогично византийским химерам, устанавливались только в корме и в носу, заменив собою башни, затем для них отвели палубу, убрав среднюю надстройку, а с начала XV века в бортах появились порты - квадратные отверстия для ведения через них пальбы. По-видимому, первым судном с двухъярусным расположением орудий (на специальной палубе, сооруженной над гребцами, и под ними), способным вести огонь всем бортом, был галеас. По сравнению с галерами это настоящий левиафан...

На рубеже XIV и XV веков на севере Европы впервые прозвучало слово «хулк», или «хольк»: так стали называть одномачтовые когги новой конструкции грузоподъемностью в двести тонн и выше. Собственно, это был тот же когг - плоскодонный и круглобортный, но с более развитыми кормовыми и носовыми надстройками, ставшими органической частью набора корпуса, с улучшенной парусностью и с рулем на уровне киля. Впрочем, некоторые из таких новшеств были введены и на коггах, и эти два типа часто путали. Бортовая обшивка тех и других делалась внакрой, но отдельные большие суда уже распространили днищевую обшивку вгладь на весь корпус. Когда? Неизвестно. Считается, что это произошло в Зеландии в 1459 году, но такая обшивка зафиксирована в некоторых документах из Брюгге в 1412 году, а на малых судах она появилась, как мы уже видели, еще раньше. Но подлинный переворот в судостроении, связанный с широким внедрением этого типа обшивки, действительно произошел во второй половине XV века, когда под волнами Балтийского моря едва не скрылся соляной транспорт «Петер фон Россель», по пути из Ла-Ро-шели в Данциг попавший в шторм, лишившийся грот-мачты (ее поразила молния) и получивший ряд серьезных повреждений. Это случилось весной 1462 года. Данцигские горожане знали это судно и под другим именем - «Дат гроте кравеель» («Большой кравеель»). Повреждения его были ужасны, ремонт стоил больших денег. А их не было. Пошел с молотка уцелевший груз, обрели новых хозяев якоря, паруса, снасти - все, что можно было продать. Но это не составило и трети требуемой суммы... Корабль стоял в гавани Данцига, и время делало с ним то, чего не смогло сделать море. Он дряхлел на глазах.
 Трехмачтовый когг, он же - хольк. Реконструкция.
Трехмачтовый когг, он же - хольк. Реконструкция.
Минул год, пошел второй. И 19 мая 1464 года «Петер фон Россель» поступил в залог жителям Данцига (по правде говоря, не знавшим, что им делать с этим приобретением).
 Мальтийская каракка. Реконструкция.
Мальтийская каракка. Реконструкция.
Так пролетело еще шесть лет. Наконец в 1470 году городским магистратам пришло в голову, что этого инвалида, уже изрядно намозолившего глаза обывателям, можно приспособить для сторожевой службы. А еще лучше - для каперской. Какого типа было первоначально это судно, мы не знаем и теперь уже вряд ли узнаем. Вполне возможно, что «Петер фон Россель» был построен как хольк. Как раз примерно в те годы когг стал трехмачтовым и исчез с исторической арены. А точнее - родился вновь, но уже не как когг, а как хольк. Его фок- и грот-мачты оснащались прямыми парусами, наклоненная в корму бизань - латинским (как у барка). Хольк имел вдвое большее водоизмещение (до четырехсот тонн) по сравнению с коггом, его кормовые и носовые надстройки составляли единое целое с корпусом, вдоль бортов тянулись привальные брусья. Но он был довольно неуклюжим и маломаневренным, что отразилось в его английском названии hulk - «большое неповоротливое судно». Для охраны этих не слишком грациозных «купцов» ганзейцы использовали, кроме фреккоггов, перенятые у пиратов шнигги - маленькие, маневренные и быстроходные парусники, особенно удобные на мелководьях и в устьях рек благодаря своей малой осадке.
 Ганзейский когг второй половины XV века. Реконструкция.
Ганзейский когг второй половины XV века. Реконструкция.
Как бы там ни было, в 1471 году с данцигских стапелей было спущено на воду каперское судно совершенно нового типа, с новенькой обшивкой, с семнадцатью пушками и пятнадцатью тяжелыми арбалетами, установленными на палубах. Новым стало и имя корабля - «Петер фон Данциг». По существу это была модификация генуэзской военно-торговой каракки, изобретенной в начале XVI века, имевшей две или три мачты и почти ничем не отличавшейся от холька, за исключением некоторых деталей. На ее передних мачтах, удлиненных стеньгами, над основными парусами с конца XV века поднимали марсели, для работы с ними на мачтах устанавливали специальные площадки - марсы. На бизань-мачте ставился косой парус. В XVI веке каракка имела иногда четвертую - бонавентур-мачту (второй грот), также оснащенную латинским парусом, а с 1462 года, когда этот тип заимствовали англичане, немцы и французы, можно было увидеть и пятимачтовую каракку. Обшивка каракки была чень толстой и делалась вгладь, борта округло заваливались вовнутрь, а ее водоизмещение было вдвое больше, чем у холька, и вчетверо - чем у когга. Отличительными чертами каракки были отсутствие блинда на бушприте (бушприт предназначался только для выборки якоря и растяжения грота спереди), сильно выступающая башнеобразная надстройка в носу, непомерно большой грот, напоминающий древнеегипетские паруса, а также продолговатая и очень высокая корма. И еще одна деталь выделяла ее в XV веке (только тогда!) из всех вообще известных нам судов: шпангоуты каракки были наружными, они укладывались поверх обшивки, как это ясно показано на картине Эрколе де Роберти, и отчасти напоминали античную гипозому, отчасти - вертикальные привальные брусья. Надо думать, таким способом пытались придать корпусу лучшую прочность. Это был эпизод, эксперимент. У этого слова - двойная биография, отразившаяся в двойственном его написании: каррака и каракка. Ка-ракка - это бывший керкур: оба эти слова произошли от финикийского kirkarah - «круглое судно», то есть грузовое или торговое. В первый раз оно было заимствовано греками непосредственно у финикиян, второй - испанцами через арабов. В основе же финикийского названия лежит еще более раннее ассирийское gurgurru - так называли речные суда и, возможно, надувные мехи для переправы через реки. Но «каррака» произошла не от ассирийского слова, а от карры, как и ее сухопутная тезка карруца. В португальском языке прослеживается и связь карраки с карабом, только под этим словом здесь скрывается не жук-рогач, а собачий клещ (Ixodes ricinus) - по-португальски carraka. По всей видимости, местом рождения этого типа судна можно считать атлантическое побережье Испании, а впервые он упомянут в генуэзских документах первой половины XVI века. Известны изображения каракк на картинах Пинтуриккьо, Питера Брейгеля Старшего, Карпаччо и Бонфилли. Подлинная модель двухмачтовой каракки, изготовленная в середине XV столетия, была не так давно обнаружена среди залежавшегося церковного хлама в селении Матаро около Барселоны. Забегая вперед, можно напомнить португальскую военную каракку «Санта Катарина», построенную в 1520 году. Она была вооружена ста со рока орудиями, а ее кормовая часть, напоминающая скорее надстройку, содержала в себе шесть палуб. «Петер фон Данциг» был чудом своего времени, настоящей плавучей крепостью. Длина его верхней палубы составляла 42,12 метра, а ширина - 12,14. Длина его киля была равна тридцати одному метру (против обычных двадцати восьми), а высота главной мачты - тридцати двум. Высота борта до нижней палубы - пять с половиной метров, а до верхней - девять.
 Каракка последней четверти XV века. Реконструкция.
Каракка последней четверти XV века. Реконструкция.
Он имел водоизмещение около тысячи шестисот тонн, грузоподъемность - восемьсот. На одной только его главной мачте площадь парусности составляла пятьсот пятьдесят два метра. Его превосходил только корабль английского короля Генриха V, построенный в Байонне: 56,5 метра длины и 14 - ширины. Но англичане еще по крайней мере полстолетия строили свои суда клинкерным способом - с обшивкой внакрой, а это снижало их мореходные качества. В 1472 году судно принял уже знакомый нам Пауль Бенеке, и трудно сказать, кто кого прославил в течение ближайших лет - он своего «Петера» (отнюдь не только захватом «Святого Фомы», отпугнувшим даже такую авантюристку, как Маргарита Бургундская) или «Петер» своего Пауля. Каперская война, которую Бенеке повел фактически в одиночку, вошла как в историю Ганзы, чьи интересы он защищал, так и Франции и Англии, надолго запомнивших эти два имени. Каракки впитали в себя все кораблестроительные новшества своей эпохи, главными из них были обшивка kraweel, навесной кормовой руль и многомачтовость. Откуда же шли идеи? Ну, с обшивкой вгладь более-менее ясно: уже известная в Испании и Португалии, впервые она была применена на севере около 1440 года бретонским корабелом Жюльеном, а лет двадцать спустя такое судно уже построил голландец ван Хорн. Гораздо сложнее и таинственнее был путь кормового руля, особенно если учесть, что в Средиземноморье еще в конце XIV столетия пользовались рулевыми веслами, хотя флорентийский хронист Джованни Вил-лани отмечал в 1370-х годах, что это новшество было введено в начале того же века. Но кем? И как?
 Бретонская каракка XVI века. Реконструкция.
Бретонская каракка XVI века. Реконструкция.
Навесной руль издревле знали китайцы. От них его заимствовали арабы. А европейцы - не воспринимали, хотя арабские суда в районе Пиренейского полуострова и у берегов Северной Африки не были редкостью. Да и никогда арабы не скрывали своих знаний и достижений, напротив - делились ими... Думается, ответ надо искать в «Книге Марко Поло» - бестселлере как раз начала XIV века. Видно, не все считали его Великим Лжецом, кое-кто присмотрелся внимательнее к его рассказам. И - обратил внимание на необычный кормовой руль китайских джонок, плававших в Индию. Джонка - это класс лодок смешанного (река-море) плавания, насчитывающий до двух сотен типов и разновидностей. Самые большие имеют длину до шестидесяти и ширину до десяти метров, то есть вполне сопоставимы с судами Европы. Китайское название джонки - чуань («судно»). Она имеет от двух до пяти мачт, плоское и широкое днище, почти отвесные борта и приподнятые нос и корму - как у арабских парусников. Иногда, впрочем, это плот с наращенными бортами. «Корабль имеет руль и четыре мачты со множеством парусов,- сообщает Марко Поло.- У некоторых есть еще две дополнительные мачты, которые ставят и убирают по необходимости. Помимо разделения на каюты... некоторые большие корабли разделены на отсеки тринадцатью перегородками из толстых досок. Их назначение - спасти судно, если потекут швы, когда оно ударится о камень или когда его ударит голодный кит - явление, само по себе не редкое». К этому можно еще добавить, что водонепроницаемые переборки давали возможность строить джонки по модульному принципу, то есть изменять их длину по мере необходимости. Носовая и кормовая части могли отделяться друг от друга, и это создавало заметные удобства, например, при волоке или прохождении шлюзового канала, коих было в Китае предостаточно.
 Модульная китайская джонка. Модель.
Модульная китайская джонка. Модель.
Джонки способны нести до двух тысяч тонн груза, а осадка (до двух метров) позволяет легко одолевать мелководья, приподнимая на нужную высоту или вовсе снимая руль, сохраняя его таким образом в целости и сохранности. Четверть века спустя после смерти Марко Поло джонками восхищался Ибн Баттута в Каликуте на западном побережье Индии: «На большом корабле имеется двенадцать napycQB. Паруса сделаны из кизиловых прутьев, скрепленных наподобие циновок, их поворачивают в зависимости от направления ветра... Кроме парусов, они оснащены веслами, огромными, как мачты; у каждого весла десять-пятнадцать гребцов, которые гребут, стоя на ногах. Судно имеет четыре кормы, где расположены каюты для купцов с замками и ключами. Здесь же живут и дети моряков... Капитан корабля напоминает крупного эмира. Если он сходит на берег, его сопровождают лучники и воины-эфиопы с копьями и мечами, с трубами и барабанами». Главные отличия джонок от европейских и арабских судов - бимсы и обшивка: бимсы укладывались поверх палубного настила, а не под ним; обшивка делалась внакрой, но не от днища к палубе, а наоборот. На таких судах Ибн Баттута насчитал шестьсот матросов и четыреста воинов, в том числе метателей жидкого огня - наффатинов.


 Двухмачтовая джонка. Модель.
Двухмачтовая джонка. Модель.
К началу XV века гегемония двухмачтовых судов тихо ушла в прошлое, появление многомачтовиков в европейских морях внесло коррективы в такелаж и рангоут. Рейковый прямоугольный парус остался только на передних мачтах, над ним, как уже говорилось, появился маленький марсель, задняя и бонавентур-мачта несли косой латинский, а на нижней половине бушприта устанавливался блинд. Паруса и снасти для управления ими с середины XV века начинают различать по именам, и постепенно закладываются основы международного морского языка. Эта задача облегчалась тем, что военные и торговые суда почти не отличались друг от друга, и моряк мог безболезненно менять место службы, не рискуя быть непонятым. Основное, пожалуй, отличие военного судна от торгового заключалось в форме его борта, приспособленного для действия орудий: верхняя часть его была завалена вовнутрь за счет укороченных бимсов, и общий вес орудий перемещался благодаря этому ближе к центру корабля, сохраняя его остойчивость. Это не касалось только однопалубных галер, где равномерное распределение веса орудий (от трех до семи) не создавало проблем: все они устанавливались только на баке, так как борта были заняты гребцами. Укороченные бимсы заставили пересмотреть принцип крепления мачт, а усложнение парусности и такелажа привело к внедрению многих, казалось бы, мелочей, в своей совокупности, однако, заметно изменивших содержание морского труда. Более толстыми стали, например, фордуны, а ванты во второй половине XV века обзавелись выбленками и получили прозвище «лестницы Иакова», ведущей, как известно, прямо на небо. Но нельзя все же сказать, что труд моряка заметно облегчился. Скорее, наоборот. В трактате середины XV века «Прение французского герольда с английским» на вопрос англичанина о причинах малочисленности французского флота сравнительно с английским француз с гордостью заявил, что его король не нуждается в кораблях, ибо сражаться на суше куда надежнее, а к тому же на флоте всегда «опасность и угроза для жизни, и один Господь ведает, сколь это горестно, ежели приключится буря, да и морская болезнь мучает многих. К тому же и суровая жизнь, каковую должно вести там, не подобает людям благородного звания». Французы долго не воспринимали море всерьез, и оно мстило им за это. Когда в 1386- 1387 годах Карл VI Безумный совместно с герцогом Бургундским готовил в гавани Слейса морскую экспедицию против «коварного Альбиона», они предусмотрели все - и статуи святых для своих кораблей, расписанные лучшими художниками, и паруса, изукрашенные так, что больше походили на персидские ковры, и геральдические вымпелы, чья длина превосходила длину мачт, и красочные щиты с девизами на кормовой надстройке - все, кроме того, без чего корабли не могли выйти в море. Поход этот так и не состоялся... Зато голландцы, моряки милостью Божией, в те же годы с шутками и прибаутками возили по городу во время Праздника Дураков тех, кто удостоился этого звания, в синей повозке, имитирующей ладью на колесах.
Почти столетие спустя потомок этого герцога Бургундии сумел превзойти своего короля на море, как выразился в своих мемуарах Филипп де Коммин, благодаря тому, что «забрал множество судов из Испании и Португалии, два судна из Генуи и несколько барок из Германии». Правда, это мало ему помогло, так как флот разметала сильная буря, и корабли искали спасения от нее в Шотландии и Голландии. Никто в те времена не был в состоянии соперничать с морским могуществом Ганзы. Ганзейцы по своему усмотрению могли и казнить, и миловать. Даже монархов. Когда в 1470 году английский король Эдуард IV с несколькими сотнями верных ему людей спасался от графа Уорвика на двух барках и одном судне, «он бежал в сторону Голландии. В то время,- пишет Коммин,- ганзейцы были врагами англичан, как и французов, и держали несколько военных кораблей в море; англичане их очень боялись и не без причины, ибо те были добрыми воинами и причинили им большой ущерб в этом году, захватив несколько кораблей. Ганзейцы издалека увидели суда, на которых плыл бежавший король, и начали преследовать их на своих семи или восьми судах». Король спасся лишь чудом. Герцог Бургундский «нанял для него три или четыре больших судна, которые велел снарядить в голландском порту Вере, куда все могли заезжать (этот зеландский порт сохранял нейтралитет.- Л. С), и тайно оплатил 14 хорошо снаряженных судов, предоставленных ганзейца-ми, которые обещали служить ему до высадки в Англии и 15 дней спустя. По тем временам это была очень серьезная поддержка». В мемуарах Филиппа де Коммина встречаются названия примерно десятка типов судов, но не обо всех можно рассуждать с уверенностью, как и о «благородных спиннетах», названных Томасом Мэлори: скорее всего, это имя произошло от древнеанглийского, древневерхненемецкого или готского spinnan - «короткая прогулка, быстрая езда» (в том числе на лодке). Тогда спиннет - это попросту «быстроходное судно». Но нельзя исключать, что в формировании этого названия каким-то образом участвовали древнеанглийское spon или исландское spann, означающие ложку и щетку. Или итальянские spinta - пловучесть, либо spineto - терновник, шип, колючка. Где родились спиннеты? Неизвестно...

 Ганзейский когг конца XV века. Рисунок.
Ганзейский когг конца XV века. Рисунок.
Сравнительно легко идентифицируется скют (scute - лодка) - голландское и зеландское плоскодонное низкобортное судно, приспособленное для перевозки лошадей и именуемое автором мемуаров баркой. Это, конечно, ускиера. Легко узнается греко-албанский маленький и маневренный грип: grypos по-гречески - выгнутый, выпуклый. Возможно, эта была скафа или кимба. Упоминаемые Коммином «13 генуэзских нефов, много галер и галионов» и в этом же ряду - «огромный галеас» с множеством орудий тоже не требовали бы особого комментария, если бы не галера. (Впрочем, некоторые новшества не обошли и нефы: на печати Людовика XI, изготовленной в 1486 году, неф впервые изображен трехпарусным). Из дневника Коммина можно сделать непреложный вывод о том, что галерами в его время называли любое гребное судно независимо от его типа (как, собственно, и следовало). Вот неаполитанский король Ферранте II «сел на галеру и отплыл на Искью, остров в 18 милях от Неаполя». Из этого можно заключить, что галера - морское и, скорее всего (поскольку им пользовался король), мореходное судно. Но чуть дальше - галеры ходят по Большому каналу Венеции! Ходят «туда и сюда», и их водоизмещение, указывает Коммин, «400 бочек и больше». Галеры эти хранятся в арсенале, где также «производят все необходимое для флота»... Не о гондолах ли речь? Нет, Коммин не знает такого слова. Зато он говорит о каких-то барках (не ускиерах!). В пяти милях от Венеции, пишет он, «с судна, приходящего по реке из Падуи, пересаживаются на маленькие барки, очень чистые и с обитыми красивыми бархатными коврами сидениями. Оттуда плывут морем, ибо добраться до Венеции по суше нельзя». «Перевозные барки» фигурируют у него и в другом месте, где речь идет об Англии. Не на такой ли «галере» плыл король Ферранте? Но и это еще не все. Несколькими строками ниже это уже не барка, а «очень маленькая» лодка, способная тем не менее покрывать тридцать миль. С этой лодки учтивые итальянцы пересадили Коммина «на другие суда, которые они называют пьятто и которые гораздо больше первых; два из них были обиты алым атласом и застелены коврами, и в каждом из них помещалось 40 человек». Эти пьятты ходили по Большому каналу, где Коммин и повстречал галеры... И в этих же мемуарах галеры фигурируют как боевые суда! Частично распутать этот клубок помогает пьятта. По-итальянски piatto - плоскодонка, и этот характерный признак приложим в равной мере и к ускиере, и к гондоле, и к галере. В Италии пьятту называют обычно Ьагса piatta. Баркой нередко именуют и гондолу: кому не известна песня гондольера баркарола! Вероятно, именно об этих барках - крытых, украшенных штандартами и гербами хозяев ведет речь мемуарист.
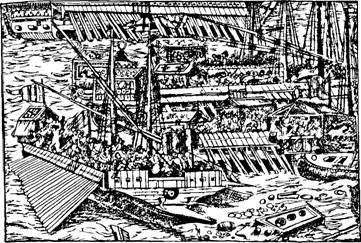 Галеры XVI века. Гравюра того времени.
Галеры XVI века. Гравюра того времени.
Но остается неясность с галерой. И это судно заслуживает того, чтобы еще раз сказать о нем особо. Если не принимать в расчет довольно редкие исключения, галера к XV веку превратилась в самостоятельный тип судна, и именно с этого времени стало возможным говорить о ее размерах, оснастке и иных конкретных вещах. Гребные суда с несколькими рядами весел сделались достоянием истории. Выжили - однорядные. И все они отдали лучшее из того, что имели, галере. В зависимости от своей величины галера могла быть узкой и быстроходной sensile (простой, ординарной) или более округлой и неповоротливой scalo (грузовой). Первая насчитывала до тридцати гребных скамей по борту, укрепленных под крутым углом к нему. Каждый из трех гребцов, сидевших на одной банке, работал отдельным веслом, так что длина и вес весла увеличивались по мере удаления гребца от борта: весла были здесь трех размеров. Такая система называлась terzaru-olo: terza - третий, ruolo - класс, разряд. Второе слово обозначало также список личного состава (судовую роль), а словом «терцаруоло» позднее называли еще и «парус третьего класса». Эти галеры имели до полусотни метров в длину, пять в ширину и примерно два в высоту. На галере второго типа все весла были одинаковы (до двенадцати метров), более массивны (до трехсот килограммов), и каждое из них ворочали все пятеро гребцов. Эти весла обеспечивали приличную скорость (до пяти узлов, а в отдельные моменты и больше) и силу удара при абордаже. Но был и вариант: банки располагались одна над другой в три ряда, как на триере, и каждым веслом работали несколько человек. В этом случае на уровне верхней палубы устанавливали аутриггер, а на нем - дополнительный составной фальшборт из огромных щитов, прикрывавший верхний ряд гребцов. Эта система была откровенным возвратом к античности: плетеными щитами - паррарумами - защищали своих гребцов и лучников греки. Итальянцы называли их павезами. Позднее эти щиты были заменены настоящим фальшбортом с прорезями для весел. Наконец, те же венецианцы, объединив достоинства галеры и галльского высокобортного и тяжелого корабля раннего Средневековья - понто - создали еще один тип галеры - мощную galee bastarde (гибрид), где одно весло могло обслуживаться восьмью гребцами, а экипаж - достигать двухсот сорока гребцов. Из документов известно и о самых настоящих монстрах с экипажем в полтысячи человек и больше.

Большинство деталей корпуса и такелажа было стандартизировано, корма, как правило, делалась транцевой и разделялась надвое пером навесного руля. Строительство венецианских галер с тридцатью двумя гребными банками по каждому борту шло полным хо-Корма с транцем и рулем дом во всех государствах Средиземноморья. Упомянутый Филиппом де Коммином «огромный галеас» - разновидность именно этой галеры. Длина галеаса, при том же или чуть большем количестве гребных скамей, в полтора раза превышала длину галеры терцаруоло, он имел до трех мачт, а его гребцы сидели под палубой, не нуждаясь ни в какой дополнительной защите. Как явствует из мемуаров известного венецианского путешественника XVIII века Джованни Джакопо Казановы де Сейнгальта, в конце XV столетия галеас обходился его владельцам в кругленькую сумму, он имел корпус фрегата и пятьсот гребцов, работавших в обычных условиях галеры. Таковы были основные единицы европейских флотов XV столетия. И никто тогда еще не мог предугадать, какие типы выживут в развернувшейся инженерной гонке, а какие тихо уйдут в свой последний рейс по волнам Леты - реки забвения.
ХРОНИКА ВОСЬМАЯ,
повествующая о том, как Страна Заходящего Солнца подумывала о морском владычестве.
В истории Европы XV век стал переломным. Его начало ознаменовалось казнями Штертебекера и Михеля, конец - казнями Уорвика и Уорбика. А между этими двумя событиями уместились несколько кровопролитных войн, изменивших лицо «первой части света», и целая серия эпохальных географических открытий, изменивших лицо мира. Заметные перемены коснулись и пиратского промысла. XV век уже не знал таких одиозных фигур, как Харальд или Сигурд, Стуре или Хоули. Немецкий поэт рубежа XV и XVI столетий Бурхард Вальдис, сам проживший, подобно Франсуа Вийону или Томасу Мэлори, весьма бурную жизнь, передает в одном из своих стихотворений услышанную им историю о том, как в число пассажиров купеческого корабля, шедшего из северной Британии или, может быть, из Исландии в Ригу, затесался вор. У берегов Шотландии разыгрался необыкновенно жестокий шторм, пассажиры, отчаявшись в спасении, «стали молиться Богу, призывать его на подмогу», словом, все были уже на краю гибели. И тут среди всего этого сброда, как называет своих пассажиров капитан, его внимание привлек один, спокойно стоявший в сторонке и невозмутимо напевавший песенку. Он являл собой такой контраст во всеобщей сумятице, что казался безумным. Однако на осторожный вопрос капитана последовал ответ, хотя и неожиданный, но едва ли его удививший своей откровенностью:
Всю жизнь я краденым кормлюсь, И умереть я не боюсь. Коль твой корабль пойдет ко дну, Я все равно не утону. Пусть шторм, пусть ветер. Все одно! Нет, мне другое суждено: Моя погибель - плаха. Так что ж дрожать от страха?
Поскольку у этого достойного джентльмена не было своего судна, можно допустить, что он и впрямь был простым вором, отправившимся на заработки в Ригу. Но тут все было делом случая: окажись у него сообщники среди пассажиров или команды, судно могло переменить хозяина задолго до прибытия в порт назначения. Обыкновенное дело. Нам вообще мало известно достоверного о рыцарях удачи этого века. Но говорить об «упадке» пиратства было бы неверно. Скорее, наоборот, можно говорить о его взлете. Ушли в прошлое большие пиратские флотилии и пиратские государства (они еще возродятся, и довольно скоро), но моря были ничуть не безопаснее, чем в XI или XIV веке. Объясняется сей парадокс очень просто: на воровской или пиратский промысел выходили теперь чаще всего «любители», и эти оборотни действовали по рецепту обнищавших рыцарей XIII века: заполучив ночью свой кусок, днем они вновь становились добропорядочными бюргерами, ремесленниками или капелланами, кем угодно. Может, они и были готовы перейти в «класс профессионалов», но время было не то. Нельзя сказать, чтобы они очень уж стеснялись своего ремесла (хотя теперь многие относились к нему неодобрительно, не то что раньше), скорее, их держали в узде суровые законы против пиратства, принятые во многих государствах. По-видимому, именно с такими «любителями» имел дело в 1413 году знатный горожанин из Тулузы, автор турецко-арабского словаря Ансельм д'Изальгие, по пути на родину подвергшийся нападению пиратов. Им не удалось захватить корабль, но жену и дочь Ансельма они сумели похитить в суматохе абордажного боя. История эта, правда, закончилась благополучно: пиратский корабль потерпел крушение у какого-то острова, и «живой товар» на лодке достиг его побережья. Чуть позднее к этому острову подошло для ремонта и судно, на котором находился Ансельм, потрепанное тем же штормом. Так семья воссоединилась, отделавшись лишь испугом. Что сталось с пиратами - неизвестно. Вообще же этот эпизод по-своему уникален, подобное бывало редко. Пират не только не сумел захватить купеческое судно, а еще и сам пошел ко дну! Обычно готовились лучше: в случае неудачи палач не делал скидки на неопытность. Конечно, и профессиональных, опытных пиратов тоже хватало, но гораздо большее распространение получает теперь каперство: это легально, это безопасно, это доходно. Под каперов маскируются купцы, путешественники, пираты и сами каперы, всегда имеющие на борту набор флагов разных государств. Но XV век - это еще и век путешествий и открытий. Механические часы, очки, бинокли, портоланы, промышленное производство сравнительно дешевой хлопчатой бумаги, пришедшей на смену льняной, магнитные компасы - все это быстро находит применение на море и на суше, становится обыденным, привычным и необходимым. Смельчаки забираются в самые отдаленные уголки Востока, и все чаще при дворах европейских королей звучат волнующие слова: Индия, Китай, Сипанго (Япония). Морем путешествуют редко: суша надежнее. В 1404 году кастильский дворянин Руй Гонсалес де Клавихо попоручению короля Энрике III отправляется в Самарканд ко двору Тимура и пишет там дневник, изданный почти сто восемьдесят лет спустя под названием «История великого Тамерлана». Венецианец Иосафат Барбаро совершает в 1436- 1452 годах путешествие по западному Ирану. Его земляк, купец Никколо Конти, проживший с 1419 по 1424 год в Дамаске, изучивший там арабский язык и принявший ислам, совершил несколько сухопутных и морских путешествий в Индию и Цейлон, побывал в Бенгалии и Бирме, на острове Сокотре и в Адене и в 1444 году через Египет и Ливию вернулся в Венецию. Его «Четыре книги об изменчивости судьбы», записанные секретарем папы Евгения IV Поджо Браччолини, автором знаменитых «Фацетий», стала бестселлером того времени и заставила папу отпустить Конти все грехи, в том числе - случай уникальнейший! - и переход в другую веру, совершенный с соблюдением всех церемоний. Те же географические названия, что мелькают в описаниях путешествий Клавихо, Барбаро и Конти, встречаются и в шестилетнем «хожении за три моря» тверского купца Афанасия Никитина, летом 1466 года выступившего в путь к Индии. До Индии он добирался по Каспийскому морю и Индийскому океану, а значительную часть обратного пути совершил на торговом паруснике по Черному морю. Интересное само по себе, путешествие Никитина - единственное в те времена серьезное путешествие в южные земли - явилось откровением для Руси времен Ивана III, но почти ничего не добавило к тому, что уже было хорошо известно ученым Западной Европы. Да и сочинение его осталось неведомым за пределами Московии, а из русских никто не выразил желания пройти по его следам. И еще один путешественник многие века оставался неизвестным европейцам. Это воскрешенный ныне из забвения китайский военачальник и мореплаватель Чжэн Хэ, совершивший семь выдающихся экспедиций в 1405 - 1433 годах. В первую отправились на шестидесяти двух кораблях с 28 880 людьми разных специальностей - от воинов и корабелов до купцов и лекарей. Потратив около года пути, посетив Суматру, Яву и Вьетнам, эскадра добралась до Каликута (нынешнего Кожикоде) и еще через год возвратилась в Китай. Сразу же после возвращения Чжэн Хэ дважды повторил этот маршрут, посетив еще и Малакку, а в 1413-1415 годах дошел до Ормуза в Персидском заливе. Трудно сказать, каковы были истинные цели его плаваний, ясно только одно: Чжэн Хэ методично, шаг за шагом продвигался к западу, совершая каждую следующую экспедицию сразу вслед за предыдущей и осваивая все новые и новые участники. Пятая и шестая его экспедиции достигли африканских берегов, а седьмая, состоявшаяся в 1431 году, как бы подвела черту под всеми шестью. корабли Чжэн Хэ прошли по хорошо освоенной трассе Нанкин - Ява - Малакка - Цейлон - Каликут - Ормуз и возвратились в Китай Южные контуры Азии были повторены им от и до.
Имеются серьезные данные за то, что Чжэн Хэ пользовался морскими картами с градусной сеткой, изобретенной во II веке Чжан Хэном (из-за сходства имен иногда это изобретение сильно омолаживают, приписывая его самому Чжэн Хэ). Похоже, что седьмая экспедиция была своего рода генеральной репетицией к чему-то большему, но это так и остается догадкой: вскоре после прибытия на родину Чжэн Хэ умер, едва перешагнув шестидесятилетний рубеж. Чжэн Хэ не знал, да и не мог знать, что в то время, как он упорно пробивался на запад, навстречу ему, преодолевая невероятные трудности, спешили корабли европейцев. Спешили медленно, шаг за шагом, подобно слепцу, ощупывающему палкой незнакомый путь и не ведающему, что его на нем ждет. Может быть, кое-кто из них вспоминал при этом стихи Франческо Петрарки, горько раскаиваясь, что не последовал благоразумному совету:
Кто плаванье избрал призваньем жизни И по волнам, коварно скрывшим рифы, Пустился в путь на крошечной скорлупке, Того и чудо не спасет от смерти, И лучше бы ему вернуться в гавань, Пока его рукам послушен парус.
То были португальцы, сумевшие к 1249 году очистить юго-запад Пиренейского полуострова от мавров. Однако Италия не оставила им никакой надежды на торговлю в Средиземном море, а Ганза - в Северном. Оставался единственный путь - на юг, на него они и вступили. Атлантика у северных берегов Африки была уже отчасти известна: здесь путешествовали Ганнон Карфагенянин, Полибий. Были и примеры посвежее. В 1270 году генуэзец Лансароте Малочелло открыл Мадейру и Канарские острова (по другим данным, это произошло в 1312 или 1336 году, что, в общем, не меняет дела). В мае 1291 года генуэзцы Тедизио Дориа и братья Вадин и Гвидо Вивальди на двух хорошо оснащенных галерах попытались совершить морской путь в Индию, на два века предвосхитив такую же попытку Колумба, но пропали без вести. Не случайно Атлантический океан европейцы стали именовать в то время вслед за арабами Морем Мрака. Вполне зрячие люди, гранды и адмиралы, становились в нем слепцами, и лишь случайно их посох изредка натыкался на неведомые острова и побережья.
 Нападение кита на военный корабль в Море Мрака. Из «Книги о рыбах» Геснера (1598).
Нападение кита на военный корабль в Море Мрака. Из «Книги о рыбах» Геснера (1598).
В 1341 году португальский адмирал Мануэл Пезаньо отправился по следам Малочелло на трех кораблях, разыскал Канарские острова и присоединил их к португальской короне. Ему удалось это сделать в значительной мере благодаря тому, что с 1 февраля 1317 года специальным указом короля Диниша I на службу в португальский флот были приглашены генуэзцы в качестве учителей навигации. Адмирал и сам называл Геную своей родиной, он был известен землякам как Эмануэле Пессаньо. 10 августа 1346 года из Майорки отошло транспортное судно Жакме Феррера на поиски Золотой реки, Рио-де-Оро, но эта экспедиция пропала без вести. В промежутке между плаваньями Пезаньо и Феррера был открыт архипелаг, названный итальянским именем Леньяме - «Лесистый». К началу XV века португальский военный и торговый флот, созданный стараниями Диниша I, уже достаточно уверенно крейсировал в Атлантике от Лисабона до Канарских островов. 21 августа 1415 года сыновья португальского короля захватили Сеуту, обеспечив своему отцу Жуану I господство над Гибралтарским проливом, а себе - рыцарское звание. Се-ута стала воротами Африки и Индии, но ключом к этим воротам был Танжер, все еще находившийся в руках у мавров.
Среди пяти сыновей, участвовавших в штурме Сеугы, особое рвение и смекалку проявил третий его сын, Энрики, получивший почти пять веков спустя прозвище Мореплаватель, хотя не совершил за свою жизнь ни одного плавания. В 1420 году он стал гроссмейстером ордена Христа и на средства ордена построил на мысе Сагриш первую португальскую обсерваторию и первую мореходную школу. Энрики поставил себе первоочередной целью отвоевать у арабов Марокканское царство - цветущий райский сад среди пустынь северо-западной Африки - и сделать его португальской провинцией. Марокко, занимавшее часть Атласского нагорья, самой природой было превращено в государство-крепость, надежно защищенную со всех сторон океаном, горами и пустынями. Интерес Энрики к мавританскому побережью вырос после знакомства его с теориями тогдашних географов и картографов, а также с трудами античных историков, писавших о плаваниях вокруг Африки. Познакомившись с книгой Марко Поло, Энрики повелел всем португальским мореплавателям собирать любые сведения об Индии и о царстве пресвитера Иоанна. Это стало второй целью его жизни. Но на пути к этой цели природа тоже поставила непреодолимое препятствие - мыс Юби. Его не сумело еще обогнуть ни одно парусное судно. Мыс Юби был ключом к южной Атлантике, им надо было овладеть во что бы то ни стало. Первые поползновения в этом направлении хотя и окончились неудачей, все же принесли некоторые побочные результаты. В 1419 году два барка португальцев Жуана Гонсалвиша Зарку и Триштана Ваш Тей-шейры при попытке обогнуть этот мыс были отброшены бурей в открытый океан и... эти два капитана вторично открыли остров Леньяме. Энрике отправляет в следующем году новую экспедицию к Леньяме, и в полусотне километров к юго-западу от него моряки обнаруживают еще один остров, такой же лесистый, как первый. Энрики, не утруждая себя излишними размышлениями, называет его тем же именем, только на родном языке,- Мадейра. Отныне так называется весь архипелаг - первая колония Португалии, подаренная принцем двоим ее открывателям. Гораздо хуже обстояли дела с Марокко. При очередной попытке овладеть этим царством в 1438 году в плен к маврам попал младший сын Жуана-Фернанду. Все старания освободить его разбивались об укрепления арабов, и Фернанду умер в плену в 1443 году, после чего церковь причислила его к лику христианских мучеников. Незадолго до его заточения произошло еще одно важное событие, на этот раз приятное для португальской короны. 15 августа 1432 года Гонсалу Велыо Кабрал, отправленный принцем на поиски островов, нанесенных на некоторые карты к западу от Португалии, открывает остров Санта-Мария из Азорского (Ястребиного) архипелага, вслед за ним - остров Формигаш. Во время второго плавания в 1444-1446 годах Кабрал находит еще шесть островов, замеченных им еще в 1432 году: в тот раз по какой-то причине он не сумел к ним подойти. Последние два острова этого архипелага - Флориш и Корву, отстоявшие от основной группы на двести километров,- по одной версии, открыл гот же Кабрал в 1453 году, по другой - Диогу Тейди в 1457 или 1458-м. Первое открытие Кабрала явилось ступенью к штурму неприступного Юби. Португальцы называли его мысом Нан, а арабы - Нун (что означало одно и то же - «Нет») - в знак того, что это предел для мореходства, а может быть, и для обитания людей. Так они переосмыслили запись арабского историка Ибн-Халдуна (около 1350 года). Ее смысл сводился к тому, что арабы никогда не плавали далее мыса, напоминающего очертаниями арабскую букву «нун». Существует и другая версия - что «Нан» означает «Рыбный мыс», а значение «нет» («Ион») придали ему римляне, и от них оно попало во все романские языки. От пленных арабов, иудеев и негров португальцы знали об областях, лежащих южнее и изобильных золотом и слоновой костью. Но как туда добраться? Самой природой этот клочок суши, южный отрог Атласского хребта, защищен постоянными противными ветрами, а его черный силуэт, резко контрастирующий с белым песчаным берегм, наводил на безрадостные размышления о потустороннем мире. Арабы называли этот мыс Джебель-Асвад («Черная гора»). Забиан вперед, можно упомянуть, что еще в 1492 году, десятилетия спустя после того, как мыс Юби был пройден, на глобусе португальского рыцаря и немецкого картографа Мартина Бехайма, изготовленном в Нюрнберге, у мыса Нун было сделано примечание, что именно до этого пункта сумел доплыть Геракл, но сильная покатость моря к югу вынудила его возвратиться назад. Штурм продолжался двенадцать лет, корабль за кораблем шли к Юби и либо возвращались ни с чем, либо пропадали без вести, как братья Вивальди. В 1433 году Энрики отправил двухмачтовый тридцатитонный барк с очередным поручением обогнуть заколдованный мыс. Командиром барка он поставил своего щитоносца Жила Эанниша. Барк дошел только до Канарского архипелага и возвратился обратно. Принц выразил крайнее неудовольствие поведением щитоносца, упрекал его в трусости и в незаконной торговле рабами, похищенными на Канарах, и повелел довести начатое до конца. После этой беседы Эаннишу удалось заставить себя преодолеть психологический барьер, и в следующем году он обогнул наконец этот мыс на том же самом барке и доставил принцу дикие «розы Святой Марии» в доказательство того, что жизнь южнее этого мыса существует. Юби получает с этого времени новое имя - Бохадор, от слова «бохар» (объезжать). На современной карте нанесены все три мыса (с севера на юг): Нун, Юби и Бохадор. Хорошо известно, что во время Энрики португальцы штурмовали именно Бохадор, но почему в текстах он то и дело именуется мысом Нун (или Нан, или Нам, или Нон)? Некоторые, основываясь на карте Фра-Мауро 1457 года, полагают, что Жилом Эаннишем был переименован в Бохадор именно Юби, расположенный почти точно на 28° северной широты (современный Бохадор - 26°7/). Но как в таком случае быть с мысом Нун, лежащим на 28°47' северной широты? Стефан Цвейг в своей книге о Магеллане ставит знак равенства между топонимами «Нун» и «Бохадор». А иные считают, что мыс Нун был пройден еще в 1416 году, но не указывают, кем. Судя по дате, здесь имеется в виду экспедиция Гонсалу Велью Кабрала и Диогу Гомиша. Предположение, что этот мыс огибали итальянцы в начале XIV века и что вскоре после этого Бохадор заместился на картах мысом Нун, неубедительно: во-первых, после этого его перестали бы называть «мысом Нет», а во-вторых, были бы непонятны стремление Энрики во что бы то ни стало обогнуть уже пройденный «мыс Нет» и переименование его в честь «объезда».
Очевидно, речь все же следует вести об одном и том же мысе - Юби, считавшемся арабами непреодолимым («Нет») и преодоленном португальцами («Бо-хадор»). Вопрос лишь в том, какой из трех нынешних мысов носил в Средние века это название - современный Юби или один из двух других, либо же под «мысом Нун» понималась вся дуга сахарского побережья Рио-де-Оро между устьями рек Дра и Асаг. Другой вариант происхождения слова «бохадор» - от слова «бохудо» (в испанской транскрипции), что означает «выпуклый»: в этом районе африканский берег действительно сильно выступает в океан, так что речь вполне может идти о значительном участке побережья. В 1436 году Афонсу Гонсалвиш Балдая, участник экспедиции Эанниша, пересек северный тропик и обнаружил на своем пути легендарную Золотую реку - узкую бухту Рио-де-Оро. Еще через пять лет Антан Гонсалвиш и Нуну Триштан достигли неведомого ранее европейцам мыса, называемого арабами Аль-Раас-аль-Абьяд. На своих картах португальцы сохраняют это название, но переводят его на родной язык - Бланко (Белый, ныне Кабо-Бланко). Они доставили оттуда десяток захваченных ими чернокожих в доказательство того, что те места обитаемы, и немного золотого песка как свидетельство того, что они сказочно богаты. (Есть еще один мыс с таким названием, и тоже в Африке,- это самая северная точка континента, расположенная в Тунисе. Исторически сложилось так, что мыс Кабо-Бланко, или Нуадибу, в бывшей Испанской Сахаре - ныне Западная Сахара - носит испанский вариант названия, а его тезка в Тунисе, долго принадлежавшем Франции, французский: Кап-Блан.) В 1443 году Энрики снова посылает Триштана к мысу Бланко - с тем чтобы он прошел еще дальше к югу. Триштан огибает мыс и в ста двадцати пяти километрах за ним обнаруживает острова. Мавры называют их Аргем, а португальцы, изменив для удобства произношения одну букву, наносят на карты под именем Арген. На островах есть источник пресной воды и негры, занимающиеся рыболовством. Триштан захватывает двадцать девять туземцев и продает их в Лисабоне по баснословной цене. 1443 год можно считать поворотным во внешней политике Португалии. С этого года начинается планомерная и поставленная на широкую ногу работорговля.
Мечты принца Энрики о поиске южного пути в Индию обретают зримые и осязаемые черты в глазах его подданных. Им есть теперь во имя чего рисковать своими жизнями. Один удачный рейс окупал все затраты, давал ощутимую прибыль и как бесплатное приложение к ней - славу и положение в обществе. В 1444 году Лансароте Писанья на шести каравеллах доставил с Аргена сто шестьдесят пять черных рабов. В этом же году Гонсалвиш повторил свой визит к Рио-де-Оро и исследовал прилегающие внутренние области Африки, а Диниш Диаш вывел свои корабли к мысу Зеленому. В 1445 или 1447 году Писанья достигает устья реки, названной по имени местного вождя,- Санага. Это нынешний Сенегал. Честь его открытия принадлежит командиру одной из каравелл Писаньи - Нуну Триштану. Командир другой каравеллы, Диниш Фернандиш, огибает новый неизвестный мыс и называет его Кабу-Верди (мыс Верга). Это нынешний мыс Зеленый - крайний пункт, куда доходили карфагенские мореходы. Один из кораблей флотилии Писаньи, под командованием Алвару Фернандиша, был отнесен штормом к нынешнему Биссау, за устье Риу-Гранди (Гамбии). Основываясь на сообщениях Фернандиша, Триштан в следующем году повторил его путь и открыл архипелаг Бижагош (Бисагуш) и отдельно лежащий островок к востоку от него, напротив устья Рио-Нуньиш (Жеба). Высадившись у этой реки, чтобы пополнить запасы пресной воды, Триштан подвергся нападению аборигенов и был убит вместе с восемнадцатью другими моряками. Пятеро оставшихся в живых вручили бразды правления самому грамотному из них - нотариусу Айришу Тиноку и после двухмесячных блужданий в океане, преодолев три с половиной тысячи километров против ветра и течения, добрались до Лисабона. Островок, обнаруженный по соседству с архипелагом Бижагош, получил имя Триштана в память об этом отважном и неутомимом мореходе. Форштевни каравелл быстро раздвигали пределы известного мира, быстрее, чем мир мог бы этого пожелать. Золото и рабы захлестнули маленькую Страну Заходящего Солнца. Постепенно на берегах Западной Африки сложилась вторая колония Португалии, получившая название Сенегамбии. Молва о португальских открытиях достигла даже Скандинавии, и в 1448 году Сенегамбию посетил датчанин Воллерт. В качестве командира одного из кораблей Триштана он разделил участь начальника экспедиции. В 1452 году на Аргене возникло Аргенское торговое общество, с этого острова португальцы отправляли одну за одной экспедиции на юг по океану и на восток через пустыню. Африка обретала четкие очертания и скрупулезно наносилась на портоланы картографами принца Энрики. Толпы черных рабов заполонили города метрополии, а через них - земли сопредельных государств. В 1456 году Диогу Гомиш доставляет Энрики первые и достаточно подробные сведения о реке Эмиу (Нигер) и землях, где он протекает (Западный Судан). Основываясь на системе мира Птолемея, Энрики принимает Эмиу за рукав Нила. В 1455 году к устью Гамбии снаряжается новая экспедиция под началом венецианца Альвизе де Када-мосто и генуэзца Антонио Узодимаре с заданием наладить дружественные отношения с аборигенами. Узодимаре имел и другую, тайную цель, тщательно скрываемую от Энрики. «Будьте уверены,- писал он своим кредиторам в Геную,- что отсюда действительно менее 300 лиг до царства священника Иоанна - если не до его резиденции, то хотя бы до границ его страны». В мае 1456 года Кадамосто и Узодимаре, отнесенные к западу штормом, открыли первые пять восточных островов Зеленого Мыса, а к 1462 году было завершено открытие всего архипелага стараниями Диогу Гомиша и Диогу Афонсу, а также генуэзца Антонио Ноли. Когда каравеллы Кадамосто и Узодимаре лавировали в проливах архипелага Зеленого Мыса, на лиссабонских верфях формировалась другая эскадра, численностью в двести двадцать боевых кораблей. 3 октября 1458 года она появилась у стен Сагриша, где на борт флагмана взошел шестидесятичетырехлетний Энрики, и взяла курс на мавританский порт Алкасер ду Сал. 16 октября крепость пала, и португальцы получили очень важный стратегический пункт на море. Но Энрики не успел извлечь все преимущества из этого приобретения: 13 ноября 1460 года он умер. Только после его смерти соотечественники сумели осмыслить и в должной мере оценить все, что он сделал для них. Достаточно сказать, что его стараниями португальцы из учеников превратились в учителей морского дела и удерживали это звание на протяжении двух с половиной столетий; что из захолустной мавританской окраины Португалия превратилась в первостепенную морскую державу, оставившую далеко позади другие европейские государства; что ростры трехмачтовых португальских каравелл сумели преодолеть непреодолимое - в значительной мере благодаря заимствованию у венецианцев косого, латинского, паруса, позволяющего плыть против ветра; что предел известного обитаемого мира отодвинулся к югу настолько, насколько он простирался к северу от Лисабона. После смерти Энрики открытия продолжались. Еще до того как было завершено обследование островов Зеленого Мыса, в 1461 году Педру ди Синтра довел свои корабли до побережья Сьерра-Леоне и первый ступил на Перцовый берег в нынешней Либерии. В 1470 году Фернан Гомиш открыл Берег Слоновой Кости, а год спустя-Золотой Берег. В 1473 году были открыты острова Гвинейского залива Принсипи, Сан-Томе, Аннобон и Фернандо-По - первые в южном полушарии, а на противолежащем побережье возник новый и очень красноречивый топоним - Невольничий Берег. В 1471 году осуществилась еще одна мечта покойного принца Энрики, вынашивавшаяся им всю жизнь: пал Танжер. Долгожданный ключ к воротам в Африку и Индию оказался наконец-то в руках португальцев. Но они не спешили им воспользоваться. Крутой поворот африканского берега к югу, обнаруженный Фернаном да По и Сикейрой, привел их в уныние: близкое, казалось, достижение Индии и царства пресвитера Иоанна отодвигалось на неопределенный срок. Португальцы на время удовольствовались грабежом открытых земель и охотой за рабами. Лишь десять лет спустя они возобновили продвижение к югу. Смерть Энрики и то обстоятельство, что Португалия равнодушно взирали на положение дел в далеком oi нее Средиземном море, всколыхнули пиратскую деятельность во всем этом бассейне. Особенно интенсивной она стала у североафриканских берегов: Гибралтар был теперь заперт для мавров, и они старались возместить упущенное на других путях. С этого времени мавританские, или, как их еще называли, варварийские (берберийские) пираты принимают кроваво-экзотическую окраску в бесчисленных рассказах и россказнях того времени. Редко обходятся без их упоминания и летописцы, и люди делового мира, и политики, и авторы развлекательных новелл. Изобретение в середине XV века книгопечатания дало «путевку в жизнь» самым невероятным историям, делая их всеевропейским достоянием. Италия первая вступила в эти годы на путь возрождения античных идеалов во всех областях культуры, и мавры давали ее писателям неисчерпаемый и первоклассный материал для контрастного отображения двух рас (черной и белой), двух вер (мусульманской и христианской), двух языков (экзотичные имена мавров и «нормальные» - христиан). Молва о чернокожем населении тропической Африки, «живые» негры, носящие по улицам паланкины португальских и испанских вельмож, хорошо известные обитатели мавританского побережья в той же самой Африке,- все это привело к выработке особого типа литературного героя - чернокожего мавра, коварного, свирепого, раба своих страстей, хотя порою и не лишенного благородства. Ведь многие знали о них только понаслышке: например, феррарец Джамбаттиста Джиральди Чинтио, включивший в свои «Экатоммити» новеллу о венецианском военачальнике-мавре, «человеке большой храбрости», загубившем свою белокожую жену по имени Дисдемона в припадке ревности по навету завистливого поручика. У Чинтио этот мавр еще благороден, отважен и даже симпатичен. Англичанин Шекспир, сочинивший по этому сюжету трагедию и давший мавру имя, рисует его в совсем других тонах, черное становится у него беспросветно черным, белое - ослепительно белым. Это было время, когда даже самая короткая прогулка по Средиземному морю таила в себе множество приключений и опасностей. Любой корабль, куда бы ни устремлял он свой бег, на деле всегда держал один и тот же курс - в неизвестность. Флорентийский монах Аньоло Фиренцуола рассказывает в своих «Беседах о любви» занимательную историю о том, как один корабль, направлявшийся из Флоренции в Валенсию, был занесен бурей к берегам Туниса и погиб в нескольких милях от города Сус. Одного из пассажиров, по имени Никколо, подобрали на берегу рыбаки, «с великим трудом» привели его в чувство, а когда он заговорил, горячо возблагодарили Аллаха за столь великолепный улов и тут же продали его в рабство знатному мавру Ладжи Амету (вероятно, Хаджи Ахмеду). Прослышав об этом, друг Никколо, флорентиец Коппо, быстро собрал большую сумму денег и прибыл в Тунис, чтобы выкупить незадачливого путешественника. Тут надо заметить, что человек, прибывавший к пиратам для переговоров о выкупе, не только был всегда в безусловной безопасности (как и его кошелек), но и пользовался почетом и гостеприимством «по высшему разряду». Пираты очень дорожили своим деловым реноме. Если даже переговоры оканчивались ничем, гостю иногда давали охрану, чтобы он мог беспрепятственно выйти за пределы «территориальных вод». Однако в данном случае не понадобились ни деньги, ни охрана. Оказалось, что молодая жена Ладжи Амета, без памяти влюбившаяся в пригожего невольника, только о том и мечтала, чтобы переменить господина. Сговорившись обо всем, молодые люди назначили время, и мавританка, «собрав предварительно изрядный запас золота, серебра и иных драгоценностей», однажды утром отправилась с Никколо на прогулку в сторону гавани. Само собой, шикарный корабль Коппо, покачивавшийся у причала, привлекал всеобщее внимание, и ничего нет удивительного в том, что любопытная женщина (а женщина Востока любопытна вдвойне) выразила желание осмотреть его. Вышколенные матросы подняли паруса и отдали швартовы тотчас же, как только она и Никколо ступили на палубу, и ее свите, замешкавшейся на берегу, осталось только призывать гнев Аллаха на головы «неверных». Пока Ладжи Амет организовывал погоню, корабль Коппо "был уже в Мессине. Разумеется, весь этот рассказ - выдумка Фиренцу-олы, умело осовременившего одну из новелл Геродота и добавившего в нее эпизод из «Одиссеи», но выдумка эта выглядит очень правдоподобной благодаря обилию точных деталей. Еще правдоподобнее концовка этой истории. На беду беглецов, почти одновременно с ними в Мессину прибыл королевский двор со всем дипломатическим корпусом. Среди послов был и представитель Туниса, только что получивший письмо эмира с подробным описанием случившегося и категорическим требованием во что бы то ни стало разыскать беглую жену и вернуть ее безутешному мужу. Встретив и узнав ее, посол ударил челом королю, и тот повелел немедленно восстановить справедливость. Всю троицу привели под конвоем на корабль Коппо, «который король отдал под командование своего человека», и уже показались берега Берберии, когда действие начало раскручиваться в обратном направлении: внезапный шквал отбросил корабль от Карфагенского мыса (мыса Картаж) в Тирренское море. Недалеко от Ливорно его захватили пизанские корсары, и, легко откупившись от них, все трое прибыли наконец во Флоренцию. Другую байку того времени можно было бы считать документальной, если бы она упоминалась еще где-нибудь, кроме сборника новелл доминиканского монаха Маттео Банделло. Автор, лично знакомый с Леонардо да Винчи, вкладывает в его уста повесть о прославленном флорентийском живописце, монахе-кармелите фра Филиппо Липпи, чья беспутная жизнь была, по свидетельствам современников, полна невероятнейших приключений. Может быть, это широко известное обстоятельство и побудило Леонардо (если только этот рассказ не назидательная выдумка) избрать своим героем именно Липпи. Когда Липпи, рассказывает Банделло вслед за Леонардо, осмотрел музей Марке в городе Анконе на Адриатическом побережье Италии, ему вздумалось освежиться, и он с несколькими друзьями отправился покататься на лодке по морю. Неожиданно у анкон-ского берега появились галеры Абдул Маумена - «великого берберийского корсара того времени». Скорее всего, мавры подстерегали в этом месте корабли венецианских купцов, но веселая прогулка шумной ватаги переменила планы пиратов. Лодка была без труда захвачена, а ее пассажиры закованы в цепи и отвезены в Берберию. Последующие полтора года фра Филиппо, поневоле забросив кисть, в поте лица осваивал искусство гребца на мавританской галере. Выручил его нечаянный случай. Однажды ему пришла в голову счастливая мысль нарисовать на стене портрет Абдул Маумена, и сходство так поразило мавров, как известно, вообще не знавших портретного искусства, что Липпи и. его друзья перешли с того дня на куда более приятное положение друзей пирата. «Много еще написал красками прекраснейших картин фра Филиппо для своего господина, который из уважения к его таланту одарил его всякими вещами, в том числе и серебряными вазами, и приказал доставить его вместе с земляками целыми и невредимыми в Неаполь»,- так заканчивает Леонардо свой рассказ. Вероятно, эта история произошла (если она вообще произошла) примерно в 1440 году, когда фра Филиппо едва перевалило за тридцать: дальше Леонардо упоминает о его женитьбе и рождении сына - тоже знаменитого живописца Филиппино Липпи, появившегося на свет около 1457 года. К этому времени и следует отнести деятельность «великого берберийского корсара» Абдул Маумена - первого мавританского пирата, известного нам по имени, и к тому же лица явно реального, если даже вся история выдумана Леонардо. Вызывает сомнения и еще один рассказ, относящийся к 1470-м годам и изложенный в книге Фернандо Колона «Жизнь Адмирала», посвященной своему отцу, прожившему жизнь не менее штормовую, чем фра Филиппо Липпи. Отец Фернандо был, как чаще всего считают, сыном генуэзского ткача Доминико Коломбо, его звали Кристобаль. В четырнадцатилетнем возрасте (тоже предположительно) Кристобаль поступил юнгой на корабль, совершавший каботажные рейсы между Генуей и полуостровом Портофино, изобилующим селениями и монастырями, а иногда ходил и на Корсику. В 1473 году двадцатидвухлетний Кристобаль, по его собственным словам, нанялся капитаном на службу к анжуйскому герцогу Репе и прирабатывал каперством. Вероятно, он кое-чего добился на этом почтенном поприще: в прошлом веке обнаружен документ, где «морской суд Венеции предостерегает относительно пирата Коломбо», как сообщает известный географ Карл Всйле Надо, правда, заметить, чт Венеции и Генуя находились в состоянии чуть ли не непрерывной войны, так что речь может идти с равными основаниями и о пиратстве, и о каперстве.
Фернандо Колон не жалея красок расписывает, как герцог отправил Кристобаля в Тунис, чтобы захватить там галеру «Фернандина». Выйдя из Марселя и добравшись до островка Сан-Пьетро, в двух милях к северо-западу от западного побережья Сардинии, Коломбо и его люди узнали, что в тех водах появились еще два мавританских судна - галера и каракка. Команда потребовала возвращения в Марсель за подмогой, но бесстрашный Коломбо проделал какие-то манипуляции с компасом вроде тех, какие описал Жюль Верн в «Пятнадцатилетнем капитане», и утром его судно было уже у тунисского мыса Картаж - того самого, где шквал отбросил корабль Коппо в Тирренское море. Если верить всему этому, корабль Коломбо за одну ночь отмахал примерно триста двадцать пять морских миль в обход Сардинии, то есть летел со скоростью свыше сорока узлов, как лидер эсминцев типа «Ленинград»! Завидный сюжетец для барона Мюнхгаузена! Должно быть, пиратская жизнь показалась чересчур хлопотной для «капитана» Коломбо, так как три года спустя мы видим его на борту мирного фламандского «купца» в роли простого матроса. Странная метаморфоза, не правда ли? 31 мая 1476 года это судно вышло из Лигурийского порта Ноли (недалеко от Генуи) в составе каравана с грузом хиосской мастики и взяло курс на Гибралтар. Караван продвигался медлительно, пролив прошли лишь в первых числах августа. 13 августа (роковое число!) корабли, ловя попутную струю сильного южного течения, обогнули скалистый мыс Сан-Висенти - юго-западную оконечность Пиренейского полуострова, расположенную в каких-нибудь пяти-шести километрах севернее мыса Сагриш, где еще витала тень принца Энрики. И тут появились пираты - целая эскадра французских кораблей (если верить их флагам) под началом итальянца Гийома Казановы, то ли эмигранта, то ли искателя приключений за счет короля. Этого кондотьера именуют иногда адмиралом, но его прозвище Колон может навести на другую мысль - что Казанова еще не успел заполучить патент на этот чин: скорее всего, это общепринятое фамильярное сокращение французского слова «колонель» (полковник), подобно тому как практичные американцы вместо слова «доктор» предпочитают короткое «док». Самое же забавное заключается в том, что и самого Коломбо называли точно так же на испанский лад, а для его потомков это была уже узаконенная фамилия. Итак, Колон итальянский под французским флагом жаждал захватить в плен другого Колона, тоже итальянского, но под флагом фламандским. Когда рассеялся дым сражения, стало видно, что ко дну идут четыре пиратских корабля и три фламандских. Впрочем, Коломбо было тогда не до подсчетов, потому что одним из тонущих кораблей был его собственный, а сам он, судорожно вцепившись в какой-то обломок, отчаянно греб к берегу. Он выплыл на него в бухте Лагуш и вскоре добрался до одноименного города. Так он попал в Португалию. Только здесь Коломбо узнал, что такое настоящие мореходы. Ему действительно было чему у них поучиться, был ли он капитаном или матросом. Все самые громкие географические открытия и после смерти Энрики по-прежнему связывались с этой страной. До поры до времени, только до поры до времени. Письмо флорентийского медика и космографа-любителя Паоло Тосканелли, датированное 15 июня 1474 года, все еще пылится в королевских архивах. О нем все давно забыли, кроме одного придворного по имени Фернандо Мартинец. Это он по поручению своего короля Афонсу V Африканского (племянника Энрики Мореплавателя) обратился к Тосканелли за консультацией по поводу одной бредовой идеи, носившейся в воздухе и жалящей, словно москит: можно ли достичь Индии, если плыть на запад, только на запад. Ответ итальянца, как ни странно, гласил, что «существование такого пути может быть доказано на основании шарообразности формы Земли». Может быть... Хорошенькое дело! Да ведь прежде еще нужно доказать, что саму Землю всемогущий Господь сотворил в виде апельсина! Слишком все это смутно и туманно. Правда, этому давно уже учат мавры... Приложенная к письму карта, собственноручно вычерченная Тосканелли, еще менее убедительна для короля, чем письмо. Эти итальянцы все заодно! Письмо вместе с картой пылятся в архиве. Кристобаль Коломбо узнает о них от Мартинеца, с коим он в приятельских отношениях. Он загорается новой идеей. Он сам усаживается за вычерчивание карты, потом вызывает в Лиссабон своего брата Бартоломе, профессионального картографа. Он пытается зажечь идеей его величество. Но его величество давно уже не мальчишка, он не желает оказаться в дураках, он осторожничает. Но не хочет он и того, чтобы его опередили испанцы. 6 апреля 1480 года он дарует своим славным мореходам строгую инструкцию, предписывающую захватывать все иноземные суда, оказавшиеся у берегов Гвинеи, и топить их команды в море как котят, без различия пола и возраста. В инструкции фигурирует слово «каравелла». Эти корабли составляли гордость не только португальского, но и испанского флота. Конкуренты. Все лучшее и все новое должно принадлежать Португалии - таков девиз Афонсу. Увы, он остался только девизом. 28 августа 1481 года король умер. Письмо и карта Тосканелли пылятся в архиве. 12 декабря того же года (уже прошло пять лет после прибытия Коломбо в Португалию) новый король Жуан II, принявший вместе с португальской короной учрежденный им же самим титул «повелителя Гвинеи», отправил флотилию, возглавленную Диогу Азанбужи, для основания колонии на Золотом Берегу. Это куда вернее и прибыльнее, чем бредни заезжего прожектера! Год спустя один из капитанов этой флотилии, Диогу Кан, завершил открытие Гвинейского залива, выйдя к устью реки Конго, а затем достиг побережья Анголы. В течение последующих двух лет Кан продвинулся до нынешнего мыса Кросс в пустыне Намиб, остановившись лишь в 2° от Южного тропика. Только смерть помешала Кану достичь его. Более двух с половиной тысяч километров западноафриканского берега присоединилось к португальской короне! Тем временем Коломбо успел уже изрядно поднадоесть новому монарху. Через своего земляка он обратился к Паоло Тосканелли, сослался на свое знакомство с Мартинеиом и заполучил копии письма и карты, аккуратно хранившиеся педантичным флорентийцем. Чтобы не отпугнуть короли, он исправлен маршрут Тосканелли, руководствуясь выкладками Роджера Бэкона и Альберта Великого, пересказанными епископом Пьером д'Айли в своей книге «Образ мира». Он делает его короче, а значит, убедительней. Король устал, его загнали в угол. На исходе 1484 года он дает аудиенцию генуэзцу и туманно обещает разобраться во всем. Королевское слово - верное слово. Чтобы окончательно, раз и навсегда отделаться от навязчивого фантазера, Жуан препоручает рассмотрение дела в третьи руки. Еще в 1480 году, при его предшественнике, к португальскому двору прибыл из Нюрнберга двадцатилетний сын суконного фабриканта Мартин Бехайм, ученик прославленного астронома и математика Иоганна Мюллера Региомонтана Кёнигсбергского, за пять лет до того переехавшего по приглашению папы Сикста IV в Рим для пересмотра и уточнения календаря. Жуан вспомнил теперь об учрежденной им же в 1483 году комиссии по изучению состояния мореходного дела с целью его улучшения, членом которой состоял и Бехайм. Комиссия выглядит вполне солидной, а главное - уместной. Никто не сомневается в том, что пора навести порядок в морском деле. С тех пор как Региомон-тан разработал эфемериды - астрономические таблицы с указанием места солнца и других светил на 1474-1506 годы,- навигация становится точной наукой. Эфемериды позволяли определять место судна по звездному небу. Для измерения высоты светил Регио-монтан изобрел градшток - «посох святого Иакова», достаточно точный для практических целей. Китайский (или арабский) компас, к тому времени прочно завоевавший себе место на флотах под французским именем буссоли, позволял ориентироваться по странам света, но имел и существенный недостаток: он не позволял вычислять градусы широты. Заимствованная у арабов деревянная и чрезмерно громоздкая астролябия, служившая для определения высоты солнца, имела еще более ограниченное применение: ею нельзя было пользоваться при качке. Метод определения широты и был задачей номер один, возложенной королем на комиссию. Выросший в механических мастерских Нюрнберга, выстроенных в 1471 году Региомонтаном Мартин Бехайм берется за эту задачу и в ничтожно короткий срок: предлагает португальским морякам новую астролябию, металлическую, подвешиваемую к мачте и благодаря своей тяжести сохраняющую более или менее вертикальное положение при качке. Это новшество было проведено столь быстро, что до сих пор не исчезли сомнения в том, что Бехайм лишь дал путевку в жизнь изобретению Региомонтана. Впрочем, в те времена к авторскому праву относились куда менее щепетильно, чем теперь. .


Бехайм кажется Жуану наиболее подходящей кандидатурой: признанный ученый, к тому же из незаинтересованной страны. Вскоре после аудиенции, данной Жуаном генуэзцу, Бехайм получает новое задание: он должен рассмотреть и дать свое заключение о проекте западного, якобы кратчайшего пути в Индию. Трудно сказать, каким было бы заключение Бехайма, если бы он знал о письме и карте Тосканелли, не менее признанного ученого, чем он сам. Но автор предлагаемого проекта - никому неведомый Кристобаль Коломбо, иностранец, живущий то в Лисабоне, то на Мадейре, то на соседнем с нею острове Порту-Санту. К тому же он явно не пользуется расположением монарха... Осторожный немец, дорожащий своим местом и своим пенсионом, дает отрицательное заключение. Но на стороне Коломбо - куда более серьезные авторитеты, чем сам Бехайм. Еще на рубеже II и I веков до н. э. знаменитый греческий историк и географ Посидоний уверял, что если следовать из Европы строго к западу, то после семи тысяч миль пути корабельщики бросят якорь в Индии. У Птолемея это расстояние еще короче. А Марко Поло? Разве не он писал о Сипанго на далеком Востоке? А ведь Сипанго и Индия - совсем рядом. И там же - царство Катай... Возражения, конечно, серьезные. Но кто их проверил? А вдруг... И тогда в подтверждение своей правоты Бехайм приступает к изготовлению глобуса диаметром в пятьдесят четыре сантиметра, основываясь... все на той же карте мира Птолемея! (Этот глобус, по иронии судьбы, будет закончен лишь в год открытия Америки и четыре века после этого будет фамильной достопримечательностью потомков Бехайма, а теперь он экспонируется в Нюрнбергском музее.) Получив отказ от короля, Кристобаль Коломбо, которого теперь чаще называют на испанский лад Колоном или на латинский - Колумбом, перебирается в 1485 году в Испанию и начинает правдами и неправдами склонять на свою сторону андалусских купцов и банкиров. При португальском дворе о нем больше не вспоминают. Португальские каравеллы продолжают свой бег к Индии. Восточным путем, разумеется. Потому что другого нет. Сразу по возвращении экспедиции Диогу Кана благочестивый Жуан II высылает новую экспедицию на двух пятидесятитонных военных кораблях и одном транспортном (с провизией) со строжайшим наказом ее начальнику Бартоломео Диашу, тоже участнику экспедиции Азанбужи, отыскать пресвитера Иоанна и установить с ним контакт. Время сильно поджимало: жизни роду человеческому оставалось пять лет, и надо было успеть завершить все богоугодные земные дела. Ученые богословы совершенно точно определили, что конец света и Страшный Господень Суд должен состояться в 7000 году от сотворения мира. То есть - в 1492-м от рождества Христова. И год этот приближался неумолимо. По пути в царство пресвитера Диаш должен был также доставить на родину нескольких негров, привезенных в Лисабон Диогу Каном. В конце августа 1487 года Диаш вышел в море. Оригинал его отчета об этом плавании до нас не дошел, но ход экспедиции восстановлен довольно точно по косвенным данным и позднейшим упоминаниям. Достигнув поворотного пункта экспедиции Кана, Диаш двинулся дальше, пересек тропик и медленно поплыл к югу, изучая и зарисовывая пустынные берега, часто окутанные туманом. Возможно, из-за тумана он не заметил устье великой реки Оранжевой. Одну за другой наносит он на карту заливы Святой Марии (бухта Уолфиш-бей), Святого Томаса (бухта Спенсер) и Святого Стефана (бухта Людериц), Поворотный мыс южнее устья не обнаруженной им Оранжевой. К новому году Диаш достиг Терра-да-Силь-вештри (Земли Людерица), а в первых числах января 1488 года его каравеллыминовали Серру-душ-Реиш, нынешние горы Камис. Здесь эскадра попала в жесточайший шторм, увлекший ее далеко к югу. После двухнедельной трепки корабли легли на восточный курс, а потом, не находя вокруг себя никаких признаков суши, Диаш велел повернуть к северу. Вновь достигнув африканского побережья, экспедиция открыла для португальской короны бухту Коровьих Пастухов (Баиа-душ-Вакейруш), чуть дальше к востоку- бухту Баиа-ди-Санта-Браш (Моссел-бей). В марте 1488 года, двигаясь дальше на восток, Диаш вошел в бухту Баиа-Лагоа (Алгоа) и высадился на мысе Кабуди-Падрони (Падроне). Заметив, что дальше берег круто поворачивает к северу, Диаш понял: он обогнул Африку. В течение трех последующих дней эскадра шла вдоль побережья, повторяя все его изгибы. Ошибки не было. Путь вел на север. Диаш приказал поворачивать обратно. Самой восточной точкой, достигнутой им, было устье Риу-ду-Инфанти (Грейт-Фиш). Переждав шторм, корабли 16 мая вышли на траверз мыса Кабу-ду-Инфанти, или Сент-Брандана (нынешний мыс Агульяш, или Игольный), не подозревая, что это самая южная точка Африканского континента. Ровно через три месяца, день в день, Диаш миновал еще один мыс, названный им Кабу-Торментозу - мысом Бурь и ошибочно (ошибка эта пережила века) принятый за южную оконечность Африки. Через два дня он бросил якорь в заливе Святой Елены (бухта Сент-Хелина) около 33° южной широты. Посетив дальше к северу неизвестный в то время залив Ангра-душ-Волташ (Порт-Ноллот), пропущенный ранее из-за шторма, в декабре 1488 года Диаш возвратился в Португалию, так и не обнаружив ни Индии, ни царства пресвитера. Тем неменее открытие им полосы побережья протяженностью в две с половиной тысячи километров и южной точки материка, побудило Жуана II переименовать Кабу-Торментозу в Кабу-ди-Боа-Эсперанца - мыс Доброй Надежды.
Король действительно не терял надежды, он ждал вестей от другой экспедиции, посланной за год до экспедиции Диаша в противоположном направлении. В 1694 году в Кёльне вышел в свет девятнадцатый том обширнейшей компиляции Одорико Райнальдо, итальянца по происхождению. Книга его носила название «Церковные анналы 1486 года». Вот о чем поведал Одорико на одной из страниц девятнадцатого тома. «Король Жуан Португальский, второй, носивший это имя, много слышал о священнике Иоанне и полагал, что не сможет свершить ничего лучшего для своей славы, для блага религии и для изучения Индии, чем вступить в союз с этим христианским государем. Поэтому, посулив щедрое вознаграждение, поручил он посетить те страны людям, которые неоднократно проявили себя весьма сведущими в арабском языке. Среди них был некто, по имени Альфонс Пайва, и другой, по имени Иоанн Петрей. Они выехали из Португалии в 1486 г., пересекли как купцы Египет и оттуда попали в Аден. Там они узнали, что в расположенной выше Египта части Эфиопии живет могущественный христианский правитель весьма обширного государства, которому подчиняются многие князья. Они считали, что речь идет о том самом государе, для знакомства с которым они были посланы Жуаном, однако их смущало название Индия. Ведь их послали с тем, чтобы отыскать священника Иоанна, христианского правителя Индии, а ни это государство, ни его название, ни сан священника не подходили царю Эфиопии. Поэтому они посовещались, что им лучше всего сделать, и договорились, что Иоанн Петрей поедет в Индию и узнает, есть ли на тех берегах сведения о священнике Иоанне. Пайва же должен был ожидать Петрея в египетских Фивах. В действительности в срединных частях Индии был некогда христианский правитель из секты несториан с таким именем, и правил он очень большим государством. Но он отступил перед оружием скифов (под скифами здесь имеются в виду любые кочевые воинственные народы, например монголы.- Л.С), а его государство было завоевано, так что даже название забылось. Множество христиан осталось в тех местах, но они осквернены несторианской ересью».
 Корабли крестоносцев в гавани острова Родос. Гравюра на мели, 1488.
Корабли крестоносцев в гавани острова Родос. Гравюра на мели, 1488.
Такова была завязка одного из самых блистательных путешествий Средневековья, путешествия, совершенного за шесть лет до Колумба. Упомянутый в тексте Иоанн Петрей - Педру де Ковильян. Как и Афонсу ди Пайва, он был довольно заметной фигурой среди придворных португальского короля, и оба они в равной степени стяжали себе славу тонких знатоков не только арабского языка, но и восточных обычаев. И еще в одном ошибся Одорико Райнальдо: одиссея этих двоих состоялась монаршим соизволением годом позже, она началась 7 мая 1487 года. На корабле они прибыли в Неаполь, а оттуда на остров Родос и затем с мавританскими караванами через Александрию и Каир в гавань Тор (вероятно, Кусейр). Из Тора путешественники перебрались по Красному морю в Аден и здесь разделились. Пайва отправился на запад, в Эфиопию, Ковильян - на восток, в Индию. Посетив индийские города Каннанун и Каликут, Ковильян возвратился в Гоа и оттуда перебрался морем в Софалу, чтобы осмотреть прославленные копи, приписывавшиеся то царю Соломону, то пресвитеру Иоанну. Из Софалы Ковильян отправился морем вдоль африканского побережья к северу, посетил Мозамбик, Килоа (Килву), Момбасу и Малинди. Во время этих странствий он узнал от арабских моряков о Лунном острове - Мадагаскаре. Если бы Ковильян взял от Софалы курс к югу или если бы Диаш прошел чуть севернее Ангра-душ-Волташ, они безусловно бы встретились, и вся дальнейшая история географических открытий приобрела бы совсем иные очертания. Им помешало именно это «если бы». Но Ковильян поплыл к северу и вернулся в Аден, а оттуда с караваном прибыл в Каир, где должен был встретиться с Афонсу ди Пайвой. В Каире его разыскали два португальских еврея, равви Авраам и сапожник Иосиф, вручившие ему письмо от короля. Жуан сообщал Ковильяну, что Пайва умер, и приказывал продолжить поиски царства пресвитера, отчет о проделанном до этого момента путешествии переслать с Иосифом и сопровождать Авраама до Ормуза, где, по словам Иосифа, находятся центр и складочное место всех изделий Востока. Ковильян возвратился в Тор и оттуда в Аден, где уже побывал дважды. Из Адена он морем добрался до Ормуза, обогнув Аравийский полуостров, а оттуда с караваном отправил Авраама в Алеппо, вручив ему письмо для короля. В этом письме Ковильян писал о возможности попасть из Португалии в Индию морским путем. К письму он приложил индийскую карту с нанесенным на нее югом Африки и хорошо известным индийцам мысом Доброй Надежды. «Португальские корабли,- писал Ковильян,- если они пойдут вдоль западного берега Африки на юг, должны достигнуть южной оконечности этого материка, а затем могут идти в восточном океане по своему выбору в Софалу и к Лунному острову». Посетив Мекку и Медину, Ковильян вновь прибыл в Аден и переправился через горло Красного моря в противолежащий порт Зейду, где его благосклонно принял абиссинский негус Эскандер. Абиссинию в то время многие считали страной пресвитера Иоанна, и Ковильян пал жертвой этого заблуждения. В 1494 году Эскандер был убит, а новый негус, его брат Наод запретил Ковильяну выезд из страны, не доверяя любопытству чужеземцев. Пользуясь большим почетом у Наода и затем у его сына Давида III, Ковильян оставил мысли о возвращении на родину, женился на богатой женщине, обзавелся хозяйством и прожил при абиссинском дворе с женой и ребенком по крайней мере четверть века. Там он, вероятно, и умер. Ко времени странствий Ковильяна уже совсем не редкостью были у берегов Африки и Аравии китайские корабли, но он почему-то не обмолвился о них ни полсловечком. Не встречал? Не оценил? А может, все-таки сообщил в Португалию в секретном донесении? Остается только гадать. И все же думается, что португалец, моряк уже по праву рождения, не мог равнодушно отвернуться от «китайского чуда». Свои морские суда китайцы называли «чуань» или «бо», их грузоподъемность достигала тысячи тонн. При выходе в море сыны Неба всегда прихватывали с собой голубей: они указывали в затруднительных случаях направление к берегу. Сложно судить, додумались ли китайцы до этого самостоятельно или заимствовали в готовом виде, например, в Месопотамии и вообще на Ближнем Востоке: голубями для этой же цели пользовался иудейский Ной, воронами - шуме-рийский Утнапиштим. Китайцам голуби служили и почтарями. Впрочем, еще с VII века в Поднебесной селились персы и арабы - они могли передать китайцам свои методы, поделиться с ними частью своих знаний. Да и сами китайцы совершали плавания столь удивительные по дальности, что информация текла к ним не ручейками, а широкой полноводной рекой. Можно спорить о том, превысил ли запас их знаний осведомленность дельфийских жрецов, но что он не уступал ей - это несомненно. В китайских источниках уже начиная с 1 века упоминаются стовратные египетские Фивы, воспетые еще Гомером: Гекатомпиль греков, Пань-доу китайцев; месопотамский Урук - китайский Ань-гу; в «Описании всей Земли» (Го ди чжи) VII века можно найти сведения о пигмеях и «пещерных эфиопах», известных Геродоту и Ганнону Карфагенянину, а в «Историческом своде» (Тун дянь) следующего столетия - кое-что о Стране Женщин где-то на западе (на западе явно от Греции, ибо амазонки обитали в Малой Азии) и о способе торговли, точнее натурального обмена, детально описанном Геродотом применительно к карфагено-африканским контактам. От Гонконга до Суматры китайские корабли добирались при благоприятной погоде за восемнадцать-девятнадцать дней, а до Африки с попутным муссоном - чуть больше чем за месяц (при этом, как повествуют источники, они распускали все свои семь парусов). Путь от Суматры до Явы занимал четыре-пять дней. See эти страны посещал и Синдбад, а скорость плавания напоми 1ает порой об арабских дау, хотя у китайцев она все же была ниже и никогда не превышала трех с половиной узлов - как у античных судов рубежа старой и новой эр. Много любопытного и ценного (бесценного!) могли бы мы узнать, будь Ковильян чуть полюбопытнее. Но и без того его подвиг, до сих пор все еще не оцененный в должной мере, далеко превосходит подвиг Бартоломеу Диаша. Однако он остался настолько незамеченным современниками, что и сегодня никто не говорит об этом незаурядном человеке. В лучшем случае вспоминают о том, что, дескать, Колумб присвоил себе по неведению честь открытия Индии, «по праву» принадлежащую Васко да Гаме. И никому не приходит в голову хотя бы упомянуть Ковильяна - подлинного первооткрывателя Индостана морским путем (если, конечно, забыть об античных мореплавателях, для коих рейсы в Индию были делом привычным). В 1520 году ко двору негуса прибыл первый официальный португальский посол Родригу ди Лима. Священник этого посольства Франсишку Алвариш записал все, что сообщил ему Ковильян, и включил в собственный отчет «Правдивое сообщение о землях священника Жуана Индийского», увидевший свет в 1540 году. Карта и письма, пересланные Ковильяном королю, явились основой для подготовки инструкций экспедиции Васко да Гамы. Путешествие Ковильяна явилось последним и самым блестящим вкладом в историю мореплавания и географических открытий, предшествующим эпохе Великого освоения мира.
ХРОНИКА ДЕВЯТАЯ,
повествующая о том, как два достойных адмирала вращали Земной шар каждый в свою сторону и чем окончилось это состязание.
Кристобаль Колон добивается наконец аудиенции у испанской королевы Изабеллы 1 мая 1486 года. Довольно скоро он имеет удовольствие убедиться, что европейские монархи не отличаются разнообразием в своих действиях. Комиссии, аналогичные португальской, начинают работать в Испании: в Кордове, потом в Саламанке. Пока они заседают, успевает пасть мавританская Малага (18 мая 1487 года), разочарованный Кристобаль успевает возвратиться в декабре следующего года в Португалию в тщетной надежде на перемену настроения Жуана II, Диаш успевает обогнуть южную оконечность Африки. А комиссии все обсуждают, преодолим ли океан, есть ли в нем другие земли и если все же есть, то можно ли их достичь, а главное - возвратиться обратно. Колон опять в Испании. В мае 1489 года его снова удостаивает аудиенцией Изабелла, ровно через тридцать шесть месяцев после предыдущей. Но решение комиссии все еще не созрело. Чтобы скоротать время, Кристобаль принимает участие в штурме мавританской крепости Баса, где, по отзывам, совершает чудеса героизма. Может быть, он хотел таким путем снискать благосклонность их католических высочеств и тем ускорить ход событий. Его брат Бартоломе тем временем «штурмует Вестминстер, потом Версаль, надеясь заинтересовать королей ведущих государств Европы проектом Кристобаля Колона. Отказы, отказы... В отчаянии Кристобаль удаляется от мира в францисканский монастырь в городе Морчене, но монах из него, признаться, никудышный. Потом он решает навсегда покинуть Пиренейский полуостров: в 1490 году комиссия вынесла наконец решение - отрицательное, как он и ожидал. Но неожиданно Изабелла сама вспомнила о нем и вызвала в Санта Фе («Святая вера») - гигантский полевой лагерь, выросший у стен осаждаемой Гранады, последнего оплота мавров в Европе. 2 января 1492 года Гранада пала, Реконкиста завершилась полным и окончательным поражением арабов. Испания вступала в полосу удач. Такая же полоса, кажется, наступала и для Колона. Трудно сказать, что побудило Изабеллу пренебречь выводами ею же назначенных комиссий. Может быть, ее подстегнули выдающиеся успехи на море португальцев. Возможно, сыграли роль неустанные хлопоты доброжелателей настырного генуэзца. Не исключено и то, что в этом, последнем году существования человечества набожная католичка пожелала прибавить еще один пункт к своему отчету перед престолом Господа. Конец света мог наступить со дня на день: даже сам папа не ведал, в какой именно день был сотворен мир. Как бы там ни было, этот ее кульбит, последовавший за внезапными и необъяснимыми вызовами в ставку, был настолько неожиданным и непостижимым для современников, что даже родилась легенда (впрочем, никем пока не доказано, что это действительно легенда) о том, что искуситель Колон пленил сердце прекрасной королевы, стал ее любовником, и проект был подписан чуть ли не в королевской опочивальне, причем недостаток финансов Изабелла возместила, продав свои личные драгоценности Есть ли в том доля истины или это чистейшая фантазия неважно. Видимо, это так и останется «тайной севильского двора». Важно только одно: 17 апреля 1492 года испанские высочества Фердинанд и Изабелла безропотно подписывают в Санта Фе каждый пункт «капитуляции» (соглашения), предложенной их вниманию сеньором Колоном. По условиям капитуляции, означенный сеньор получал дворянство и наследственное звание адмирала Моря-Океана и всех островов и материков, какие он откроет, титул вице-короля и главного правителя этих земель с правом назначения губернаторов. Кроме того, ему причиталась десятая часть с любых товаров в новооткрытых колониях, и он должен был платить лишь восьмую часть издержек на снаряжение торговых кораблей.
 Одна из многих реконструкций «Санта Марии».
Одна из многих реконструкций «Санта Марии».
Сказочная щедрость! И непостижимая. Если отбросить приведенную романтическую версию, можно лишь предположить, что Изабелла (а именно она играла первую скрипку в королевском оркестре) не верила ни на грош уверениям Колумба, не верила ни в его проект, ни в существование заморских земель. И все-таки она оказалась дальновиднее Жуана. В самом деле, чем она рисковала? Двумя-тремя кораблями? Если этих земель не существует и океан непреодолим, дон Кристобаль никогда уже не будет докучать ни ей и никому другому своими проектами. А если он окажется прав - что ж, тем лучше, он получит свои титулы, а Изабелла - свое золото. А славу они поделят пополам. Примерно так могла рассуждать королева, подошедшая к делу совсем с иной стороны, чем ее супруг.
23 мая 1492 года Колумб с королевским указом прибыл в порт Палое и приступил к снаряжению двух каравелл - «Ниньи» и «Пинты» водоизмещением около шестидесяти и девяноста тонн соответственно. Кроме того, на средства, предоставленные двором, он зафрахтовал еще одно судно водоизмещением примерно сто тридцать тонн, назвал его «Санта Марией» и сделал флагманом. 3 августа эскадра Колумба вышла из палосского порта, но жестокий шторм заставил испанцев искать убежища на Канарских островах. Ремонт «Пинты» и замена косого переднего паруса «Ниньи» прямым (ибо уже стало ясно, что ветер будет попутный) потребовали целого месяца, и лишь 9 сентября Колумб продолжил свой путь на запад. Теперь условия плавания благоприятствовали экспедиции, и около двух часов утра в пятницу 12 октября, когда измотанные матросы были уже на грани бучта, с марса «Санта Марии» раздался долгожданный крик: «Земля!». Это были острова, названные позднее Багамскими. От местных жителей (Колумб был уверен, что достиг Индии, и назвал их индейцами) испанцы узнали коренное имя острова - Гуанахани, но недолго думая переиначили его в Сан-Сальвадор (Святой Спаситель). Теперь это остров Уотлинг. Капитаны всех трех кораблей сошли на шлюпке на песчаный берег, торжественно развернули королевское знамя и два флага, украшенные зеленым крестом, коронами и инициалами Фердинанда и Изабеллы, и сеньор Колон был официально введен во владение своей первой колонией. Нотариусы Родриго де Эскобедо и Родриго Санчес скрепили этот акт надлежащим документом. Таким образом, 12 октября 1492 года Америка была официально открыта вторично, и добрый христианин Колумб разделил честь ее открытия со столь же добрым христианином Лейвом Счастливым, сделавшим это пятью веками ранее. Позднее на месте высадки Колумба была сооружена скромная часовня. На ее стене и сегодня можно увидеть его портрет, украшающий мемориальную доску. В Испании и Латинской Америке день 12 октября ежегодно празднуется как «День расы». Флотилия двинулась вдоль архипелага, открывая все новые и новые острова. «Остальным островам,- писал Колумб 14 марта 1493 года из Лиссабона казначею испанского короля Габриэлю Санксису,- я также дал всем новые названия: Санта-Мария-де-Консепсьон, Фердинандина, Изабелла, остров Хуана» (соответственно нынешние острова Рамки, Лонг-Айленд, Крукед-Айленд и Куба). Протяженность последнего из них настолько поразила Колумба, что он принял эту землю за часть «материка Катара», то есть Китая. Однако, выяснив от захваченных в плен индейцев, что это все-таки остров, и определив его протяженность в триста двадцать две английских мили, Колумб повернул, как он пишет, к востоку и в пятидесяти четырех милях от острова Хуана 28 октября обнаружил остров Бабеке, а вслед за ним 6 декабря открыл для испанской короны еще один, Бохио, получивший название Испания (позднее - Эспаньола, нынешний Гаити).
 Высадка Колумба на остров Гуанахани (в верхней части - остров Испания, нынешний Гаити). Испанский рисунок того времени.
Высадка Колумба на остров Гуанахани (в верхней части - остров Испания, нынешний Гаити). Испанский рисунок того времени.
На этих островах испанцы нашли много пряностей, золота и впервые познакомились с табаком. «У жителей всех тех островов,- пишет Колумб Санксису,- много челноков, выдолбленных из одного ствола дерева, по длине и форме похожих на наши двухвесельные челноки, но только они несколько уже, зато и быстрее движутся посредством весел. Одни из этих челноков побольше, другие поменьше, третьи средней величины. Некоторые даже больше наших 18-весельных галер. На этих лодках они отправляются на все окрестные бесчисленные острова и ведут между собою торговлю. Мне случалось видеть, что в таком челноке, или биреме, сидело от 70 до 80 гребцов». На рифах у берегов Гаити в ночь на 25 декабря погибла «Санта Мария». Испанцы овладели большим по тем масштабам туземным городом на побережье, который Колумб назвал подходящим к случаю именем Навидад (Рождество), укрепили его фортом, пустив в дело обломки флагмана и его орудия, и, оставив там гарнизон из тридцати девяти человек, 4 января 1493 года пустились в обратный путь. «Нинья», ставшая теперь флагманским кораблем, и «Пинта» прошли вдоль северного берега Гаити и 16 января взяли курс на Европу. В пути каравеллы потеряли друг друга: 12 февраля разразился жуткий шторм, казалось - с небольшим запозданием, но все же наступил обещанный конец света. Моряки бросают жребий, кому из них в случае спасения надлежит совершить паломничество и поставить свечу Марии Гваделупской. Жребий вытянул сам Колумб. Шторм не утихает. Разыгрывается новый жребий в честь Марии Лоретской. Ни та, ни другая Мария почему-то не желают заняться укрощением разгулявшейся стихии. Третий жребий, посвященный Кларе Могерской, тоже безрезультатен. В четверг 14 февраля, в день святого Валентина, Колумб принимает новое решение, «и чтобы в случае гибели его в эту бурю получили короли вести о его путешествии, он взял пергамент и написал все, что мог, о том, что было открыто, умоляя всякого, кто найдет этот пергамент, доставить его королям». Эту мольбу он обернул тканью, густо пропитанной воском, и запечатал в бочонок, учинив на нем надпись, сулившую тысячу дукатов тому, кто доставит его в Испанию нераспечатанным. Этот бочонок он швырнул в кипящее море. Был изготовлен и еще один бочонок с копией послания, он остался на «Нинье» и должен был всплыть в случае ее гибели. Никто никогда не получил этих посланий, но упоминание этого эпизода Бартоломе Лас Касасом породило массу подделок и спекуляций сразу после выхода в свет его книги. Сейчас уже никто не в состоянии сказать точно, сколько «подлинных дневников Колумба» хранится в музеях и частных коллекциях мира. Некоторые выполнены настолько мастерски, что и опытные эксперты порою становятся в тупик при определении их происхождения. Одна из таких подделок с превосходно выполненными картами и красиво выписанным текстом (это во время шторма-то!) хранится в краеведческом музее города Каргополя под инвентарным номером 1268. Но на следующую же ночь после того, как Колумб доверил морю свои записи и точные описания маршрута, шторм утих, а навигационные средства Региомонтана и Бехайма позволили капитанам разыскать берега Испании. 15 марта после двухмесячного плавания «Нинья» бросила якорь в порту Палое, а вечером того же дня к ней присоединилась «Пинта». Покрыв свыше десяти тысяч миль в оба конца, Колумб доставил в Испанию американское золото, хлопчатую бумагу и перец, а также сведения о чудесах «индо-китайских», как он считал, островов, один из которых, по его словам, был больше Испании. Диковинные рассказы адмирала, возведенного в гранды, побудили Фердинанда спешно снарядить вторую экспедицию, на этот раз в составе семнадцати кораблей. Фердинанд с Изабеллой не остались глухи к посулам адмирала дать им столько золота, пряностей, хлопка, благовонной смолы, алоэ, красителей и рабов, сколько они пожелают. Семнадцать кораблей с полуторатысячным экипажем (четырнадцать каравелл и три транспорта) их высочества сочли достаточным количеством на первое время. Эскадра отбыла из Кадиса 25 сентября, и уже с начала ноября испанская корона обогатилась новыми приобретениями. 3 ноября Колумб открыл острова Доминику и Мари-Галант (названный так в честь флагманского корабля - двухсоттонной «Марии Таланте»), 4 ноября - Гваделупу, несколькими днями позже - два десятка Малых Антильских островов и Виргинские, а 19 ноября эскадра подошла к северному берегу Гаити, открыв по пути остров, названный Сан-Хуан-Баутиста и известный нам как Пуэрто-Рико («Богатая гавань»). Прожив на побережье Гаити около четырех месяцев и основательно изучив его, Колумб наконец поверил рассказам индейцев и 12 марта 1494 года выступил с отрядом в глубь страны на поиски золота. Во время этого трехнедельного похода испанцы перевалили хребет Кордильера-Сентраль, но, не обнаружив ничего примечательного, вернулись обратно, еще более уверовав в то, что размеры Гаити превышают размеры Испании. 29 мая Колумб на трех судах совершил вылазку на запад, достиг юго-восточного берега Кубы и плыл вдоль него пять дней. Повернув на юг от мыса Крус, 5 мая он обнаружил еще один большой остров - Ямайку и через десять дней вновь вернулся к Кубе для более подробного исследования этого азиатского материка, как он все еще полагал. Пройдя вдоль ее южного побережья, испанцы открыли архипелаг Хардинес-де-ла-Рейна («Сады королевы»), полуостров Сапата и остров Пи-нос (Хувентуд). Совсем немного не дойдя до Флориды, они повернули обратно, миновали только что открытую Ямайку и почти месяц плыли вдоль южного берега Гаити, подробно исследуя его. На изучение открытых земель, особенно Гаити, у испанцев ушел остаток этого года и весь следующий. Все это время они потратили на поиски золота. Нагрузив драгоценным металлом и индейцами несколько кораблей, Колумб отправил их в Испанию, дабы подогреть аппетиты короля и выиграть время. Но вожделенные золотые копи все еще не были найдены. Фердинанд ждал, он еще верил своему адмиралу, обещавшему прислать столько золота, сколько можно добыть железа во всех рудниках Испании. Наконец королевское терпение лопнуло, он отсылает обратно корабли со строгим приказом немедленно приступить к разработке золотых приисков и ежемесячно представлять ко двору отчет о положении дел. Колумб отправляет вместо золота пятьсот индейцев для продажи на невольничьих рынках Средиземноморья и, чтобы не обмануть просьб короля, становившихся все настойчивее, облагает аборигенов данью: все, кому исполнилось четырнадцать лет, должны были раз в три месяца доставлять испанцам установленное количество золота. Взамен индейцы получали медную нашейную бирку. В результате за последующие полстолетия коренное население Гаити сократилось в шестьсот раз, а к моменту окончания второй экспедиции Колумба, то есть за какой-нибудь год,- на сто тысяч человек. 10 марта 1496 года, сочтя свою миссию выполненной, Колумб взял курс к Испании. 11 июня две трети из восемнадцати его кораблей возвратились в Кастилию, доставив королю не меньше диковинных товаров, чем в первый раз. Тем временем в Испании произошли большие перемены. Происки многочисленных врагов Колумба вынудили короля потребовать его к себе для личного доклада, и холодок приема не оставил у адмирала никаких иллюзий относительно позиции его высочества. Король, правда, смутно чувствовал, сколь многим он обязан Колумбу, и это обстоятельство до поры до времени сдерживало его эмоции. Только до поры до времени: не случайно же Никколо Макьявелли избрал именно Фердинанда прототипом своего «Государя»! О том, какие надежды возлагал король на своего адмирала, говорит, в частности, заключение 7 июня 1494 года Тордесильясского договора с Португалией о разделе мира. В то время как Колумб обследовал южное побережье Кубы, венценосцы договаривались о том, что все моря и земли от полюса до полюса, лежащие на триста семьдесят лиг (более двух тысяч километров) к западу от островов Зеленого Мыса, «на веки вечные» принадлежат Испании, к востоку - Португалии. Этим договором, сам того не желая, Фердинанд связал свое будущее с Колумбом - по крайней мере до того времени, пока в Кастильском королевстве не отыщется достойный преемник адмирала.
Однако отсутствие золотого дождя начинало вызывать у короля сильное подозрение, что он поставил на хромую лошадь. Слухи о золотых миражах, порожденные донесениями Колумба, не оставили равнодушными и португальцев. Через год после его возвращения португальский король Мануэл, вступивший на престол после смерти Жуана 25 октября 1495 года, сопоставив наконец-то данные Бартоломеу Диаша и Педру де Ковильяна, снаряжает тщательно спланированную экспедицию в Индию для заключения союза с пресвитером Иоанном против мавров и арабов. Во главе ее был поставлен двадцативосьмилетний сын морского офицера Васко да Гама. В субботу 8 июля 1497 года три его корабля «Сан Рафаэл» под командованием брата Васко - Пауло да Гама, «Сан Габриэл» (водоизмещением полтораста тонн каждый) и «Берриу» под командованием Николау Коэльо, водоизмещением около семидесяти тонн, снялись с якорей в Растело, предместье Лисабона, и взяли курс к мысу Доброй Надежды. Часть пути флотилию сопровождало еще одно судно с провиантом и пресной водой (впоследствии его то ли бросили, то ли сожгли), а флагманский корабль вел тот же лоцман, который сопровождал Бартоломеу Диаша. 23 ноября экспедиция обогнула южную оконечность Африки и с остановками для отдыха и ремонта двинулась к северу вдоль восточноафриканских берегов. Почти весь февраль корабли провели в устье реки Замбези и после ремонта отправились дальше. К вечеру 1 марта 1498 года португальцы, миновав Софалу, достигли мозамбикского берега, а в середине апреля бросили якоря в сомалийской гавани Малинди севернее Момбасы. Без малого два месяца потратил Васко да Гама для подготовки к дальнейшему пути. В Мозамбике, Момбасе и Малинди - трех крупнейших арабских городах с превосходными зданиями, богатыми рынками и отлично оборудованными и оживленными портами - португальцы по крупицам собирали сведения о дальнейшем пути. В Малинди они обнаружили колонию баньянов - индийских морских купцов. «Корабли здешние - крупные,- писал в дневнике один из участников экспедиции,- но без палубы, и нет в них ни одного гвоздя, а все они крепко-накрепко связаны лыком, а паруса у них из пальмовых циновок. Но мореходы имеют генуэзский компас, а также квадранты и морские карты». Относительно происхождения компаса африканцы не спорили: генуэзский - так генуэзский. Сами они в этом еще толком не разобрались: одни считали магнитный камень изобретением Конфуция, жившего в VI веке до н. э., другие - тем самым камнем, коим Дауд, отец Сулеймана (мир с ними обоими!) сразил великана Голиафа - а Дауд жил, как известно, в X веке до н. э., когда ни о каких Генуях, а тем паче Амальфи, еще и слыхом не слыхивали... Баньяны гостеприимно встретили чужеземцев и подтвердили, что царство пресвитера Иоанна близко, что у него много прибрежных городов и кораблей, хотя сам он живет в глубине страны, и что поблизости есть богатый остров, наполовину населенный христианами, постоянно ведущими войну с маврами. Баньяны дали португальцам арабского кормчего Ахмада ибн Маджида ас-Са'ди ан-Наджди (самого что ни на есть подлинного, по их мнению, изобретателя компаса), и во вторник 24 апреля эскадра вышла из Малинди в океан. Благодаря попутному муссону, она пересекла его за двадцать шесть суток и в воскресенье 20 мая вошла в индийский порт Каликут на Малабарском побережье, оставив за кормой четыре тысячи триста двадцать километров, то есть сохраняя в среднем скорость 3,73 узла. 28 мая Васко да Гама в сопровождении тринадцати человек явился на аудиенцию к местному царьку, коего португальцы называли заморином, а он сам себя - Самудрия Раджа (Властитель моря). После трех месяцев оживленной и выгодной торговли в среду 29 августа португальцы отбыли в обратный путь, увозя с собой письмо Самудрии Раджи к Мануэлу, где были такие строки: «Прибыл к нам Васко да Гама, дворянин вашей страны, чему мы немало порадовались. А в нашей стране много корицы, и гвоздики, и имбиря, и перца, и драгоценных камней, а от вас я хочу золота и серебра, кораллов и добротного сукна...» Из-за штилей, то и дело сменявшихся противными ветрами, португальцы добрались до Малинди лишь 9 января следующего, 1499 года и после пятидневного отдыха двинулись дальше к дому. Из-за нехватки экипажа (из ста шестидесяти восьми участников экспедиции уцелело лишь пятьдесят пять, а по другим данным - и того меньше, умер от чахотки и Пауло да Гама) португальцы сожгли «Сан Рафаэл», и в сентябре только две каравеллы достигли Лиссабона, оставив за кормой двадцать четыре тысячи миль и впервые проложив морской путь из Европы в Азию. Как раз в то время, как Васко да Гама вел торговые дела при дворе индийского царька, испанский король Фердинанд, томившийся от бездействия, позволил склонить себя на уговоры Колумба и дал согласие на новую экспедицию. 30 мая 1498 года шесть испанских кораблей с тремястами членами команды легли из Сан-Лукара-де-Барра-меды на южный курс. У острова Гомера из группы Канарских испанцы становятся свидетелями захвата кастильской каравеллы французским корсаром, но свидетелями не безучастными: они вызволяют соотечественников. Недурной сюжетец для оперетты! Колумб - герой дня! А не было ли это все и впрямь театром? Не воспользовался ли адмирал Моря-Океана своими прежними пиратскими связями, чтобы ноднять свои акции? В популярной литературе можно иногда прочитать и историю с нападением в 1497 году на Колумба, возвращавшегося из третьего своего путешествия, некоего «французского корсара» (чье имя, разумеется, неизвестно!), который заставил адмирала укрыться на острове Мадейра, чтобы переждать опасность. И все это преподносится доверчивой публике с волнующими подробностями о количестве сокровищ на каравеллах и т. п. А между тем, здесь все нелепо. Как известно, Колумб вернулся из второй экспедиции 11 июня 1496 года и отправился в третью 30 мая 1498 года, то есть весь 1497-й год он преспокойно провел в Испании. Из третьей экспедиции он вернулся в октябре 1500 года закованным в цепи и уж конечно без каких бы то ни было сокровищ на борту. Скорее, он был бы благодарен в этой ситуации французскому или любому другому пирату за свое освобождение. Не имеется ли здесь в виду случай у острова Гомера?.. После этого подвига Колумб безбоязненно разделил экспедицию пополам, направив три корабля прямо к хорошо уже изученным берегам Эспаньолы, а сам он во главе остальных трех кораблей прошел еще дальше к югу до островов Зеленого Мыса и лишь оттуда повер нул на запад. 1 августа Колумб открыл новый остров - Тринидад («Троица») и вскоре вошел в залив Пария и ввел корабли в дельту реки Ориноко, первым ступив на землю Южноамериканского континента. От Ориноко адмирал взял курс на Гаити и обнаружил по пути еще один остров, богатый жемчугом,- Маргариту («Жемчужину»).
 Океанский корабль (иногда его считают Колумбовой «Санта Марией»). Рисунок 1493 года.
Океанский корабль (иногда его считают Колумбовой «Санта Марией»). Рисунок 1493 года.
Последний год уходящего века - века, перевернувшего все представления о нашей планете, Колумб встретил на Гаити, но о дальнейших его планах можно только догадываться. Среди испанцев участились мятежи, Колумбу совершенно перестали повиноваться и в конце концов после доноса и затем суда, инспирированного присланным из Мадрида офицером по имени Франсиско Бовадилья, адмирала и вице-короля всех Индий и его братьев - пажей королевы Бартоломе и Диего 25 ноября доставили в цепях в Испанию. Тем временем в Лисабон прибыл Васко де Гама, и его триумф подстегнул испанских монархов спешно освободить Колумба, пообещать ему восстановление в правах и завести речь о новой экспедиции. Фердинанд все еще не терял надежды проникнуть в Индию западным путем. В 1502 году с Пиренейского полуострова одновременно стартовали две экспедиции. Одну, в составе четырех кораблей с экипажем в полторы сотни человек, вышедшую 3 апреля к западу из Кадиса, возглавил Христофор Колумб. Вторую, насчитывавшую двадцать кораблей, двумя месяцами раньше повел на юг Васко да Гама. Экспедиция Колумба достигла 15 июня острова Мартиника и 30 июля вошла в Гондурасский залив. В течение последующих девяти месяцев Колумб обследовал огромную линию американского побережья, поделенную в наше время между четырьмя государствами - Гондурасом, Никарагуа, Коста-Рикой и Панамой. Убедившись в отсутствии прохода дальше на запад, Колумб повернул к Ямайке, но 25 июня 1503 года потерпел там крушение. Однако он еще не теряет надежды реабилитировать себя в глазах королевской четы. «Золото - удивительная вещь! - пишет он, скучая на Ямайке.- Кто обладает им, тот господин всего, чего он захочет. Золото может даже душам открыть дорогу в Рай». Слегка отдает богохульством, зато понятно и доходчиво. На Ямайке в ожидании помощи он прожил год и вернулся на Гаити больным морально и физически. 7 ноября 1504 года он возвратился в Кастилию и умер 20 мая 1506 года в Вальядолиде, всеми покинутый и забытый. Лишь два года спустя его старший сын Диего, сопровождавший отца во втором путешествии, с огромным трудом доказал свое право на звание адмирала и должность губернатора Индии, дарованные когда-то королем семейству Колумбов как наследственные. Его сын Луи Колон имел титул герцога Верагуа и после смерти Диего в 1526 году ежегодно получал ренту в десять тысяч золотых дублонов. Однако пожалованный ему город Ла-Вега на Ямайке вскоре вернулся к королю: одновременно с Луи в 1572 году умер его племянник Диего - последний мужской потомок рода Колумбов. Вторая экспедиция Васко да Гамы закончилась гораздо быстрее, и она принесла куда более ощутимую пользу португальскому королю, чем четвертая экспедиция Колумба - испанскому. Родич Васко да Гамы, знаменитый поэт Луиш Ваш де Камоэнс в героической поэме «Лузиады», воспевающей первую экспедицию португальцев в Индию, рисовал в возвышенно-эпическом духе подготовку к отплытию:
По побережью шествуют солдаты, Лицом различны и цветно одеты, Решимостью и храбростью богаты, Чтоб новые разведать части света. На крепких мачтах знамена крылаты Колышут ветры тихие рассвета, Чтоб кораблям, как Арго, за морями Стать на Олимпе новыми звездами.
Солдаты. Такова была прелюдия. А вот и финал. Всего лишь год понадобится португальцам, чтобы вторично достигнуть Индии, сбросить с трона своего благодетеля Самудрию Раджу, основательно разграбить Каликут, построить укрепления на Малабарском берегу, и, подавив все попытки сопротивления, провозгласить его собственностью португальской короны. Это было первое выступление европейских рыцарей удачи в южных морях. Бессильные что-либо противопоставить португальскому оружию, арабы и индийцы впоследствии сорвали свой гнев на Ахмаде ибн Мад-жиде, предав проклятию и забвению имя этого человека, без чьего содействия португальцы еще очень нескоро сумели бы проникнуть в Индию. Лишь чистая случайность помешала осуществиться этой несправедливости. Три его чудом уцелевших урджуза - стихотворные лоции Красного моря, Индийского океана и злополучного маршрута Малинди - Каликут были обнаружены в Азиатском музее (ныне Институт востоковедения в Петербурге), несколько теоретических трудов - в парижской Национальной библиотеке, и лишь в 20-х годах нашего столетия французскому ориенталисту Фер-рану удалось установить, что глухо упоминаемые некоторыми источниками Малемо Канака, «араб из Гуджарата», «изобретатель компаса шейх Маджид», и лоцман Васко де Гамы Ахмад ибн Маджид - одно и то же лицо. Участь Бертольда Шварца миновала его. В 1505 году португальский король назначил вице-королем Индии Франсишку Алмейду. 25 марта он покинул Лисабон во главе эскадры из двадцати кораблей с полутора тысячами людей. 22 июля флотилия вошла в гавань Килоа, и европейские бродяги несколько дней грабили этот богатейший город, а затем, соорудив там форт и оставив восемьдесят солдат, Алмейда отправился к Момбасе. Очевидно, жители Момбасы были уже извещены о резне в Килоа, потому что португальцев встретили пушечным огнем. 14 августа Алмейда приступил к штурму города и сжег его дотла. 30 октября корабли прибыли в Кочин - резиденцию вице-королей, окруженную хорошо укрепленными португальскими фортами. Алмейда добавил к ним еще два - в Каннануре и на острове Анджадива. Бесконечные стычки с жителями Каликута вынудили португальцев переместить центр своей торговли в Кочин, ставший вскоре крупнейшей торговой факторией на Малабарском побережье. Все свободные от патрульной службы португальские корабли по распоряжению вице-короля теперь пиратствовали в Аравийском море, перехватывая любые суда, на чьих мачтах не развевался португальский флаг. Алмейда умер в 1509 году у мыса Доброй Надежды, но политика его преемников в Кочине мало чем отличалась от его собственной. Выкачивание индийских сокровищ набирало силу, и каждый последующий вице-король стремился перещеголять предыдущего, дабы снискать благосклонный взор монарха. Колоссальные богатства, поступающие в Лиссабон из Индии, побудили короля проявить запоздалую благодарность к престарелому Васко де Гаме. В 1524 году он назначил его вице-королем Индии, но 24 декабря этого же года адмирал умер в своем вице-королевстве, окруженный почестями и славой.
Экспедиции Колумба и да Гамы окончательно сломали барьер между человеком и океаном. Во время первой экспедиции португальцев из уст Ахмада ибн Маджида прозвучала громом небесным фраза: «Не приближайтесь к берегу... выходите в открытое море: там вы... окажетесь под защитой волн». В Европе за такие мысли могли упечь в сумасшедший дом! Или на костер... Представление о мире расширилось настолько, что географические экспедиции превращаются в экспедиции колониальные. Европейские монархи наконец-то уяснили, что есть на свете кое-что и другое, не менее заманчивое, чем Индия, Китай и царство пресвитера. К тому же после окончания эпохи Крестовых походов в союзе с пресвитером не было особой нужды. Нужда в золоте, пряностях, наркотиках, рабах - осталась. Начало колонизации новых земель положил сам Колумб, как уже говорилось выше. Во время третьей его экспедиции командир испанского корабля Алонсо де Охеда, участвовавший и в предыдущем плавании Колумба, открыл берега Гвианы, Венесуэлы и несколько островов. Это произошло в 1499 году. Охеда продолжил исследование этих побережий в 1502 году во время последней экспедиции Колумба, а шесть лет спустя, продвинувшись к западу от Венесуэлы, он достиг берегов Панамы, открытой Колумбом во время четвертого его путешествия. Этот участок побережья Охеда назвал Колумбией и воздвиг на нем форт, положив этим начало колонизации континента во славу испанской короны. В этом же, 1508 году главным кормчим Кастилии был назначен торговый представитель банкирского дома Медичи в Севилье родом из Флоренции, хорошо себя зарекомендовавший в роли морского офицера в 1499- 1500 годах на испанской службе, в 1501 - 1504-м - на португальской и затем снова на испанской. Его звали Америго Веспуччи. По его словам, за время своей морской службы он совершил несколько экспедиций к Вест-Индии и Бразилии (в 1499, 1501 и 1503 годах - во всяком случае), которую сам он называл Новым Светом, и красочно описал свои приключения в письмах, выдержавших несколько изданий в 1505-1510 годах под названием «Четыреплавания». Иногда считают, что впервые назвал Новым Светом открытый Колумбом континент знатный дворянин Пед-ро Мартир д'Ангьер в письме к кардиналу Сфорца в октябре 1494 года. Веспуччи в это время по поручению Медичи жил в Севилье, не помышляя ни о каких путешествиях. Больше того, есть достаточно весомые сомнения в том, что он вообще когда-либо выходил в море и что он действительно писал приводимые лотаринг-ским картографом Мартином Вальдземюллером письма. В одном из них, адресованном Медичи и «написанном» не ранее 1502 года, как раз и фигурирует фраза, что «страны эти следует называть Новым Светом». Новым - только ли в противоположность Старому, европейскому? Или еще и потому, что его открытие имело место в год так и не состоявшегося Страшного Суда, после чего человечество как бы вступило в новый круг своего существования? Обе версии, однако, сходятся в том, что именно письма Веспуччи, более походившие на романтические отчеты пилигрима, побудили Вальдземюллера приписать Веспуччи открытие континента и назвать его в 1507 году «Новым Светом Америго Веспуччи, или Америкой»: ведь Веспуччи мог, во-первых, быть по своему положению знакомым с д'Ангьером, а во-вторых, фраза д'Ан-гьера могла попросту стать к тому времени крылатой, общеизвестной. Первоначально это название наносилось на карты только применительно к части Бразилии, но с 1538 года с легкой руки фламандского картографа Герарда Меркатора оно распространилось и на Северную. В конце 1970-х годов в Англии возникла еще одна достаточно убедительная версия, почему Америка называется Америкой. Между тем как пиренейские властители крутили глобус каждый в свою сторону, обмениваясь в затруднительных случаях аркебузными выстрелами или золотыми дублонами, на севере Европы, на Британских островах, нарождался новый «народ моря» - наследник славы викингов, в полный голос заявивший о себе несколько позже. В 1497 году, когда Васко да Гама отправился в свою первую экспедицию, утром 20 мая из Бристоля вышло пятидесятитонное суденышко «Мэтью» (в честь Матвея, одного из двенадцати апостолов) с командой из восемнадцати человек. Его вел генуэзец Джованни Габотто, переселившийся в 1490 году в Англию и ставший там Джоном Каботом. Он был послан Генрихом VII в свободный поиск не открытых еще островов и земель востока, запада и севера. Основной же целью Кабота было отыскать западный морской путь в легендарно богатый Китай, и король не забыл выторговать себе пятую часть всех возможных дивидендов. Спустившись до Азорских островов, Кабот приказал повернуть на запад и держать курс так, чтобы Медведица сопровождала корабль точно по правому борту. В июне ему открылись берега неведомого континента - это был нынешний полуостров Лабрадор в Северной Америке. Затем англичане открыли обширную рыбообильную банку, а 24 июля высадились на берегу неизвестного острова и водрузили на нем британский флаг. Они назвали остров Ньюфаундлендом («Новонайденной землей»), это же название получила и примыкающая к нему банка. Обследовав после этого значительную часть восточного побережья континента, «Мэтью» вернулся в Бристоль. За открытие Лабрадора Генрих наградил Кабота премией в десять фунтов стерлингов, а за все остальные открытия пожаловал ежегодную ренту в двадцать фунтов. (Вероятно, его величество успел потом пожалеть о своей скоропалительной щедрости, так как сын Джона Кабота и участник его экспедиций Себастьян покинул в 1518 году Англию и переселился в Испанию, где получил 5 февраля из рук Карла звание «главного кормчего Кастилии». В 1526-1530 годах его стараниями были исследованы реки Ла-Плата, Парана и Парагвай, протекавшие по территории, присоединенной к испанской короне, а не к британской, как могло бы произойти.) В 1897 году в Вестминстерском аббатстве были обнаружены документы, относящиеся ко второй экспедиции Джона Кабота, состоявшейся весной 1498 года. Оказалось, что ее целиком финансировали бристольские негоцианты, и самый крупный вклад сделал купец (а по совместительству еще и старшина таможенников) Ричард Америк. Королю же эта экспедиция не стоила и пенни, чем, вероятно, и объясняется его запоздалая «щедрость». Если Кабот не был лишен чувства благодарности, он вполне мог назвать открытые им земли Америкой в честь своего мецената. Любопытно, что в 1554 году автор «Хроники всего света», краковянин М. Вельский, довел до всеобщего сведения, что «Амъерикус (Веспуччи.- А. С.) прозван именем от великого острова Амъерика»... Вспоминается прозвище одного из графов Толстых, упомянутого в комедии А. С. Грибоедова,- Американец: он заслужил его, побывав в Америке. Но тогда возникает вопрос: как же звали Веспуччи, если Америго - его прозвище? Как знать, будь Генрих VII чуточку дальновидней, на сегодняшних картах, возможно, красовалась бы не Америка, а какая-нибудь «Генрика» или «Генриада», и мы не гадали бы о загадках Веспуччи. Что же касается Колумба, то ему в Северной Америке достойного места так и не нашлось, если не считать провинции Британская Колумбия, мыса и реки в Канаде, где он никогда не бывал, и нескольких мелких городов в США. Подтвердить новую версию сможет только находка какой-нибудь неизвестной карты или документа с топонимом «Америка», датируемых более ранним временем, чем 1507 год, когда было издано «Введение в космографию» Вальдземюллера. Пока же самой убедительной выглядит гипотеза француза Ж. Марку о том, что слово «Америка» - местное, индейское, и что появилось оно, скорее всего, во время четвертой экспедиции Колумба. На вопрос испанцев, откуда у них золото, никарагуанские индейцы дружно указывали на запад и произносили при этом загадочное .слово «амеррико», явно имея в виду племя амерриков, обитавших столетие назад в районе нынешней столицы страны, в западной ее части, а в древности, во времена Колумба,- на гораздо большей территории. Возможно, именно это племя умело добывать золото в месторождениях близ города Сьюна в верховьях реки Принсаполька, а также в рудниках Пис-Пис на пограничной с Гондурасом реке Коко, и было монополистом в обменной торговле этим металлом. Примеров, когда какое-нибудь слово неизвестного языка превращается в топоним, на географической карте предостаточно.
Схолия шестая. МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ.
Филипп де Коммин называет в своих мемуарах еще один тип судна - «каравеллы, присланные из Испании» в Сицилию. С ним дело обстоит вовсе не так просто, как может показаться на первый взгляд. Вопреки широко распространенному мнению, высокобортная однопалубная парусная каравелла - не итальянское судно, да и название ее возникло совсем в другом месте. Относительно названия существуют две гипотезы. Первое - что оно произошло от караба (известного к тому времени в Италии разве что из архитектурных сочинений Витрувия или из этимологических изысканий Исидора Севильского). Вторая версия называет годом рождения каравеллы примерно 1440-й, а ее изобретателем - бретонского мастера Жюльена, построившего в сущности, обыкновенную каракку, примечательную лишь тем, что вся ее обшивка выполнена древнеегипетским способом kraweel.
 Каракка 1486 года. Реконструкция.
Каракка 1486 года. Реконструкция.
Все это было бы прекрасно, если бы каравелла и впрямь появилась в середине XV столетия! Но название это зафиксировано совершенно определенно по крайней мере с XIII века, когда о Карабах давным-давно и думать забыли, а до рождения мастера Жюльена должны были пролететь еще полтора-два столетия. И зафиксировано не в Италии и даже не в Средиземном море, а в Атлантике, в районе устья реки Тежу (Тахо), у побережья Португалии, составлявшей тогда одно целое с Испанией. Даже в XIII веке каравелла не имела ни единой точки соприкосновения с кельтским карабом! Да и как ее было иметь, если речные или, в крайнем случае, каботажные карабы никогда не предназначались для плаваний в открытом море, а тем паче в океане, и вряд ли об этом челноке вообще когда-нибудь слыхивали за Геракловыми Столпами. С самого своего рождения каравелла была одномачтовым рыбацким парусником водоизмещением до двадцати тонн, причем благодаря каким-то, нам неизвестным, особенностям ее конструкции, или, может быть, необыкновенному фасону косого паруса, ее предпочитали другим типам. Это-то предпочтение и закрепилось в ее названии: саго (женский род - сага) по-испански означает «любимый, излюбленный», vela - парус (по-испански он женского рода, чем и обусловлена перемена «о» на «а» в первой части этого сложного слова). Итак, «излюбленный тип паруса» или, более широко, «излюбленный тип парусника» - вот что, вероятнее всего, означает загадочное слово «каравелла». Мы почти ничего не знаем о каравеллах доколумбовой эпохи. Однако вполне логично допустить, что их обшивка делалась гладью: этот способ могли принести на Пиренейский полуостров арабы. Таким типом обшивки они могли заменить и кожи караба: как уже говорилось, арабский кариб - прямой и ближайший потомок кельтского караба. Когда же этот способ распространился к югу и к северу от устья Тежу (вплоть до Бретани, имеющей с пиренейскими странами общую акваторию - Бискайский залив), тамошние корабелы - это опять-таки предположение - могли окрестить его «обшивкой по-каравелльски».
Так, скорее всего в Бретани (а бретонский язык относится к группе кельтских), появился термин kraweel, занесенный в середине XV века Жюльеном в Средиземноморье. По-португальски каравелла - caravel. А еще позднее какой-нибудь ревнитель чистоты языка мог вспомнить, что греческая «бета» стала читаться в Византии как «вита», и, значит, каравелла - на самом деле карабелла, и тогда новое название связали с античным карабом. По национальности этот ревнитель наверняка, кстати, был испанцем, потому что только в этом языке до наших дней сохранилось слово carabela. И в португальском, и в испанском оно пишется с одним «л», поскольку одно «л» содержит слово velum. И только в итальянском эта буква удвоилась. «Португальские каравеллы на плаву были лучшими парусными судами»,- со знанием дела отмечал в 1456 году знаменитый работорговец Кадамосто в своем «Плавании к неведомым землям». «Были»... Не относятся ли его воспоминания к ранним, «дожюльеновским» каравеллам? Иначе ему надо бы назвать в этом ряду и каракку... Такую же точно трансформацию претерпело название другого типа речного судна, исстари плававшего по Тежу,- баринхо. Оно достигало двадцати метров в длину и четырех в ширину и несло на своей единственной сильно наклоненной назад мачте косой парус. Было ли оно в чем-то похоже на каравеллу? Судить трудно. Бесспорно лишь одно: название это лузитанские моряки заимствовали у арабов, но чаще употребляли другое, привычней звучащее,- варинелла. Так значится в некоторых документах эпохи Генриха Мореплавателя, например в отчете о плавании Жила Эанниша в 1435 году. Правда, в этом же отчете варинелла расшифровывается как «весельная галера», в документах XVI века уже сплошь и рядом утверждается, что то был барк, а в современном португальском языке это слово женского рода означает «рыбачка», что ставит варинеллу в один ряде ранними каравеллами, тоже предназначавшимися для рыбной ловли. Ближайшая родственница варинеллы и еще одна предшественница барка - сицилийская барчетта, челнок XIII века для лова рыбы и губок. Вообще все базовые типы доколумбовых судов с древнеегипетским корнем бар/вар («судно»), пришедшим через греков в форме «барис», начинали с рыболовства.
Появление каравеллы явилось самой настоящей революцией в судостроении. Именно ей обязаны были своими потрясающими успехами на море португальцы. Если до тех пор преобладающим типом была каракка, то теперь класс «нао» (больших судов) пополнился новым типом, быстро завоевавшим признание. С 1420-х годов (более точную грань определить трудно) многие корабли Испании и Португалии становятся двух-, трех- и даже четырехмачтовыми. Еще нет четкого членения на типы, еще нет устоявшейся терминологии применительно к новому рангоуту и такелажу, еще матросы путаются в непривычных командах, подаваемых с мостика, и еще непривычно взирать на окружающий мир с высоченного борта, вызывающего головокружение. Такой борт был, например, на корабле «Петер фон Данциг», переоборудованном в 1476 году из каракки в каравеллу и вполне доказавшем свои высокие мореходные качества, совершая рейсы в Атлантике. Новый тип судна обрел четкие контуры не сразу. Сперва каравеллой называли любое судно, если оно не было в состоянии принять в свои трюмы свыше ста тонн груза. Самые маленькие суденышки итальянцы называли каравеллеттами, те, что побольше,- каравеллоне, самые большие- каравеллами. Позднее каравеллы начинают различаться по типу оснастки. Появляются каравелла- латина, несущая на своих мачтах треугольные («латинские») паруса, способные хорошо забирать ветер, и каравелла- редонда, имеющая косой парус только на бизань-мачте, как позднейшая бригантина. Каравелла- латина была быстроходной (до шестнадцати узлов) и остойчивой, но при перемене ветра или штиле на ней приходилось убирать фок и бизань и затем обносить грот вокруг мачты для установки его в диаметральной плоскости судна. Этого неудобства была лишена каравелла- редонда: ее грот-мачта заметно превышала длину судна, а фок- и бизань-мачты не достигали и половины ее. Каравеллы обоих типов имели очень высокие нос и корму, крутой бушприт, где укреплялся косой или прямой парус блинд - потомок античного долона (или гистиона) и предок кливера, а на их передних мачтах поднимался марсель. Каравеллы развивали скорость до десяти узлов или чуть больше. Размеры каравелл достоверно неизвестны. Вероятно, они были близки к размерам каракк, относившихся к тому же классу «нао». Но они отличались большей легкостью управления и маневренностью. Благодаря замене прямых парусов косыми, а рулевых весел стационарным рулем европейские суда XV века могли преодолевать за день до двухсот километров, как и арабские, в XI столетии проходившие в среднем семьдесят километров, в XII - примерно сто двадцать пять, и так - по нарастающей. Сравнение с арабами здесь вполне уместно: это тот случай, когда «ученик превзошел своего учителя». Внимательный глаз не может не отметить совершенно явственного сходства форм ранних каравелл с самбуками, а историк тут же дополнит это наблюдение тем, что появление каравеллы совпадает по времени с Реконкистой, когда христиане еще не столько разрушали все арабское, сколько перенимали то, что достойно было заимствования. Во всяком случае, силуэт каравеллы не менее близок к самбуку, чем к каракке. В некотором роде это промежуточный тип. Колумбова «Санта Мария», как иногда предполагают, носила первоначально другое имя - «Мария Таланте» (как флагман второй экспедиции Колумба, названный в память погибшего флагмана первой) и была переименована самим Колумбом. Построенная на верфях Галисии, она вдобавок к своему основному названию имела еще и прозвище «Гальега» (галисийка): суеверные испанцы хотели обмануть судьбу - пусть в ее «черных списках» будет отмечено что угодно, только не их корабль. В дневниках, письмах и отчетах - подлинность многих из них оспаривается - она именуется просто «нао» (большой корабль), но ведь так называли обычно каракку, а не каравеллу! Ни одного изображения или подробного описания кораблей Колумба до нас не дошло, и их приблизительные размеры определены теоретическим путем. Длина «Санта Марии» оценивается примерно в двадцать три метра, ширина - семь, осадка - три, грузоподъемность - четыреста тонн, а ее команда, по некоторым данным, составляла девяносто человек. Капитаном ее считался Колумб, шкипером был Хуан де ла Коса, кормчим - Пералонсо Нинью, будущий главный кормчий Кастилии. Из документов известно ее парусное вооружение - грот, два лиселя, фок, блинд, марсель, контрбизань.
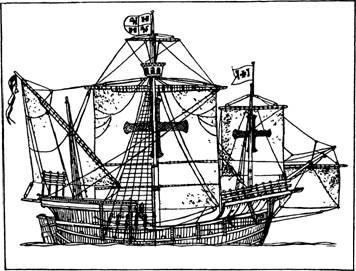

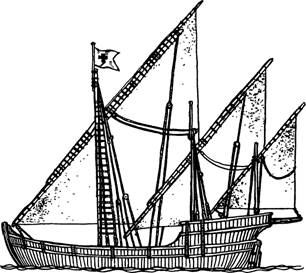 Так представляют себе «Нинью».
Так представляют себе «Нинью».
 Имеет ли что-нибудь общее эта реконструкция с подлинной «Пинтой» - неизвестно.
Имеет ли что-нибудь общее эта реконструкция с подлинной «Пинтой» - неизвестно.
Другое название имело и второе судно Колумба - «Санта Клара». Кличку «Нинья» (девочка, детка), намертво к ней прилипшую, она получила по имени ее владельца Хуана Нинью. Ее длина оценивается примерно в восемнадцать метров, ширина - шесть, осадка - два, грузоподъемность - около двухсот тонн, экипаж - сорок человек. Капитаном «Ниньи» был Висенте Яньес Пинсон, будущий открыватель Бразилии и устья Амазонки, кормчим - Руис де Гама. Подлинное имя третьего корабля - каравеллы- редонды - неизвестно. До нас дошло только явное прозвище: «Пинта» (рябая, пестрая). Видимо, судно было так названо за свою веселую раскраску. Ее предположительная длина - двадцать метров, ширина - семь, осадка - два, грузоподъемность - около трехсот тонн, экипаж - шестьдесят пять человек. Ее капитаном был Мартин Алонсо Пинсон, кормчим - Кристобаль Гарсия Сармьенто. В 1980 году американские кладоискатели Олин Фрик и Джон Каск обнаружили останки разбитой штормом «Пинты», затонувшей около 1500 года между островами Турке и Каикос к югу от Багамского архипелага. По другим источникам грузоподъемность каждого из кораблей Колумба в три-четыре раза меньше, а экипаж всех трех составлял сто двадцать человек, из них девяносто моряков. Чтобы как следует разобраться в тонкостях конструкции этих судов, их неоднократно пытались моделировать. В 1892 году, к 400-летию открытия Америки, в Кадисе была изготовлена по проекту Фернандоса Дуро-са и Монтеона примерная модель Колумбовой «Санта Марии» в предполагаемую натуральную величину каравеллы того времени. Под командованием адмирала дона Паскуале Серверы и Топете, будущего военно-морского министра Испании, и капитана второго ранга Виктора Конкаса она успешно добралась за тридцать шесть суток от Лас-Пальмаса до острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, в точности повторив трассу Христофора Колумба, а затем до Нью-Йорка, и в следующем году ее уже можно было видеть в Чикаго на Всемирной выставке рядом с копией судна викингов из Гокстада, прошедшего от Норвегии до США за сорок три дня. Для другой выставки - испано-американской, состоявшейся в 1929 году в Севилье, модель «Санта Марии» была повторена в том же Кадисе, на этот раз - по проекту Хулио Гальена. Еще одну модель «Санта Марии» испанцы построили в 1951 году, но едва ли ее можно считать моделью в строгом смысле этого слова, так как она строилась без излишней заботы об истине по указаниям режиссера для съемок фильма «Рассказ об Америке». 12 октября 1992 года мы сможем детально ознакомиться сразу с тремя каравеллами того времени - «копиями» кораблей Колумба. Слово «копия» не случайно поставлено здесь в кавычки: мы ведь не знаем даже, была ли каравеллой «Санта Мария» или же это была каракка. Есть одинаковое количество и «за» и «против» того и другого. Впрочем, испанец Альсар Рамирес, строящий эти корабли в Мексике, будет вправе отвергнуть любые упреки: ведь его эскадра не собирается повторять путь Колумба. Наоборот, в 500-летний юбилей открытия Америки он намерен «открыть» Европу, приведя все три корабля из Мексики в порт Палое... Несмотря на свой неказистый вид (если взирать с высоты нашего XX века), каравелла явилась венцом средневекового судостроения. Она принадлежала будущему: этот последний тип судна Средних веков стал провозвестником Нового времени.
Наступала эпоха, когда каждый район моря, каждая страна, каждая нация обзаводились собственной школой морской инженерии, когда уточнения типа «венецианская» (галера, например) или «испанская» становились излишними. И вместе с тем наступало время унификации типов судов, сокращения их количества и резкого, небывало резкого улучшения качества. Единственное, чего не коснулась еще унификация,- это названия типов, одно и то же судно все еще могло называться в разных регионах по-разному. В лучшем случае их различали по способу постройки, по величине, по функциям, по району плавания. Но силуэт для неопытного глаза был один и тот же. Маленькая весельно-парусная барка получает к востоку от Апеннинского полуострова имя барчетта, а к западу так называют любую гребную лодку. Появляется и новое слово - барк: это трехмачтовый военный парусник водоизмещением до четырехсот тонн с прямым вооружением на передних мачтах и косым на низкой бизани. Барчетту трудно отличить от турецкого легкого и быстроходного кваика, тоже гребного и служившего обычно для связи между кораблями и берегом, а большие кваики свободно можно спутать с малыми арабскими дау или с фризско-бретонскими эверами (энварами) - необычайно мореходными бескилевыми плоскодонными грузовыми судами грузоподъемностью до сотни тонн, известными с XIII века. Голландское парусно-весельное баартце, имевшее до трех мачт и до сорока весел, своими оконечностями напоминало ранний когг. Парусно-весельная грузовая турецкая маона, где каждым веслом управляли шесть-восемь человек, мало чем отличалась от галеаса - разве что своими четырехугольными парусами, все еще употреблявшимися вместо ставших уже привычными латинских. Целый набор плоскодонных бескилевых судов прибрежного и речного плавания можно обнаружить в это время на севере Европы, особенно в Голландии и Германии. Наиболее известен полуторамачтовый парусный аак, исчезнувший лишь в прошлом веке: рейнский, маасский, лабский. Его водоизмещение могло доходить до двухсот тонн, длина - до сорока метров, а ширина - до шести. Но столь большие суда были редки: слишком много хлопот с составной мачтой (до двадцати пяти метров) и прочим рангоутом, а также с такелажем. Да и само назначение аака - в осног.ном перевозка вина - подталкивало к более консервативным, апробированным и дешевым решениям, известным еще с античных времен. Развившись из римского линтера, аак к нему и вернулся. На польско-германском побережье Балтики называли бордингами или бордингерами.

Близко к ним примыкает быстроходный двухмачтовик голландских рыболовов - догбот, на западнофризском острове Флиланд (Влиланд) носивший имя флибот или влибот - «летучая лодка». Он имел грузовместимость от шестидесяти до ста сорока тонн и участвовал иногда в военных действиях. Если такое судно было беспалубным, с сильно наклоненным вперед форштевнем и шпринтовой оснасткой, голландцы именовали его «хенгст» (конь), что равнозначно понятию «круглое судно», и использовали для рыбной ловли, перевозок грузов и пассажиров. А начиная с XVI века хенгст уступил место одномачтовому хою, или хойде, грузовместимостью до двадцати ластов и тоже шпринтовому. В Германии его называли хойером - это было судно с обшивкой внакрой, со скошенными штевнями и седловатостью на своих оконечностях. Длина его достигала десяти метров, ширина двух с половиной, то есть их строили в соотношении 4:1.

Одномачтовый хой (или хойер) с бушпритом положил начало судну нового типа - шмаке, высокобортной двухмачтовой барке с хорошо развитым парусным вооружением: большой гафельный парус, брифок и стаксель на главной мачте, малый гафельный парус на бизань-мачте, кливер и бомкливер на бушприте. Вероятно, к этому же семейству следует отнести и голландский одномачтовый рыболовный боттер с высокой и сильно округленной носовой частью, узкой кормой и низкими бортами. Его название - от слова bot, «тупой» - заставляет вспомнить древнегреческую самену, византийскую диапрумну, и ее наследниц - ускиеру, юиссье и испанскую тафо-рею, появившуюся в XV столетии и перевозившую не только лошадей, но и артиллерию. Боттеры достигали пятнадцатиметровой длины и, как аак или хойер, имели шверцы - съемные боковые кили из деревянных щитов для уменьшения крена или дрейфа. По-видимому, шверцы имели и другие плоскодонные суда, но данные об этом противоречивы. Начиная с XVI века все гребные суда до ста тонн водоизмещением (как класс) стали называть барками или баржами. Особенно это относилось к тем, что сопровождали военные флоты (как во времена викингов) и принимали участие в боевых операциях. Примерно в это же время аналогичное собирательное понятие появилось у русских: бывшая лодья превратилась в «лодку». Это был прямой синоним гребной итальянской бардже, только функции у лодок были иные (как, впрочем, и размеры: не более четырех гребцов) - связь больших судов между собой и с берегом, каботажные перевозки грузов и пассажиров, рыболовство. По существу это было то, что на Босфоре называли кваиками, а в соединяющихся этим проливом морях и в полярных водах - каиками, каиками и кайяками. Лодки могли иметь и двойной движитель, иногда они бывали одно- и даже полуторамачтовыми. В этом случае их обычно делали палубными и размером побольше. Палубе уделялось особое внимание, она изготавливалась двойной, из толстых досок с шерстяной прокладкой между ними, пропитанной водоотталкивающими составами - смолой, жиром, воском. Ровесницами Колумбовых каравелл были парусно-весельная фелука и гребная фуста, появившиеся в том же XV веке. Оба эти типа явились модификацией галеры - первое родилось на варварийском побережье Африки, второе, скорее всего, в Турции. Фелука, водоизмещением до ста пятидесяти тонн, длиной до пятнадцати метров и шириной свыше четырех, сразу стала излюбленным судном пиратов. Две ее мачты с косыми парусами были наклонены вперед, как на арабских дау, а экипаж достигал трех десятков человек. Фуста, предназначавшаяся главным образом для каботажа, явилась упрощенным вариантом быстроходной галеры sensile: на одной ее гребной банке, укрепленной под слабым углом к борту, сидели двое и каждый работал отдельным веслом, причем весла перекрещивались. Насколько это было удобно - судить трудно, но по крайней мере одно достоинство фусты представляется несомненным: за счет большего числа весел при той же длине судна его скорость должна была заметно возрасти, а в случае абордажной схватки, когда скорость уже не важна, половина гребцов могла сменить весло на саблю.
 Корма французского военного судна. Этот силуэт можно было увидеть и в XVII веке.
Корма французского военного судна. Этот силуэт можно было увидеть и в XVII веке.
Впрочем, примерно с этого времени за весла все чаще сажают рабов, и такие галеры независимо от своего типа получают название «каторга» или, реже, «куторга» (а у турок - квадирга) - от греческого katergo - «принуждать, заставлять», иными словами - подневольный труд. Это понятие распространилось по Европе молниеносно, и уже в 1641 году «Повесть об азовском осадном сидении донских казаков» упоминает наряду с «карабельным пристанищем», то есть сараем для хранения судов (мы их видели уже у викингов), «карабли» и «катарги». Через голландское galjoot и французское galiote утвердился на флотах и этот тип, получивший, правда, два значения - общее (небольшое каботажное судно) и специальное (испанский военный корабль), а латинская галея завершила наконец-то долгую череду своих трансформаций и в 1535 году стала галеоном, получившим распространение главным образом на побережьях Атлантики. Подобно тому, как у нефа главной достопримечательностью была корма, так у галеона ею стал нос (хотя и о корме не забывали - она имела до семи палуб!). Об украшениях носа можно говорить долго, но достаточно упомянуть их центральную часть - расписную деревянную фигуру святого, покровителя судна и его экипажа. Вполне естественно, что ей уделяли много внимания. Эта мода появилась после Реконкисты, когда вовсю свирепствовала инквизиция и когда взлет веры был высок, как никогда раньше. В это-то время как раз и появились галеоны. Носовое украшение получает название «галеонной фигуры», известной нам как «гальюнная», а само слово «галеон» стало синонимом понятия «корабельный нос». Под этой фигурой делали специальный свес для выброса нечистот и отходов (их сразу же смывали с форштевня волны, это было все равно, что «спустить воду»), и он тоже получает название «галеон» («гальюн»). Водоизмещение судов галеонов доходило до тысячи тонн, общая длина - до полусотни метров (длина киля составляла три четверти общей), ширина - до двенадцати метров. На них впервые появились специальные орудийные палубы, и пушки устанавливались не только на палубе, но и под ней, ведя огонь через порты.
 Галеон. Реконструкция.
Галеон. Реконструкция.
Как и каравелла, оба эти типа - переходное звено от прошлого к будущему. Их биография, их слава еще впереди, в Новом времени. Но это были достойные жемчужины в короне уходящего Средневековья.
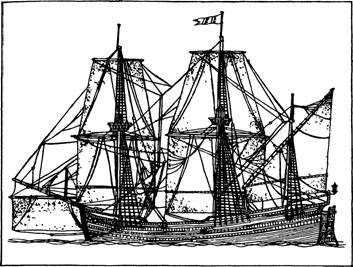 Флейт. Реконструкция.
Флейт. Реконструкция.
В XV веке из «благородных спиннетов», о которых уже шла речь, выкристаллизовываются чисто английские спиннаса - небольшой торговый двух-трехмачтовый парусник водоизмещением от ста пятидесяти тонн и выше и с экипажем из двадцати пяти человек - и пиннаса - гребная военная шлюпка. Общим у них была транцевая корма. Столетие спустя спиннаса развилась в большой восьмисоттонный торговый парусник флейт с закругленной кормой и двумя мачтами. В голландском слово fluit имеет два значения - «течь, река» и «флейта». Обычно считается, что от первого из них и произошло название судна. Но голландское fluit - вторичное, оно происходит от древнеанглийского fleot - вода, река, устье, а то, в свою очередь,- от санскритского plutas через греческое pleo - плыть. От pleo произошел также плот, и это обстоятельство может внести серьезные коррективы в биографию флейта. От этого же древнеанглийского слова и, возможно, в это же время родилось слово «флот» и вошло во многие европейские языки. И, что весьма символично, именно на флейте в конце XVI века появился первый в истории штурвал, наряду с якорем ставший основным морским символом: якорь воплощал в себе надежду, штурвал - веру.
 Флейт. Модель.
Флейт. Модель.
Все эти новые типы судов только зарождались, далеко не сразу заняли они равноправное место в ряду таких распространенных в XV веке судов, как португальская каракка, испанский нао или немецкий хольк. Примерно в 1410 году венецианский корабел Теодоре де Николо еще дает в «Указаниях по постройке галер» рекомендаии, относящиеся к «большим галерам, бастард-галерам и галеонам»...
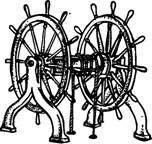 Средневековый штурвал.
Средневековый штурвал.
Все увереннее проводятся эксперименты в судостроении, все чаще, по примеру бастард-галеры, появляются суда-гибриды, берущие от своих прообразов все лучшее. Так, например, пришла на моря быстроходная по-лакка, или полякра, а точнее - одна ее разновидность - трехмачтовая полаккабарк, имевшая парусное вооружение барка, но короткую бизань, без стеньги, а иногда и такую же грот-мачту. Примерно тогда же, тоже в XVI веке, родился бомбардир-галиот - помесь двухмачтовых галиота и бомбарды со смешанным парусным вооружением.
 Хольк 1480-х годов. Реконструкция.
Хольк 1480-х годов. Реконструкция.
У берегов Британии уже выходят на лов рыбы исключительно мореходные трехмачтовые люгеры с рейковой оснасткой, еще не зная, какая блестящая будущность ожидает их через сотню-другую лет. А в дельте Нила уверенно развозят свои товары быстроходные одномачтовые и двухмачтовые джермы с сильно наклоненной вперед мачтой - по образцу арабских дау... Уже из этого беглого обзора заметно, что с каждым годом все меньше и меньше становится чисто гребных и даже парусно-гребных судов - и все больше парусных. Весла - для рабов, парус - для свободных! Новая эпоха несла с собой кардинальное изменение сущности морского ремесла. Не всякому было под силу разобраться в путанице парусов и снастей. Не всякий мог оседлать ветер (тем более - встречный). Не всякому дано было стать Колумбом.
Схолия седьмая. ЗАГАДКА КОЛУМБА.
В литературе не принят термин «колумбовский вопрос», подобно тому как существует «гомеровский вопрос» или «шекспировский вопрос». Термина нет - а вопрос есть. Если честь считаться родиной Гомера оспаривали, как известно, семь городов, то претендентами на роль родины Колумба выступают восемь государств и по крайней мере четыре города на одном только Лигурийском побережье-Генуя, Савона, Коголето и Нерви. Да еще с десяток в других местах. Если известно только одно более или менее достоверное изображение Шекспира, исследуемое всеми доступными современной науке методами, то бесспорных изображений Колумба нет вообще (потому-то он и выглядит так различно на своих памятниках). Неизвестна дата его рождения, неизвестны его родители (хотя в Генуе сохраняется дом на площади Данте, где он якобы родился), неизвестна его национальность, неизвестно его подлинное имя, неизвестно, где он похоронен, неизвестно ничего о нем самом - о его характере, вкусах, наклонностях, неизвестно, была ли его «Санта Мария» каравеллой или караккой и как она выглядела, неизвестно, где он впервые высадился на землю открытого им материка, и неизвестно, он ли его открыл. Оспаривается, и не без оснований, даже подлинность значительной части его отчетов, писем и дневников. Вот это - примерно все, что мы знаем доподлинно об этом человеке. Дальше к удручающей неизвестности начинают приплетаться домыслы, часто сопровождаемые словом «великий». Увлекательный роман Зинаиды Шишовой «Великое плавание» рисует Колумба как великого обманщика, раздражительного, коварного и жестокого. Вероятно, он таким и был. (Достаточно вспомнить неприглядную историю о том, как «адмирал Моря-Океана» ограбил собственного матроса, нахально лишив его обещанной королем ежегодной ренты в десять тысяч мараведи и подарив ее своей любовнице Беатрис Энрикес де Арана, родившей ему сына Фернандо - будущего автора его биографии.) Немецкий писатель Пауль Вернер Ланге в биографическом романе «Великий скиталец» попытался собрать воедино и осмыслить все, что мы знаем о Колумбе. Примерно то же сделал кубинский писатель Алехо Карпентьер в романе «Арфа и тень», но, хотя большая часть повествования ведется от лица самого Колумба, все же «тень» и здесь явно превалирует. Американский морской историк С. Э. Морисон вслед за Фенимором Купером рисует его в своей книге «Христофор Колумб, мореплаватель», как видно уже из ее названия, в хрестоматийном плане - подлинно великим и отважным мореплавателем и первопроходцем. Таким он показан и в итальянском телесериале, прошедшем по нашим экранам в начале 1989 года. Испанец Баллестерос и Беретта посвятил два увесистых тома его открытиям в Америке. И этот перечень можно продолжать до бесконечности, ибо едва ли можно найти язык, на котором не был бы воспет Колумб. Но все писавшие и пишущие о нем пользуются одними и теми же данными - разрозненными, путаными, скудными и не всегда достоверными, а потому подаваемыми то как истина, то как легенда. Тайной окутано его прошлое, об этом уже говорилось выше. Тайна сопутствует и его американской эпопее, начиная со дня отплытия эскадры. Это событие многократно описано, запротоколировано, прокомментировано. Три корабля, не больше и не меньше. Ровно три, «святое» число. И тем не менее в нем кроется одна из бесчисленных загадок, заданных Колумбом потомкам. В конце 1970-х годов в архиве города Модены итальянский историк Маринелла Бонвина-Мадзанти обнаружила письмо неаполитанского посланника в Барселоне Аннибале ди Дженнаро, отправленное 9 марта 1493 года своему брату, занимавшему такой же пост в Милане. В числе прочих испанских новостей Дженнаро сообщает, что «несколько дней назад возвратился Колумб, который отправился в августе прошлого года с четырьмя кораблями в плавание по Великому океану». Королевского посланника, образованного человека, трудно заподозрить в том, что он не умел считать до трех. Еще труднее предположить, что все остальные современники Колумба не умели считать до четырех. В чем же дело? Единственное правдоподобное, что тут можно было бы допустить,- это то, что в письме простая описка, вызванная светской небрежностью Дженнаро. Но... «несколько дней назад». Вся Испания обсуждала тогда это событие - при дворе, в посольствах, в салонах, на улицах. Слишком свежо и злободневно оно было, чтобы допустить такую описку. Загадка! Может быть, четвертое судно сопровождало экспедицию только до Канарских островов? Загадочна и дата прибытия Колумба из первого путешествия. 15 марта - так только считается. А вот из того же письма Дженнаро следует, что корабли пришли в Испанию в конце февраля или в первых числах марта: чтобы доставить эту новость в Барселону, требовалось пересечь всю Испанию по диагонали, а это - девятьсот километров по прямой, если не принимать в расчет реки, горы, кишащие разбойниками, и прочие «прелести» путешествия в ту эпоху. Итальянский хронист Бонаккорсо Питти в 1419 году хвастался, что он доехал от Гейдельберга до Флоренции на удивление быстро - «всего за шестнадцать дней, а это более 700 миль», то есть он проезжал шестьдесят или шестьдесят пять километров в день и преодолел расстояние меньшее, чем от Палоса до Барселоны, причем по хорошо наезженным дорогам. Правда, новость могла быть доставлена в Барселону и морем: это быстрее. Но, как бы там ни было, дата 15 марта выглядит весьма сомнительной. Вообще с Колумбом и с открытием Америки много загадочного. Оглянемся еще раз на предысторию этого плавания и вглядимся повнимательней в лицо «адмирала Моря-Океана», которое смотрит на нас со страниц календарей и учебников, с бронзовых и гранитных постаментов в Генуе, Севилье, Гаване, Бильбао, Лас-Пальмасе. Даже покрытые неизбежным хрестоматийным глянцем, все эти Колумбы - разные. Почему? Не потому ли, что и сам по себе Колумб - одна из самых таинственных личностей в мировой истории, хотя это не сразу бросается в глаза? Самый интересный и «больной» вопрос в истории Колумба - был ли он подлинным колумбом или заранее знал маршрут - тревожит историков уже многих поколений. Его фанатическая и непоколебимая убежденность в том, что за морем лежит обитаемая и изобильная земля, действительно выглядит загадочной. То, что он называл ее попеременно то царством Великого Хана, то Катаем (или Катаром), то Индией, может свидетельствовать о том, что сам он не считал ее ни тем, ни другим, ни третьим. Хотя Колумб ни разу не упомянул Винланд, несомненно, что он знал о плавании туда Лейва: если даже он не читал малодоступные из-за языка тексты скандинавских саг, он не мог пройти мимо трудов Адама Бременского, где достаточно подробно пересказана одиссея сына Эйрика Рыжего. Несомненно и то, что Колумб знал о некоторых странных находках у европейских берегов, принесенных Гольфстримом и Флоридским течением. Некоторые из них он мог даже видеть собственными глазами. Его приятель (кормчий Мартин Висенте) и его тесть (губернатор Порту-Санту Педру Корреа) рассказывали ему (а быть может, и показывали) о выловленных далеко в море или подобранных на пляжах Порту-Санту экзотических деревянных предметах, обработанных огнем, а не металлом или хотя бы камнем, о толстом бамбуке и других диковинных растениях и плодах, принесенных волнами с запада, о двух широкоскулых утопленниках в необыкновенных одеждах, выловленных у острова Флориш в Азорском архипелаге. Сам неплохой картограф (а его брат Бартоломе был картографом-профессионалом), Колумб не мог не знать о существовании карт Исландии и Гренландии: их можно было сравнительно недорого приобрести в лавках любого портового города. На некоторых из них к западу от этих островов были нанесены то ли моряками Севера, то ли их доверчивыми слушателями смутные очертания неведомых земель.
Может быть, именно знакомство с этими картами и россказни старых моряков побудили Колумба принять участие в совместной экспедиции скандинавов и португальцев, отправившейся в конце 1476 года под началом Йенса Скульпа из Бергена к берегам Англии и Исландии, и в феврале 1477 года, по его собственным словам, достичь «острова Туле» на семьдесят третьей параллели. По некоторым данным, примерно в это же время он побывал в Гренландии и на Ньюфаундленде. Если это правда, он мог видеть там остатки поселений викингов и слышать легенды о них. Там он мог приобрести и какие-нибудь карты, не похожие на те, что знали в средиземноморских странах. Разумеется, картам этим нельзя было доверять вполне, об этом знали все, знал и Колумб: не случайно, чтобы успокоить готовую взбунтоваться команду, он начиная с 9 сентября вел двойные записи пройденного расстояния, и к 1 октября, когда за кормой остались семьсот двадцать лиг, в судовом журнале значились пятьсот восемьдесят четыре. Все знали, что эти карты малопригодны для плаваний, а Колумб, недоверчивый от природы, почему-то доверял им, причем безоговорочно: во всяком случае, он достаточно своевременно выпросил у команды (если только и это не легенда) три дня для дальнейшего продвижения вперед и не обманулся - именно на третий день прозвучал крик Родриго де Триана: «Земля!». Что это - наитие, Божий промысел, случайность? Этот поразительный факт многие готовы отнести в разряд легенд, а между тем он вполне конкретен и правдоподобен, если допустить, что Колумбу сказочно повезло и где-нибудь на Исландии или в Гренландии в его руки попала карта викингов: только они одни славились своей точностью. Норвежский писатель Корэ Прюс, автор нашумевшей книги «Счастливая земля Винланд», изданной в 1978 году американским издательством «Даблдэй», вручил одну из таких карт пилоту «Боинга» для перелета с полуострова Бретань к Флориде, и самолет, повторив в воздухе морскую трассу викингов, благополучно достиг цели. Может быть, и идея двойного счета пути пришла Колумбу в голову оттого, что он располагал двумя картами: должна же хоть одна из них быть правдивой, рассуждал адмирал. Если ложные сведения он указывал по карте викингов, безотчетно доверяя ей меньше, то именно она оказалась правдивой: Морисон отметил, считая это случайностью, что «цифры, приведенные Колумбом в целях обмана, соответствуют реальному расстоянию, а то, что он считал истинным расстоянием, очень далеко расходится с действительностью». Пауль Вернер Ланге правильно обратил внимание и еще на одну «случайность» - что идея западного пути в Индию стала волновать Колумба около 1479 года -практически сразу же после северного рейса. Были и другие мотивы для плавания на запад. Как и все его современники, Колумб, безусловно, знал о постоянных рейсах баскских рыбаков к берегам Лабрадора, где у них даже были свои поселения. Несомненно, что баски также располагали и точными картами, и записями. Канадскому археологу Сельме Бэркхем посчастливилось однажды «раскопать» в архивах города Сан-Себастьян сообщение, датированное 1565 годом, о гибели в заливе Ред-Бей баскского рыболовного судна «Сан Хуан» с грузом китового жира и разнообразных предметов для колонистов. Его нашел на статридцати-метровой глубине археолог Робер Греньер. Выводы канадских археологов относительно регулярных баскских плаваний к Канаде однозначны: они начались не позднее чем в XIV веке, по крайней мере за полтора столетия до Колумба, и продолжались, по-видимому, много лет после гибели «Сан Хуана». Любопытно в связи с этим вспомнить трагедию, разыгравшуюся 8 февраля 1986 года на одной из центральных улиц Мадрида: в автомобиль, в котором проезжал вице-адмирал испанского флота, член Национального оргкомитета по торжествам в честь пятисотлетия открытия Америки, была брошена граната, а затем прогремели автоматные очереди. Знатный пассажир (герцог и маркиз в одном лице!) и его шофер были убиты наповал, а адъютант, сидевший сзади,- тяжело ранен. Этот вельможа, уже повторивший маршрут Колумба в качестве командира учебного судна, имел наилучшие шансы сделать это еще раз в 1992 году: то был не кто иной, как последний, девятнадцатый по счету прямой потомок Колумба по женской линии и его тезка - дон Кристобаль Колон де Карвахаль. Ответственность за покушение взяла на себя баскская террористическая организация. Не пытались ли баски этими выстрелами утвердить, хотя и запоздало, свой приоритет в открытии Нового Света?
Лет за пять до того, как Колумб завербовался в свое первое плавание в северные моря, к Лабрадору и Ньюфаундленду посылалась экспедиция датско-норвежским королем Христианом I Ольденбургским по просьбе португальского короля Афонсу V Африканского. Колумб мог познакомиться с подробным отчетом о ней, составленным ее участником Кортириалом, и именно это знакомство могло побудить его побывать в тех краях. Вероятно, к этому же времени относится легенда, на которой построили свои романы Висенте Бласко Ибаньес и Зинаида Шишова,- о том, что испанская каравелла, следовавшая в Англию, попала в полосу сильных и продолжительных штормов и неслась на запад до тех пор, пока не встретила землю, населенную обнаженными людьми. Обратно эта каравелла добиралась почти полгода, и из всей ее команды выжили лишь капитан, рулевой и два-три матроса. От этого-то капитана, баска по национальности, Колумб якобы и получил точный маршрут с зарисовками и ориентирами - то ли в дар, то ли за большую сумму. Капитан вскоре умер при невыясненных обстоятельствах, и Колумб стал единственным обладателем тайны (поговаривали даже, что он помог капитану переселиться в мир иной). Испанский историк Хуан Мансано посвятил прояснению этой истории целую книгу - «Колумб и его тайна» - и пришел к выводу, что плавание имело место в середине 1470-х годов. Имя капитана Мансано не называет, но зато на основании каких-то таинственных выкладок утверждает, что капитан этот высадился на Гаити и оттуда в 1477 или 1478 году добрался до Мадейры, где волею судьбы нашел приют в доме Колумба и поведал в благодарность своему гостеприимцу все тайны ветров и течений Атлантики. По-видимому, истоком этой легенды, варьирующейся то так, то этак и обрастающей самыми неожиданными деталями и подробностями, послужила книга Гарсиласо де ла Веги о государстве инков, вышедшая в 1609 году в Лисабоне. В ней приводится очень похожая история, датируемая автором примерно 1484 годом. Речь идет там о лоцмане из Уэльвы - Алонсо Санчесе, курсировавшем с разнообразными товарами на небольшом корабле (тип его не указан) между Пиренейским полуостровом и Канарским архипелагом. На Канарах он загружал фрукты для Мадейры, а на Мадейре брал сахар и варенье для Испании.
И вот однажды этот шкипер угодил в жесточайший шторм по пути на Мадейру. Буря несла его суденышко на запад двадцать восемь или двадцать девять суток, пока не прибила к какому-то острову - предположительно Гаити. Санчес запасся там водой, подробно описал свои приключения и отбыл в обратный путь, положившись на волю Господа. Из семнадцати человек команды к концу этой невероятной одиссеи остались в живых только пятеро, в том числе сам Алонсо. Гарсиласо не указывает, где окончилось это странствие, но имеет в виду, скорее всего, не Мадейру, а Испанию: «Они остановились в доме знаменитого Христофора Колумба, генуэзца, потому что знали его как великого лоцмана и космографа, который составлял карты для мореплавания... И, так как прибыли они измученные перенесенным в прошлом трудом, сколько ни одаривал их Христофор Колумб, они не пришли в себя и умерли все у него дома, оставив ему в наследство труды, которые принесли им смерть и которые взялся завершить великий Колумб с таким энтузиазмом и силой, что, если бы ему пришлось перенести такие же страдания или даже большие, он [все равно] предпринял бы это дело, чтобы передать Испании Новый Свет и его богатства...» Что здесь правда, что вымысел - устанавливать теперь уже поздно... В 1984 году в английском «Журнале Королевского географического общества» появилась статья профессора географии Эксетерского университета А. Дэвиса, утверждающая, что еще в 1477 году, когда Кристобаль Коломбо совершал свои плавания в Англию, Ирландию и Исландию, валлийский контрабандист Джон Ллойд, регулярно наведывавшийся в Гренландию, высадился в один прекрасный день на берегу Гудзонова залива и, возможно, спустился оттуда к югу до побережья Соединенных Штатов. А ведь эти двое могли встретиться, ничего невозможного в этом нет. Очень интересную версию выдвинул в начале 1970-х годов марокканский профессор Мохаммед эль-Фаси. Он утверждает, что Колумб незадолго до своего путешествия побывал в Марокко (что также вполне возможно: по некоторым данным, Колумб до своей женитьбы в 1479 году сделал один или два рейса в Гвинею) и узнал там о древнейшей и испытанной трансатлантической трассе берберов - отличных мореплавателей и навигаторов. По словам ученого, маршрут Колумба и особенно конечный его пункт в точности совпали с этой трассой! Более того, эль-Фаси выдвинул гипотезу, что карибы - не индейское племя, а что это не сумевшие или не захотевшие вернуться берберы, а карибами их назвали как раз местные индейцы, слегка исказив услышанное ими берберское слово «караб», означающее «подплытие», «приближение к земле со стороны моря». Подтвердят ли этнографы и антропологи гипотезу эль-Фаси, пока неясно. Вообще же, надо заметить, что в сущности беспредметный и никчемный спор о том, кто открыл Америку, приобретает в последнее время какой-то нездоровый азарт. Хорошо известно, что ее «открывали» не однажды. Громкая же слава, доставшаяся Колумбу, обусловлена не открытием нового континента (как это ни парадоксально), а началом его колонизации. По иронии судьбы он носил в Испании имя Колон, и именно ему обязана Испания самыми богатыми и обширными своими колониями. Алехо Карпентьер остроумно и убедительно излагает мнение, что лишь во время первого путешествия Кристобаль Коломбо стал называть себя на латинский лад - Христофором Колумбом. Христофор означает «несущий Христа». Францисканский монах Колумб нес крест - символ Христа - на парусах своих каравелл, как это всегда делали крестоносцы. Он вел испанцев в крестовый поход против всех, кто не имел удовольствия принадлежать к числу подданных их католических высочеств. За два тысячелетия до Колумба в Америке побывали карфагеняне. Они увековечили это событие в надписи, высеченной на трех камнях и обнаруженной в середине 1970-х годов канадскими археологами около Шербрука, в ста шестидесяти километрах восточнее Монреаля. Карфагеняне не только достигли берегов неведомой земли, но и обследовали ее, введя свои корабли в реку Святого Лаврентия и ее приток - реку Святого Франсиса: только так они могли достичь той местности, где найдена надпись. Все еще не решена загадка бухты Гуанабара, на берегу которой расположен Рио-де-Жанейро: ее дно буквально усеяно римскими амфорами и произведениями искусства, случайно обнаруженными в 1976 году аквалангистами. Все эти предметы изготовлены за семнадцать веков до Колумба, около 200 года до н. э. Спор идет лишь о том, доставили ли их сюда сами римляне (так считают американские исследователи), или же это груз затонувшего в прошлом веке итальянского корабля, отосланного из Сицилии в дар бразильскому императору Педру I (этой версии придерживается директор Бразильского института археологии О. Диас).
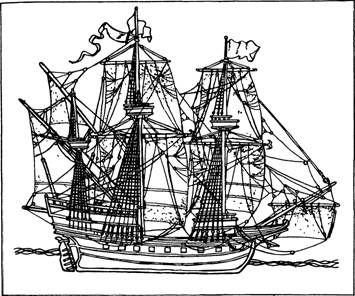 Шведская каравелла второй половины XVI века. Рисунок.
Шведская каравелла второй половины XVI века. Рисунок.
В 1981 году в той же бухте - в штате Баия - с двадцатиметровой глубины было поднято старинное блюдо из обожженной глины необычной для этих мест формы и рисунка. Вспомнили, что несколькими годами ранее водолазы нашли два якоря, тоже керамических. Анализ установил одинаковый возраст обеих находок - два с половиной тысячелетия. Чуть позже к ним присоединилась третья - новые античные амфоры, в дополнение к найденным пять лет назад. Так была поставлена точка в истории, начавшейся столетием раньше, когда в штате Мараньян близ устья Парнаибы была обнаружена надпись, сообщавшая, что на этом месте заблудившиеся финикийские моряки принесли в жертву Ваалу одного из членов команды. После совершения обряда жертвоприношения судно поплыло к югу и погибло в бухте Гуанабара. В мае 1981 года шестеро японских ученых во главе с К. Фудзимото завершили на тримаране «Ясен Го-Ш», построенном по сохранившимся моделям двухтысячелетней давности, десятимесячный переход из района Суо-Нада по Тихому океану протяженностью в десять с половиной тысяч миль и достигли Сан-Франциско, доказав возможность таких путешествий в древности. Найденное в 1939 году на восточном побережье Мексики и Гватемалы множество сорокатонных широконосых и толстогубых каменных голов, обращенных к Атлантическому океану, датируется тем же временем, что и путешествие карфагенян,- VIII век до н.э. Суданский лингвист и антрополог И. ван Сертима убежден, что его нубийские предки не раз достигали американских берегов. Ему яростно возражает Мохаммед эль-Фаси: он специально совершил турне по странам Центральной Америки, изучая языки местных индейских племен, и насчитал в них почти четыре сотни слов явно, по его мнению, ничем пока не подкрепленному, берберийского происхождения. На некоторых островах Тихого океана (Гавайи, Таити, Фиджи) обнаружены следы пребывания полинезийцев, некоторые из них датируются временем... Троянской войны! Около Таити найдены остатки полинезийского катамарана тысячелетней давности... Могли ли полинезийцы достигнуть Америки? Бесспорно, могли. Их следы слишком легки, чтобы пережить тысячелетия, они смыты морем, разрушены землетрясениями, уничтожены неосторожной деятельностью человека нашей эпохи. Но они могли быть. Полинезийцы прекрасно ориентировались по звездам и пользовались подобием компаса, основанным на постоянстве тихоокеанских ветров,- скорлупой кокосового ореха, обдуманно продырявленной во многих местах и дававшей целую гамму свиста ветра, по которой и определялся курс. В 1980 году полинезиец Наиноа Томсон и тринадцать его друзей прошли на восемнадцатиметровом спаренном катамаране от Гавайских островов до Таити за тридцать трое суток, пользуясь только методами своих далеких предков. Из разных источников известны плавания к Американскому континенту предков басков в 800-600 годах до н. э. в район Саванны, иберов в 480 году до н. э. в район Галифакса, кельтов в 1170 году в район Нового Орлеана и, конечно же, норманнов.
А вот одно из самых последних сообщений на тему «доколумбовых колумбов». 18 апреля 1989 года английская газета «Саутгемптон пост» оповестила своих читателей, что, по словам Дж. Бэшфорд-Снэлла, капитана учебного судна «Лорд Нельсон», он и члены его экипажа «обнаружили на одном из Багамских островов (Аба-ко) наскальный рисунок, датированный 1450 годом, на котором изображено, как два галеона атакуют португальское флагманское (? - А.С.) судно. И, более того, жители этого острова показали англичанам руины старинного форта, среди которых были обнаружены некоторые характерные предметы домашнего обихода Португалии середины XV столетия». Очень странно звучит в устах капитана «флагманское судно»: что это за тип такой? почему испанцы атаковали только одно судно, если перед ними была эскадра, и что в это время делали остальные португальские корабли? где происходило это сражение и почему оно увековечено на Багамских островах? наконец - кто датировал рисунок, да еще столь точно, и почему он до этого времени никому не попался на глаза в этом густонаселенном туристском заповеднике? Очень все это похоже на очередную дутую сенсацию. Что ж, время покажет... По чьим следам шел Колумб - неизвестно, и каждый вправе придерживаться той версии, какая ему больше по душе.
ХРОНИКА ДЕСЯТАЯ,
повествующая о том, к чему привело великое противостояние Запада и Востока.
Tак как город окружен стенами с трех сторон, то осаждать его с суши - пропавшее время. Приходилось изыскивать средства для атаки его с моря. Это было трудное предприятие, потому что гавань между Галатой и Стамбулом была так прочно защищена, что через нее нельзя было пройти ни одному судну. Как ни умны были начальники, они не могли придумать средства для преодоления этого препятствия. Тогда султану пришла в голову мысль перетащить галеры по земле от нового замка, что позади Галаты, к крайней части гавани и таким путем напасть на город со стороны моря, подвергнув его пушечному обстрелу. Византийцы были уверены, что это единственное место, через которое мусульмане не смогут напасть на них. Однако предприятие, задуманное султаном, удалось благодаря ловкости опытных инженеров, которые при помощи невероятных усилий сумели перетащить галеры через горы. Когда галеры были переправлены, ими воспользовались для того, чтобы устроить мост, и этот мост стал путем для нападения со стороны гавани и для крепкого охвата осажденных с этой стороны... Город был взят, и войска, войдя в него, предали его крови и разграблению... Грабеж продолжался три дня, и не было ни одного воина, который не стал бы богатым благодаря захваченной добыче и рабам. По прошествии же трех дней султан Мехмед запретил под страхом тяжких наказаний продолжать грабеж и резню, которая все еще не утихала. Все повиновались его приказу. Когда наступило полное спокойствие, вместо нелепого колокольного звона раздался приятный голос муэдзина, возвещающий пять раз в день молитвы. Из церквей выбросили идолов, очистили их от запахов, которыми они были оскверняемы, и устроили в них ниши, дабы обозначить место, куда следует устремлять взор, когда творишь молитву. К церквам приделали минареты; одним словом, не забыли ничего, чтобы превратить их в места благочестия для мусульман». Так писал во второй половине XVI века придворный историк турецких султанов Саад-ад-Дин. «В один день и в одну бедственную ночь», 29 мая 1453 года Византийская империя перестала существовать, и слово «Истанбул» было начертано на всех картах поверх слова «Константинополь». В течение четырехсот семидесяти лет этот город был потом столицей Османской империи и затем Турции.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, Пока не предстанут Небо с Землей на Страшный Господень Суд...
После завершения испанской Реконкисты и изгнания мавров с Пиренейского полуострова в Северную Африку Средиземное море сделалось передним краем борьбы двух вер: восточные и южные его берега стали мусульманскими, западные и северные - христианскими,
Но нет Востока, и Запада нет (что племя, родина, род!), Если сильный с сильным лицом к лицу у края Земли встает.
«Край земли» оказался близок, слишком близок, гораздо ближе, чем ожидали и те, и другие. В год, когда Колумб открыл для Европы Новый Свет, в Свете Старом началось великое противостояние Востока и Запада, растянувшееся почти на полтысячелетия. Пока на юге Пиренейского полуострова держался под натиском христиан арабский эмират, арабы воспринимали удары судьбы с философским спокойствием: «Значит, так угодно Аллаху». Но теперь, когда всех их изгнали с насиженных мест, изгнали те, в чьи дряхлеющие вены они впрыснули живительный сок знаний и кого приобщили к подлинной культуре, арабы провозгласили газават - священную войну против «неверных». Мавры сделали свое дело, но уйти они намеревались, громко хлопнув дверью.
Братья по вере, турки, если и не стали их прямыми союзниками на первых порах, то, во всяком случае, заняли позицию доброжелательных наблюдателей. Подобно финикиянам во время Троянской войны, они выжидали - кто кого, чтобы потом отпраздновать собственную победу, прихлопнув обескровленного победителя. Расчет был верный: после того, как турки перерезали торговую артерию, связывавшую Европу с Индией через Босфор, европейская торговля быстро стала хиреть. Избалованные обилием пряностей и предметов роскоши, захлестнувших Северное Средиземноморье после первого же Крестового похода, европейские короли и аристократы неожиданно лишились всего. Фанатическое упорство, с каким они, не жалея средств, принялись искать новые связи с Индией и Островами пряностей (Молуккскими), с Китаем и Японией, свидетельствует и еще об одном: многие из них успели стать великими поклонниками наркотиков. Дым кальянов, чилимов и наргиле, курившийся от Стамбула до Сеуты, достигал их ноздрей и тревожил их воображение. Как это ни парадоксально, изгнанные мавры остались хозяевами положения. Они толпами уходили в Ифрикию - Северную Африку, а точнее - в Тунис. В 1434 году наместником Туниса стал Осман, царствовавший пятьдесят три года. Европейцам нетрудно было запомнить это имя: владыками Турции были представители Османской династии. В те годы всех нехристиан стали называть османами. Соперником Туниса был Алжир. Именно здесь осело большинство пиренейских мавров, преследуемых испанскими солдатами. Утратив родину, растеряв все свое имущество, с трудом сохранив свободу и не имея никаких видов на будущее, многие из них обратились к древнейшему и самому доступному промыслу, способному доставить кусок хлеба,- к пиратству. Главной базой варварийских пиратов стал остров Джерба в заливе Сирт. С начала XVI века пиратство в Средиземном море почти целиком сосредоточили в своих руках мусульмане, с этих пор оно приобрело, можно сказать, религиозную окраску. История сохранила для нас имя гончара Якоба - вероятно, грека, переселившегося с Балкан на остров Лесбос, принадлежавший формально Греции, хотя в XIV веке он был передан Византией в наследственное владение знатному генуэзскому роду Гателуччо. Когда в 1462 году греческий Лесбос стал турецким Мидюллю, Якоб, не слишком раздумывая, принял ислам, а впридачу - прозвище Рейс, что по-турецки означает «капитан». У него действительно было собственное судно, он развозил на нем по рынкам Эгейского моря свои горшки. Чтобы оправдать в полной мере новое прозвище, Якоб Рейс решил стать настоящим капитаном. Он занялся пиратством. Вместе с ним на разбойный промысел выходили его сыновья Хорук, Элиас, Исхак и Ацор. Чем кончил Якоб, мы не знаем. Возможно, он умер в своей постели, а может быть, был убит в пиратской стычке, как его сын Элиас. Неизвестна и дальнейшая судьба Исхака. Хорук, попавший вместе с турецким пиратским кораблем, где он служил, в плен к рыцарям-иоаннитам в том самом бою, в котором погиб Элиас, несколько лет ворочал весла на иоаннитских галерах-каторгах, базировавшихся на Родосе, и стал называть себя на итальянский лад - Арудж. Чтобы выкупить своего незадачливого братца, Ацо-ру пришлось стать пиратом-профессионалом: сумма была заломлена немалая. Вполне естественно, что, как правоверный мусульманин, он грабил только суда христиан. Это не осталось незамеченным, и к тому времени, как требуемая сумма была собрана, Ацор по примеру своего отца тоже переменил имя, его теперь называли Хайр-эд-Дин - «Хранитель веры». Выкупленный Арудж вернулся к пиратской службе в султанском флоте, но ненадолго. То ли доля султана показалась ему чрезмерной, то ли он решил, что излишняя опека ему ни к чему, но однажды Арудж взбунтовал команду и вышел на промысел самостоятельно. Первым делом ему следовало обзавестись надежной базой, а сделать это было не так-то просто. В турецких водах он показываться не решался, христианские же были его охотничьим угодьем. Оставалась Африка. Арудж попросил покровительства тунисского эмира и получил его - вместе с Джербой. Остров превратился вскоре в пиратское государство, а Арудж - в его хозяина.
 Каторга. Рисунок.
Каторга. Рисунок.
Флот Аруджа пополнялся с неслыханной быстротой: слухи об его фантастической удачливости уже успели облететь все Средиземноморье. Его потайные стоянки и убежища были далеко от берегов Африки, и Арудж выжимал из них все преимущества, какие они могли дать. Одна из таких стоянок находилась, например, в Корсиканском проливе у самых берегов Италии. И выходя из нее на охоту, пираты считали ниже своего достоинства сменить, скажем, флаг с полумесяцем на флаг с крестом или поменять тюрбан на шапку. Они не скрывались, их набеги были молниеносны. Под свист плети рабы проворно орудовали тяжеленными веслами, а те, кто не выдерживал, находил вечный покой в морских глубинах. Ночью пиратские корабли были бесшумными призраками, днем - колесницами морского дьявола, несущими смерть. На борт они принимали только крупный товар: для дублонов, дукатов, пиастров или цехинов у них существовал особый «кошелек» - полые мачты, и раззявы-купцы сами заботились о том, чтобы он всегда был набит «под завязку». Весной 1504 года Арудж совершил одну из самых блестящих и остроумных операций на море, какие знает история. Тот день, по свидетельствам очевидцев, был ясным и безоблачным, а море - каким его изображают нынче на рекламных проспектах Лазурного Берега. Из Генуи в Чивитавеккью не спеша продвигались две военные галеры с ключами святого Петра на флагах. Никакой войны папа Юлий II не вел, и, значит, на галерах мог оказаться какой-нибудь ценный груз. Арудж моментально оценил обстановку и принял решение. Было около полудня, солнце припекало вовсю. Погода не располагала папских моряков к излишней бдительности, да и берега Италии проплывали совсем рядом. Первая галера вырвалась далеко вперед, вторая замешкалась где-то за горизонтом. И вот, когда первая галера миновала остров Эльба, ее матросы заметили, что их догоняет быстроходный корабль, распустивший все свой крылья. Палуба его была безлюдна, но у рулевого и у капитана, маячивших на корме, по мере приближения все явственнее можно было различить на головах цветастые чалмы. Корабль Аруджа шутя догнал неповоротливое судно, на его палубу обрушился ливень стрел. Пока беспечный экипаж искал оружие, галера была взята на абордаж, и все было кончено в считанные минуты. Пираты раздели тех, кто остался в живых, заперли их в трюмах, затем взяли на буксир собственное судно и, замедлив ход, преспокойно стали поджидать вторую галеру. Ее капитан сам подошел к ним бортом к борту, чтобы выразить восхищение победой над пиратами... В другой раз Арудж вместе с Хайр-эд-Дином захватили военный корабль его католического величества, перевозивший под охраной нескольких сотен солдат губернатора и горсточку знатных пассажиров. Трюмы корабля ломились от набитых в них сокровищ. Сокровища достались маврам. Этот бой, правда, стоил Аруджу руки, отрубленной в абордажной схватке, после чего его счеты к испанцам заметно возросли. В 1509-1510 годах почти весь Алжир был захвачен войсками Фердинанда V Католика - так теперь именовали Фердинанда II Арагонского, «завоевателя Гранады» и «открывателя Америки». Испанская речь зазвучала в портовых городах Ал-Джесаир (Алжир), Бужи (Беджаия), Оран и других. На островке Пеньон (Марин), запиравшем выход из Алжирской бухты, испанцы выстроили ряд укреплений: это был их плацдарм, направленный против мавров. Алжирский эмир заключил с Испанией мир после того, как лишился главных своих портов, но мир этот тяготил обе стороны. После смерти Фердинанда в 1516 году Алжир восстал, восстание возглавил араб Селим ат-Туми, горожанин из Блида. Он сделал то, на что не решились испанцы: заручился поддержкой пиратов. Арудж и Хайр-эд-Дин, предвидя этот шаг, заранее перебазировались с холмистой тунисской Джербы на скалистый алжирский архипелаг Агелли, и подмога не заставила себя ждать. Алжир был взят пиратами с моря и с суши, сопротивление продолжал только скалистый остров Пеньон, где дон Мартин де Варгас с гарнизоном всего из полутысячи солдат сумел организовать превосходную оборону. Алжирским эмиром стал теперь Селим ат-Туми, и пиратам, несомненно, улыбалась привольная жизнь. Однако их вождь рассудил иначе, не в его обычае было таскать для кого бы то ни было каштаны из огня. Он предпочитал есть их сам. Арудж испросил аудиенции у новоиспеченного монарха и направился в эмирский дворец Дженину. Селим в это время плескался в дворцовом бассейне, и освежающая прохлада настроила его на безмятежный лад. Он принял пирата прямо в купальне и отослал по его просьбе слуг: дело, по словам Аруджа, было спешным, важным и конфиденциальным. Так оно и оказалось. Поразмыслив, Арудж, видимо, решил, что, поскольку в Турции уже правил в это время Селим I, то двух Селимов на одно Средиземное море, пожалуй, многовато: как бы не произошла путаница. Дело было улажено за несколько минут: Арудж извлек эмира из бассейна за волосы, словно котенка, и профессионально задушил его. Так Алжир стал государством пиратов. Чтобы подчеркнуть независимость своей вотчины от Турции, Арудж возвел себя в ранг султана, а поскольку все четыре сына Якоба были огненно-рыжие, как флорины, за которыми они охотились, он присвоил себе тронное имя Барбаросса, что по-итальянски означает «Рыжебородый», и порядковый номер один. Под этим же номером и в том же году на испанском престоле утвердился внук Фердинанда, шестнадцатилетний Карл, уже десять лет числившийся королем Бургундии и Нидерландов. В придачу к Испании Карл получил Неаполь, Сицилию и Сардинию - ключевые военно-морские пункты Западного Средиземноморья. Вполне понятно, что новое государство, к тому же еще пиратское, у себя под боком изрядно портило настроение его величеству. Донесения о бесчинствах алжирских пиратов нескончаемым потоком стекались в Мадрид из всех уголков Средиземного моря, где можно было встретить испанский флаг. Аппетиты Барбароссы I не знали предела. Сделавшись фактическим властелином моря, он не оставлял своим вниманием и сушу. Поскольку остров Пеньон лишал пиратов какой бы то ни было возможности пользоваться преимуществами Алжирской бухты, следовало срочно искать новые базы на побережье. Взор Аруджа обратился на восток. Особенное его внимание привлек соседний Тунис, и он совершил туда несколько вылазок. Но этим он, сам того не заметив, перегнул палку Во-первых, война Алжира с Тунисом означала братоубийственное истребление мусульман мусульманами, что противоречило заветам Магомета; во-вторых, алжирцы быстро распознали на собственной шкуре разницу между государством, покровительствующим пиратам и обогащающимся за их счет, и пиратским государством, противостоящим не только всему христианскому миру, но и миру мусульманскому - Турции и Тунису. В 1518 году в Алжире вспыхнуло новое восстание. Восставшие заключили тайное соглашение с испанцами о помощи, и Карл отправил в Оран десять тысяч солдат, полных решимости постоять за христианскую веру. Вскоре столица Барбароссы I пала, а сам он с полутора тысячами пиратов бежал на запад, ко двору марокканского султана. Испанцы ворвались в Марокко на их плечах и окружили войско Аруджа у города Тлемсена. Пираты дрались с мужеством обреченных, все они во главе со своим вождем полегли на поле битвы. Победа испанцев была полной. Африка, казалось, сама плыла им в руки. Карл I уже видел себя властителем южного побережья Средиземного моря, национальным героем и столпом веры. Чтобы осуществить эти грезы, нужно было сделать еще один шаг, и он сделал его: к берегам Алжира вышла мощная испанская армада, несущая на своих палубах целую армию. И тут произошло то, чего никто не ожидал. Испанцев встретил пиратский флот под командованием Хайр-эд-Дина, о котором все успели позабыть после того, как он бежал по приказу Барбароссы I из павшей столицы. Хайр-эд-Дин жестоко отомстил за гибель старшего брата. Больше двух десятков кораблей Карла и четыре тысячи испанских солдат навсегда остались в прибрежных водах мавританской Африки. Не давая врагу опомниться, Хайр-эд-Дин мощным броском занял город Алжир и провозгласил его собственностью... турецкого султана Селима I. Селим не возражал против того, чтобы принять под свое крыло нового вассала, но и не спешил с изъявлениями удовольствия. Чтобы проверить, на что способен Хайр-эд-Дин, он послал к нему в подкрепление две тысячи пушкарей и четыре тысячи отборных янычаров. Брат Аруджа не уронил себя в глазах сюзерена: за короткое время он очистил от испанцев портовые города Аннаба, Колло и Константина к востоку от Алжира и Шершель - к западу. В 1519 году благодарный султан пожаловал Хайр-эд-Дину титул паши всего Алжира, и тот обосновался в Дженине под именем Барбароссы II. Сделавшись владыкой Алжира, Хайр-эд-Дин столкнулся с проблемой, лишавшей сна и его покойного брата: пиратскому флоту требовались базы. Пеньон, хорошо различимый с крыши дворца, уже попортил немало крови мавританским разбойникам. Район их действий охватывал всю часть Средиземного моря, расположенную треугольником между Апеннинским и Пиренейским полуостровами и западной частью Северной Африки, и в самом центре основания этого треугольника засели испанцы, по существу блокируя с моря Алжир. Арудж оказался бессильным изменить это положение вещей. За дело взялся теперь его младший брат. Атаки на Пеньон следовали одна за другой, но «шип в сердце Африки» был неуязвим. Однако потери испанцев, очевидно, были все же чувствительными, и они, обманув бдительность блокирующих пиратских эскадр, сумели переправить на континент гонца с призывом о помощи. Испанский король, ставший в этом году императором Священной Римской империи и сменивший порядковый номер I на V, прекрасно понимая важность обладания Пеньоном, выслал туда на помощь флот в полсотни кораблей под командованием Уго де Монкады, но пираты вновь вышли победителями. После этой победы редкий христианский корабль отваживался оторваться от спасительного берега. Впрочем, берег был надежным, да и то относительно, только на материке. Острова же Средиземного моря почти обезлюдели. Пока «Гроза Ада» Айдин, флотоводец Барбароссы II, опустошал Корсику или Эльбу, его коллега Драгут, родосский турок, наводил страх на Сицилию или Сардинию, а смирнский еврей Синан лавировал где-нибудь в лабиринтах Балеарского архипелага или Киклад. Неисчислимые сокровища и толпы рабов (преимущественно молоденьких мальчиков) стекались в Алжир, и двадцатая их часть, лучшая, заботливо отобранная самим Барбароссой, отсылалась затем в Константинополь, где с 1520 года правил Сулейман I. В 1526 году Карл V, умевший ценить талантливых и мужественных людей, предложил Хайр-эд-Дину союз. Он обещал не только сохранить независимость Алжира, но и предоставить паше свои войска. И все это - в обмен на отступничество от Стамбула.
Хайр-эд-Дин отказался, пряник остался нетронутым. Тогда в дело пошел кнут, испанцы предприняли новую отчаянную попытку отбить Алжир. Под непрерывную пальбу с острова Пеньон испанские корабли ворвались в Алжирскую бухту. Здесь, на краю мира (он был краем и для тех и для других), снова стали лицом к лицу сильный с сильным. Завязался бой. Удача улыбнулась варварийцам, им удалось потопить несколько испанских кораблей, а некоторые, в том числе флагманский, захватить в плен. Сделав на море все, что мог, Барбаросса ушел в Тунис: он заподозрил алжирского бея в измене. Тунис стал его убежищем и его базой на три долгих года. Но пирата грызла ностальгия, он скучал по Алжиру. Нужно было подстеречь удобный момент, чтобы вернуть его себе. Барбаросса подстерег этот момент. Он появился у стен Алжира с сильным войском, и столица открыла ему свои ворота. Наведя порядок в городе, паша вспомнил о Пеньоне. Остров-крепость все еще держалась. Держалась тринадцать лет. Это число стало поистине роковым для суеверных испанцев. Она пала лишь в 1529 году после непрерывного шестнадцатидневного штурма, сопровождавшегося шквальным артиллерийским огнем. Жалкие остатки гарнизона (в основном раненые) приняли на себя всю ярость мусульман. Мартина де Варгаса привязали раздетого к столбу возле великолепной мечети на приморской площади Бадистан, служившей рынком рабов, и два здоровенных мавра запороли его насмерть розгами. Не удовлетворив этим свою ненависть к испанцам и желая обезопасить свою столицу от повторения истории с Пеньоном, Барбаросса решил «наказать» этот клочок суши. Разгневанный Ксеркс приказал когда-то выпороть плетьми море, потопившее его корабли, Барбаросса повелел уничтожить остров. Но его нельзя было упрекнуть в необдуманности действий. По-видимому, Хайр-эд-Дин был начитанным человеком. Он знал историю о том, как Александр Македонский, будучи не в силах захватить островной город-крепость Тир, приказал превратить остров в полуостров. Александр сделал это до осады, Барбаросса осуществил это после, превзойдя великого Македонца. Но ему была знакома и гавань Александрии - лучшая на Средиземном море. В этой гавани к острову Фарос, расположенному, как и Пеньон, на расстоянии окрика от берега, вела дамба, благодаря чему захват Александрии врасплох был делом невозможным. На следующий день после казни де Варгаса к северной части набережной Алжира напротив Пеньона были согнаны несколько тысяч рабов-христиан. В 1531 году остров перестал существовать, возведенный из камня полуостров двухсотметровой длины превратил Алжирскую бухту в лучшее пиратское убежище Западного Средиземноморья. Этот мол в Старой гавани Алжира до наших дней носит имя Хайр-эд-Дина. «Ум и храбрость в нападении, прозорливость и отвага в обороне, огромная работоспособность, непобедимость - все эти похвальные качества заслонялись приливами неутомимой и холодной жестокости»,- писали о Хайр-эд-Дине в 1841 году авторы «Истории французского флота». Сумасбродство прекрасно уживалось в нем с осмотрительностью. Его покровитель Сулейман Великолепный вел в это время непрерывные войны в Европе, ему удалось захватить Белград, завоевать почти всю Венгрию, зеленое знамя пророка взвилось над большинством островов Эгейского моря, в Триполитании и Ираке. Над империей Карла, где «никогда не заходит солнце», неумолимо всходил полумесяц. В 1528 году, когда турки выступили на Вену, Карл сумел переманить к себе талантливого итальянского адмирала-авантюриста Андреа Дориа, служившего до того французскому королю Франциску I. Дориа и Барбаросса - долгие годы эти двое стояли лицом к лицу на рубеже двух миров. Это были достойные соперники. Пока флот Дориа щипал беззащитные острова Эгейского моря, утверждая эпизодически и ненадолго крест над полумесяцем, корабли Барбароссы терроризировали берега Италии. Узнав об этом, Дориа бросился на помощь родине, но в Мессинском проливе потерпел сокрушительное поражение и еле унес ноги в Венецию. Пираты преследовали его по пятам, открыв для себя при этом на много лет вперед богатые адриатические берега Италии. Не удовлетворившись этой блистательной победой, Барбаросса в 1534 году на шестидесяти галерах вновь форсировал Мессинский пролив, захватил портовый город Реджо в Калабрии и прошелся по всему западному побережью Италии вплоть до Генуи, заполнив пленниками палубы и трюмы всех своих кораблей. (Об этом его рейде потом слагали легенды, иногда весьма пикантного содержания, где в числе персонажей можно найти красавицу-вдову и ее молодого слугу, а сюжетное действие сопровождается бешеной ночной скачкой молодой княгини через лес и «кровавой оргией» разочарованных пиратов. Все это, скорее всего, именно легенды, хотя доля истины в них может быть.) В следующем году он захватил город Тунис, чей бей Мулен Хасан, как доложили Барбароссе, был подкуплен Карлом V. Год спустя Андреа Дориа удалось отбить Тунис, но цена оказалась чрезмерно высокой: пока испанцы в поте лица трудились у стен тунисской столицы, эскадра пиратов совершила молниеносный рейд к Балеарским островам, разорила Менорку и захватила на ней шесть тысяч пленных. Хайр-эд-Дин почтительнейше преподнес их в дар турецкому султану. Дориа, этот кондотьер, продававший свою шпагу тем, чей кошелек выглядел внушительней, официально числился адмиралом испанского флота, слыл национальным героем и пользовался всеми преимуществами полноправного гражданина. Барбароссу, даже в самые отчаянные моменты сохранявшего верность своему султану, везде преследовала слава вероотступника, разбойника и плебея. Преследовала на протяжении всех шестидесяти лет, когда он верой и правдой служил своему султану. Чтобы восстановить справедливость, Сулейман 15 октября 1535 года пожаловал Хайр-эд-Дину фирман (указ), возводивший преданного слугу в достоинство капудан-паши (главнокомандующего османским флотом) и бейлербея (бея над беями, по европейским понятиям - вице-короля) Северной Африки. Барбаросса не обманул доверия своего благодетеля. В феврале 1536 году он был направлен султаном к Франциску I, чтобы защитить Францию от притязаний Карла. Когда его корабли проходили Мессинским проливом, их неожиданно обстреляли пушки города Реджо-ди-Калабрия. Трудно сказать, на что рассчитывали городские власти: должно быть, у них просто сдали нервы. Расплата за это легкомыслие последовала незамедлительно: Барбаросса огнем судовых орудий подавил батареи Реджо, а высаженные на берег двенадцать тысяч янычаров предали город огню и мечу. После того как пиратские галеры прибыли в Марсель, где Барбароссу встретили как самого султана, Франциск довольно скоро пожалел о своей опрометчивой просьбе: пираты методично и без разбора грабили все подряд до самой Лигурии, И французам приходилось за умопомрачительные суммы выкупать кораблях у них своих же соотечественников. Никакие увещевания не действовали на железного Хайр-эд-Дина. Наконец Франциск I уведомил Сулеймана, что помощь больше не требуется, и флот Барбароссы отбыл восвояси вдоль побережья Италии, разграбив по пути все острова от Эльбы до Липары, какие оказывались на его пути. Чуть позже Барбаросса захватил Бизерту и несколько островов, принадлежавших Венеции.

Однако 1537 год оказался несчастливым для капудан-паши: в стычке с Дориа около Мессины он потерял двенадцать галер. Ярость Барбароссы слегка улеглась лишь после того, как молодцы с уцелевших его кораблей затопили кровью побережья Апулии и острова Корфу. Дориа между тем торжествовал победу, осыпаемый милостями Карла. Но радость была преждевременной. Год спустя, 25 сентября 1538 года в морском сражении у Ионических островов, в заливе Превеза, флот капудан-паши наголову разгромил испанско-венецианскую армаду, которой командовал Андреа Дориа, после чего Венеция, скрепя сердце, вынуждена была заключить позорный мир с Турцией. А еще через два года Хайр-эд-Дин закрепил свое превосходство на море, уничтожив другой христианский флот при Кандии, у северных берегов Крита. Союз султана с Хайр-эд-Дином очень напоминает аналогичный союз понтийского царя Митридата с кили-кийцами. Как и те, варварийские разбойники всегда были уверены в поддержке и благосклонности султана. Султан, со своей стороны, отчетливо сознавая, что его подданных трудно назвать морской нацией, возлагал на пиратов все свои надежды на море и именно в алжирских молодцах видел своих учителей в области мореходства и судостроения. Престиж Карла в Европе таял на глазах, необходимо было срочно спасать его. Единственное, что могло восстановить сильно пошатнувшийся авторитет императора,- это ликвидация пиратской столицы Средиземноморья - Алжира. На разработку плана его захвата ушло около трех лет.
 Флагманская каравелла Андреа Дориа. Модель.
Флагманская каравелла Андреа Дориа. Модель.
Осенью 1541 года Карл решил, что час настал: Хайр-эд-Дин загостился в Стамбуле (у него был там собственный великолепный дворец с видом на Босфор) и гарнизон Алжира возглавлял его сын Хасан, молодой и неопытный, как надеялись испанцы. Он не догадался даже закрыть ворота города! 19 октября от пятисот до шестисот христианских кораблей под флагами чуть ли не всей Европы появились на рейде Алжира. На мостике флагманского корабля Андреа Дориа стоял с подзорной трубой в руке император. Герцог Альба отдавал последние указания армии: предстояло высадиться на мысе Матифу и штурмовать стены города-крепости.
Однако испанцев подвела погода. На море было волнение, не сильное, но вполне достаточное для того, чтобы лодки с штурмовыми группами, сидевшие в воде почти по планширь, продвигались к берегу с черепашьей скоростью. Стремительной атаки не получилось, алжирцы успели подготовиться. Император просчитался и на этот раз. Сопровождавший его войско знаменосец мальтийских рыцарей в бессильной ярости вонзил свой кинжал в захлопнувшиеся перед европейцами ворота Востока. В этой битве погибло более десяти тысяч христиан, а пленных, сообщают летописцы, было столько, что на рынках рабов за них «нельзя было получить даже луковицы». Карл взошел на свой флагманский корабль последним, в бессильной ярости разрывая на себе дорогие кружева. Победа пиратов была полной. Вскоре они без особого труда возвратили себе Джербу. Франциск I заключил с Сулейманом политический и наступательный союз, направленный против Карла V, и 22 августа 1543 года французы при помощи Барбароссы захватилиНиццу, где варварийцы обратили в рабство более пяти тысяч жителей. Они привезли их в Тулонский порт, предоставленный им Франциском для базирования, и распродавали по дешевке в Марселе в течение нескольких последующих лет, пока 19 июня 1547 года Сулейман не заключил с Карлом пятилетнее перемирие и не отозвал Барбароссу из Франции. Хайр-эд-Дин умер в своем константинопольском дворце 4 июля 1546 года в весьма почтенном возрасте (год его рождения в точности неизвестен) и был похоронен в мавзолее как национальный герой. После смерти Барбароссы II бейлербеем Северной Африки стал его сын Хасан, но в этой должности ему пришлось пробыть всего четыре года: Хасан никак не мог взять в толк, почему союз Стамбула и Парижа должен лишать его возможности грабить плодородные и богатые берега южной Франции. Памятуя о союзническом долге, султан был вынужден отстранить Хасана от должности и назначить на его место Салаха, совершившего немало подвигов плечом к плечу с Барбароссой. Салах успел отвоевать у испанцев Бужи, но внезапно умер при подготовке штурма Орана, процарствовав лишь три года. Подготовку штурма продолжил начальник янычаров Хасан-Корсо, присвоивший себе вместе с титулом главнокомандующего и титул бейлербея. Султан, недовольный тем, что этот вопрос был улажен без него, отозвал войска от Орана, а бейлербеем назначил Мухаммеда Курдогли. В Алжире наступило двоевластие, сменившееся вскоре полным безвластием: Хасан-Корсо умер от голода на необитаемой скале в море, куда его высадили люди Курдогли, Курдогли немного времени спустя погиб от кинжала племенного вождя Юсуфа, а Юсуф каким-нибудь месяцем позже тихо скончался от чумы. Перебрав все возможные кандидатуры и не найдя достойной, султан вернул титул бейлербея Хасану. Сын Хайр-эд-Дина больше не повторил ошибки, допущенной шесть лет назад, и оставался в этой должности десять лет, до своей смерти, пережив и самого Сулеймана, умершего 6 сентября 1566 года в Сигетваре во время очередного похода на Венгрию. В 1556 году почил в бозе и Карл V, испанский трон занял его сын Филипп II. Почти все время своего царствования Карл противостоял Хайр-эд-Дину. Теперь место того и другого заняли их сыновья. Великое противостояние Востока и Запада продолжалось в новом поколении. Опорой Хасана был его великолепный флот, возглавляемый талантливыми адмиралами, чьи имена были хорошо известны и в христианском мире. Ярче всех в этом созвездии блистал уже знакомый нам Драгут. Он многим был обязан отцу Хасана, Барбароссе II. И у него были свои счеты с христианами. Вначале он промышлял в Восточном Средиземноморье с эскадрой из дюжины кораблей, но однажды счастье отвернулось от него, и Драгут попал в плен к Андреа Дориа. Три или четыре года, проведенные им в качестве гребца на итальянской галере, превратили его в личного врага Дориа, и он поклялся отомстить ему. Хайр-эд-Дин выкупил его за три тысячи крон, прибегнув к посредничеству рыцарей Мальтийского ордена, и Драгут, приняв командование варварийским флотом, принялся за укрепление Джербы - своей главной базы, откуда он намеревался руководить боевыми операциями. Дориа вскоре оценил нового противника, но подивился его легкомыслию и неопытности: ядро своего флота Драгут держал в озере внутри Джербы, соединенном с морем узким искусственным каналом с расставленными вдоль него пушками. Пират сам приготовил себе ловушку, решил Дориа. Итальянские корабли бросили якоря у входа в канал и стали ждать. Когда ожидание, по мнению Дориа, чересчур затянулось, он отдал приказ осторожно войти в канал. Остров молчал. Итальянцы прошли весь канал и оказались в озере. Никаких признаков пиратов. И только когда они обошли весь этот водоем, они увидели второй канал, прорытый к противоположному берегу острова за то время, пока итальянский флот дежурил у входа в «ловушку». Эту операцию можно сравнить только с операцией воинов Спартака, запертых римской армией на неприступной скале, но спустившихся с нее в месте, где их никто не ожидал. Таков был этот человек. Он погиб в 1565 году при осаде мальтийской крепости, когда сам повел своих головорезов в атаку. В 1567 году султан Селим назначил Хасана капудан-пашой, и вакантный титул бейлербея Алжира получил Мухаммед, сын того самого Салаха, который сменил некогда Хасана на этом посту. Но уже в марте следующего года в бейлербейском дворце водворился новый хозяин, чья биография во многом напоминает биографию отца Барбароссы. Его звали Оччали, он был калабрийцем и готовил себя к карьере священника. Но однажды во время прогулки у морского побережья его захватили пираты. Оччали стал гребцом на галере рейса Али Ахмеда, потом рулевым у самого Драгута (немалая честь!), потом... Потом он переменил Библию на Коран и имя Оччали на Ульдж-Али и стал соратником Драгута и его доверенным лицом. В 1557 году, когда в Алжире шла борьба за власть, Ульдж-Али сумел заполучить пост губернатора Тлемсена, а три года спустя Хасан сделал его пашой Триполи. Вся эта чехарда с назначениями, смещениями, заменами и убийствами правителей Алжира навела европейских правителей на мысль об упадке мощи варварий-ского государства. Казалось, возникшая ситуация сама подталкивала на то, чтобы укоротить султану руки, дотянувшиеся уже и до далекой России. И тогда в просторной гавани Мессины начал сосредоточиваться самый многочисленный и сильный христианский флот, какой когда-либо знала Европа.
 Парусно-весельная галера XVI века. Рисунок Питера Брейгеля Старшего.
Парусно-весельная галера XVI века. Рисунок Питера Брейгеля Старшего.
В начале октября ему был устроен смотр. Флагманский фрегат главнокомандующего объединенными военно-морскими силами дона Хуана Австрийского, побочного брата Филиппа II, величественно проплывал мимо восьмидесяти одной галеры и двенадцати боевых кораблей Испании под командованием генуэзца Джан Дориа, находившегося на жаловании испанского короля (вероятно, это потомок знаменитого адмирала, умершего в 1560 году), дюжины папских галер, возглавляемых ватиканским адмиралом Марком Антонио Колонной, ста восьми галер, шести галеасов и двух боевых кораблей венецианского адмирала Себастьяно Вениеро, трех мальтийских галер, трех галер герцога Савойского и бесчисленных мелких и грузовых судов. На их палубах кроме корабельных команд были двенадцать тысяч итальянцев, пять - испанцев, три - немцев и три тысячи добровольцев разных национальностей, среди которых, между прочим,- братья Родриго и Мигель Сервантесы. Всей этой армаде противостоял турецкий флот Али-паши Муэдина-заде, насчитывавший двести десять галер и шестьдесят шесть галиотов. Воскресным утром 7 октября оба флота сошлись у входа в залив Патраикос в западной Греции, в шестидесяти километрах от города Лепанто (Нафпактос). Какая ирония судьбы! Именно здесь, у мыса Акций, 2 сентября 31 года до н. э. Агриппа, возглавлявший флот Запада, нанес непоправимое поражение флоту Востока, предводительствуемому Антонием и Клеопатрой. И вот - вновь испытывают судьбу Азия и Европа, Восток и Запад, полумесяц и крест, две веры, два мира... После пятичасового боя султанский флот был разгромлен. Насаженная на длинную пику голова Али-паши, убитого в перестрелке, вызвала панику на османских кораблях. Победа союзников не вызывала сомнений: турки потеряли двести двадцать четыре корабля (из них сто семнадцать было захвачено в плен) и тридцать орудий, пятнадцать тысяч человек убитыми и пять тысяч пленными, двенадцать тысяч рабов-христиан получили свободу. Потери христиан - полтора десятка галер и восемь тысяч человек. Так закончилось последнее в истории крупное сражение гребных флотов. 7 октября 1571 года морские историки с полным правом могут считать концом Средневековья в области мореплавания и судостроения: редчайший и счастливый случай, когда можно точно определить временной рубеж двух эпох! Наступало Новое время - эпоха паруса, а затем и пара. Те пятьдесят два турецких корабля, что уцелели в лепантском побоище, принадлежали алжирским пиратам. Их встретили как героев - бывшего венецианца Гассана, бывшего француза Джафара из Дьеппа, бывшего албанца, хромоногого Дали-Мами. Но подлинными героями дня были Торгут и особенно Ульдж-Али, сумевший не только защитить и сохраните левое крыло турецкого строя, порученное пиратам, но и захватить флагманскую галеру мальтийцев. После сражения при Лепанто султан удостоил Ульдж-Али звания капудан-паши и титула бейлербея.
Ульдж-Али был последним бейлербеем, занимавшим этот пост благодаря личным заслугам. После его смерти место в Джанине можно было купить. Султан мало интересовался положением дел в своей империи, блеск золота делал его слепым. После Ульдж-Али бейлербеем стал Рамадан, но вскоре венецианский вероотступник, переменивший имя Андрета на Гассан, сумел убедить султана отозвать Рамадана в Стамбул и занял его место. Может быть, в этом назначении решающую роль сыграли не столько деньги, сколько то, что Гассан был так же рыж, как Арудж и Хайр-эд-Дин. Как знать, не видал ли в нем султан Барбароссу III. Имя Гассана сохранилось для истории, однако, вовсе не потому, что он был незаурядной личностью. Талантами он явно не блистал. Зато ими блистал один из его пленников. Это был дон Мигель Сервантес де Сааведра. Сражаясь при Лепанто на корабле «Маркеза», он потерял руку (к счастью, левую) и потом долгих четыре года скитался по Италии, раздумывая, где бы раздобыть средства для возвращения на родину. Случай свел его с братом Родриго, не успевшим еще растратить свое жалованье, и проблема была решена. В Неаполе они разыскали три парусника, готовых отплыть в Испанию, и на одном из них, называвшемся «Солнце», нашлось местечко для двух героев Лепанто. Они отплыли 20 сентября 1575 года курсом на Геную и далее на Марсель. Вот и огни Марселя остались за кормой, корабли вошли в залив Сент-Мари, уже открылось устье Малой Роны. Но тут налетевший с юго-запада шторм разметал эскадру в разные стороны, корабли потеряли друг друга. И в этот момент из ронской дельты выскользнули три легких суденышка, заждавшихся своей добычи. «Солнце» было взято на абордаж тремя полумесяцами. Командовал ими Дали-Мами, герой Лепанто. При обыске у Мигеля обнаружили рекомендательное письмо Хуана Австрийского к Филиппу. Это письмо было заполучено не без труда, оно должно было помочь Мигелю хоть немного поправить свои дела по возвращении в Испанию. Дали-Мами стало совершенно ясно, что особы королевской крови не стали бы попусту тратить бумагу и деньги ради безродного идальго, каким пытался прикинуться Сервантес. Это по меньшей мере гранд! Дали-Мами тоже хотел поправить свои дела, он запросил две тысячи дукатов выкупа. Потянулись долгие дни плена. В Алжире в те годы было, по разным источникам, от десяти до двадцати пяти тысяч христианских рабов. Жизнь их была несносна, но надежда на освобождение скрашивала время ожидания. Еще в 1198 году во Франции неким Иоанном из города Маты был учрежден монашеский орден три-нитариев для выкупа попавших в плен к маврам христиан. За первый год своей деятельности орденские братья выкупили у мавров восемьдесят шесть пленников. Идея понравилась. Иоанн был причислен к лику святых. Через каких-нибудь два года в Европе было уже примерно восемьсот пятьдесят обществ тринита-риев, и количество их непрерывно росло. Ко времени битвы при Лепанто они имели около двухсот пятидесяти монастырей. Тринитарии пользовались неприкосновенностью везде, где бы ни появлялись. Они свободно жили и в Алжире. Здесь жили, правда, по контракту и христианские купцы, но только через тринитариев можно было переслать весточку и получить ответ, они были посредниками в переговорах о выкупе, они же собирали и пожертвования для этой цели. Родриго воспользовался этим каналом и теперь ожидал выкупа. Мигелю надеяться было не на что: две тысячи дукатов - это и впрямь королевский выкуп. Он решил бежать. К нему присоединились еще десять единомышленников, а вскоре нашелся и доброхот, вызвавшийся доставить их в Оран. На шестую ночь проводник удрал, ограбив одного из своих подопечных - испанского купца, сумевшего каким-то чудом утаить от пиратов мешочек с дублонами. Все одиннадцать вернулись в Алжир: это было лучше, чем погибнуть в пустыне. Дали-Мами, все еще веривший в свои две тысячи дукатов, простил Мигеля. Вскоре тринитарии доставили в Алжир триста дукатов - это было все, что сумели наскрести родители Сервантеса. В августе Родриго отплыл на родину. Тем временем в Алжире стали таинственно исчезать рабы. По одному, по двое. Всего их пропало полтора десятка, в том числе и Сервантес. Мавры сбились с ног, не подозревая, что те, кого они ищут, преспокойно живут в каком-нибудь часе ходьбы от города, в огромном поместье одного из высших чиновников, почти не наведывавшегося туда. Родриго должен был прислать за ними корабль в условленный день. Но им надо было чем-то питаться. Один из них, флорентиец по имени Дорадор, вызвался пробираться через день в город и доставлять съестное. Корабль (маленький люгер) появился с опозданием. Нужно было подать знак, и - вот она, свобода. Все ждали До-радора, задержавшегося в городе. Флорентиец пришел не один, с ним были Дали-Мами и рота вооруженных пиратов. Дорадор был щедро вознагражден за верность своим хозяевам: он получил новый тюрбан. Дали-Мами во второй раз простил Мигеля и даже предложил ему дружбу, покровительство и богатство, если тот переменит веру и забудет об Испании. Мигель отказался. Он снова готовит побег, рассчитанный на этот раз на шестьдесят человек. Он сумел убедить богатого валенсийского купца Онофре Эксарке, постоянно жившего в Алжире, снарядить целый фрегат. Приготовления шли полным ходом, вооруженный фрегат прибыл из Картахены, и его капитан дожидался условленного срока. Оставалось два дня. В этот день один из заговорщиков, доминиканский монах из Саламанки доктор Хуан Бланко де Пас, выложил все, что знал, бейлербею. Сервантесу удалось скрыться. Трое суток будущий классик мировой литературы отсиживался в своем убежище. Но он мог подвести того, кто предоставил его. Мигель вышел на улицы Алжира. На этот раз Дали-Мами не смог бы ни заступиться за Сервантеса, ни простить его. Но дело приняло оборот, какого не мог предвидеть никто. Никогда еще Гассану не приходилось встречать подобных пленников - тщедушных телом и могучих духом. Он и сам был таким (по крайней мере, в отношении духа, в этом уверяли его придворные). К тому же испанец был однорук, как Арудж. Не принесет ли он ему счастье, не станет ли его талисманом? Гассан предложил Дали-Мами четыреста дукатов, за Мигеля, тот не посмел отказаться. Доктор Хуан Бланко тоже получил награду от бейлербея - монету достоинством в один червонец и горшочек масла. Тем временем Родриго пустил в ход все свои связи, чтобы вызволить брата. Его судьбой заинтересовался сам главный прокуратор ордена тринитариев Хуан Хиль. Следовало поторапливаться: похоже, Гассан доживал последние дни в Дженине, султан все явственнее благоволил к выскочке Джафару. С этим будет трудно сговориться. Гассан требовал тысячу дукатов. Переговоры грозили затянуться до бесконечности, но в конце концов бейлербей удовлетворился половиной суммы. 24 октября 1580 года Мигель бросил с палубы корабля прощальный взгляд на Алжир, где он прожил пять лет и один месяц. В Испании ему предстоит стать писателем, а Хуану Бланко, тоже выкупленному тринитариями,- членом инквизиционного трибунала. Оба они достигнут высот в своем деле. Победители при Лепанто не остановились на полпути. Нужно было решить основную задачу, из-за которой, в сущности, и столкнулись у греческих берегов два мира: Западу нужен был Восток. Христианские корабли не могли ни спокойно входить в мусульманские воды, ни выходить из них. И корабли, и товары конфисковывались, а команды обращались в рабство, как это произошло, например, с мальтийской галерой на Джербе. Постоянные засады, устраиваемые на их пути, вынуждали к ответным мерам. Купеческие корабли ходили с охраной, и эта охрана обстреливала любую встречную галеру, завидев ее еще издалека, потому что дать к себе приблизиться было опасно. Особенно были озабочены англичане: их торговля с Левантом оказалась на грани катастрофы. Мало того, что соперники всеми силами пытались исключить Англию из этой торговли, но и те крохи, что оставались, перехватывали варварийские пираты. Посол ее величества Елизаветы I в Константинополе сэр Уильям Харборн требовал у султана одной аудиенции за другой и каждый раз приводил одни и те же аргументы. Наконец в 1584 году султан признал требования англичан справедливыми и послал алжирскому бейлербею фирман с приказом «мирно пересекать путь» кораблей Англии, Испании, Флоренции, Сицилии и Мальты. Султан приказывал... нет, не приказывал - умолял прекратить захваты христианских судов «ради наших привилегий и вопреки рассудку», однако фирман заканчивался брошенной как бы вскользь фразой о том, что «сторона после потребовала этот наш приказ».
Иными словами - приказ отдан под дулом пистолета победителей. Бейлербей был человеком понятливым, и он прекрасно знал своего султана. Морской разбой продолжался с неослабевающей силой, а султан виновато разводил руками перед взбешенными посланцами Европы: ведь он отослал фирман, Аллах тому свидетель, и еще сэр Уильям Харборн... Северная Африка осталась пиратской й была ею не одно столетие - по крайней мере до завоевания Алжира французами в 1830 году. Но побережье между Сеутой и Алжиром оставалось пиратским и позднее, еще несколько десятилетий, питаясь за счет разбойничьих племен пустыни и Атласских гор.
Схолия восьмая. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЙ ЛЕГЕНДЫ.
Преемственность древнего, средневекового и нашего времени, словно нарочно, отражена в одной истории, имеющей некоторое отношение и к мореплаванию, и к литературе, и к искусству. Причем не только христианского, но и арабского мира. Поэтому представляется нелишним поведать о ней. Американский писатель Вашингтон Ирвинг пишет в «Легенде об арабском астрологе», включенной им в книгу «Альгамбра» (ал-Хамра: «красная»), относя ее действие примерно к началу XVIII века: «Да будет ведомо тебе, о государь, что, пребывая в Египте, я видел великое чудо, сотворенное некогда языческой жрицею. Над городом Борса, на горе, откуда открывается вид на долину великого Нила, стоит баран и на нем петушок - оба из литой меди,- и они свободно вращаются на своем стержне. Всякий раз, как стране угрожает нашествие, баран поворачивается в сторону неприятеля, а петушок кукарекает, благодаря чему жители города заранее знают о надвигающейся опасности и о том, откуда она приближается, так что могут своевременно принять необходимые меры». Из дальнейшего выясняется, что убеленный тысячелетними сединами рассказчик этой занимательной истории - он родился «во времена Магомета» (жившего, как известно, примерно в 570-632 годах) – собственноручно продырявил стену пирамиды одного из верховных жрецов, где, как поведал ему другой жрец, «погребена также священная книга, заключающая в себе всю нашу науку, все тайны магии и колдовства». Нетрудно сообразить, что перед нами - духовно облагороженная история халифа ал-Мамуна (сына Харуна ар-Рашида), правившего в 813-833 годах. Этот халиф, как сообщает историк X века Масуди, появился в 820 году у подножия Великой пирамиды и, отчаявшись отыскать вход, снедаемый любопытством - что там внутри, повелел пробить толщу одной из граней, дабы ознакомиться с содержимым фараоновой усыпальницы. Эта нашумевшая история фигурирует и в сказках «Тысячи и одной ночи». Так Ирвинг объединил в своем рассказе две разновременные легенды, связанные с двумя «чудесами света» - пирамидами, уводящими нас в вовсе уже седые века, и еще одним сооружением, помоложе, но тоже имеющим возраст весьма почтенный. Ему перевалило за два тысячелетия еще тогда, когда на свет появился Петр Великий. А начало ему положил другой человек, носивший столь же пышный эпитет,- Александр. При Птолемее Втором и родилось это второе «чудо света» - Александрийский маяк на острове Фарос, напротив дельты Нила. На скале в восточной части Фароса (западную его оконечность занимал храм морского бога Посейдона) грек Сострат родом из Кни-да воздвиг по монаршьему заказу крепость. Башню ее, взметнувшуюся ввысь на сто двадцать метров, увенчивал круглый купол, где неугасимо пылал костер. «Назначение башни,- писал Плиний,- огнями маячить плывущим ночью кораблям, предупреждая об отмелях и указывая вход в гавань. Такие огни уже горят теперь во многих местах, как, например, в Остии или Равенне. Опасность - в постоянстве огней, которые издали могут быть приняты за звезды, так как на далеком расстоянии вид пламени остается ровным и неизменным». Сложная система зеркал из полированного гранита обеспечивала видимость спасительного света на расстоянии до сорока или даже шестидесяти километров - «за пределами возможностей человеческого глаза», как сообщают древние авторы. Но «чудом света» его называли не только и не столько за «маячные», утилитарные свойства, сколько за оформление второго яруса. То было поистине чудо из чудес. Одна из статуй, установленных на его углах, отбивала часы суток (куранты). Другая испускала предостерегающий крик при появлении вражеских кораблей, простирая при этом длань в их сторону. Рука третьей (вращающейся) всегда указывала на солнце и опускалась, как только угасал его последний луч. Четвертая служила флюгером... Трудно теперь отделить в этих рассказах и россказнях правду от вымысла, хотя, как говорят, нет дыма без огня. Можно вспомнить хотя бы удивительные пневматические, механические и гидравлические автоматы, изобретенные Героном Александрийским лет триста спустя и на века пережившие своего создателя. Греко-египетское «чудо света» породило немало легенд. Начало им положили арабы, к 642 году завоевавшие Египет, но сохранившие наследие чужого народа. Некоторые легенды возникали прямо «на глазах», их можно даже датировать. Вот пример: в 1375 году маяк был разрушен землетрясением, его колоссальное центральное зеркало упало в воду - и немедленно пускается в оборот слушок, что под ним спрятаны сокровища Александра Македонского. Так продолжалось до 1517 года, когда турецкий султан Селим I присоединил Египет к своей империи. Новые хозяева дельты Нила оказались людьми деловитыми, чуждыми всяческих сантиментов. Египет разделил печальную судьбу Греции, тоже покоренной османами. Много древних памятников было разрушено, а иные и вовсе исчезли без следа. В их число попал и Фарос. В 1570-х годах турки окончательно разобрали его постамент на постройку своей крепости, и летом 1962 года в море на семиметровой глубине были обнаружены лишь одна колонна и статуя Посейдона... Уникальное сооружение перестало существовать. Но жизнь его продолжалась в легендах. Особенно живучей и популярной стала одна, связанная с «ярусом восьми ветров». Ее-то и использовал американский писатель: при чтении его книги невозможно не вспомнить страж- скульптуру Александрийского маяка. Правда, вместо сурового воина у него - баран и петушок... В той же «Альгамбре» Ирвинг приводит еще одну легенду, явственно перекликающуюся с легендой о звездочете. Ее источником он называет араба Аль Маккари, занимавшегося историей магометанских династий в Испании. Вот что сообщает Ирвинг, ссылаясь на своего осведомителя: «В Кадисе, говорит он, прежде была квадратная башня высотою более ста локтей, сложенная из громадных глыб, скрепленных медными скобами. На вершине лицом к Атлантике стояла статуя с посохом в правой руке и указательным пальцем левой показывала на Гибралтарский пролив. По рассказам, ее когда-то поставили готские владыки Андалузии и она служила маяком и указаньем мореходам. Мусульмане - берберы и андалузцы - считали, что она имеет волшебную власть над морем. Правя на нее, шайки пиратов из на рода по имени Майюс приставали к берегу на больших судах с двумя квадратными парусами, один на носу, один на корме. Они являлись каждые шесть или семь лет; истребляли всех встречных на море; по указанью статуи проплывали через пролив в Средиземноморье, высаживались в Андалузии, предавая все огню и мечу; и область набегов их простиралась до самой Сирии. Наконец, уже во времена гражданских войн, мусульманский флотоводец захватил Кадис, прослышал, что статуя на вершине башни - из чистого золота, и велел ее снять и расколоть; она оказалась из золоченой меди. С разрушением истукана рассеялось и заклятье над морем. Пираты из океана больше не появлялись, только два их корабля разбились у берега, один возле Марсу-ль-Майюса (порта Майюсов), другой неподалеку от мыса Аль-Аган. Вероятно, эти морские разбойники, упоминаемые Аль Маккари, были норманны». Книга Ирвинга «Альгамбра», включающая обе эти легенды, появилась из печати в 1832 году. А уже год спустя по другую сторону океана его собрат по перу рассыпал по бумаге звонкие строки:
Вот мудрец перед Дадоном Стал и вынул из мешка Золотого петушка «Посади ты эту птицу,- Молвил он царю,- на спицу; Петушок мой золотой Будет верный сторож твой: Коль кругом все будет мирно, Так сидеть он будет смирно; Но лишь чуть со стороны Ожидать тебе войны, Иль набега силы бранной, Иль другой беды незванной, Вмиг тогда мой петушок Приподымет гребешок, Закричит и встрепенется И в то место обернется».
Обычно комментаторы «Сказки о золотом петушке», особенно после статьи Анны Ахматовой, специально посвященной этому вопросу, указывают, что Пушкин взял этот сюжет как раз из Ирвинговой «Альгамбры»: там петушок, и здесь петушок, причем с абсолютно одинаковыми функциями. Вот только баран у Пушкина исчез... Казалось бы, прямое заимствование налицо. А так ли это? Не упускается ли тут из виду фактор времени? Нам ведь и сегодня-то не каждый день удается подержать в руках книгу, вышедшую в Америке всего лишь год назад. Вот что пишет, к примеру, Александр Сергеевич летом 1836 года: «В Нью-Йорке недавно изданы „Записки Джона Теннера"...». Недавно! Недавно - это шесть лет назад, в 1830 году. Пушкин познакомился с этими «Записками» по парижскому изданию 1835 года - по прошлогоднему. Ирвинг к тому времени был хорошо известен в России: его переводил декабрист Николай Бестужев, его печатала, в числе прочих, «Литературная газета», издаваемая Пушкиным, им зачитывался Гоголь, его имя значилось и под предисловием к «Запискам Джона Теннера». Но... ни в письмах поэта, ни в его дневниках, ни в записях, относящихся к периоду до 1833 года, когда Пушкин начал работать над этой сказкой, американский писатель не упоминается. Так было ли заимствование, а если нет, то откуда же такое сходство? - вправе мы спросить. «Идеи носятся в воздухе»,- можно ответить на это. Подобных случаев синхронного мышления известно немало и в науке, и в искусстве, и в литературе, и в технике. Ведь никто же не станет всерьез разбираться, кому первому пришла в голову мысль написать биографический роман о Ван-Гоге - Анри Перрюшо или Ирвингу Стоуну, или о Бальзаке - Андре Моруа или Стефану Цвейгу. И уж тем более никто не возьмется утверждать, что один из них заимствовал сюжет у другого. Все они пользовались одними и теми же источниками - документами, относящимися к биографии своего героя. А поскольку таких документов не так-то много, то все не обошлись без некоторых достаточно правдоподобных домыслов.
Могут возразить: все эти литераторы - почти современники, вопроса тут нет. Ирвинг тоже был старшим современником Пушкина, верно. Но можно напомнить пример еще более удивительный, где одна и та же идея разделена почти двумя тысячелетиями - как и в случае с александрийской легендой. В 262 году до нашей эры римлянам, не имевшим тогда флота, приходилось отбиваться на Сицилии от наседавших на них карфагенян. Но однажды в их руки попала севшая на мель карфагенская галера. По ее образцу римляне выстроили вскоре целый флот, в конечном счете и решивший исход войны. И почти такая же история произошла в 1696 году в России: Петр Первый купил в Голландии галеру, построенную по последнему слову военной техники, и спустя короткое время Россия стала морской державой... Можно ли тут говорить о «заимствовании»? Поистине идеи всегда и повсюду носились в воздухе! Почему же Пушкин должен быть в этом смысле исключением? Знаток и любитель классической филологии, он не мог не знать об Александрийском маяке и о его удивительных скульптурах. Известен и его неугасающий интерес к легендам разных народов. Известны его записи народных сказок, некоторые из них были потом переложены в стихотворные строки. Все ли записи дошли до нас? Едва ли. А ведь среди них вполне могло быть изложение арабской легенды, слышанное поэтом от кого-либо из потомков А. П. Ганнибала - эфиопа, а стало быть, выходца из арабской страны. В исключенном тексте «Золотого петушка» есть строки, перекликающиеся с Ирвинговыми, а есть и такие, каких у Ирвинга нет. Возможно, и те и другие были в каком-то неведомом нам общем источнике, из которого оба писателя отобрали лишь то, что их заинтересовало. Разумеется, все это - не более чем догадки, но, как кажется, вполне правдоподобные. Возможно и то, что Пушкин перелистывал французский перевод «Тысячи и одной ночи» и что на глаза ему попалась новелла триста девяносто восьмой ночи, довольно подробно повествующая о проникновении ал-Мамуна в пирамиду, или другие, где есть мотивы, сходные с теми, что встречаются у Ирвинга. Наконец, он, прекрасно сведущий в истории, мог проведать хотя бы понаслышке о статуе всадника на крыше дворца аббасидского халифа VIII века ал-Мансура - основателя Багдада и тоже персонажа «Тысячи и одной ночи»: по преданию, эта статуя указывала копьем в ту сторону, откуда Мансуру грозили неприятности... Но он все же предпочел петушка, куда больше созвучного его настроениям: в 1566 году крик этой птицы призывал к оружию восставших гёзов в Нидерландах, всего два-три года назад он вновь прозвучал на баррикадах Парижа, а в 1831 и 1834 годах, когда Пушкин заканчивал сказку, этот крик будил бунтовавших лионских ткачей. Может быть, тем же самым путем шел и Ирвинг: VIII век - всадник ал-Мансура, IX век - вскрытие пирамиды ал-Мамуном - все это объединено одной канвой. Кстати, ученые, подвизавшиеся при дворе Ман-сура, вполне могли взять идею всадника с Александрийской башни, раскрыв технический секрет греков: таких примеров известно немало. А ведь мы даже не знаем, погибли скульптуры второго яруса вместе с маяком, уничтожили ли их турки еще раньше, или же их успели снять арабы, дабы внимательно изучить и постичь тайны древних ремесел. Вероятно, этого не знал и Ирвинг. Не потому ли у него - только у него - фигурирует баран? А вот появление петушка закономерно: французы оказали немалую помощь Соединенным Штатам в их борьбе за независимость и даже скрепили этот союз двумя одинаковыми статуями Свободы, одну из которых установили в Париже на мосту Гренель, а другую подарили Нью-Йорку. Это как раз и есть та идея, что носилась в те годы в воздухе по обе стороны океана. Но если Ирвинг создал из нее хотя и превосходную, но все же чисто развлекательную новеллу, Пушкин писал политическую сказку-сатиру, к тому же - народную: у Ирвинга петушок медный, как скульптура Фароса, Пушкин его «позолотил», отдавая дань русской сказочной традиции. Не все ее строки вошли в окончательный вариант. Дошедшие до нас дневники поэта обрываются февральской записью 1835 года: «Цензура не пропустила следующие стихи в сказке моей о золотом петушке:
Царствуй лежа на боку... И сказка ложь, да в ней намек, Добрым молодцам урок.
Времена Красовского возвратились. Никитенко глупее Бирукова» (все эти лица - цензоры разных лет.- A. С). На самом деле известно, что вычеркнуто было гораздо больше: кое-что убрал сам Пушкин, не дожидаясь цензорского окрика... Последний отзвук египетско-арабской легенды прозвучал в 1960-х годах, и тоже - в нашей стране. Идею другой вращающейся статуи Фароса - всегда указывавшей на солнце - подхватил скульптор Сергей Тимофеевич Коненков, когда работал над созданием проекта гигантского многофигурного памятника-комплекса Ленину. Этот мемориал предполагалось разместить «на склоне Москвы-реки, напротив спортивного комплекса в Лужниках по оси- Университет – стадион B. И. Ленина». Одной из его деталей предусматривалась одиннадцатиметровая фигура вождя, увенчивающая Земной шар. Вся эта часть памятника должна была медленно вращаться со скоростью часовой стрелки, так, чтобы левая рука скульптуры всегда оказывалась обращенной к солнцу, а в полдень, когда светило находится к северо-востоку от Воробьевых гор, рука Ленина через раскинувшуюся внизу реку и старые районы города указывала бы на Кремль... К счастью, этот чудовищный по своему безвкусию и оскорбительный для всех народов по содержанию проект остался на бумаге, сохранился лишь макет да еще «Пояснительная записка к проекту монумента В. И. Ленину в Москве», прокомментированная искусствоведом А. Каменским, а также подробное описание памятника, сделанное самим Коненковым. И сегодня мало кто помнит о том, что истоки всех этих преданий и проектов - в Александрии Египетской, в арабской ал-Искандерии, во втором ярусе ее прославленного маяка, задуманного и осуществленного гениальными, но оставшимися безвестными инженерами древнего мира.
ПОСТСКРИПТУМ
Приняв эстафету от своих античных предтеч, пираты Средневековья настолько скрупулезно переняли все тонкости и традиции их ремесла, что когда на глаза попадается текст, не содержащий имен и дат, подчас трудно разобраться, о каком времени и о какой стране идет речь. Одинаковость типов античных и средневековых судов вкупе с очевидной и решающей ролью географических условий позволяют безбоязненно продолжить эту параллель и в Новое время, когда на морях появились новые типы кораблей, загремело новое оружие и зазвучали новые языки. Пролив Китира, например, известный как пиратское гнездовье с глубокой древности, был излюбленным местом засад подводных лодок во время первой мировой войны, не был он оставлен без внимания и во вторую мировую войну. Единственное, пожалуй, что безвозвратно ушло в прошлое,- это обычай береговых жителей убивать на всякий случай чужеземцев: великое переселение народов если не зачеркнуло это понятие, то, по крайней мере, поставило его под вопрос. Прежней осталась тактика рыцарей удачи, об этом уже говорилось: она непосредственно связана с природными особенностями того или иного района моря, мало изменившимися на протяжении столетий,- с постоянством береговой линии, ветров и течений, а следовательно, и торговых трасс. Потому-то пираты, как правило, действовали каждый в «своем» море, хорошо изученном и объезженном. Этим отчасти объясняется и всеобщий ужас перед викингами, непредсказуемо водившими свои корабли куда им вздумается и применявшими незнакомую другим народам тактику боя. На прежних местах остались пиратские базы и убежища, тщательно восстановленные и заново укрепленные, и к ним добавилось много новых. По-прежнему на всех побережьях шла охота на людей, и точно так же крупнейшие рынки рабов устраивались по возможности на островах: во-первых - потому что на островах легче отбить нападение непрошенных гостей, во-вторых - потому что пленникам с них труднее убежать, в-третьих - потому, что почти все острова лежат на морских трассах, а это стимулировало и разнообразило товарообмен и уменьшало «накладные расходы» за счет перевозки пленников. Масштабы средневековой работорговли в точности неизвестны, но из речи дожа Томмазо Мочениго мы знаем, что в первой четверти XV века Венеция вывозила в Ломбардию ежегодно тридцать тысяч рабов. Откуда она их брала? Ответ может быть единственный: скупала оптом у пиратов, чтобы затем с выгодой перепродать. Легкость сбыта пленников возродила античную практику похищения людей и придала ей невиданный размах. По-прежнему повышенным спросом пользовались дети и молодые женщины, а их-то как раз было легче всего захватить массой. Самым благоприятным случаем для этого представлялось какое-нибудь празднество (особенно религиозное) в береговых селениях, традиционно посещаемое женщинами, детьми и безоружными мужчинами. На Крите в течение нескольких столетий переходил из уст в уста рассказ о праздновании вечерней «фесты» в пещерной церкви святого Николая, набитой до отказа пилигримами со всей округи. Когда молящиеся зажгли свои свечки, огни увидали проплывавшие мимо разбойники. Они высадились на берег, подкрались к священной пещере, заперли дверь снаружи и стали дожидаться предложений о выкупе. Но внутри было тихо. На этот раз пираты остались с носом: когда им наскучило ожидание и они вошли в пещеру, она оказалась пустой. Как говорит легенда, Николай указал своим поклонникам чудесный путь спасения сквозь скалу. На самом деле все было проще: устроители подобных святилищ всегда считались с возможностью обвала (тем более - на Крите, известном своей тектонической деятельностью) или осады. Поэтому все такие пещеры имели не менее двух выходов, и если об этом не позаботилась природа, ее промахи исправляли люди. Самое забавное в этом эпизоде то, что селяне воспользовались методом самих пиратов: когда-то точно так же их караулил на Джербе Андреа Дориа, дожидаясь капитуляции Драгута. Но вообще этот пример очень характерен, и можно добавить, что рыцари морских дорог знали наперечет все праздники в районе, где они промышляли. Это объяснялось, как можно догадаться, отнюдь не их благочестием, тем более, что среди разбойников попадались не только христиане. Один из их пленников писал впоследствии, что команду корабля, захватившего его у берегов Греции, составляли в основном турки, не слишком, однако, правоверные. Их благочестие проявлялось лишь в моменты опасности, в остальное же время они вели себя так, как и положено пиратам, предаваясь самым ужасным богохульствам. Впрочем, они с не меньшим рвением поддерживали на своих кораблях и огонь перед изображением Девы, а в штормы даже давали обет (и выполняли его) посвятить восковую свечу святому Николаю в посвященной ему церкви на известном им острове, нередко ими посещаемом. Возможно, и здесь речь идет о той самой пещерной церкви на Крите; видимо, «чудо» произвело на пиратов неизгладимое впечатление. Как и в античности, никто не мог предугадать исход морского путешествия. Нередко мирный купец принимался за пирата, бывало и наоборот. И тем и другим приходилось всегда быть начеку. В 1608 году некий Питер Манди едва не попал в беду у мыса Сан-Висенти, приняв за турецких пиратов двадцать шесть кораблей испанского королевского флота, показавшихся у входа в Гибралтар. Турки, в свою очередь, подозревали в пиратстве всех без разбора христиан и в XVII веке закрыли для них Коринфский залив под предлогом, что туда могут проникнуть мальтийские пираты под видом купцов для погрузки смородины.
Надо сказать, что у турок были основания для таких подозрений: в 1491 году рыцари удачи частенько навещали Кандию, славившуюся своим вином, а на обратном пути захватывали и грабили корабли Венеции - главного торгового партнера этого критского города. Известны случаи, когда греческие корабли захватывали суда своих земляков в местах, удаленных от торговых трасс, и либо заставляли их «поработать на себя» на погрузке, либо забирали полностью или частично груз, либо захватывали корабль вместе с грузом и людьми и продавали не слишком любопытным покупателям. «Отец английской поэзии» Джеффри Чосер, участник Столетней войны, дипломат и член парламента, в своих «Кентерберийских рассказах» дал целую галерею сочных и точных зарисовок представителей различных общественных слоев Англии своего времени, собравшихся вместе, чтобы отправиться на богомолье: путешествовать в одиночку было опасно. Среди прочих персонажей был и старый моряк, типичный бродяга XIV века, каких можно было встретить не только в Англии. Вот как представляет его поэт читателю:
Был Шкипер там из западного графства. На кляче тощей, как умел, верхом Он восседал; и до колен на нем Висел, запачканный дорожной глиной, Кафтан просторный грубой парусины; Он на шнурке под мышкою кинжал На всякий случай при себе держал. Был он поистине прекрасный малый И грузов ценных захватил немало. Лишь попадись ему купец в пути, Так из Бордо вина не довезти. Он с совестью своею был сговорчив И, праведника из себя не корча, Всех пленников, едва кончался бой, Вмиг по доске спроваживал домой. Уже весной он был покрыт загаром. Он брался торговать любым товаром И, в ремесле своем большой мастак, Знал все течения, любой маяк Мог различить, и отмель, и утес. Еще ни разу с курса не отнес Отлив его; он твердо в гавань правил И лоцию сам для себя составил. Корабль он вел без карт и без промера От Готланда до мыса Финистера, Все камни знал Бретонских берегов, Все входы бухт испанских и портов; Немало бурь в пути его встречало И выцветшую бороду трепало; От Гулля и до самой Картахены Все знали капитана «Маделены».
В 1699 году в Лондоне был опубликован небольшим тиражом любопытный четырехтомник «Собрание необычных путешествий, изданное капитаном Уильямом Хакке». В нем немало места уделено пиратской деятельности в Средиземноморье. И вот что интересно: когда вчитываешься в строки любого из этих четырех фолиантов, трудно иногда отделаться от ощущения, что это конец XVII века, а не время Суллы и Помпея. Хакке приводит, в частности, обстоятельный рассказ англичанина Робертса, потерпевшего в 1692 году кораблекрушение у мыса Иос, попавшего в плен к пиратам и прослужившего у них некоторое время артиллеристом. Как и их античные предшественники, пираты зимовали обычно от середины декабря до первых мартовских дней на островах Эгейского моря, охотнее всего на Паросе, Антипаросе, Мелосе и Иосе. Затем они перебирались на остров Фурни (между Самосом и Икарией), обрывистый и изобилующий удобными и укромными бухтами. На холме выставлялся часовой, он подавал сигнал маленьким флажком при появлении в море какого-нибудь паруса. Тогда двенадцативесельные пиратские суденышки выскальзывали из своего убежища в восточной половине острова, устремлялись к Самосу, перерезая путь судну, и спокойно забирали свою добычу. Точно так же они действовали всю весну и первую половину лета у островов Некария, Гайдарониси и Липсо, с поправкой на ихособенности. В июле они, как правило, перебирались к Кипру, Родосу, Египту - поближе к Сирии, и там занимались ремонтом своих судов и сбытом награбленного. Осень пираты снова проводили в засадах, а зимой весь этот пестрый интернационал обычно разбредался к своим очагам, подсчитывая барыши, с тем чтобы весной начать все сначала. Наиболее бесстрашные выходили, однако, в штормовое море и зимой, но «улов» был в это время невелик, и они грабили в основном побережья. В «Описи государственных документов» Венеции сохранилось письмо губернатора острова Занте (так итальянцы называют греческий Закинф), датированное 1603 годом, где он жалуется на британских пиратов, серьезно подорвавших венецианскую торговлю тем, что «они выходят в море даже в середине зимы и в самую бурную погоду благодаря маневренности своих кораблей и мастерству своих моряков». Будучи в массе своей отчаянными сорвиголовами, рыцари удачи не забывали, однако, и о своей безопасности. Выдумки их в оборудовании баз и убежищ были неистощимы. Они знали природные особенности своего региона, как никто другой. Уже упомянутый Роберте, например, сообщает, что на острове Парос, где они базировались, секрет входа в бухту, прегражденного большим подводным рифом и старой затопленной насыпью, был известен только им. Между двумя соседними островами - Парос и Антипарос - пираты умудрились построить подводную стену с несколькими узкими проходами, также державшимися ими в строжайшей тайне. Подобные базы, настоящие крепости, были рассеяны по всему Средиземноморью. Пираты, говорит Роберте, «заполонили своими гребными лодками все уголки Киклад и Морей (мыс на юго-востоке Пелопоннеса.- А. С.) и превращали в свою законную добычу любой корабль, неспособный к защите, или входили ночью в селения и жилища на ближайшем побережье, забирая все, что они могли найти. Суда этого типа, называемые здесь траттами, кишели в каждой бухте; они длинные и узкие наподобие каноэ; 10, 20 или даже 30 человек, каждый вооруженный винтовкой и пистолетом, гребли с большой быстротой, а когда ветер был благоприятным, использовались также маленькие мачты с латинскими парусами». Природные особенности и географические условия еще со времен Одиссея превратили в пиратскую базу остров Мальту, и эта репутация сохранялась за ней вплоть до нашего века. «Маленькой Мальтой» называли французские пираты остров Иос на протяжении всего Средневековья. Это была не пиратская база в обычном значении слова, это был их дом: достаточно указать, что большинство церквей на острове было построено на благочестивые пожертвования пиратов. Жители Иоса и Мелоса служили лоцманами у французских капитанов и высоко ценились за детальное знакомство с берегами Сирии и Египта.
Восточный мыс острова Сапьендза высотой двести семнадцать метров с отходящей от него на полкилометра к северу отмелью глубиной менее десяти метров долгое время назывался французами Наблюдательной Вышкой Пиратов: здесь они завлекали к себе в засаду беззащитные критские корабли, державшие путь в Левант, но нередко завершавшие его у Сапьендзы. Английский адмирал Спрэтт, чьим лоцманом и проводником у побережья Кипра был бывший пират капитан Маньяс, отмечает множество мест, где с успехом могли бы орудовать пираты. «Терпеливый и добрый» проводник адмирала охотно обращал его внимание на такие места, обнаруживая при этом исключительное знание местности не только Крита, но и близлежащих островов Касос, Карпатос и Кастелоризон (или Мейисти)... Население защищалось как могло. Города и селения отодвигались как можно дальше от береговой линии за какой-нибудь холм или лесок. Иногда для вящей убедительности в том, что это морское побережье необитаемо, на нем сооружались несколько домов, создававших иллюзию пустынного места, или ставился на якорь безобидный на вид одинокий корабль. Это были ловушки для пиратов. Тот, кому довелось проехать хоть раз по прибрежной железной дороге Южной Италии, не мог не обратить внимание на целый ряд уединенных маленьких станций и марин (пристаней) на берегу. Многие из них разрушены, иные сохранились в жалком состоянии, другие исчезли после войны или, напротив, уступили место современным постройкам. Все они слились теперь с жилыми массивами. Но еще в начале нашего столетия эти станции и марины располагались на расстоянии трех-десяти миль от городов и селений, закладывавшихся в гористой местности вдали от побережья. Каждый город или крупный поселок учреждал постоянные круглосуточные пункты наблюдения за морем, и если дозорные замечали неизвестное судно, они немедленно давали об этом знать дымом днем и огнем ночью. Эти ловушки были хорошо пристреляны, и если какой-нибудь малоопытный пират клевал на приманку, дело кончалось для него скверно. Около 1500 года жители Мелоса после долгого преследования поймали одного неудачливого турецкого пирата на своем побережье и медленно поджаривали его на костре в течение трех часов. Это практиковалось повсеместно и вполне легально. Известен случай, когда паша Морей самолично доставил в Лепанто приказ сжигать всех ловцов удачи, промышляющих в Адриатике. Англичане в XVI веке ввели у себя ставшее обычным наказание для выловленных пиратов: их подвешивали на берегах рек и морей так, чтобы пальцы ног слегка касались воды. Разумеется, пираты знали о хитростях прибрежных жителей ничуть не хуже тех, кто на них рассчитывал. Это был поединок Швейка с Фельдкуратом. Вопрос стоял - кто кого. Еще до середины прошлого века на многих побережьях (например, в Калабрии или в Каталонии) создавалась цепь дозорных вышек или башен-крепостей, расположенных с интервалом от трех до пяти километров, и весть о нападении пиратов долетала в глубь материка или острова в считанные минуты, все небоеспособное население спешило укрыться внутри этих башен вместе со скотом, а мужчины создавали ополчение и старались продать свою жизнь и свободу как можно дороже. Эти ополчения организовывались по корабельному принципу: каждый заранее знал, с чем он должен явиться к месту сбора и как действовать в бою. Точно так же и в современных деревнях жители каждого дома знают свои функции на случай пожара. Развалины таких башен можно сегодня увидеть на многих плодородных островах Средиземного моря: на Аморгосе, Андросе, Астипалее, Китносе, Корсике, Косе, Крите, Леросе, Сардинии, Серифе, Сифносе (здесь их свыше десятка), Сицилии, Скиатосе, Скопе-лосе, Фасосе. Есть они и на побережьях Сирии, Малой Азии и других - везде, где можно было ожидать нападения с моря. Иногда роль таких башен-крепостей выполняли монастыри и церкви - преимущественно те, что располагались на скалистых кручах. Однако ореол святости мало помогал при нападениях пиратов. В 1403 году мавры разграбили женский монастырь, утопавший в садах между морем и городом Террачина на западном побережье Италии. В 1612 году совершенно обезлюдела долина, расположенная южнее легендарной Трои на побережье Малой Азии, напротив острова Тенедос (Бозджаада).
Остров Самос, лежащий на перекрестье путей между Египтом, Грецией и Малой Азией и служивший пиратам судоремонтной базой, был так ими разграблен, а жители настолько терроризированы бесчинствами и вымогательствами, что в конце концов лишился всего своего населения: в середине XV века самосцы по предложению генуэзцев, оказавшихся не в состоянии их защитить, всем скопом перебрались на остров Хиос. Доведенные до нищеты и отчаяния, береговые жители сами зачастую обращались к пиратскому промыслу. Известно много случаев и в Средневековье, и в Новое время, когда грабились потерпевшие крушение суда, а их пассажиры обращались в рабство теми, у кого они искали помощи и защиты. Так поступали, например, в начале XVII века майноты, жившие на юго-востоке Пелопоннеса у зловещего мыса Малея, где морское дно усеяно обломками кораблей. Пролив Эла-фонисос, отделяющий Малею от острова Китира, и пролив Китира дальше к югу, разделяющий острова Китира и Антикитира, издревле славились как места пиратских засад, недаром венецианцы именно здесь устроили военно-морскую базу для защиты своей торговли. Но и они не сумели совладать с майнотами. Если среди захваченных ими пленников оказывались представители разных вер, майноты продавали христиан туркам, а турок христианам, регулируя таким образом цены на свой товар. Кончили майноты тем, что от похищения детей и грабежа потерявших управление судов перешли к прямому пиратству. На своих длинных маневренных лодках, вмещавших до сорока человек, вооруженных мушкетами, они захватывали любые купеческие корабли, независимо от их размеров. Судя по описаниям, их тактика была той же, что и у мавританских пиратов: мгновенный абордаж и короткий палубный бой с участием всей команды, кроме двух-трех гребцов, удерживавших лодку там, где это было нужно. Пиратской деятельности несомненно способствовал и произвол властей, сквозь пальцы смотревших на любые действия, если они приносили им доход. Венецианцы слали бесконечные депеши своему дожу о том, что турки покровительствуют английским пиратам, грабящим венецианские суда, и даже участвуют в этих грабежах. В 1603 году венецианский посол в Константинополе не без юмора уведомлял дожа и сенат: «Посол попросил капудан-пашу наказать английских иратов и тех, кто их поддерживает. В ответ он выслушал рассуждения о различиях между турецкими и венецианскими галерами».
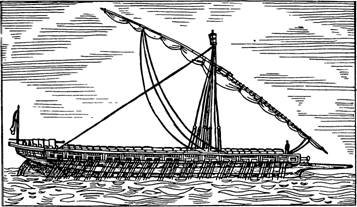 Венецианская галера середины XVI века. Рисунок.
Венецианская галера середины XVI века. Рисунок.
После 1606 года, когда турки закрыли для англичан свои порты, британское пиратство в Средиземном море сошло на нет, зато пышным цветом расцвело корсарство французов, обнаглевших до того, что они имели во многих портах собственных «консулов» и сбывали через них награбленное. Естественно, что эти «консулы» вступали в соглашение с турецкими чиновниками, делясь с ними доходами. Разновидностью доходов был выкуп за пленников. Иногда этот вопрос решался на ходу, прямо в море. Вот как это происходило, например, в начале XVIII века у сирийского побережья, где судно, следовавшее в Хайфу, повстречалось с пиратами у мыса Кармелы пираты выставили белый флаг, давая понять, что желают вступить в переговоры. «Купец» выставил такой же флаг, подтверждая, что сигнал понят и принят, а затем те и другие свернули флаги и отвернули в сторону носы своих кораблей, застопорив одновременно ход. Переговоры обычно велись на «нейтральной территории» - на шлюпках, ибо выходить на сушу пираты побаивались. В описываемом случае пират удовлетворился тем, что оказался на борту встреченного судна. Чаще бывало иначе, и переговоры превращались в самый настоящий торг.
Судно, где был пассажиром художник-любитель барон Штакельберг, пираты захватили, когда оно пересекало залив Волос. Штакельберг уведомил своего друга Халлера, что поручает ему договориться с пиратами о сумме выкупа, но тот, очевидно не надеясь на свои коммерческие способности, взял с собой посредника - армянина Якоба, представившегося пиратам капером здешних морей. Пираты запросили сумму в шестьдесят тысяч пиастров. Якоб заверил их, что как капер он ничуть не хуже разбирается в платежеспособности «клиентов», и указал пиратам на три обстоятельства, упущенных ими из виду: во-первых, Штакельберг, судя по всему, вовсе не богатый человек, а средней руки художник, и если они могли хоть что-то выручить за его рисунки, то и этой возможности они себя лишили, уничтожив все его наброски; во-вторых, он, Якоб, предлагает им за пленника десять тысяч пиастров, и если они их не примут, он уедет с чувством исполненного долга, а они - с полунищим художником на борту, о котором больше никто и не вспомнит; в-третьих, он, Якоб, не из тех, кто прощает людей, пренебрегающих его услугами, и его друг, командующий расквартированными на берегу турецкими войсками, не оставит этого дела без внимания. Ошеломленные пираты внимательно выслушали весь этот поток красноречия, но продолжали стоять на своем, хотя уже не столь уверенно. Так ни о чем и не договорившись, все улеглись спать. Ночью Якоба разбудил один из пиратов и предложил сойтись на двадцати тысячах пиастров. Якоб отказался. Цена упала до пятнадцати тысяч. Якоб был непреклонен. Пират ушел. Но вздремнуть Якобу так и не довелось. Спустя примерно час к нему заявился сам атаман, и после нового ожесточенного торга сумма в десять тысяч была признана окончательной. Околпаченный атаман получил еще и тысячу пиастров в подарок. Сделка была скреплена рукопожатием, и на следующий день Халлер внес выкуп. Барон Штакельберг был затем побрит одним из бандитов, дабы мог предстать перед своими друзьями в подобающем виде. После этого пираты устроили «званый вечер», Штакельберга и его ходатаев вежливо, но достаточно твердо (таковы были правила игры) пригласили погостить и отведать жареного барашка. По окончании всех этих церемоний им пожелали доброго пути, выразив горячую надежду когда-нибудь снова повстречаться в аналогичной ситуации. Все, буквально все, кто сообщает о подобных историях, непременно подчеркивают одну общую деталь, присущую пиратам всех времен и народов: пираты никогда не считали своих пленников врагами и до тех пор, пока не был решен вопрос о выкупе, обращались с ними очень мягко. Посредники, ведущие переговоры, как уже говорилось, пользовались уважением и личной безопасностью. В такой же безопасности был и пират, доставивший письмо с просьбой о выкупе. О каком-либо обмане с той или другой стороны не могло быть и речи, хотя исключения, конечно, бывали (но крайне редко): никто не желал уронить свое реноме, так как это грозило совершенно непредсказуемыми последствиями для тех и для других. Если сходились в цене, пленник сопровождался разбойником к условленному месту и в обмен на внесенные деньги обретал свободу. Если нет - торги продолжались. Выкупные деньги были той же добычей и делились между пиратами наравне с нею. Далеко не все получали при дележе равную часть. Не случайно ликеделеры («равнодольные») подчеркнули принцип равенства в дележе добычи самим своим названием. У французов, например, рядовые члены корабельной команды не получали ничего, вся добыча делилась только между теми, кто непосредственно участвовал в ее захвате, и офицерами. Это была «плата за кровь». Ничего, естественно, не получали рабы или насильно завербованные, чья жизнь мало отличалась от невольничьей. Эту практику французы перенесли впоследствии в Карибское море, где она стала интернациональной. Неустроенность моряцкой жизни служила достаточным стимулом для побега, но побеги случались редко. Пиратами становились навсегда. Если кому-то приходила все же мысль вернуться к добропорядочному образу жизни, не ставя об этом в известность своих коллег, его отыскивали очень быстро: на побережье, где случился побег, пираты брали в заложники одного-двух священников, и на добровольные розыски немедленно устремлялась вся паства. Куда надежней был другой путь - выкуп, практиковавшийся еще с легендарных времен, а с XII века, с эпохи Крестовых походов, получивший статус особого религиозного подвижничества: вслед за тринитариями включили в свои уставы пункт о выкупе пленников доминиканцы и францисканцы. Примеру католиков последовали и протестанты: в начале XVII века аналогичную организацию создал англичанин Сидней Смит - после того как флот «Владычицы морей» едва не сошел на нет. Между 1609 и 1616 годами, за каких-нибудь семь-восемь лет, варварийцы не только лишили Англию четырехсот сорока шести ее кораблей в Средиземном море, но их цветастые паруса стали появляться в виду Лондона, Бремена, Ганновера, Гамбурга, Любека. Мавры вступили на стезю викингов: их эскадры бесчинствовали в Атлантике, почти парализовав все связи Европы с Америкой, появлялись у берегов Исландии, сокрушительными смерчами проносились по Северному и даже Балтийскому морям. Как когда-то норманнов, их нанимали европейские монархи для устройства своих монарших делишек, и флаг с полумесяцем сделался столь же привычной деталью в европейских водах, как флаг с крестом. Не только в морях, но и на реках. Австрия, Англия, Германия, Голландия, Дания, Испания, Королевство Обеих Сицилии, Португалия, Сардиния, Тоскана, Франция, Швеция - все главнейшие государства Европы грели руки на жестокости и жадности варварийских пиратов, все они вели с ними борьбу, эпизодически высылая карательные экспедиции к берегам Алжира, Марокко и Туниса, и все покупали себе кратковременный покой, откупаясь неслыханной данью от устремлений беев, пашей и эмиров. Источники упоминают, что выкуп за капитана составлял семь-восемь тысяч золотых марок, за штурмана - три-четыре, за членов команды - две тысячи четыреста. Все регламентировано. Все по науке. Выписывались даже настоящие счета, как в хорошем трактире или модном магазине. Один такой счет дошел до нас: за штурмана Клауса Патерсена - тысяча двести пиастров, пошлина - сто двадцать (десятая часть), чиновнику - пятнадцать, кузнецу за снятие цепей - семнадцать, старшему писарю - восемь, ключнику - семь. Когда в полях Европы загрохотали пушки Бонапарта и французская речь зазвучала у подножья египетских пирамид, варварийские пираты обложили огромной данью еще одно государство - США и в 1801 году даже объявили американцам войну. В 1815 году проблемой варварийского пиратства был вынужден заниматься Венский конгресс - наряду с проблемой устройства мира после поражения Наполеона. И лишь после 1830 года, когда Алжир и Тунис стали французскими, пиратство у берегов Северной Африки пошло на убыль. Европа наконец-то могла вздохнуть свободно. Великое противостояние Востока и Запада завершилось в европейских водах. Но вот уже два столетия продолжалось оно в морях, открытых Колумбом: Американский континент противостоял континенту Европейскому, колония - метрополии, Новый Свет - Старому, Запад - Востоку. Но это уже совсем иной Запад и совсем иной Восток. Новые персонажи на новых кораблях вышли на историческую арену в неведомых Средневековью морях, и новые летописцы запечатлели их подвиги. Все они принадлежат уже Новому времени.
БИБЛИОТЕКА Ахмад ибн Маджид Книга польз об основах и правилах морской науки. М., 1985. Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М., 1975. Бузург ибн Шахрияр. Чудеса Индии. М., 1959. ВаренШ Б Географа Генералная, небесный и земноводный круги купно съ ихъ своиствы и дъйствы въ трёхъ кнйгахъ описующая. Преведена слатшска языка на россшскш и напечатана въ Москвъ повелёшемь Црскаго пресвътла Величества лъта гдня 1718 въ iyHb - Географ1а генералная или повсюдная въ ней же аффекцж или дъйства генералная земновиднаго круга толкуются, авторомъ Берн-Варениемъ медщ. докторомъ. ВаренШ Б Всеобщая географ1я Бернгарда Варешя, пересмотренная Исаакомъ Невтономъ и дополненная 1аковомъ Журеиномъ. СПб., 1790. Веллей Патеркул Римская история. СПб, 1774. Гальфрид Монмутский История бриттов Жизнь Мерлина. М., 1984. Гельмольд Славянская хроника. М, 1963. Европейская новелла Возрождения. М., 1974. Европейские поэты Возрождения М., 1974. Изборник. М , 1969. Инка Гарсиласо де ла Вега История государства инков. Л , 1974 Исландские саги М., 1956 Исландские саги Ирландский эпос М , 1973 История Африки Хрестоматия М., 1979. Кабус-намэ. М., 1953 Карпини Джиованни бель Плано. История монгалов Рубрук Гильом. Путешествие в восточные страны М., 1957 Книга Марко Поло. М., 1955. Комнина Анна. Алексиада. М., 1965 Кудруна. М., 1984. Лас Касас Бартоломе История Индий. Л., 1968 Макьявелли Никколо. История Флоренции. Л., 1973. Младшая Эдда. Л., 1970. Монтескье Ш. Избранные произведения М., 1955. Мэлори Т. Смерть Артура. М., 1974. Памятники византийской литературы IX-XIV вв. М., 1969. Памятники средневековой латинской литературы IV-IX вв., М., 1970. Памятники средневековой латинской литературы X-XII вв. М., 1972 445
Письма Америго Веспуччи.- «Бригантина-71». М., 1971. Питти Бонаккорсо. Хроника, Л., 1972. После Марко Поло. Путешествия западных чужеземцев в страны Трех Индий. М., 1968. Похищение быка из Куальнге. М., 1985. Прокопий Кесарийский. Война с готами. М., 1950. Прокопий Кесарийский. Войны римлян с вандалами.- Записки историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета, ч. XXVIII. СПб., 1891. Пселл Михаил. Хронография. М., 1978. Путешествия Христофора Колумба. Дневники, письма, документы. М., 1961. Сага о Греттире. Новосибирск, 1976. Стасюлевич М. М. История средних веков в ее писателях и исследованиях новейших ученых, тт. I-III. СПб., 1863-1865 Стурлусон Снорри. Круг земной. М., 1980. Тысяча и одна ночь., тт. 1-8. М., 1958-1959. Чичуров И. С. Византийские исторические сочинения (Феофан Исповедник. Хронография; Патриарх Никифор. Бревиарий). М., 1980 Dudszuz A.. Henriot Е., Krumrey F. Das grosse Buch der Schiffstypen, Bd. 1. Berlin, 1987. Leonis imperatoris tactica.- Patrologiae cursus completus. Series graeca. Ed. J P. Migne. 1863, fasc. 107 Magistri Adami Bremensis Gesta Hammaburgensis ecclesiae ponti-ficum. Hannover - Leipzig, 1917. Saxo Grammaticus Gesta Danorum. Hauniae, 1931
ОГЛАВЛЕНИЕ ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ........................................................................... 7 Хроника первая, повествующая о том, как над Европой раз разилась гроза............................................... 21 Схолия первая. Огненосные................. 42 Схолия вторая. Львы моря.......................... 55 Хроника вторая, повествующая о том, как люди Севера отвоевывали себе жизненное пространство 83 Хроника третья, повествующая о том, как варяги и греки жаловали друг к другу в гости . . . . 115 Схолия третья. Морские конунги ... 137 Хроника четвертая, повествующая о том, что поделывали христиане, магометане и язычники в Средиземном море . . 175 Хроника пятая, повествующая о том, к чему привели по иски несу шествовавшего пресвитера . . 197 Схолия четвертая. Крылатые пилигримы 223 Хроника шестая, повествующая о том, как в Море Страха пришел страх моря............................................. 247 Хроника седьмая, повествующая о том, как соперничали меж ду собою Ричарды и Эдуарды и как выиг рал от этого Генрих.................................. 273 Схолия пятая. Усмирители ветров . . 298 Хроника восьмая, повествующая о том, как Страна Заходя щего Солнца подумывала о морском вла дычестве ............................... 319 Хроника девятая, повествующая о том, как два достойных адмирала вращали Земной шар каждый в свою сторону и чем окончилось это состя зание ....................................................... 349 Схолия шестая Между прошлым и буду щим ............................................................... 369 Схолия седьмая. Загадка Колумба . . . 386 Хроника десятая, повествующая о том, к чему привело ве ликое противостояние Запада и Востока 399 Схолия восьмая. Приключения одной ле генды 422 ПОСТСКРИПТУМ........................................................................ 431 БИБЛИОТЕКА............................................................................... 445
Научное издание Сиисаренко Александр Борисович РЫЦАРИ УДАЧИ ХРОНИКИ ЕВРОПЕЙСКИХ МОРЕЙ Заведующий редакцией Ю. И. Смирнов Редактор Т. Н. Алъбова Художественный редактор В. Е. Корнилов Технические редакторы Р. К. Чистякова. В. П. Никитичева Корректор Е. П. Смирнова ИБ № 1598 Сдано в набор 24.09.90 Подписано в печать 04 10 91. Формат 84 X 108'/зг Бумага офсетная № 2 Гарнитура литературная Печать офсетная Усл.-печ. л 23,52 Уел кр-отт 79,49 Уч-изд л. 23,9. Тираж ИООООэкз Изд №4461-89 Заказ 1432 Цена 8 р Издательство сСудостроение», 191065, С -Петербург, ул Гоголя, 8 Можайский полнграфкомбннат Министерства печати и массовой информации РСФСР 143200, Можайск, ул. Мира. 93 Снисаренко А. Б. С53 Рыцари удачи.-СПб.: Судостроение, 1991.- 448 с: Ил. ISBN 5-7355-0360-X Автор, специалист по исторической географии, истории судостроения и мореплавания, продолжает разговор, начатый в книге «Эвпатриды удачи» («Судостроение», 1990 г.), о борьбе за звание властителя морей - на этот раз в Средние века, о средневековом судостроении, мореплавателях, об их географических и навигационных знаниях, кораблях и маршрутах. Книга содержит много нового интересного материала о викингах, плаваниях в северных морях, о Колумбе и др. Для тех, кто интересуется историей судостроения и флота. С 27051403000-03. ^ 048(01)- 91 © Г. Г. Нестерова, оформление, 1991 ISBN 5-7355-0360-X © А. Б. Снисаренко, 1991
Последние комментарии
1 день 22 часов назад
2 дней 2 часов назад
2 дней 4 часов назад
2 дней 5 часов назад
2 дней 6 часов назад
2 дней 8 часов назад